Ольга Еремина, Николай Смирнов ИВАН ЕФРЕМОВ
Посвящаем нашим детям Нине, Ладе, Всеславу
От авторов
В 2012 году мы отметили сорокалетие памяти Ивана Антоновича Ефремова. Необычность этого человека стала очевидна уже в середине XX века, когда Евгений Павлович Брандис и Владимир Иванович Дмитревский начали писать о нём книгу «Через горы времени» (1963). Первая глава пунктиром рассказывала о биографии писателя, следующие посвящались литературоведческому разбору уже опубликованных рассказов, повестей и романа «Туманность Андромеды». В 1970-е годы авторы хотели переиздать свою книгу, дополнив её новыми фактами. После ухода из жизни Дмитревского Брандис продолжал работу, но завершить и опубликовать её не успел.
В 1987 году палеонтолог, ученик Ефремова Пётр Константинович Чудинов издал книгу «Иван Антонович Ефремов». Первая глава вновь была посвящена биографии, следующие — достижениям Ивана Антоновича в области палеонтологии. В последней главе Чудинов рассказывал о своём знакомстве и общении с учителем.
Идея создания книги о жизненном пути Ефремова буквально витала в воздухе.
В 2004 году вокруг сайта «Нооген» и его создателя и редактора Андрея Ивановича Константинова собралась небольшая группа единомышленников, усилиями которой стал накапливаться биографический и аналитический материал. Через несколько лет, составив подробную хронологию, мы начали работу над книгой. Задачу поставили себе непростую — написать художественную биографию Ефремова, чтобы увлекательная, богатая жизнь героя была представлена живо и подробно на фоне важнейших событий эпохи. При этом факты должны быть точными, а информация о событиях — по возможности исчерпывающей.
По ходу работы в наши руки часто попадали редкие книги, статьи в изданиях, которые можно найти лишь в архивах. Мы сочли возможным достаточно обширно цитировать их, чтобы у современного читателя была возможность самому, не в пересказе, услышать голос эпохи.
Главы об экспедициях строятся на документах: командировочных удостоверениях, отчётах, альбомах с фотографиями. В то же время потребовалось тщательно изучить различную литературу по теме, чтобы картина путешествий была красочной и точной.
Биография писателя немыслима без обращения к его творчеству, а биография мыслителя — без исследования корпуса его основных идей. Поэтому в книгу включены главы, посвящённые произведениям Ефремова и его мировоззрению.
Таисия Иосифовна, вдова писателя, позволила нам использовать не опубликованную ранее переписку, что помогло ярче осветить личность нашего героя, уточнить многие факты и подробности. В данной книге при цитировании писем из личного архива И. А. Ефремова, хранящегося у Т. И. Ефремовой, мы ограничиваемся указанием адресата, адресанта и даты письма. Если цитируются письма из других архивов, следует отдельное указание.
В последней главе мы с разрешения наследников используем фрагменты неизданного романа Спартака Фатыховича Ахметова «Чёрный шар», который создавался в течение пяти лет (1973–1977). Это роман о жизни научно-исследовательского института, о людях науки, о любви, верности, предательстве. Вещь разноплановая, в основном реалистическая, с элементами сказки и научной фантастики. «Многие описанные события произошли со мной или во мне, или были рассказаны близкими людьми. Отдельные главы я обсуждал с прототипами и постарался учесть их замечания. В этом смысле авторов у книги много, и тем ближе она к истине», — делился автор с читателями в эпилоге.
Очерк «Последний день», являющийся составной частью «Чёрного шара», — это расширенный вариант опубликованного очерка «Броненосец с пробоиной под ватерлинией». Предлагаемые читателю фрагменты главы «Обыск» никогда прежде не публиковались. Вымышленные имена героев, использованные автором в романе «Чёрный шар», специально для этого издания заменены на подлинные.
Мы благодарим родственников И. А. Ефремова, его друзей и единомышленников:
Таисию Иосифовну Ефремову, вдову писателя, и его сына Аллана Ивановича Ефремова за поддержку и помощь в сборе материалов и подготовке рукописи;
Альберта Фаритовича Сайфутдинова (Новосибирск) за предоставление и дополнительное уточнение материалов рукописи «Открой в себе талант» и меценатство;
Эльгу Борисовну Вадецкую (Санкт-Петербург) за рассказ о своей дружбе с Ефремовым;
Галину Леонидовну Ахметову и Камилла Спартаковича Ахметова (Москва) за предоставление материалов книги С. Ф. Ахметова «Чёрный шар»;
Геннадия Исааковича Беленького (Москва) за внимательное прочтение и доброжелательную критику;
Андрея Константинова (Москва) за подготовку к публикации переписки И. А. Ефремова;
Антона Нелихова (Москва) за щедрое предоставление архивных материалов, консультации по истории палеонтологии и редакторскую помощь;
Ларису Павловну Ерёмину (Калуга) за постоянную заботу и поддержку;
Аллу Борисовну Егорову (Киров) за географические сведения о реках Чаре и Олёкме и за сведения об А. П. Быстрове;
Даниила Наумова (Москва) за предоставление материалов о биографии А. П. Быстрова;
Алексея Афанасьева (Одесса) за техническую поддержку и помощь в обработке материалов;
Нину Грицай (Санкт-Петербург) за помощь в работе с архивом Горного института Санкт-Петербурга;
Любовь Данилову (Великий Устюг) за предоставление материалов и консультации по Шарженьгской экспедиции;
Галину Кузьмич (Калининград) за консультации по гендерной психологии;
Сергея Макарова и Сергея Мищенко (Тында) за помощь в работе с материалами Музея истории БАМа в городе Тында;
Александра Ермошкина (Хабаровск) за консультации по материалам Нижне-Амурской экспедиции;
Виктора Бурю (Хабаровск) за предоставление краеведческих материалов по Нижне-Амуре кой экспедиции;
Ирину Сяэск (Тарту) за материалы о дружбе И. А. Ефремова и П. Ф. Беликова;
Семёна Лопато (Москва) за плодотворные идеи и товарищескую поддержку;
Сергея Белякова (Иваново) за внимательное прочтение и корректорскую помощь;
Елену Егорову (Киров), Ольгу Цыбенко, Ларису Михайлову (Москва), Миру Покорук (Винница), Татьяну Смирнову (Санкт-Петербург) за помощь в подготовке материалов;
Ольгу Хлынину, Ирину Голенкову, Александра Голенкова, Ларису Волохову, Николая Кузнецова, Фаниля Ахметова (посёлок Уранбаш, село Комиссарово, хутор Херсонский Оренбургской области) за помощь в знакомстве с Каргалинскими рудниками;
Сергея Мельникова (Москва) за дружескую критику и материальную поддержку.
Глава первая ДЕТСТВО (1908–1921)
Если проследить всю цепь, а затем распутать начальные её нити, можно прийти к некоему отправному моменту, послужившему как бы спусковым крючком или замыкающей кнопкой.
Отсюда начинается долгий ряд событий…
И. А. Ефремов. Лезвие бритвыАнтип Харитонович
Антип Харитонович Ефремов выбирал себе жену. Был он уже не молод — аккурат между четырьмя и пятью десятками, однако женихом почитался завидным. Да и собой ещё хорош. Знал он цену времени, потому и выбирал не спеша, как строевой лес покупал — каждое дерево оглядывал. Пора, пора наследниками обзавестись. Будет что им передать!
Так рассуждал Антип Харитонович, сидя в коляске, которая катила полевой дорогой из Вырицы в село Тосно. Долог путь, да кони резвы, и под сердце подкатывает комок горячий, и в ярких вспышках сознания, словно навек впечатанные, видит он картины.
Родное староверческое Заволжье.[1] Луговина — сочные травы. С дальнего конца поля заходят косари — все в красных рубахах. Впереди — кряжистый, как старый дуб, с жилистыми руками — старик-отец. Шаг задаёт. За ним — уступами — сыны-богатыри, как на подбор. Восемь старших сыновей косят, а двое меньших с бабами сено перебивают. Он, Антип, успокаивая дыхание, встраивается вслед за старшими братьями. На душе легко!
В 1882 году, через год после того, как царя-батюшку убили, в осеннюю распутицу пришла в село весть о новом наборе на военную службу, который сменил прежнюю рекрутчину. Да уж и ясно было, что Антипу идти — теперь призывали всех, ведь срок службы сократили. Антип, двадцати одного года, молодец хоть куда! Перед проводами отец ввёл Антипа в горницу, взял в руки икону, велел стать на колени. Но прежде родительского благословения строго произнёс:
— Вот что, сыне мой, едешь ты в дальнюю сторону. Много будет вокруг тебя молодчиков, кто и обидным словом задерёт, а ты порохом пыхнешь. Но-но, не перечь! Знаю я тебя. Клянись мне на кулаках не биться и в драки не вступать. Клянись перед ликом Богородицы!
Когда завтрашний новобранец с пылающими щеками вышел из горницы, он заметил в глазах старших братьев понимающие усмешки. Потом уже понял Антип, что клятву таковую отец брал с каждого из сыновей. Чем согрешили дед или прадед, что потребовалась такая крепкая мера?
Двухэтажные казармы рядом с Царскосельским вокзалом, выкрашенные коричнево-розоватой краской. Утоптанный тысячами ног плац. На площади — огромный Введенский собор о пяти золочёных главах. А мимо — туда-сюда кареты, офицеры на конях, дамы в пышных городских нарядах. Всё казалось диковинным молодому солдату Семёновского полка. Однако Антип быстро обвык в полку, присмотрелся к жизни в Петербурге. После курса полковой учебной команды — звание ефрейтора. Затем с гордостью отписал родителям, что стал унтер-офицером. Шесть лет службы вышли, но возвращаться домой Антип Харитонович не спешил — резону не было. Он остался на сверхсрочную, имел награждения и повышения по службе. Однако воевать не довелось: государь Александр Александрович войн не любил. Видно, слишком хорошо помнил он, к чему привели Крымская, а затем и Турецкая войны.
Казармы, лагерные сборы, учения, манёвры… Дни текли как смола по стволу. Шестнадцать лет прошло — и стал крестьянский сын, а затем унтер-офицер лейб-гвардии Семёновского полка коллежским регистратором. Низшим гражданским чином XIV класса его наградили за годы беспорочной службы.
В эти годы родилась у Антипа Харитоновича дочь — вне брака.
Уволившись, он некоторое время состоял помощником казначея хозяйственного комитета Покровской общины сестёр милосердия. Но душа просила иного — широкой работы не под чужим началом, а по своему разумению. Ещё во время манёвров Антип Харитонович присмотрел небольшое местечко за Гатчиной, на берегу реки Оредеж. На небольших холмах там росли стройные сосны и высокие мрачные ели. Из Петербурга отправился Антип Харитонович в Вырицу, срубил там себе избу-пятистенку и, обустроив тылы, со всей силой и напором приступил к выполнению главной для себя задачи — выбиться в люди.
Хозяином вырицких земель был светлейший князь Генрих Фёдорович Витгенштейн, правнук знаменитого маршала. На берегу Оредежа стоял его охотничий замок, а неподалёку работала лесопилка. Однако возможность поохотиться привлекала господ больше. И тогда Антип Харитонович арендовал у князя лесопилку. В Петербурге строительство идёт бойко, доска в цене. А когда промышленники начали строить через Вырицу железную дорогу, решился вопрос о доставке леса в город. В злосчастный год, когда всех волновала война с Японией, главным интересом Антипа Харитоновича стало открытие железной дороги и широко развернувшаяся — его собственная — торговля.
И вот купец второй гильдии на собственной коляске едет к одному из знакомых крестьян-старожилов, знатному шорнику Лександру Ананьеву. Сказывал тот, дочь у него на выданье. Семья у Ананьевых строгая, работящая, отец здоровьем крепок, стало быть, и дочь — доброго корня побег. Любая чиновница или купеческая дочь была бы рада такому жениху, но Антип Харитонович знает, каковы они — городские девицы! Сейчас им давай наряды да забавы, а хозяйки они никудышные. Да и своевольны весьма. А крестьянская дочь из повиновения не выйдет.
В избе — терпкий запах клея и кож, но его перебивает смачный дух сдобных пирогов, что хозяйка напекла к приезду важного гостя. Дочка Варвара — пёстрая юбка, расширяющаяся к талии светлая блуза, волосы гладко зачёсаны, на голове повязка девичья. Тонкие, но отчётливые черты лица, широкий разлёт бровей, твёрдый взгляд внимательных голубых глаз. Сидит за столом прямо, кусочек пирога — и тот не съела! А отец, словно не замечая пристальных взглядов Антипа Харитоновича на дочь, ведёт речь о новой дороге да о выгоде своего ремесла, приговаривая:
— Шорник — полковник, портной — майор, а сапожник — в грязь — так князь, а сухо — пали его в ухо!
Антип Харитонович говорит: мол, с глазу на глаз с хозяином перемолвиться надо. Шорник отослал хозяйку и дочь, выслушал гостя да призадумался.
Вот так дела: сват — да не сват. Желал Антип Харитонович, чтобы непременно наследник у него родился. Сначала, мол, сын, а потом — свадьба. А если дочь? Небывалое творится! Долго ли, коротко ли думал Ананьев — да согласился.
Купец и благотворитель
Жить Антип Харитонович и Варвара Александровна стали в новом просторном доме на пересечении улицы Балтской и проспекта Сегаля. Дом поставлен основательно, из отборных брёвен. Двор вымощен деревянным торцом — ни грязи, ни воды не будет.
Прошло лишь несколько дней после переезда, а Варвара чувствовала себя одинокой, покинутой. Нет, помыслы Антипа Харитоновича были заняты не другими женщинами — всё время и силы он посвящал своим прожектам.
Землями к югу от станции Вырица владел Матвей Яковлевич, британский подданный Мэтью Эдвардс. Целебный воздух, настоенный на хвойных ароматах, а также удобство нового сообщения с Петербургом навели его на мысль разбить лес на дачные участки. Чтобы новоявленным дачникам легче было добираться до места со своими узлами и детишками, он отвёл от линии ветку с тремя платформами и поставил станцию Посёлок. Дачный городок на земле Сегаля, компаньона Антипа Харитоновича, тоже рос с каждым годом. Рабочие Ефремова прорубали в нём просеки под новые улицы, а Антип Харитонович давал им имена городов родного Поволжья: Самарская, Сызранская, Астраханская, Нижегородская…[2]
Дачи — это ладно, рассуждал Антип Харитонович. Господа, чай, дома-то не из глины лепят. Тоже лес понадобится. А к кому и податься, как не к Ефремову? Всё прибыток. Да и от Платформы № 2 до лесопильного завода всего ничего — и двух вёрст не будет. Но легко сказать — проложить свою ветку, а хлопот-то сколько! Но зато какой гордостью светилось обветренное лицо лесопромышленника, когда первый вагон с пилёным лесом выкатил на Московско-Виндаво-Рыбинскую магистраль! Ведь это не телегами до станции лес везти. Дело набирало обороты, ефремовский лес шёл уже во многие города России.
Заводу нужны грамотные рабочие. Стало быть, требуется школа, где бы дети учились грамоте и счёту. И вот на берегу Оредежа построена начальная школа. Не сразу повели рабочие детей к учителю, но добрая слава разнеслась по Вырице и окрестностям, и в 1911 году было в школе уже 64 ученика: мальчиков и девочек поровну.
Контору Антип Харитонович решил ставить не где-нибудь, а напротив вокзала. Такое мог себе позволить только ещё один человек в Вырице — сам Витгенштейн. Венчал здание не привычный шпиль, а глобус. Уж очень по нраву пришлась Антипу Харитоновичу мысль, что Земля наша не плоская, как отец говаривал, а словно арбуз на саратовской бахче. Её, стало быть, и кругом обогнуть можно. И свои, и дачники сразу окрестили контору «дом под глобусом».
Так Антип Харитонович доказал сам себе, что не происхождение и привилегии дают человеку настоящую цену.
Бывшие подруги завидовали Варваре Александровне. Каждой лестно в таком богатом дому хозяйничать! Много глаз наблюдали за ней, как шла она по посёлку, в городском платье, лёгкая, стройная, но уже с округлившимся животом. Но Варе не часто приходилось радоваться. Где тут радость, когда один друг в доме — и тот медведь!
Четверть века назад Антип поклялся отцу, что не будет встревать в драки, не станет участвовать в кулачных боях. Но могучее тело просило испытаний, чтобы кровь стучала в висках и жаркой волной обдавала сердце. Он пристрастился к самой опасной и оттого такой желанной охоте — на медведя. Но, боже упаси, не с ружьём! По старинке — с рогатиной и топором. Чтобы не было у тебя преимуществ перед зверем, чтобы мог ты узнать себе настоящую цену.
На одной из таких охот, уже весной, поднял он с берлоги медведицу, управился с ней. А медвежонка — маленького, что мохнатая рукавица — домой взял, сам выпаивал его молоком из бутылочки. Теперь этот медведь на цепи по двору бегает, ребятишек пугает.
В 1907 году родилась у Варвары дочка Надя, а через год и первый наследник появился — Иван. Варвара Александровна разрешилась утром, легко. Тяжкий груз словно упал с её сердца: теперь кончится её странное, двойственное положение, теперь Антип Харитонович исполнит своё обещание. К вечеру она ощутила такое желание двигаться, увидеть лес да поле, что приказала заложить лошадей и отправилась кататься на тройке.
Антип Харитонович на радостях немалую сумму пожертвовал на строительство церкви во имя апостолов Петра и Павла.
…В Суйдинском парке хлопотали беспокойные дрозды, перелетали с липы на липу. Вековые дубы, посаженные ещё Абрамом Петровичем Ганнибалом, выпустили молодые, с красноватыми прожилками, листочки. Отцветали лиловые хохлатки, поляны белели ветреницами. Солнце заливало аллею, на которой стоял каменный диван, высеченный из огромного серого валуна. В основании аллеи стоял двухэтажный дом Ганнибалов, где сто с лишним лет назад жила семья Пушкиных. Недалеко, возле старого кладбища, притулился домик няни поэта, Арины Родионовны.
Варвара Александровна устало опустилась на мягкую вышитую подушечку, заботливо положенную прислугой на холодный камень. Она и не знала, что здесь любил отдыхать прадед Пушкина. В голове светлым колокольцем звучало: «Богородице, дево, радуйся… Благословенна ты в жёнах, и благословен плод чрева твоего…»
Этот день — 18 мая[3]1908 года — надолго останется в её памяти. Отстояв с младенцем на руках всю обедню, она поднесла ребёнка к купели. Архивариус записал в метрической книге, в графе «Родители», только одну фамилию — матери. Но Варвара Александровна знала, что слово Антипа Харитоновича твёрдо. Наследник родился — и теперь она станет законной женой.
Так и случилось. 18 декабря 1910 года постановлением суда «Иоанн по отчеству Антипов» был признан «законным сыном титулярного советника Антона[4] Харитоновича Ефремова и жены его Варвары Александровны».[5]
Погодкой Ивану родился сын Василий. Он был уже сразу записан как сын Ефремова.
Шумно, беспокойно стало в доме.
И раньше муж то постоянно пропадал на заводе, то ездил в Петербург по торговым делам, а теперь и недвижимостью в столице обзавёлся. На паях с несколькими купцами построил доходный дом на Троицкой улице, возле Пяти углов.[6] В этом огромном шестиэтажном доме недалеко от Фонтанки была и собственная квартира Антипа Харитоновича. Позже он уже единолично прикупил доходный дом на Литовском проспекте.
Частенько, заключая торговые сделки, вспоминал сын слова отца: «Нам, старолюбцам, Бог за верность помогает. Нам всегда удача. Но богатства копить не след. Грех это!»
Что же самое ценное? Чего так не хватало самому Антипу Харитоновичу и чего он страстно желал своим подрастающим детям?
Широко мыслил купец, далеко. Своим детям он мог дать образование и в Петербурге, денег бы на это хватило. Но видел он Вырицу городом, а городу нужна полноценная школа. Не хуже, чем в столице. И ничего, что его дети ещё малы. Когда до школы дорастут, как раз всё устроится.
В 1910 году в помещении конторы Ефремова и Сегаля состоялось первое собрание господ членов Вырицкого школьного общества. Надо построить здание для школы. Но зачем откладывать начало занятий? Владельцы конторы предложили, как написал потом корреспондент газеты Царскосельского уезда, «настоящее, вполне приспособленное, помещение для школы бесплатно на один год, с отоплением, предоставляемым А. X. Ефремовым».
Утром 19 сентября у «дома под глобусом» собралось не только всё постоянное население Вырицы, но и дачники. Впереди стояли дети — 41 человек. Отслужили молебен, и Вырицкая торговая школа открылась.
Через год на участке, который купил Витгенштейн для школы, началось строительство. Как председатель общества, Антип Харитонович хлопотал об освобождении участка под школу от крепостных пошлин и гербового сбора. Пришлось даже испрашивать соизволение Его Императорского Величества. Здание школы предполагалось строить из бетонных блоков — чтобы 100 лет простояло.[7] Пять учебных классов, рекреационный и физический залы, библиотека, кабинеты и Приют, где будут жить малоимущие ученики. По смете требовалось 30 тысяч рублей. У школьного общества к началу строительного сезона имелось около пяти тысяч. Средств явно не хватало. Антип Харитонович хлопотал, не жалея своих средств. Он словно наяву видел, как будут учиться в этой школе его подрастающие дети, и все силы вкладывал в строительство. Правда, второй этаж пришлось всё же сделать деревянным.
Деревянная церковь в честь Казанской иконы Божией Матери вознесла свои главы среди сосен — вновь Антип Харитонович жертвует. На этот раз он молится о здоровье младшего сына, Василия. Тот растёт болезненным мальчиком, и мать заботится о нём больше, чем о других детях. Надя всегда возле матери, а вот Иван…
Ваня открывает мир книг
В раннем детстве Ваня любил играть тяжёлыми предметами. Его привлекали ступки, гирьки от часов. Ваня обнаружил, что гирьки только снаружи медные, а внутри они свинцовые. Наполнение не соответствовало внешнему виду.
В четыре года Ваня открыл для себя особый, никому из домашних не доступный мир. В кабинете отца, где тот бывал так редко, вдоль стен стояли громоздкие шкафы со стеклянными дверцами. В них — книги в сафьяновых и коленкоровых переплётах. К отцу приходили компаньоны или заказчики, часто люди образованные, в заграничных университетах учились. Чтобы поддерживать своё реноме, отец оптом купил в Петербурге целую библиотеку, шкафы — и с тех пор к книгам не притрагивался. Ни привычки у него не было, ни надобности.
Ваня тихо входил в кабинет, едва оглядываясь на стол из тяжёлого морёного дуба, украшенный замысловатым письменным прибором, и распахивал тяжёлые дверцы шкафов. Читал названия книг, разглядывал картинки. Однажды ему, уже шестилетнему, попался роман «Восемьдесят тысяч вёрст под водой». Ваня забрался в высокое кресло, придвинутое поближе к печке, и читал не отрываясь. Второй и третий раз он перечитывал эту книгу медленно, открывая для себя всё новые и новые подробности. Особенно нравился ему слуга профессора Аронакса — неутомимый Консель,[8] который всё время пытался определить, к какому виду относится тот или иной представитель морской флоры или фауны.
Вот бы раздобыть другие книги Жюля Верна! Случай помог — и Ваня, как откровение, читает «Путешествие к центру Земли».
Гулко шумят под влажным западным ветром вековые сосны и ели, вплотную подступающие к дому. В печке трещат сосновые поленья. Иной раз уголёк выскочит на жестяной поддон — светится алым цветком, прожигает серый сумрак ненастного дня. Так же прожигают сердце Вани строки Жюля Верна.
Как чудесно — быть истинным учёным, как профессор Отто Лиденброк!
«Как бы то ни было, но мой дядюшка — я особенно подчёркиваю это — был истинным учёным. Хотя ему и приходилось, производя опыты, разбивать свои образцы, всё же дарование геолога в нём сочеталось с зоркостью взгляда минералога. Вооружённый молоточком, стальной иглой, магнитной стрелкой, паяльной трубкой и пузырьком с азотной кислотой, человек этот был на высоте своей профессии. По внешнему виду, излому, твёрдости, плавкости, звуку, запаху или вкусу он определял безошибочно любой минерал и указывал его место в классификации среди шестисот их видов, известных в науке наших дней».
Вот бы научиться этому искусству!
Профессор был не только геологом и минералогом, он знал, кроме обязательной латыни, ещё множество иностранных языков и свободно общался в путешествии с жителями разных стран.
Дорого бы дал Ваня, чтобы вдруг оказаться вместе с профессором Лиденброком и его племянником Акселем на корабле, высадиться в Исландии и спуститься в жерло вулкана. Как заманчиво было бы увидеть своими глазами сокровенные глубины Земли! Вместе с Акселем так увлекательно мечтать о том, чего никогда не видел ни один живой человек: «Между тем моё воображение уносит меня в мир чудесных гипотез палеонтологии. Мне снятся сны наяву. Мне кажется, что я вижу на поверхности вод огромных херсид, этих допотопных черепах, похожих на плавучие островки. На угрюмых берегах бродят громадные млекопитающие первобытных времён: лептотерий, найденный в пещерах Бразилии, и мерикотерий, выходец из ледяных областей Сибири. Вдали за скалами прячется толстокожий лофиодон, гигантский тапир, собирающийся оспаривать добычу у аноплотерия — животного, имеющего нечто общее с носорогом, лошадью, бегемотом и верблюдом, как будто Создатель второпях смешал несколько пород животных в одной. Тут гигантский мастодонт размахивает хоботом и крошит прибрежные скалы клыками; там мегатерий взрывает землю огромными лапами и своим рёвом пробуждает звучное эхо в гранитных утёсах. Вверху, по крутым скалам, карабкается предок обезьяны — протопитек. Ещё выше парит в воздухе, словно большая летучая мышь, рукокрылый птеродактиль. Наконец, в высших слоях атмосферы огромные птицы, более сильные, чем казуар, более крупные, чем страус, раскидывают свои широкие крылья и ударяются головой о гранитный свод».
Стукнет кольцо калитки, звякнет цепь на дворе — Ваня догадывается: отец идёт. Если приходят чужие, то медведь начинает глухо рычать, как сторожевая собака. Негоже мишке на цепи сидеть, считает Ваня, он в лесу жить должен.
Когда в прихожей слышались шаги отца, мальчик осторожно прикрывал дверцы книжного шкафа и убегал в детскую. Кабинет отца из таинственного, полного опасностей и неожиданностей жерла вулкана превращался в место, где заботы всех входящих тут же подчинялись лесоторговле, где дрова, сложенные в печь, являли себя миру не теплом и светящимися угольками, а колонками цифр и рублями.
В детской Ваня продолжал переживать приключения путешественников. Особенно сильно билось сердце мальчика, когда они заблудились, направившись не по тому туннелю, и остались без воды. «Если бы я оказался на месте Акселя, испугался бы я?» — размышлял он. Но каков Лиденброк! Он сберёг для племянника последнюю каплю воды. Он вынес его к развилке и поддерживал в нём силы и веру. В воображении Вани вставал образ не только большого учёного, но и настоящего человека.
В критический момент Аксель спрашивает дядюшку:
«— Как? Вы ещё верите в возможность спасения?
— Да! Конечно, да! Я не допускаю, чтобы существо, наделённое волей, пока бьётся его сердце, пока оно способно двигаться, могло бы предаться отчаянию».
Очарование камня
Проезжая по Петрограду мимо Исаакиевского собора, Ваня долго смотрел вверх. В своём воображении он поднимался по ступенькам на самую верхотуру и смотрел вниз. Люди оттуда должны казаться совсем крошечными, трамваи и экипажи — игрушечными, а река, напротив, — огромной. Когда Аксель поднялся на колокольню храма Спасителя в Копенгагене, то услышал:
«— Теперь взгляни вниз, — сказал дядя, — и вглядись хорошенько. Ты должен приучиться смотреть в бездонные глубины!»
А ведь действительно: чтобы посмотреть вниз, надо подняться вверх!
И радостная волна поднималась в груди: Ваня уже второй раз ехал на выставку камней, которые зачаровали его своей красотой, впитавшей все оттенки Земли, её светоносность и силу.
О выставке художника-камнереза Алексея Кузьмича Денисова-Уральского, открывшейся 5 марта 1916 года, писали все газеты. Свозить Ваню, на время приехавшего с матерью из Бердянска в Петербург, на выставку камней посоветовал князь Витгенштейн. Конечно, сам Антип Харитонович не поехал — не то время сейчас, чтобы по выставкам кататься. А вот Варваре Александровне не помешает проветриться, людей посмотреть и себя показать. Заодно и мальчик стоящие камни увидит — вон сколько голышей с речки в дом натаскал, интересуется, значит.
«Ещё внизу, в гардеробной, где суетились, угодливо кланяясь, слуги, веяло слабым ароматом французских духов и проплывали, шелестя тугими платьями, дамы, можно было заключить, что выставка пользуется успехом. Низкие залы казались пустоватыми и неуютными в тусклом свете пасмурного петроградского дня. В центре каждой комнаты стояли одна-две стеклянные витрины с небольшими скульптурными группами, вырезанными из лучших уральских самоцветов. Камни излучали собственный свет, независимый от капризов погоды и темноты человеческого жилья» — так спустя 46 лет описывал выставку Иван Ефремов в прологе к роману «Лезвие бритвы».
Коллекция Денисова-Уральского в том же году попала в только что открытый Пермский университет, где она хранилась в Минералогическом музее, практически неизвестная широкому кругу специалистов и общественности. Иван Антонович не знал о её судьбе. Какие же глубокие борозды должен был провести резец мастера, чтобы почти полвека спустя Ефремов сумел с документальной точностью описать экспонаты коллекции, среди которых были скульптурные группы-миниатюры: «Белый медведь из лунного камня, редкого по красоте, сидел на льдине из селенита, как бы защищая трёхцветное знамя из ляпис-лазури, красной яшмы и мрамора, а аметистовые волны плескались у края льдов. Две свиньи с человеческими лицами из розового орлеца на подставке из бархатно-зелёного оникса — император Австро-Венгрии Франц Иосиф и султан турецкий Абдул Гамид — везли телегу с вороном из чёрного шерла, в немецкой каске с острой пикой. У ворона были знаменитые усы Вильгельма Второго — торчком вверх. Дальше британский лев золотисто-жёлтого кошачьего глаза; стройная фигурка девушки — Франции, исполненная из удивительно подобранных оттенков амазонита и яшмы; государственный русский орёл из горного хрусталя, отделанный золотом, с крупными изумрудами вместо глаз…»
«Искусство художника-камнереза было поразительно. Не меньше восхищало редкостное качество камней, из которых были выполнены фигурки. Но вместе с тем становилось обидно, что такое искусство и материал потрачены на дешёвые карикатуры, годные для газетёнки-однодневки, «недопрочитанной, недораскрытой».
Вдоль стен и окон были расставлены другие витрины — в них экспонировались горки, где сверкала нетронутая природная красота: сростки хрусталя, друзы аметиста, щётки и солнца турмалина, натёки малахита и пёстрые отломы еврейского камня…»
«Беленький мальчишка лет восьми, с круглой белой головой и огромными голубыми глазами, зачарованно уставившийся на витрину с горками» — таким себя увидел Ефремов спустя годы.
В сцене, описанной в прологе, появляется и дама — её образ создан под влиянием воспоминаний о матери: «Рядом с инженером послышалось шуршание шёлка, повеяло духами «Грёзы». Инженер увидел высокую молодую даму с пышной причёской пепельно-золотистых волос и такими же ясными озёрами голубых глаз, как у мальчика.
— Ваня, Ваня, пойдём же, пора! Ужасно поздно! — Она поднесла к носу мальчишки браслет с крохотными часами.
— Простите, господа, я должна увести сына. Он у меня чудак — не оторвёшь от камней. Второй раз здесь из-за него…
— Не считайте сына чудаком, мадам, — улыбнулся Ивернев. — За необычными интересами часто кроются необычные способности. Мы по нему проверяли правильность наших собственных впечатлений.
— И не ошиблись! — склонил лысеющую голову Анерт, явно восхищённый красивой дамой».
Ещё одно сильнейшее детское впечатление — посещение цирка. На всю жизнь в памяти отпечаталась такая картина: блестящий силач посадил на ладонь женщину — и несёт! «Вот бы мне так суметь!» — думал мальчик.
«Век драконов» и книги Пржевальского
Когда человек ищет, нужные книги сами идут к нему в руки.
В лавке, где продавались дешёвые издания, Ваня разглядел тоненькую десятикопеечную книжицу с завораживающим названием «Век драконов».[9] Подзаголовок гласил: «Моё знакомство с допотопными животными».
На обложке был нарисован неведомый зверь с массивным телом на четырёх лапах — задние толще передних, с вытянутой, слегка заострённой головой на длинной толстой шее и широким, тоже заостряющимся хвостом.
Ваня выпросил у мамы десять копеек и стал счастливым обладателем своего сокровища. И вправду, книжка эта принесла мальчику много чудесных переживаний. Одно только её начало чего стоило!
«Для меня не было большего удовольствия, как играть в рыцаря Альберта. Мы снимали дачу недалеко от старой заброшенной каменоломни. В каменоломне водилось множество ящериц. Я бегал за ними и кричал:
— О, гнусные чудовища!
Если бы только вы могли меня видеть! На мне был шлем и панцирь, и в руке я держал обнажённую саблю… Правда, мне этот шлем, и саблю, и панцирь купили в игрушечном магазине, и они были сделаны из жести, но я всё-таки кричал:
— О, гнусные чудовища!
Я воображал, что ящерицы — страшные сказочные драконы, а я — рыцарь Альберт…»
Ваня представляет, что это он, набегавшись, решил полазать в старинных шахтах и встретил там странного невысокого старичка в широком плаще, большой чёрной шляпе, с белыми бровями. Старичок оказался вовсе не колдуном, а палеонтологом. Он объяснил герою книжки, что живёт в каменоломне, чтобы собирать кости давно исчезнувших чудовищ: «Тут, где мы с тобой находимся, десятки тысяч лет назад росли леса и были озёра, болота, горы и скалы… Потом горы размыло реками, ручьями, дождями и всю страну занесло илом, песком и всякой дрянью…»
В пещере, куда учёный пригласил мальчика в гости, была дыра в стене, подобная аквариуму, где вместо обычного стекла стояло увеличительное. Через это волшебное окошко можно было увидеть необыкновенный мир с гигантскими папоротниками, огромными клопами и ящерицей, которая выглядела такой большой, что «если бы ей пришла охота, могла бы проглотить быка».
Мальчик испугался («а я бы не испугался», — думал Ваня), и палеонтолог долго успокаивал его, рассказывая о далёком прошлом. Герою книжки очень хотелось узнать, были ли в древности моря. Мальчик спросил об этом учёного:
«— Были и моря, — ответил он.
— И в них тоже жили ящерицы?
— Да… Эналиозавры, ихтиозавры, плезиозавры и разные другие.
— Как? — переспросил я его.
— Э, всё равно не выговоришь. Так их называют в палеонтологии. Да это не важно, как они ни назывались бы».
В конце беседы старик показал мальчику скелет игуанодона: «Это был не скелет — это была какая-то постройка из костей!.. Я потом не мог забыть о нём долгое время. Даже во сне он мне снился обыкновенно в виде лягушонка величиной с мельницу».
Герой книги был ошеломлён. Ваня тоже. Вместе с героем он влюбился в палеонтологию. Мальчик из книжки стал большим приятелем учёного. Когда он уезжал с дачи, старик подарил ему на прощание свой удивительный аквариум.
«Вот бы мне такой!» — думал Ваня.
Волшебного аквариума у Вани не было, и он стал внимательнее приглядываться к тому, что его окружало: к ящерицам — родственникам всяческих «завров», лягушкам, скелеты которых, оказывается, похожи на скелеты игуанодонов, и к скрытым в тени сосен обычным папоротникам, которые миллионы лет назад были огромными деревьями.
Пока мальчик постигал мир, живой и книжный, началась Первая мировая война. По железной дороге недалеко от дома Ефремовых теперь чаще проходили поезда — на юго-запад с солдатами и оружием, в Петроград — с ранеными. Взрослые вокруг говорили только о войне. А мальчик мечтал об ином. Неистовая фантазия превращала его в охотника, который пробирается по мрачному, заболоченному лесу, полному жарких испарений. Редкие стволы величественных деревьев перемежаются с зарослями причудливых папоротников, членистые столбики хвощей выглядят как живые существа. Спрятавшись за толстым поваленным стволом, охотник наблюдает за смертным боем свирепого горгозавра с неуклюжим, закованным в костяную броню стегозавром.
Каждая новая книга дарила Ване радость открытия новых земель и стран.
Как драгоценность, брал он в руки двухтомник знаменитого шведского географа Свена Андерса Гедина «В сердце Азии. Памир — Тибет — Восточный Туркестан». Мальчик был потрясён: ведь Свен Гедин путешествовал не 100 и не 200, а всего 20 лет назад, в 1883–1897 годах. А ведь он был первопроходцем! Может быть, на земле остались ещё уголки, где не ступала нога учёного, может, и ему, Ване, когда-нибудь удастся совершить нечто подобное, нанести на карту новые хребты и реки?
Как заклинания, звучали азиатские названия: Памир, Мустанг-ату, Кашгар, Каракуль, Мараш-баши, Ак-су. Мальчику грезились развалины старинных городов в знойной пустыне Такла-Макан, стройные тополя Хотана, древнее озеро Лоб-Нор, гордые вершины Кунь-Луня, высочайшее нагорье на свете — сказочный Тибет. Куланы, дикие яки, верблюды и множество других животных, описанных путешественником, пробудили в мальчике жадный интерес. Как радовался Ваня, когда мама водила его в Зоологический музей! Стоит чуть прищурить глаза, как животные, замершие по велению таксидермиста, оживают, и вот уже кулан скачет по коричневой от жара степи, а по пустыне, мерно переставляя ноги, движется караван верблюдов.
А вот дикая лошадь, открытая великим путешественником Николаем Михайловичем Пржевальским. Ваня готов был часами простаивать перед ней, в голове словно бы звучал ясный и твёрдый голос: «Новооткрытая лошадь, называемая киргизами «кэртаг», а монголами также «тахи», обитает лишь в самых диких частях Чжунгарской пустыни. Здесь кэртаги держатся небольшими (5–15 экземпляров) стадами, пасущимися под присмотром опытного старого жеребца. Вероятно, такие стада состоят исключительно из самок, принадлежащих предводительствующему самцу. При безопасности звери эти, как говорят, игривы».[10]
В благодарной детской памяти словно отчеканивались целые главы любимых книг. Это в музее лошадь стояла без движения — Ваня видел её такой, как описал Пржевальский: вот бежит она рысью, «оттопырив хвост и выгнув шею», и скрывается в мареве пустыни.
Как гордился Ваня тем, что Николай Михайлович был первым, что Свен Гедин и другие исследователи Центральной Азии шли по стопам его соотечественника!
Пржевальский исследовал неизвестные районы как географ, этнограф, историк, ботаник, он наблюдал жизнь птиц, открывал и описывал новых, ещё не известных науке животных: кроме дикой лошади, он открыл дикого верблюда и тибетского медведя.
«Путешествия потеряли бы половину своей прелести, если бы о них нельзя было бы рассказывать», — говорил Пржевальский с полным правом, потому что рассказывать он умел великолепно. Но его книг «Путешествие в Уссурийском крае», «Монголия и страна тангутов», «От Кульджи за Тянь-Шань и на Лоб-Нор», «От Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Жёлтой реки», «От Кяхты на истоки Жёлтой реки» не было бы, если бы географ не вёл ежедневных дневниковых записей. Это помогло ему не потерять ни одной детали пути. Путешественником надо родиться, говорил Пржевальский. А если ты родился купеческим сыном?
Иногда по ночам Ваня выходил на окружённый высоким забором двор усадьбы. Пахло разогретой за день сосновой смолой и чабрецом. Сосны молчали в безветрии, а неяркие звёзды цеплялись за иголки, словно боясь упасть. И тогда мальчик вспоминал другое небо, которое он рисовал в своём воображении: «Закатится солнце, ляжет тёмный полог ночи, безоблачное небо заискрится миллионами звёзд, и караван, пройдя ещё немного, останавливается на ночёвку. Радуются верблюды, освободившись из-под тяжёлых вьюков, и тотчас же улягутся вокруг палатки погонщиков, которые тем временем варят свой неприхотливый ужин. Прошёл ещё час, заснули люди и животные, и кругом опять воцарилась мёртвая тишина пустыни, как будто в ней вовсе нет живого существа…» И вот уже не медведь ворчит на цепи, а шумно вздыхают верблюды, и не сосны стоят вокруг дома — простираются кругом неоглядные равнины Гоби, «отливающие (зимою) желтоватым цветом иссохшей прошлогодней травы, то черноватые изборождённые гряды скал, то пологие холмы, на вершине которых иногда рисуется силуэт быстроногого дзерена».[11]
Доведётся ли ему когда-нибудь увидеть эту картину самому?
Фотография
Ваня рос на свободе — ничто не сковывало его любознательность, инициативу и фантазию. Пищу уму давали не только книги — мальчик пытливо вглядывался в мир, кипевший вокруг. Пробираясь на высокие обрывы Оредежа, он подолгу разглядывал красный песок, который начинался ниже серого слоя обычной земли. Рыхлый песок переслаивали плотные пласты, встречались слои глины красного и бурого цвета. Много позже Ваня узнает слово «девон», а пока он чувствует, что рядом скрыта тайна — и делится ею с Колей Яньшиновым, жившим по соседству с усадьбой Ефремовых. Вместе они лазают по обнажениям, собирают кусочки песчаника, пересыпают в руках красный песок. Раздвигают листья рдеста, лежащие на воде, ныряют с открытыми глазами в прохладные глубины, где бьют ледяные струи родников, плавают и возвращаются домой с ощущением открытия.
В 1916 году им предстоит расстаться — они встретятся снова уже после войны, и почти четверть века художник-график Николай Алексеевич Яньшинов будет иллюстрировать почти все статьи и монографии самого Ефремова, а также Ю. А. Орлова, К. К. Флёрова и других специалистов по ископаемым позвоночным.
На память о жизни в Вырице сохранится фотография. На деревянном кресле с резными ручками сидит молодая красивая женщина в тёмном платье, на груди и по подолу отделанном широкими чёрными кружевами, с искусственным цветком на поясе. Волосы её, пышно зачёсанные вверх по моде того времени, собраны в пучок, в ушах блестят серьги, на шее — жемчужное ожерелье. Левой рукой с кольцом на указательном пальце она обнимает мальчика полутора-двух лет, сидящего у неё на руках и одетого в светлое платье с широким бантом у воротника — так обычно одевали мальчиков в те годы в состоятельных семьях. Пухлые щёчки, светлые волосики, растопыренные пальчики маленькой ручки.
Справа стоит девочка в светлом полосатом платье с двумя рядами пуговиц, с кружевным воротником, длинными рукавами и поясом, который спущен чуть ниже талии. Серьёзный взгляд красивых маминых глаз, строгое лицо — Надя понимает важность момента, хотя она старше младшего брата Васи только на два года.
Встав на невидимую зрителю табуретку, обнимает маму за плечи белоголовый мальчик в матросском костюмчике с широким отложным воротником — широко раскрытые глаза Вани смотрят прямо, глаза, полные живости и любознательности.
Лицо матери излучает гордость: это мои дети, посмотрите, как они хороши! Запомните и меня такой — молодой и красивой!
Вольный ветер Бердянска
Горячий сухой ветер пахнул в лицо пряным запахом степных трав.
— Только не ходи в порт!
Ваня услышал, как мама ещё раз повторила эту фразу, и что есть духу помчался по улице туда, где едва покачивались стройные мачты с подобранными парусами.
Они приехали в Бердянск летом 1914 года — и надолго. Брату Васе нужно было лечение, и доктор посоветовал грязи Бердянска. Да и климат здесь здоровый.
Отец снял небольшой дом в нижней части города, помог Варваре Александровне устроиться, нанять прислугу — и уехал. Он не мог надолго оставить свой завод в Вырице, но пообещал вернуться к концу лета, чтобы определить детей учиться.
После отъезда Антипа Харитоновича мать и дети вздохнули свободнее. Не нужно было подчиняться строгому распорядку, можно наконец оглядеться и вдохнуть ветер новой земли.
Варвара Александровна начала ходить с Васей на лечение, Надя подружилась с соседскими девочками, а Ваня оказался предоставлен самому себе.
Первым делом он познакомился с портовыми мальчишками — сыновьями рыбаков и матросов, которые приняли Ваню в свою компанию. Они сразу же побежали купаться на маленький каменистый пляж, где вода была тёплой, как парное молоко, и непривычно солёной для Вани.
Затем мальчишки, как хозяева, обежали весь порт, где отдыхали у далеко выдвинутого в море причала корабли, огромными горами лежали мешки и бочки, стояли лошади с телегами, гружёнными тюками и ящиками. От складов к кораблям сновали грузчики. Кричали чайки, хохотали рыбачки, тащившие в корзинах колючую рыбу. Сухой чертополох хрустел на набережной, и уже желтела от жары листва акаций. Со станции изредка доносились резкие паровозные гудки.
Берег изгибался дугой, и справа налево, от Нагорной стороны, прочерчивал бирюзовое море каменный волнолом. Днём, когда море пускало солнечные зайчики, разглядывать волнолом было неудобно, но вечером, на закате, отчётливо была видна стрела, отделяющая бухту от моря, и портовые огни на её концах.
К западу от города в море уходила долгая песчаная коса, на южном конце которой зажигался призывный огонь на белой, с оранжевой полосой, восьмигранной башне Нижнебердянского маяка.
Приволье азовского побережья поразило Ваню. Всю жизнь Иван Антонович будет помнить главное ощущение Азова — свежий, солоноватый привкус моря.
На следующий день мальчишки показали новому другу весь город: завод Гриевза, который выпускал жнейки, канатно-шпагатную фабрику, свечной и множество других заводиков, и — гордость города — электростанцию. Ване было гораздо интереснее на пыльных улицах Матросской слободки, в Лисках или Собачьей балке, где домишки белые, низенькие, с маленькими окошками, где во дворах стирали бельё простоволосые женщины, скребли сухую землю голосистые петухи и поджарые курицы, чем на Азовском проспекте, вдоль которого стояли дома купцов с магазинами и высокими заборами.
С Нагорной стороны город было видно как на ладони. Он ребрился черепичными крышами, белым песком сверкала коca с кружевами заливов, море дрожало расплавленным золотом. На юго-западе лежала сказочная Таврида, там из степи вздымались горы, там, на изрезанном бухтами берегу, раскинулся легендарный Севастополь, ещё дальше, за морем, над Золотым Рогом теснился Стамбул, а в Средиземном море вставали из волн скалистые берега Греции. Оттуда, из-за моря, приходили в Бердянск корабли за русской пшеницей.
Сразу за городом начиналась степь, поутру розовая, а днём тонущая в дрожащем мареве. В степи на бахчах спели зелёные арбузы и желтобокие тыквы, а там, где впадала в Азовское море река Берда, в прогретых до дна лиманах ходила стайками серебристая рыба. А какой вкусной была кукуруза, испечённая на костре, посыпанная крупной солью!
Мальчики каждый день околачивались в бухточке, откуда выходили на промысел рыбаки. Рыбаки делились на бережных — тех, что ловили возле берега, и рисковых — надеявшихся на удачу и пытавших счастье на просторе. Бережные и рисковые трунили друг над другом, но и те и другие были добры к ребятам. Хорошо было вытаскивать на берег лодку и хватать руками живую, бьющуюся рыбу!
Но Ваню неизменно тянуло в порт. Необычайно привлекала его чугунная пушка в городском сквере, стоящая здесь, казалось Ване, с незапамятных времён — с Крымской войны. Тогда англо-французская эскадра почти полностью разрушила город, порт сгорел. Высушенные солнцем бердянские старики ещё помнили этот обстрел и, воскрешая в памяти события молодости, сокрушённо качали головами: беззащитному городу нечем было ответить врагу. Всего несколько пушек… Кто-то из стариков обмолвился, что пушка-то не заклёпана…
Знавшим порт как свои пять пальцев мальчишкам ничего не стоило раздобыть «макароны» — так называли спрессованный трубками порох из разряженных артиллерийских снарядов. Вечером, во время гулянья, прогремел оглушительный выстрел — такой силы, что пушка слетела с постамента. Завизжали дамы, забегали полицейские, примчались пожарные. Виновники переполоха с перепугу разбежались по домам.
Через два дня Ваня с гордостью прочитал друзьям газету, где было написано: полиция напала на след злоумышленников, поиски продолжаются.
Пушку водрузили на место, но предварительно заклепали — чтобы впредь неповадно было честной народ пугать…[12]
Однажды Иван нашёл британский патрон и решил изготовить трубку для самодельного окуляра волшебного фонаря — эпидиаскопа. Устроившись на широком подоконнике, аккуратно извлёк из патрона взрыватель, начал резать трубку. Но в патроне оказалось два взрывателя, второй слой пороха в гильзе взорвался, повредив мальчишке руку.
Поднялся переполох, поскольку все решили, что на город внезапно напал враг.
— Я убит! Я убит! — повторял испуганный Ваня. Мама едва успокоила сына.
В августе приехал отец, и мама как-то сразу погрустнела, перестала петь по вечерам. Детям справили гимназическую форму. Ване купили высокие блестящие ботинки, штаны с гетрами и куртку — прекрасную суконную куртку с четырьмя объёмистыми карманами, каждый из которых застёгивался на пуговицу. Ваня особенно гордился этими карманами — в них умещалось множество мальчишеских сокровищ.
Вскоре Надя начала ходить в женскую гимназию, а Ваня — в мужскую.
Отец снова уехал, мама с детьми осталась в Бердянске.
Начались осенние штормы. Порт пустел. Но мечты о дальних странствиях не ушли вместе с кораблями — они вспыхнули ещё ярче.
Ваня стал постоянным читателем бердянской библиотеки. Перечитал всего Жюля Верна. Затем пришли Уэллс, Рони-старший, Конан Дойл и Джек Лондон. Книги помогли ему через год спокойно пережить известие о разводе матери с отцом.
Тревожные вести приходили со всех сторон. В Петрограде свергли самодержавие, образовалось Временное правительство, а осенью власть взяли большевики. Установилась власть Советов и в Бердянске. Но не успела закончиться одна война, как началась другая. В 1918 году заполыхало всё Приазовье и Причерноморье. Фабрики, заводы и порт почти прекратили работу. Кто только не побывал в Бердянске! Большевики, белогвардейцы, австрийцы, германцы… Выстрелы с немецкого корабля, зашедшего в порт несколько месяцев назад, казались сущим пустяком.
В конце 1918 года, после возвращения красных, Варвара Александровна решила перебраться с детьми на правобережье Днепра, в Херсон, к родственнице.[13] Так дешевле будет, да и дети под присмотром останутся, если что…
Аллан Квотермейн в Херсоне
Мать надеялась найти спокойное пристанище, но вихрь Гражданской войны уже закружил семью в своём водовороте.
Иван Антонович вспоминал:
«Из гимназии запомнились строки Т. Г. Шевченко:
Було колись на Вкраіні Ревіли гармати, Були колись запорожці Вміли панувати, Панували, добували і славу, І волю.Мы, подростки, чувствовали себя тоже потомками запорожцев. У нас были свои атаманы, нередко устраивались драки. Причём на довольно честных началах — выделялось равное количество кулашников по принципу «Сколько нас — столько вас».
Впрочем, что наши драки по сравнению с тем, что нам, подросткам, пришлось увидеть и пережить. В городе происходила бесконечная смена властей. Врывалась какая-нибудь банда, стреляя в окна для забавы. На несколько дней в городе появлялся образный по своей форме приказ с угрозой натянуть на барабан шкуру своего противника…
Пришедшие в Херсон греческие и французские оккупанты оставили после себя трупы расстрелянных и повешенных на фонарных столбах. На всю жизнь запомнился горелый запах от заживо сожжённых оккупантами заложников в амбарах. <…>
В доме, где я жил, поселился матрос-чекист. Была у него такая примечательная фамилия — Поднебесный. Ну, конечно, и я приобщался к военным занятиям. Вооружился я до зубов. Однажды изъяли у меня винтовку, несколько пистолетов, гранаты. Но всё-таки один пистолет и пару гранат оставили. Это тринадцатилетнему[14] мальчишке…
Жил в Херсоне в то время ярый естественник, учитель Теверацкий. Я благодарен судьбе, что она свела меня с этим интересным, влюблённым в природу человеком. Он много сделал для Херсонского краеведческого музея, для оснащения его сравнительно богатых экспозиций. Он готов был пожертвовать жизнью для защиты своих спиртовых препаратов от поклонников зелёного змия. Время-то было неровно. Мы засиживались с ним до поздней ночи, топили печку губернскими архивами и коротали время в разговорах. Больше говорили о будущем, о книгах. <…>
Я по-прежнему был близок с рыбаками. На белиндах[15] они выезжали в лиман и дальше в сторону Одессы, ловили скатов. Эта рыба шла на рыбий жир. Он очень нужен был для детей в то тяжёлое время».[16]
Мама в это время как бы отделилась от детей, жила особой, незнакомой раньше жизнью. Она вдруг ощутила необычайную жажду жизни, словно сердце стучало сильнее. Стройную молодую женщину приметил один из краскомов — красных командиров, и Варвара Александровна вдруг почувствовала, что крепко любит этого храброго человека в кожанке. На острие истории молодые спешили жить. И свадьба не заставила себя ждать.
А по России уже звучал клич: «Все на борьбу с Деникиным!»
Натиск деникинцев был стремительным. Поддержанные казачеством, они быстро дошли до Орла и подступили к Туле — а оттуда и до Москвы рукой подать.
Белые приближались и к Херсону. Впереди них летела весть об их зверствах и расправах. Многие из тех, кому советская власть была костью в горле, потирали руки, ожидая возвращения своих владений и наказания ненавистных большевиков.
Сил Красной армии для защиты Херсона не хватало, пришлось отступать. Стало ясно, что Варваре Александровне в городе оставаться нельзя.
Поцеловать детей, перекрестить их на прощание, умолить тётку присматривать за ними — и вслед за мужем…
В городе, казалось уже привычном к сменам власти, было страшно. С левобережья Днепра, со стороны Голой Пристани, где закрепились белые, непрерывно били орудия англо-французской эскадры — на рейде стояли миноносцы. Деникинские войска под командованием генерала Шиллинга на бронекатерах форсировали Днепр. Жестокий бой шёл за железнодорожный вокзал. Трещали пулемёты, щёлкали винтовочные выстрелы. Но очередь за хлебом, который выдавали по карточкам, продолжала стоять. Стоял в очереди и Ваня. Вернее, сидел, забравшись на пожарную лестницу и по-детски полагая, что угол дома является надёжнейшим прикрытием от снарядов.
Ваня, казалось, забыл обо всём на свете — о голоде, о снарядах, падающих на городские кварталы, о том, что уехала мама… Главным человеком для мальчика стал Аллан Квотермейн — невысокий, худощавый, мудрый охотник на слонов. Переехав в Херсон, Ваня привычно разыскал городскую библиотеку и стал наведываться туда каждый день. Однажды ему попались книги Хаггарда, и он уже не мог с ними расстаться. «Люди тумана», «Сердце мира», «Копи царя Соломона»…
Сидя на пожарной лестнице, полностью поглощённый удивительными приключениями трёх англичан и одного туземца-кукуана, Ваня читал не отрываясь, пока шальной снаряд не попал в ожидающую хлеба очередь. Взрывной волной Ваню сбросило вниз, контузило и засыпало песком. С этого дня мальчик начал слегка заикаться.
Всю свою жизнь Иван Антонович будет называть Генри Райдера Хаггарда любимым писателем и своего единственного сына назовёт Алланом.
Книги, которые мы любим в детстве, оказывают на нас на первый взгляд незаметное, но неизбежно мощное воздействие. Как губки мы впитываем качества и даже привычки любимых героев.
С необычайной отчётливостью вставали перед Ваней герои «Копей царя Соломона».
Вот сэр Генри — высокий, могучий красавец, англичанин, в жилах которого течёт датская кровь, «настоящий мужчина», по мнению его слуги Амбопы; человек чести, готовый к смертельному единоборству и к нежной братской любви. В поисках своего брата он решается на труднейшее путешествие вглубь Африки, говоря своим спутникам: «Но на свете нет такого пути, которого человек не смог бы пройти, если для этого он отдаст все свои силы. Если человека ведёт любовь, то нет ничего на свете, Амбопа, чего бы он не преодолел. Нет для него таких гор, которых бы он не перешёл, нет таких пустынь, которых бы он не пересёк, кроме гор и пустынь, которых никому не дано знать при жизни. Ради этой любви он не считается ни с чем, даже со своей собственной жизнью, которой готов пожертвовать, если на то будет воля провидения».
В рассказах, повестях и романах Ефремова герои тоже способны на невероятное напряжение всех сил ради любви.
Вот капитан Гуд — храбрец и щёголь, гордый своей принадлежностью к морскому флоту и способный отчаянно ругаться. Этот его талант оказался востребованным в самой необычной обстановке — когда белые люди пообещали племени кукуанов, что они погасят Луну (ожидалось затмение), необходимо было произнести страшные заклинания: «Я никогда не предполагал, как виртуозно может ругаться морской офицер и сколь необъятны его способности в этой области. В течение десяти минут он ругался без передышки, причём почти ни разу не повторился».
Спустя десятилетия Иван Антонович говорил друзьям, что может ругаться пять минут без перерыва.
Капитан Гуд был всегда опрятен, аккуратно и хорошо одет. Посмотрите кадры фильма о палеонтологической экспедиции в Монголии: когда вы увидите, как выглядит Иван Антонович на совещании в Монгольской академии наук, у вас отпадут всякие сомнения в его сходстве с капитаном Гудом.
Именно характеристика капитана Гуда, данная ему Алланом Квотермейном, через несколько лет заставит Ивана всерьёз выбирать между морем и наукой: «Несколько раньше я задал вопрос: что такое джентльмен? Теперь я на него отвечу: это офицер Британского Королевского флота, хотя, конечно, и среди них иногда встречаются исключения. Я думаю, что широкие морские просторы и свежие ветры, несущие дыхание Господа Бога, омывают их сердца и выдувают скверну из сознания, делая их настоящими людьми».
Амбопа, слуга-зулус, предложивший белым людям сопровождать их в далёкое опасное путешествие без платы, оказывается сыном короля кукуанов, на земле которых находятся копи царя Соломона. Отца Амбопы предательски убили, когда он был маленьким, мать бежала и вырастила сына как настоящего короля. Он обращается к белым без самоуничижения, как было принято в Южной Африке в те времена, как к равным себе и ведёт себя с редким чувством собственного достоинства. Когда он нанимался слугой к англичанам, сэр Генри попросил его встать: «Сбросив с себя длинный военный плащ, зулус выпрямился во весь свой исполинский рост и предстал перед нами совершенно обнажённым, если не считать мучи[17] и ожерелья из львиных когтей. Он был великолепен. Я никогда в жизни не видел такого красивого туземца. Роста он был шести футов и трёх дюймов, широкоплечий и удивительно пропорционально сложенный. При вечернем освещении кожа его была чуть темнее обычной смуглой, только многочисленные следы от нанесённых ассегаями[18] ран выделялись на его теле тёмными пятнами. Сэр Генри подошёл к нему и пристально посмотрел на его гордое, красивое лицо.
— Какая прекрасная пара! — сказал Гуд, наклоняясь ко мне. — Посмотрите, они совсем одинакового роста».
Один из героев повести Ефремова «На краю Ойкумены» — негр Кидого «происходил из очень далёких мест Африки, на юго-запад от Айгюптоса»: «Пандион привык к тому, что негры хорошо сложены, но этот гигант сразу привлёк внимание скульптора своим пропорциональным и красивым телом. Впечатление необычайной мощи от крупных, будто кованных из железа мускулов как-то сочеталось с лёгкостью и гибкостью высокой фигуры Кидого. Огромные глаза под выпуклым высоким лбом были полны внимания и поражали своей живостью».
Путешественники полюбили Амбопу: «Ему была свойственна удивительная способность поддерживать в людях бодрость, причём он сам никогда не терял чувства собственного достоинства».
Именно эту способность поддерживать в людях бодрость отмечали в Иване Антоновиче все участники экспедиций, которыми он руководил.
Амбопа считает, что не только отвага и сила, но и умение сказать «великие, возвышенные слова» присуще настоящему мужчине. Сам он так обращается к сэру Генри: «Слушай! Что такое жизнь? Это лёгкое пёрышко, это семя травинки, которое ветер носит во все стороны. Иногда оно размножается и тут же умирает, иногда улетает в небеса. Но если семя здоровое, оно случайно может немного задержаться на пути, который ему предначертан. Хорошо, борясь с ветром, пройти такой путь и задержаться на нём».
И, наконец, главный герой «Копей царя Соломона», от имени которого ведётся повествование, — охотник на слонов Аллан Квотермейн, англичанин, большую часть жизни проживший в Южной Африке, знаток людей и охотничьих троп, мудрец, которому зулусы дали имя Макумазан — тот, кто встаёт до рассвета, тот, кто всегда начеку. Он может дотошно подсчитывать съестные припасы и патроны, а может и показать свою доблесть в бою. Он осторожен и предусмотрителен, прозорлив и великодушен.
Над телами погибших за своего короля воинов он горестно и торжественно размышляет: «Однако, пока существует мир, человек не умирает. Правда, имя его забывается, но ветер, которым он дышал, продолжает шевелить верхушки сосен в горах, эхо слов, которые он произносил, ещё звучит в пространстве, мысли, рождённые его мозгом, делаются сегодня нашим достоянием. Его страсти вызвали нас к жизни, его радости и печали близки и нам, а конец, от которого он пытался в ужасе бежать, ждёт также каждого из нас. Вселенная действительно полна призраков — не кладбищенских привидений в погребальных саванах, а неугасимых, бессмертных частиц жизни, которые, однажды возникнув, никогда не умирают, хотя они незаметно сливаются одна с другой и изменяются, изменяются вечно».
Что это, как не идея ноосферы?
Глубокий след в памяти Ефремова оставила главная идея романа, на которую, как на стержень, накручивается приключение: в глубокой древности в Южной Африке побывали народы Средиземноморья — египтяне или финикийцы.
Это художественное допущение отзовётся в творчестве Ефремова повестью «Путешествие Баурджеда» (дилогия «На краю Ойкумены»).
Герои «Копей царя Соломона» ищут алмазы — мысль об алмазах будет необычайно увлекать Ефремова. В романе «Лезвие бритвы» друзья-итальянцы тоже будут искать эти сверкающие камни на берегу Южной Африки, а в рассказе «Алмазная труба» писатель предскажет открытие алмазов в Якутии.
В романе Хаггарда древние народы оставили алмазные копи, широкую дорогу, вдоль которой в скалах вырезаны барельефы типа египетских, три величественные статуи на пьедесталах из тёмной скалы — колоссальные фигуры двух мужчин и одной женщины.
«Одна из них, изображавшая обнажённую женщину, отличалась исключительной, хотя и строгой красотой. К сожалению, черты её лица сильно пострадали от времени, так как в течение многих веков они подвергались влиянию погоды. По обе стороны её головы подымались рога полумесяца. Две мужские фигуры были, в противоположность ей, изображены задрапированными в мантии. Лица их были ужасны, в особенности у сидевшего справа. У него было лицо дьявола. Лицо сидевшего слева было безмятежно-спокойно, но спокойствие это вселяло ужас. Оно выражало бесчеловечную жестокость, ту жестокость, которой, по словам сэра Генри, в древности фантазия человека наделяла могущественные существа, может быть способные совершать и добрые дела, но тем не менее созерцающие страдания человечества если не с наслаждением, то и без всяких терзаний. Три фигуры, одиноко сидящие в вышине и веками созерцающие расстилающуюся внизу долину, действительно вселяли благоговейный ужас. Мы смотрели на Молчаливых, как их называли кукуаны, и нами овладело огромное желание узнать, чьи руки высекли из камня этих колоссов, проложили дорогу и вырыли огромную копь. Когда я в изумлении смотрел на них, мне внезапно припомнилось (так как я хорошо знал Ветхий завет), что Соломон отрёкся от своей веры и стал поклоняться иноземным богам. Имена трёх из этих богов я также вспомнил: Ашторет — богиня Сидонян, Чемош — бог Моабитов и Мильком — бог детей Аммона. Я высказал своим спутникам предположение, что три фигуры, сидящие перед нами в вышине, возможно, изображают именно эти три ложных божества.
— Может быть, в этом и есть доля истины, — задумчиво сказал сэр Генри. Он был очень образованный человек и, когда ещё учился в колледже, достиг больших успехов в изучении классиков. — Ведь древнееврейская Ашторет, — продолжал он, — называлась Астартой у финикийцев, которые вели крупнейшую торговлю во времена Соломона. Астарту же, которую греки впоследствии называли Афродитой, изображали с рогами, напоминающими полумесяц, а на голове женской фигуры отчётливо видны рога полумесяца. Возможно, что эти колоссы были созданы по воле какого-нибудь финикийского должностного лица, управлявшего копями. Кто знает!»
Читатель, которому знаком роман «Таис Афинская», сразу увидит родство этих абзацев со страницами последнего произведения Ефремова.
На всю жизнь в душе Ивана Антоновича осталась мечта об Африке — загадочном и прекрасном континенте. Африка появится в его рассказах «Голец Подлунный» и «Афанеор — дочь Ахархеллена», в дилогии «На краю Ойкумены», в романах «Лезвие бритвы» и «Тайс Афинская». Он будет собирать книги об Африке и переписываться с людьми, любящими этот континент. Прекрасная женщина, которая будет дружить со львами, попытается помочь больному сердцу писателя, продлить ему жизнь…
Вихри Гражданской войны
Шёл 1919 год. 13 августа деникинцы заняли Херсон. Тюрьмы переполнились, начались обыски, аресты и казни. В первый же день расстреляли 18 человек. Среди них был молодой типографский рабочий Леонид Хаенко — он печатал большевистские прокламации. Затем схватили и повесили Георгия Полякова — член подпольного ревкома разместил в своём доме подпольную типографию и готовил восстание против деникинцев. Шашками изрубили белые юного подпольщика-студента Фёдора Солонаря.
Город был подавлен, глухо роптал. На Херсонщине действовали партизаны.
Осенью стали доходить слухи о боях на Дону, о наступлении Красной армии. С холодами в Херсоне появились беженцы, а вместе с ними — страх, вши и тиф.
Родственница, на попечение которой оставались дети Варвары Александровны, заразилась тифом и вскоре умерла в больнице. Двенадцатилетняя Надя и братики-погодки Ваня и Вася остались одни в чужом городе, занятом деникинцами, не зная, где мама и жива ли она, не имея возможности связаться с отцом.
Голодной и холодной была зима 1920 года. Детям ничего не оставалось, как начать продавать вещи. Они долго совещались, что можно снести на рынок, что нельзя, а потом надо было суметь продать вещь так, чтобы за неё дали хотя бы половину настоящей цены, а затем купить продукты так, чтобы не обманули хитрые торговцы. А чтобы еду приготовить, дрова нужны… Верно, и вовсе бы пропали ребята, если бы в феврале в город не вернулись красные.
На этот раз советская власть установилась всерьёз и надолго.
Ребята не знали, что вскоре в Херсон приехал народный комиссар просвещения РСФСР Анатолий Васильевич Луначарский. Он хорошо понимал, что сейчас одна из самых важных задач всего юга — ликвидация детской беспризорности. Нужно было искать педагогов, открывать школы, определять беспризорников в колонии, которые приходилось создавать на пустом месте, а тех, кто живёт у себя дома, но лишился родителей, спасти от голода, который часто толкал детей на воровство.
В дом к Ефремовым неожиданно пришли «дяди из наробраза» — записали детей в тетрадочку, откуда родом и кто родители, и стали снабжать талонами в столовку. Кулеш, сушёная рыба, кипяток с леденцом — неплохая еда! Жить можно.
Пришла весна, затем лето. Жизнь в городе понемногу налаживалась. Но тут пришла новая беда: разбитых деникинцев сменил барон Врангель. Против него выступила Первая конная армия.
Городские мальчишки распевали:
Будённый — наш братишка, С нами весь народ. Приказ: «Голов не вешать И глядеть вперёд!»21 сентября был создан Южный фронт под командованием Михаила Васильевича Фрунзе, в Херсоне разместилась 6-я армия красных. В соседнем доме появились бойцы — но не простые. Главным их оружием были не винтовка, не шашка и даже не пулемёт. Их инструменты — гаечные ключи, главное оружие — баранка и педали. Во дворе стояли фырчащие авто.
Отложив приключения в дебрях Африки, Ваня стал пропадать на автобазе. Машины здесь были самые разные, многие с цепной передачей. Они часто ломались, и требовалось быстро понять причину и суметь изготовить нужную деталь — запчастей практически не было. Ваня всегда был готов подать нужный инструмент, подержать что-нибудь или привинтить. Однажды на автобазу зашёл сам командарм, Константин Алексеевич Авксентьевский. Увидев мальчика, строго взглянул на него. Представим себе, как это могло быть.
— А ты что здесь крутишься? — строго спросил командарм.
— Помогаю, — смело ответил Ваня.
Командарм с улыбкой кивнул на разобранный мотор:
— Неужто смыслишь в технике?
— А то! — гордо ответил Ваня.
— Мальчишка смышлёный, — вступился за Ваню механик, старый питерский рабочий, который мог сделать из железа всё что угодно. — Все дни у нас старается. Одни они втроём живут. Почитай, что при живых родителях сиротами остались. Может, его к нам на довольствие поставить?
Командарм зорко оглядел мальчика:
— Как тебя зовут?
— Ваня.
— Разве так положено отвечать командарму? Так как тебя зовут?
— Иван Ефремов, — выгянувшись, звонко произнёс мальчишка.
Командарм обернулся к начальнику автобазы:
— Приказываю зачислить Ивана Ефремова во вторую роту, выдать обмундирование и поставить на довольствие.
Главными покровителями подростка стали механик автороты Сергей Баячко и Гавриил Прожога, водитель «даймлера», в кабине которого и обосновался Ваня.
14 октября 6-я армия остановила наступление Врангеля на правом берегу Днепра, а 28 октября в наступление перешёл весь Южный фронт. Вместе со второй ротой автобазы 6-й армии из Херсона выступил и красноармеец Иван Ефремов. Бойцы пели:
Белая армия, чёрный барон Снова готовят нам царский трон, Но от тайги до британских морей Красная армия всех сильней…С этой песней красноармейцы подошли к Перекопу.
Белая армия, разбитая в степях, готовилась к обороне по Турецкому валу высотой в десять метров, с тремя линиями проволочных заграждений. Мощные укрепления были возведены у Чонгарских переправ. Белые защищали последний оплот барона Врангеля — Крым. Главный удар командующий Южным фронтом Михаил Васильевич Фрунзе решил нанести именно на Перекопском направлении. В ударный кулак входила и 6-я армия.
Жесток и страшен был штурм перекопских укреплений. Невозможным казалось форсировать Сиваш.
Иван видел, с каким героическим напряжением работали водители, подвозя снаряды и эвакуируя раненых, как слаженно работали механики, приводя в порядок пострадавшие машины. Он знал, что укрепления, которые невозможно было прорвать, взяты, что враг бежит от Красной армии по крымским степям.
17 ноября Крым был полностью освобождён.
До весны бойцы 6-й армии вели относительно спокойную жизнь: охраняли черноморское побережье и гонялись за бандами по Херсонской и Одесской губерниям. Красноармейцы были веселы: война закончена, скоро по домам — налаживать мирную жизнь. Ивана в автороте полюбили, научили его разбираться в автомобилях и водить машину. Подросток порой не доставал до педалей, но понимал — он сейчас отвечает за себя сам, и ни разу не потерял управления.
13 мая 1921 года произошло долгожданное событие — 6-я армия была расформирована, бойцы уволены в запас.
Не мальчик, а высокий тринадцатилетний подросток в военной форме, с тощим мешком за плечами, добрался до Херсона. От соседей он узнал, что сестру и брата забрал в Петроград отец.
Железные дороги были разбиты Гражданской войной, поезда часто останавливались — не хватало топлива. Много дней Иван провёл в «телячьем» вагоне. Было голодно и весело, пассажиры — в основном демобилизованные солдаты и матросы — шутили, пели песни. На станциях бегали за кипятком, дружно делили скудные запасы. Жизнь виделась просторной светлой дорогой, на которой просто не может быть непреодолимых препятствий.
Глава вторая ОТРОЧЕСТВО (1921–1924)
Оглядываясь на прожитую жизнь, я удивляюсь, как много я успел сделать и как много мне пришлось пережить. Наверно, и жизнь мне кажется такой длинной оттого, что слишком рано я был предоставлен самому себе. В том возрасте, когда мальчики ещё учатся в школе, я уже вынужден был работать…
Г. Р. Хаггард. Копи царя СоломонаВозвращение в Петроград
С Троицкой — налево, в Щербаков переулок, затем ещё раз налево — на набережную Фонтанки. Вот оно, знакомое здание училища, теперь — 23-я единая трудовая школа.[19] Массивное трёхэтажное здание с высокими окнами отодвинуто вглубь двора, по бокам — двухэтажные флигели, присоединённые к главному зданию светлыми переходами. Давно, ещё до Бердянска, Ваня проходил здесь вместе с отцом, который тогда с гордостью сказал:
— Вот, Иван, подрастёшь — в лучшем заведении учиться будешь!
И действительно, Петровское коммерческое училище, основанное на деньги купеческого сословия в 1880 году, недаром получило золотую медаль на Всемирной выставке в Париже. Купцы и промышленники последней трети XIX века, часто малообразованные, энергией и неукротимостью выбившиеся в люди, не жалели денег на образование своих детей. Здесь всё было лучшим: лучшие учителя, великолепно оборудованные кабинеты географии, истории, естествознания и рисования, лаборатории химии и физики. В поместительных шкафах, где нижние дверцы были деревянными, а верхние стеклянными, хранились чучела птиц, препараты в колбах, образцы минералов, наглядные пособия. Особенным богатством отличалась физическая лаборатория.
До революции в училище готовили купцов-приказчиков, банковских и конторских служащих. Сейчас сюда ходили дети со всей округи. От квартиры Ефремовых на Троицкой улице до школы — минут семь, не больше.
Высокая тяжёлая дверь, широкая лестница с гладкими деревянными перилами на чугунном узорчатом ограждении. Учебный год ещё не начался, в школе пусто и тихо. Иван оглядывается — со стула в углу поднимается старый швейцар, помнивший ещё открытие Петровского училища, без удивления оглядывает высокого тринадцатилетнего подростка в гимнастёрке, украшенной обильными, неумело пришитыми заплатками:
— Чего изволите?
— Записаться хочу.
— Сюда, пожалуйста.
Дверь налево вела к директору. Он и несколько педагогов жили в квартирах при школе.
— В Бердянске и Херсоне учились, стало быть… Три класса гимназии окончили. А йотом воевали. Запишем вас в школу второй ступени,[20] в шестой класс. Вы, вероятно, многое забыли… Ну что ж, догонять придётся!
— Догоню! — весело отозвался Иван.
Возбуждённый, выбежал он на Фонтанку и быстрым шагом направился в сторону Невского проспекта. Постепенно мысли его упорядочивались: учиться-то он будет, это бесспорно, но ведь надо что-то есть. Не зря у него сначала мелькала мысль, что учёбу вообще придётся бросить. Отец постоянно помогать не сможет: он сейчас служит на своей бывшей лесопилке в Вырице простым работником при конторе. Стало быть, надо искать заработок.
Иван знал, что при университетах и институтах созданы рабфаки — рабочие факультеты, где студентам платят стипендию, но чтобы там учиться, надо было иметь рабочий стаж. Стажа у Ивана не было, да и возраст ещё не подходил. Придётся как-то исхитряться. Обратиться за помощью к отцу казалось просто невозможным, надо было обеспечивать себя самому.
Петроград был совсем не тем городом, который запомнил, прощаясь шесть лет назад, маленький Ваня. Тогда приезжих ошеломляли шум и суета. По мощённым булыжником улицам громыхали ломовые телеги, проносились извозчичьи пролётки, проезжали грузовики и легковые автомобили, звенели и грохотали трамваи. Казалось, даже громады домов раскачиваются в такт напряжённому жизненному ритму.
В голодающем, малонаселённом Петрограде 1921-го, пережившем войну и блокаду империалистов, было тихо. В домах — много свободных квартир: их обитатели покинули страну или уехали в деревни, туда, где легче было добыть пропитание.
Заводы стояли, тихо было и в порту. На бирже труда каждый день выстраивалась огромная очередь — люди надеялись получить хоть какую-то работу.
Но на Сенной было по-прежнему оживлённо: именно сюда сходился народ в поисках заработка, здесь и торговали чем придётся. В толпе сновали беспризорники. Тут Иван узнал, что подзаработать можно на разгрузке вагонов.
Школа и работа
По Загородному проспекту, мимо Пяти Углов, мимо знакомого с раннего детства Витебского вокзала — туда, где несколько узких улочек подряд носят названия малых городов самого сердца России. Там, за Рузской, Можайской, Верейской и Подольской, — улица Серпуховская. Каждый раз, приезжая в Ленинград, известный учёный и писатель Ефремов навещал Серпуховскую и стоял, склонив голову, у одного из тесно поставленных домов с дворами-колодцами. Сюда, к Василию Александровичу, мудрому наставнику, прибегал он по вечерам, принося исписанные задачами тетрадки, здесь его всегда ждала поддержка старшего мудрого друга.
Когда в школе начались занятия, Иван узнал, что теперь уроки проводятся не так, как в старых гимназиях. Если строится новый мир, то и учиться дети должны по-новому. Не существовало стабильных программ. Педагогика находилась в поиске новых форм обучения, одни методы вводились, другие отменялись. Распространение получил бригадный принцип обучения: на уроке класс делился на несколько бригад по пять человек, они готовили заданную тему так, чтобы мог ответить любой из бригады. Учитель спрашивал одного, а оценка ставилась всем ученикам.
Часто устраивались диспуты: обсуждали законы диалектики, спорили о том, каким должен быть человек нового мира, каково будет устройство коммунистического общества.
Проверяли знания детей по тестам, которые приходили из отдела народного образования, причём время ответов было строго ограниченно. Были и обычные уроки.
Иван чувствовал, что ни тесты, ни бригадная система не дают возможности углубиться в предмет. Он привык беречь каждую минуту, чтобы успеть и учебник почитать, и денег на жизнь заработать, и поспать. Горько было ощущать, как драгоценные часы и минуты уходят в ненужных спорах с одноклассниками, в попытках объяснить тему товарищам, которых ни математика, ни русский язык особенно не интересовали.
Все ребята в школе имели прозвища, это было в порядке вещей. Царь Иван Пёстрый — так ребята окрестили Ивана Ефремова за многочисленные заплаты на одежде. Вот на этого «царя» и обратил внимание старый учитель математики Василий Александрович Давыдов — и решительно вмешался в его судьбу. Он предложил подростку смелый эксперимент — учиться экстерном, окончить два класса за один год.
Чтобы справиться, требовалась полная самоотдача — ведь приходилось ещё зарабатывать на жизнь. Тогда, возможно, впервые Иван узнал, что такое длительное — в течение многих месяцев — напряжение всех сил. Это был тот опыт, который могучим толчком вывел его на более высокую орбиту, помог осознать, что граница его сил ему ещё неведома. Казалось, что он уже на пределе, что нет никакой возможности справляться одновременно с синтаксисом, алгеброй и немецким языком, с бесконечными дровами и необходимым самообслуживанием, но наступал миг высшего напряжения — и после него то, что казалось раньше немыслимым, превращалось в привычное. Василий Александрович всегда был рядом, ироничной, но доброй улыбкой снимал многие сомнения, делился собственным жизненным опытом.
Большую радость доставляло Ивану общение и с другими учителями — талантливыми, пытливыми, влюблёнными в своё дело.
Природоведение вёл Виктор Михайлович Усков, автор многих учебников, известный популяризатор науки. Могучий и весёлый грузин Давид Николаевич Чубинов (Чубиношвили) организовал при школе зоологический сад в миниатюре — живой уголок природы.
Виктор Феликсович Трояновский блестяще преподавал физику. Молодой учёный Александр Игнатьевич Андреев,[21] знаток Петровской эпохи и истории Сибири, вёл курс истории.
В голодном и холодном Петрограде тринадцатилетний подросток все свои силы отдавал учению. Но мечты о далёких прекрасных странах не оставляли его. Порой он забирался в громадную пальмовую оранжерею Ботанического сада, сидя на чугунной скамейке, вдыхал влажный тёплый воздух, грезил о тропиках. Тогда же он начал писать — ни много ни мало — книгу про Атлантиду. Он не любил вспоминать о своих первых литературных опытах. Однако спустя десятилетия Атлантида вернётся к Ефремову…
Величественные пальмы оранжереи навевали ему мысли о громадных существах, бродивших по Земле в незапамятные времена. В Публичной библиотеке Иван нашёл диапозитивы с изображением этих чудовищ и решил показать в школе — устроить для всех урок палеонтологии.
В классе с Иваном училась Оля Садовская — милая девочка, которую он называл Олюшкой. Иван увлёк идеей палеонтологического урока её брата Мишу, двумя годами старше. Договорились, что Миша будет показывать диапозитивы, а Ваня — рассказывать. В его сознании сразу всплыли образы, волновавшие его в детстве: таинственные пещеры, учёный в крылатке, спуск в жерло вулкана… На необычный урок собралась почти вся школа, устроителям бурно аплодировали.
1970 год. «Узкое» — санаторий Академии наук. Уютная столовая. Иван Антонович с женой только сели за стол, как к ним, раскрыв руки в радостном приветствии, подошёл незнакомый мужчина:
— Здравствуй, Ваня! Сколько же лет мы с тобой не виделись?!
— Миша?! Неужто ты?!
Так спустя 46 лет Ефремов встретил своего школьного товарища — Михаила Александровича Садовского, академика, директора Института физики Земли.
В очерке «Путь в науку» Иван Антонович рассказал, как ему приходилось работать в школьные годы:
«Я начал с разгрузки дров из вагонов на товарных станциях Петрограда. В одиночку удобнее всего выгружать «швырок» — короткие поленья по пол-аршина в длину. «Шестёрку» (НО см) один далеко не отбросишь, завалишь колёса вагона, и придётся перебрасывать её дважды. За разгрузку вагона в 16–20 тонн швырковых дров платили три рубля. Если втянуться в работу, то за вечер можно было заработать шесть рублей — примерно треть месячной студенческой стипендии. Но после такой работы домой приходил далеко за полночь, в беспокойном сне виделись бесконечные дрова, а на следующий день я почти ни на что не годился. Кроме того, такая работа требовала усиленного питания, потому что надо было жить и питаться не как студенту, а как грузчику, расходуя гораздо больше денег, чем зарабатывал.
Когда я сообразил, что не могу учиться в таких условиях, то перешёл на выгрузку дров с баржей. Отапливающийся дровами Петроград снабжался ими не только по железной дороге, но и по реке. Деревянные баржи подходили прямо к домам по многочисленным протокам-речкам, пронизывавшим весь город. Снимали решётку набережной, прокладывали доски, и дрова катали прямо на тачках во дворы. Тут можно было заработать в день рубля четыре и не уставать так сильно, как на выгрузке дров в одиночку. Катала дрова артель, поэтому работа шла с роздыхом и при ловком обращении с тачкой не была слишком тяжела.
И всё же при том напряжении, какого требовало учение за два класса сразу, так работать можно было только летом, и то эпизодически. Когда я стал регулярно засыпать над задачниками и видеть во сне белые булки, которые никак не удавалось съесть, я понял, что снова надо менять род работы.
И тут я нашёл товарища. Вдвоём мы стали ходить по дворам, пилить, колоть и укладывать дрова в обширные ленинградские подвалы, использовавшиеся как сараи. На этой работе можно было в любое время сделать перерыв и даже кое-что соображать по прочитанному из учебников, когда работа не требовала особого внимания. Так я прожил бы кустарём-дровяником, если бы не подвернулась вакансия шофёра в одном из артельных гаражей. Затем произошло повышение в должности до шофёра грузового автомобиля системы «Уайт» с цепной передачей, модели 1916 года.[22]
С таким трудом найденную работу пришлось, однако, тут же оставить, чтобы сдать выпускные экзамены».[23]
Зимой 1924 года, через два с половиной года после зачисления в школу, на общем собрании учеников Иван Ефремов получил удостоверение об окончании полного курса первой и второй ступени и прошёл следующие предметы: литература, арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, естествознание, физика, химия, география, обществознание, политграмота…
Высокий двусветный зал в стиле классицизма, огромные люстры, ровные ряды стульев. Бывшие одноклассники и учителя радостно поздравляют Ивана. А у него в сладкой тревоге бьётся сердце: его ждёт дальняя дорога, такая дальняя, которую из его знакомых преодолел только один человек — Дмитрий Афанасьевич Лухманов.
На подступах к палеонтологии
«На роду написано», «судьба распорядилась»…
Октябрьская революция отменила эти расхожие выражения.
Ну что было бы написано на роду у Ивана Ефремова? Учиться в коммерческом училище, наследовать отцовскую лесопилку, стать купцом или промышленником.
А сейчас Иван, как Иван-царевич, стоит на распутье и понимает: только он сам будет выбирать дорогу. Точнее, не выбирать готовую, а прокладывать свой собственный путь. Чтобы определить направление, нужно ясно видеть цель. Какова же цель?
Подростки в тринадцать-четырнадцать лет глубоко в душе ощущают своё предназначение. Но часто «белый шум» поверхностной социальной адаптации мешает осознать это. Под влиянием повседневности, чужих мнений и ложных советов мы теряем ощущение подлинности, забываем то знание, которое было нам дано в зерне нашего духа. И счастье тому, кто не дал заглушить внутренний голос, вовремя прислушался и распознал верные сигналы, идущие из тонких миров.
Вот кончилась Гражданская война, мирная жизнь налаживается, и у Ивана всё устроилось: он сам себе зарабатывает на жизнь, учится в школе — ради чего? Что впереди? К чему стремиться?
И всплыла из глубины полузабытая детская мечта о необыкновенных животных, населявших древнюю Землю, о дальних дорогах, тяжёлых поисках и прекрасном счастье первооткрывателя.
И другая мечта бередила душу, мечта, взлелеянная на азовских волнах, — стать бесстрашным моряком, покорителем океанских просторов, лихим морским бродягой с трубкой в сурово сжатых губах.
Каждый из нас по-своему прокладывает путь. Кто-то выжидает удобного случая, ищет обходные тропы… Иван видел цель и шёл к ней прямо, кратчайшим из возможных в тот момент путём.
Две прочитанные книги — «Вымершие животные» Эдвина Рея Ланкастера и «Превращения животного мира» Шарля Депере — расширили представление Ефремова о палеонтологии. Книга Ланкастера была прекрасно иллюстрирована изображениями скелетов и реконструкций древних животных, в ней же рассказывалось о раскопках профессора В. П. Амалицкого на севере России. Депере рассматривал основные теоретические положения палеонтологии, писал об изменчивости видов в пространстве и времени, о причинах вымирания и появления новых форм. Читать Депере было сложнее, чем Ланкастера, — требовалась широкая биологическая подготовка.
В 1922 году Ефремов написал робкое письмо профессору Горного института Николаю Николаевичу Яковлеву, председателю Русского палеонтологического общества. Просил принять, выслушать и помочь советом. Иван тогда ещё не знал, что Яковлев считался среди студентов сухарём. Он был крайне неразговорчив и даже экзамены у студентов принимал молча. Подавал студенту камень — и тот должен был рассказать всё, что знает об этом камне. Молча выслушивал ответ. Если студент пребывал в замешательстве, подавал второй, затем третий камень. На этом экзамен заканчивался.
Профессор ответил Ефремову, при встрече внимательно выслушал и написал записку в библиотеку при Геологическом комитете. Иван зажал её в руке и, лишь пройдя несколько кварталов, остановился. Чёткие буквы гласили: «Дать этому щенку книги и пускать в читальный зал». Парня словно ударили в грудь. Он задохнулся, охваченный весёлой злостью: «Вы ещё услышите обо мне, господин профессор!»
Иван стал постоянным посетителем геологической библиотеки. Ему и вправду сначала казалось, что книги решат судьбу, ответят на все его вопросы. Но толстые тома на меловой бумаге, многие на иностранных языках, были непонятны, немы для подростка.
Однажды в лавке букиниста Иван нашёл учебник по палеонтологии, изданный в 1905 году. Автором его был Алексей Алексеевич Борисяк. Учебник стоил дорого, но Ивану так хотелось поскорее окунуться в науку, что он заплатил, примчался домой и тут же принялся читать. Он буквально проглотил книгу, но ясно ощутил, что не понял чего-то главного. Какая-то тайна была скрыта за сухим перечнем геологических эпох, описаниями беспозвоночных и позвоночных.
Надо найти автора, встретиться с ним!
Ивану помог справочник «Наука и научные работники»: Горный институт, Васильевский остров, 21-я линия.
Идя на встречу с пятидесятилетним профессором, Иван, конечно, не мог догадываться, что ему предстоит почти полтора десятилетия проработать под его руководством…
«Огромная профессорская квартира. Не кабинет, а целый зал! Из-за необъятного стола поднялся и пошёл навстречу Ефремову среднего роста хрупкий и неестественно прямой человек в очках с толстыми стёклами. Был Борисяк близорук, бледен и сед, а деревянная прямота его корпуса, как позже узнал Ефремов, объяснялась тем, что профессор носил специальный корсет из-за болезни позвоночника. Неожиданно сильный, почти трубный голос как-то не вязался с типичной внешностью кабинетного учёного. Вежливо расспрашивая юного посетителя, Алексей Алексеевич присматривался к нему, поднимая на лоб очки. Правда, Борисяк был очень внимателен и даже обещал привезти из Германии «Справочник по палеонтологии» Циттеля, но заронить «священный огонь» в душу Ефремова не смог. Всё, что тогда говорил профессор, казалось академичным и холодным. От его слов минералы не начинали светиться и не оживали тёмные кости доисторических ящеров».[24]
В начале 1923 года, сидя в читальном зале, он задумчиво листал подшивку журналов «Наука и её работники». В тяжёлое для страны время журнал печатался на серой бумаге, но продолжал издаваться.
Внимание Ивана зацепил заголовок: «Северо-Двинская галерея Российской Академии наук».[25] Автор — профессор П. П. Сушкин. Юноша с жадностью начал читать:
«Конец 1922 года в Российской Академии наук отмечен событием, которое надолго оставит свой след в истории русской геологии. После долгих перипетий Академии удалось получить здание для помещения в нём Геологического Музея. Потребность в таком здании назрела уже более 10 лет тому назад. Из-за тесноты помещения, коллекции музея, постоянно возраставшие, становились всё более трудно доступными и для специалистов. Пришлось надолго отказаться от просветительной работы, закрыв для публики доступ в музей. В 1914 году была намечена постройка нового специального здания, был проведён кредит на постройки — но из-за начавшейся войны планы эти рухнули. В настоящее время они воплотились в жизнь в ином виде: Академия получила часть зданий бывшего таможенного ведомства (по Тучковой набережной, д. 2) и приступила к спешному приспособлению их под помещение Геологического Музея и перевозке коллекций».
Написанная живым, выразительным языком статья читалась легко, и Иван мгновенно проглотил четыре страницы. Затем начал сначала, смакуя каждое название древних обитателей Земли.
Описав значение пермской эпохи для истории наземной жизни, Сушкин перечисляет находки Амалицкого:
«Из панцырноголовых рептилий примитивная Kotlassia — новый род, близкий к американской Seymouria, небольшое животное, ещё сильно напоминающее стегоцефалов, и затем в изобилии найден Pareiasaurus — громадное, с бегемота ростом, неуклюжее животное, явно травоядное; но до сих пор парейязавры были известны только по трём-четырём сравнительно полным экземплярам; Амалицкий нашёл их десятками. Из разнозубых рептилий Dicynodon — большеголовые, с клювообразными челюстями, напоминающими черепах, но большею частью с парою крупных клыков — найден в 4–5 видах, очень сходных с южно-африканскими, и в этом и состоит их значение; Северо-Двинские сравнительно мелки, до величины крупной собаки, и мало разнообразны, тогда как в Южной Африке их насчитывается сотни видов. Другие представители этой группы все новые: крупный хищник Inostrancevia, с черепом в аршин длиной и острыми, зазубренными по заднему краю зубами, из которых клыки были вершка в три длиною; намечен к описанию другой, ещё более крупный хищник; далее род Anna, близкий к одному из африканских, и род Dvinia с многовершинными коренными зубами, уже напоминающими млекопитающих. Амфибии стегоцефалы представлены здесь также новыми и очень оригинальными Dvinosauridae. Это стегоцефалы средней величины (до метра), с слабыми ногами и сохраняющимся жаберным аппаратом и во взрослом состоянии — следовательно, жившими всю жизнь в воде. Так как у других — и притом более ранних стегоцефалов жаберный аппарат всегда терялся ко взрослому состоянию, то здесь мы имеем, по всей вероятности, регрессивную эволюцию, возврат личиночных признаков и личиночного образа жизни».
Но как все эти существа очутились в одном месте? Юный читатель был просто заворожён картиной, которую свободно и смело нарисовала кисть учёного:
«Условия нахождения позволяют воссоздать и картину условий жизни этого сообщества. Остатки позвоночных залегают в линзах рыхлого песчаника, которые выполняют впадины слоистой толщи мергелей, а сверху по большей части прикрыты более новыми пластами мергеля, если только последние не разрушены позднейшим размыванием. Сами кости лежат в более плотных отложениях или конкрециях песчаника, от величины кулака и до полутора саженей. Такая конкреция заключает то отдельные кости, то кучу костей разнообразных животных, то целый скелет, с частями, сохранившими свою естественную связь. В песчанике линзы находятся отпечатки самых разнообразных папоротников-глоссоптерисов, также общих с Южной Африкой и Индией. Та линза — из местности, носящей название Соколки, у дер. Ефимовской — которая разрабатывалась интенсивно и откуда происходит большая часть находок, представляет собою выполненное осадками русло, или, вернее, омут древней реки, которое теперь перерезано долиною Северной Двины и обнаружилось в её береговых обнажениях. Целый ряд признаков указывает, что местность, в верхне-пермский период, представляла степь или пустыню, по которой протекала довольно большая река с омутами. В этот омут сносились трупы или остатки животных, попадавшие в реку и в обычное время, и в особенности при наводнениях; в омуте они постепенно и скопились в большом количестве. Травоядные парейязавры, видимо кормившиеся растительностью, росшей у берега и в самой воде, находятся всюду и часто в очень хорошей сохранности, реже и дальше от берега попадаются хищники-иностранцевии, большей частью в виде разрозненных выветрившихся костей — видимо, они жили поодаль от реки и в омут попадали в виде трупов, сносимых наводнением и долго перед тем пролежавших под открытым небом. К середине реки попадаются и стегоцефалы, постоянно жившие в воде. Перед нами создаётся картина своеобразной фауны, жившей в условиях пустыни, с характерным разнообразием типов, но с малым разнообразием видов в пределах каждого из них. При этом резко преобладают рептилии, своей организацией защищённые от невзгод сухого климата; амфибии представлены регрессивными формами, которые в этих условиях удержались ценою возврата личиночных приспособлений, делающих возможною постоянную жизнь в воде».
В завершение статьи профессор с горечью говорил: всё, «что сделано до сих пор в Северо-Двинских раскопках, сделано при очень скромных средствах, и начиная с 1914 года уже нельзя было не только продолжать исследований на месте, но и вывезти всё то, что было уже добыто и оставлено на месте. Даже поездку в 1922 году для ревизии раскопок и организации охраны удалось осуществить лишь после того, как явно наметилась угроза расхищения, и кое-что было действительно расхищено. И всё — не по недостатку желающих работать, а по недостатку средств. Необходимо, чтобы нашлась наконец материальная возможность достойным образом использовать это единственное в мире национальное сокровище».
Иван читал, и его властно охватывала жажда деятельности. Скелеты древних животных найдены не только в далёких Африке или Америке, но и в России. Значит, и на его, Ивана, долю открытий хватит!
Он вдруг понял, что ему вновь необходимо поговорить — именно с профессором Сушкиным. И написал автору письмо, умоляя о встрече.
Пётр Петрович Сушкин
«Приходите, но не на квартиру, а в Геологический музей. Мы побеседуем, а кстати, вы кое-что увидите…» Под текстом была нарисована схема, как пройти к кабинету.
Ответ Сушкина воодушевил Ивана.
18 марта 1923 года — эта дата навсегда осталась в памяти Ефремова. Как на крыльях помчался тогда юноша на Васильевский остров, в здание складов бывшей Петровской таможни, первое справа, если стоять лицом к Бирже. В этом здании на берегу Малой Невы располагался Геологический музей, ещё не открытый после Гражданской войны.
Из глубины огромных залов с высокими потолками навстречу Ивану вышел, сильно прихрамывая, невысокий человек пятидесяти лет. Юноша ощутил на себе острый взгляд его насмешливых глаз. Типичный профессорский облик: высокий, с залысинами лоб, седые усы и бородка клинышком, чёрные брови, крупный нос, благородные, но твёрдые черты лица.
Пётр Петрович крепко пожал руку четырнадцатилетнему искателю.
— Итак, Иван Антонович,[26] вы намерены посвятить себя палеонтологии?
Ефремов смутился: по имени и отчеству его ещё никто не называл. Но глаза с доброй смешинкой глядели спокойно и внимательно, и Иван, ободрившись, принялся рассказывать свою историю.
Старинные серебряные часы отмеряли четверть за четвертью, но Сушкина словно вовсе не беспокоил бег стрелок. Он одобрительно покачивал головой, время от времени задавал уточняющие вопросы. А затем преподнёс юному гостю удивительный подарок — сам провёл Ивана по залам музея. Музей тогда лишь готовился к открытию — полвека в нём не было посетителей, Иван стал одним из первых — и, возможно, первым частным посетителем. Надолго задержались они в Северо-Двинской галерее, директором которой Сушкин стал в 1921 году, когда по приглашению Академии наук приехал в Петроград из Симферополя, где занимал профессорскую кафедру в Таврическом университете.
Северо-Двинская галерея — одно из главных сокровищ Геологического музея — располагалась на втором этаже, в просторном светлом зале.
Словно сквозь волшебное окно-аквариум заглянул Иван в неведомый мир — и наяву очутился среди скелетов диковинных чудовищ. Вот череп хищной иностранцевии с огромными клыками, черепа дицинодонтов с черепашьими беззубыми клювами, поверх которых росли не то два больших клыка, не то два маленьких бивня, скелеты четырёхметровых парейязавров — крупных растительноядных ящеров величиной с медведя. В витринах покоились скелеты и черепа амфибий, притягивал взгляд скелет двинозавра с внешними жаберными дугами.
Пётр Петрович, отмечая про себя горящие глаза юноши, рассказал историю Владимира Прохоровича Амалицкого, в общих чертах уже знакомую Ивану. Четверть века назад профессор Варшавского университета, сравнивая пресноводных моллюсков и остатки растений из верхнепермских отложений России и Южной Африки, обнаружил их сходство. Он предположил, что на севере России могут быть найдены остатки крупных пермских рептилий, подобные тем, что были открыты на юге Африки, на плато Карру.
Главное — знать, что ты ищешь! Амалицкий знал это — и в урочище Соколки на Малой Двине, выше города Котласа, в линзе песчаника обнаружил прекрасно сохранившиеся скелеты животных верхней перми.
Но как же извлечь скелет из песчаника?
Пётр Петрович показал Ивану святая святых — препараторскую, где умелые руки добывали из тяжёлого монолита кости древних тварей, обрабатывали и определяли место каждой кости в целом скелете.
Был профессор занят чрезвычайно: кроме Северо-Двинской галереи, он заведовал Орнитологическим отделением Зоологического музея в должности старшего зоолога, занимался обработкой огромных, не разобранных ещё орнитологических коллекций, составлял каталоги птиц, кроме того, был куратором практикантов Академии наук и имел множество других научных обязанностей.
«Палеонтологией он увлекался давно, но, как шутил академик Алексей Алексеевич Борисяк, это увлечение Сушкина долгое время оставалось платоническим — он интересовался достижениями палеонтологии, но сам изучением ископаемых костей не занимался. Так продолжалось до 1921 года, когда Сушкин перебрался с Украины в Петроград, чтобы принять заведование орнитологическим отделением Зоологического музея. И к нему в Академии обратились с неожиданным предложением — занять должность хранителя в ещё одном музее, Геологическом.
Сушкин долго колебался — на пятом десятке лет не поздно ли начать заниматься совсем новой областью науки. Но в конце концов решился. И стал заведующим одного из главных отделений Геологического музея — Северо-Двинской галереи.
Совмещая работу в Зоологическом и Геологическом музее (благо они находились по соседству — две минуты пешком), Сушкин всё больше и больше тратил время на ископаемые кости. Иной раз по несколько дней ночевал в Геологическом музее, счищая породу с костей и разгадывая назначение косточек давно исчезнувших тварей. И говорил, что старые кости подарили ему вторую молодость.
В списке его трудов, начиная с 1921 года, палеонтология безраздельно господствует.
Вообще Сушкин был для палеонтологии фигурой необычной и удивительной. Палеонтология находится на стыке двух наук — геологии и биологии. Но работали в ней в основном геологи. Сушкин был, кажется, первым биологом, пришедшим в палеонтологию. Что важно — биологом опытным, знатоком морфологии. До этого он изучал скелеты птиц и хорошо представлял, какое значение имеют кости, как по ним можно реконструировать образ жизни, особенности поведения и даже среду обитания животного.
С уникальным багажом знаний современных животных, с поразительным энтузиазмом и энергией Сушкин взялся за изучение пермских ящеров, добытых за двадцать лет до этого на берегу реки Северной Двины. И предложил совершенно новые трактовки этим ящерам. Можно сказать, оживил древние костяки».[27]
О чём же мог рассказывать Ефремову Сушкин?
Представим, что «он показал на странный череп, у которого клыки образуют с клювом своеобразный аппарат для кусания, своего рода щипцы-кусачки. Объяснил, что, судя по челюсти, у ящера были мощные жевательные мышцы. Задняя часть черепа очень широкая — это показывает, что у дицино-донта была мощная шея. И как вывод — это был хищник, но хищник пассивный, падальщик, разрывавший своими челюстями толстые шкуры мёртвых ящеров.
А вот скутозавры. Тоже, по сути, сплошная загадка. Сушкин обратил внимание на их необычайно развитые когти, на сильные передние конечности (по строению похожие на лапы крота) и рассказал Ефремову, что эти ящеры были роющими животными, выкапывали корневища из земли.
В музее в такой копающей позе был собран один из скелетов — молодой скутозавр.
Идею роющих скутозавров Ефремов отстаивал всю жизнь, хотя трудно представить крота размером с бегемота. Главное — непонятно, зачем скутозаврам копать землю. Явно не для того, чтобы добыть пропитание — их зубы не приспособлены для твёрдой пищи. Несколько лет назад один отечественный палеонтолог, анализируя условия захоронения подобных ящеров, предположил, что они выкапывали норы и впадали в спячку во время жарких сезонов. Вполне возможно, так оно и было. Скутозавры по образу жизни были более близки к амфибиям, чем к рептилиям, а многие жабы и лягушки закапываются в землю, чтобы пережить неблагоприятные сезоны…
В одной витрине Северо-Двинской галереи лежал метровый остов амфибии пермского периода, получившей имя «двинозавр» в честь реки Северной Двины, на берегу которой проводил раскопки покойный Амалицкий. У скелета в районе шеи сохранились окаменевшие внешние жабры. Видимо, двинозавры были личинками амфибий, которые не стали превращаться в половозрелую взрослую особь, а навсегда остались головастиками. Сейчас такой образ жизни ведут мексиканские аксолотли, никогда не достигающие взрослого состояния, находящиеся, так сказать, в вечном детстве. Они живут так по много лет и вполне успешно размножаются.
Сушкин на примере двинозавра выдвинул поправку к знаменитому закону необратимости эволюции. По его мнению, иногда животные могут регрессировать, возвращаясь в предыдущее состояние. Так кости ящеров с русского севера корректировали законы природы. Показывая на окаменевшие жабры древней саламандры, Сушкин объяснял устройство Вселенной».[28]
…Через несколько дней сотрудники музея и аспиранты, входя в кабинет Петра Петровича, вдруг замечали новый стол, за которым восседал какой-то юнец. Каким фуксом пролез этот мальчишка в кабинет профессора, получив позволение приходить в любое время? А профессор не только отбирает для него книги и разговаривает как с равным, но и позволяет ему в препараторской следить за обработкой костей. Извлекать кости из породы Сушкин умел прямо-таки ювелирно!
С восторгом окунулся Иван в атмосферу радостного научного поиска, которую создавал вокруг себя Сушкин.
Пётр Петрович ратовал за увеличение числа молодых людей, интересующихся наукой, требовал, порой даже резко, прибавить количество практикантов. Он считал, что для научной работы надо выдвигать действительно талантливых людей, иметь возможность выбора: «Нет смысла ухаживать за единственным живым ростком, из которого ничего путного не вырастет и который потом будет жалко выбросить, так как на него затрачен большой труд».[29]
О Сушкине осталось мало воспоминаний, потому так драгоценны свидетельства современников. Они помогают понять, в чём именно повлиял академик на формирование научных взглядов Ефремова.
Орнитолог и путешественница Елена Владимировна Козлова вспоминала:
«Заведуя в 20-х годах Орнитологическим отделением Зоологического музея и ежедневно общаясь с нами, молодыми тогда сотрудниками, начинающими специализироваться орнитологами, Пётр Петрович принимал близко к сердцу каждую работу своих учеников, радуясь нашим удачам, браня за ошибки и промахи. Каждому из нас не терпелось прежде всего поведать ему о своих достижениях, как бы незначительны они ни были, или о своей удачной находке и новом наблюдении во время очередной экспедиции. Пётр Петрович на всё это живо откликался. Он ни при каких случаях не расточал хвалебных слов, но выражения его лица, его довольной и почему-то в таких случаях чуть лукавой улыбки было достаточно, чтобы почувствовать себя обласканным и счастливым. Вообще он был немногословен, сдержан и строг, к тому же блестяще остроумен. Его юмор не задевал, а обычно свидетельствовал о хорошем настроении и расположении к собеседнику.
Мы все каждый день шли на работу в Музей, как тогда назывался Зоологический институт, радостные, потому что каждый день сулил что-то особенное, главным образом интересную беседу на самые разные, всегда животрепещущие для нас темы — чаще всего зоогеографические или исторические.
Пётр Петрович с величайшим удовольствием делился со всеми окружавшими его орнитологами своими соображениями, догадками, планами. Его разговор на научные темы звучал совсем не как лекция или поучение, а именно как беседа, в которой от слушателей требовалась реакция: возражение, одобрение или вопрос. Изложив нам какие-нибудь мысли, Пётр Петрович нередко спрашивал: что вы об этом думаете? К сожалению, я лично в то время большей частью не умела ответить, потому что только начинала работать, а если робко возражала ему, то он всегда прислушивался к сказанному и доказывал свою правоту ещё с другой, новой точки зрения. Сокровища своего ума, таланта и эрудиции Пётр Петрович расточал всем. Он был очень богат духовно. Всё это было для нас всех счастьем…»[30]
Орнитолог и палеонтолог
Иван восхищался Сушкиным. Это был учёный безукоризненно высокого стиля и вместе с тем человек с громадным опытом полевой работы, свободно ориентировавшийся в бытовых условиях. Он умел всё: выследить птицу, описать все её повадки и особенности, считал, что учёный должен сам тщательно препарировать птиц, не полагаясь всецело на препараторов. «Конечно, при изобилии добытого материала препараторская работа обременяет творческую работу наблюдателя в поле, поэтому её в какой-то степени можно перепоручать помощникам, но орнитолог должен в значительной степени препарировать сам. Плох тот орнитолог, который не умеет препарировать. В орнитологическое исследование можно вложить много эстетики и найти удовлетворение в познании совершенства форм. Если бы вы видели, как Мензбир, или Сушкин, или оба вместе рассматривали соколов, вы поняли бы, что в них играла кровь не только первоклассных исследователей. Они восторгались тем, что видели и что держали в руках. Не поучительно ли это для тех, кто посвятит себя орнитологии всецело?»[31]
Слова эти в полной мере относились и к палеонтологии. Именно поэтому Сушкин обучал препаровке своего юного протеже.
Оставаясь в кабинете один, Иван иногда подходил к столу профессора и листал объёмистую рукопись о птицах Алтая, которую Сушкин разрешал читать всем коллегам. Юноша, уже проехавший Россию с юга на север, знал, как велика наша земля, как много в ней ещё не познанного, не открытого. И оттого жарким огнём горела в нём жажда странствий. Вот Сушкин — изучил Тульскую и Смоленскую губернии, побывал в каждом уезде Уфимской губернии, обошёл Южный Урал, любую птицу по полёту узнает. Легендарными стали его экспедиции 1896 и 1898 годов в степи Казахстана. Материала было собрано так много, что его обработка затянулась на десять лет (правда, одновременно Сушкин написал и защитил магистерскую диссертацию). Результатом экспедиций стала работа «Птицы Средней Киргизской степи» (1908) — работа с богатым повидовым обзором, настолько подробная и всеобъемлющая, что не вполне вписывалась в академические рамки.
Леонид Александрович Портенко вспоминал: «Мензбир в порядке поучения говорил мне, что, в сущности, так писать не совсем правильно, что Сушкин писал всё, что только мог сказать в данном случае. Может быть, это замечание и справедливо с точки зрения редактора объёмистого тома, но для читателей этот труд Сушкина — клад для ознакомления с птицами, их распространением, распределением и жизнью в степном Западном Казахстане. Всё сопровождается пояснениями, справками и замечаниями по систематике».[32]
Об этой работе вспоминал Ефремов более четверти века спустя, когда готовил к печати свою любимую «Фауну медистых песчаников». Его работа тоже не укладывалась в строгие рамки палеонтологии: она была насыщена сведениями по истории изучения медистых песчаников, истории горного дела, геологии, описывала подземные медные разработки XVIII–XIX веков, содержала множество идей, которые могли бы стать зёрнами самостоятельных исследований. Так проявилась преемственность научной мысли.
Сушкин исследовал верховья Енисея — Минусинскую лесостепь, Западный Саян, запад Урянхайского края (современная Тува), побывал в Зайсанской котловине, на Северном Кавказе и в Закавказье. Особенно восхищали Ивана две последние крупные экспедиции Сушкина, в 1912 и 1914 годах, когда учёный изучал птиц Алтая.
С добрым юмором рассказывал Сушкин экспедиционные истории. Как-то в киргизскую поездку его спутник студент С. А. Резцов остановился у озера, обросшего камышом. Лезть в воду ради полноты исследования у него особого желания не было. Сушкин сам полез в озеро, вымок и неожиданно для спутника добыл Acrocephalus agricola — индийскую камышевку.
В экспедициях приходилось ездить на чём придётся — и на лошадях, и на верблюдах.
Более всего Сушкин любил вспоминать историю 1914 года. Тогда, возвращаясь из алтайского похода, он должен был как-то погрузить на пароход экспедиционное имущество, в том числе и клетки с живыми соколами. Но началась война, и на пароход производили посадку мобилизованных. Дело казалось безнадёжным. Тогда Сушкин обратился к капитану и сказал, что везёт соколов для царской охоты. Капитан быстро нашёл место для важных пассажиров!
В музее царил высокий дух научного сотрудничества. Часто возникали своеобразные летучие митинги: «Заметив что-нибудь интересное, Пётр Петрович сразу же созывал окружающих — опытных орнитологов и зелёную молодёжь — на равных правах, вёл с ними беседу или советовался, не считаясь «с чинами и рангом» собеседников».[33]
Научная щедрость как важнейшее качество истинного учёного вошла в плоть и кровь Ефремова. «Я сам по себе шёл в науке, никогда не опасаясь — отдать»,[34] — писал он Алексею Петровичу Быстрову в 1950 году.
Сушкин выделял Ефремова среди своих учеников, ценил его настырность в постижении основ биологии и палеонтологии, прекрасно понимая, что наука интересовала юношу пока только со стороны романтической. Профессор помогал Ивану понять, что увлекательными могут быть не только неведомые звери и опасные путешествия, но и научные факты, и обработка уже собранных материалов, и красивые гипотезы.
Пётр Петрович чувствовал в зелёном юнце живой ум, глубокую восприимчивость и возможную научную дерзость, но, приняв на себя ответственность за его развитие, строго отчитывал за проступки. По субботам он устраивал Ефремову разнос, не стесняясь в выражениях, вспоминал все провинности за неделю: тогда-то был недостаточно вежлив в обращении со старшими коллегами, тому-то грубо отвечал по телефону, устроил беспорядок на рабочем столе. Особенно досталось Ивану, когда Сушкин узнал, что в его отсутствие Ефремов брал трубку телефона: «Профессор Сушкин слушает». Хозяин кабинета позвонил к себе — и действительно услышал голос Ивана!
Иван краснел, умолкал, но вновь приходил в кабинет Сушкина — теперь уже академика (избран в 1923 году).
После окончания школы Иван готов был всё своё время посвятить науке, но в одну точку сошлись два факта: Пётр Петрович уезжал в длительную командировку в Соединённые Штаты для установления научных контактов, стало быть, не мог оказывать прежнюю поддержку Ивану, а поступить на работу в музей было невозможно из-за отсутствия вакансий и, следовательно, лишнего пайка.
Пётр Петрович утешал:
— Придётся вам потерпеть, Иван Антонович, да и университет небесполезно окончить.
Оставаться на всю весну и лето в Петрограде, работать шофёром?
Пришёл черёд козырной карты. Вот он, драгоценный документ: «Предъявитель сего, Ефремов Иван Антонович, действительно сдал экзамены за мореходные классы на весьма удовлетворительно и получил звание штурмана-судоводителя каботажных и речных судов».
Дмитрий Афанасьевич Лухманов
В зрелом возрасте Иван Антонович говорил, что человек может и должен быть работоспособным 18 часов в сутки. Сам же он работал, возможно, гораздо больше.
Учиться в школе, оканчивая два класса в год, заниматься у Сушкина, зарабатывать себе на жизнь шофёрской работой — и ещё окончить Петроградские мореходные классы! Ефремов расправился с ними неожиданно легко: прочитал несколько учебников и специальных книг и пошёл сдавать экзамены.
Возможно, подготовиться к экзаменам ему помог Дмитрий Афанасьевич Лухманов. Ефремов гордился своей дружбой с этим настоящим морским волком, плававшим во всех океанах — и на современных пароходах, и под парусами. В 1924 году бывалого капитана назначили на должность начальника Ленинградского морского техникума водных путей сообщения, и он посвятил себя воспитанию морской молодёжи.
Дмитрий Афанасьевич начал плавать матросом в 1882 году, в 15 лет, зарабатывая себе на жизнь. Чёрное море, Средиземное, Атлантика, Индийский океан, Волга, Каспийское море, затем — Дальний Восток, плавания по Амуру и Тихому океану. Вот это биография!
Лухманов помнил и прекрасно умел рассказывать потрясающие, порой леденящие душу морские истории. Имена легендарных кораблей звучали как песня.
«Я стоял на набережной и смотрел на просыпавшуюся Круглую гавань.
Рассвело, но солнца пока ещё не было видно. Оно пряталось в тумане, окутавшем гавань. Туман рвался на пушистые мягкие клочки, и не заметный в гавани береговой бриз плавно выносил их в открытый океан.
Яснее и яснее вырисовывались стройные, высокие мачты соседних судов. Я уже знал все суда, которым они принадлежали. Какие суда! Я и сейчас вижу их перед глазами! <…>
А вот и мачты исторического клипера «Катти Сарк». Я легко узнаю их по необычайно длинным верхним реям и маленькому грот-трюмселю. «Катти» — самый красивый и самый быстроходный клипер из всего бывшего «чайного», а теперь «шерстяного» флота, если не считать её единственного, ещё не побеждённого, конкурента — клипера «Фермопилы».
Подальше, вправо от «Катти Сарк», снимался с якоря маленький клипер-барк «Бирэйн». На нём знаменитый капитан Вайрил. <…>
Все паруса барка были отданы и висели чёткими фестонами под его лакированными реями. Грот-марсель медленно полз вверх по стеньге. В чистом утреннем воздухе по просыпавшемуся порту нёсся над водой немножко хриплый, но удивительно приятный и задушевный голос матроса-запевалы:
Входит в гавань чёрный клипер. Дай, братцы, дай! Интересно, кто там шкипер? Дай, братцы, дай, братцы, дай!Припев весело подхватывался всей командой, и видно было, как при каждом «дай» марса-рей на «Бирэйне» подскакивал сантиметров на десять кверху.
Это янки, без сомненья. Дай, братцы, дай! Жизнь на нём одно мученье. Дай, братцы, дай, братцы, дай!Ах, как хорош был этот маленький барк! Его корпус выкрашен чёрной, блестящей, точно эмалевой краской с лёгкой золочёной резьбой по княвдигеду и вокруг подзора кормы. Рубки, световые люки, узенький верхний фальшборт, шлюпки и весь рангоут отлакированы. Окованный листовой медью планшир, компасы, верхушки шпилей, колокол, решётки на светлых люках блестят, как отполированное золото.
Вот марса-реи дошли до места, и к их нокам потянулись, погромыхивая, цепные брам-шкоты. Брам- и бом-брам-фалы тянутся ходом по палубе, и запевала уже не поёт, а только улюлюкает в такт топочущим по палубе босым ногам.
— Ла… ла… ла… ла-ла, холл-ла! — разносится по гавани его голос.
…Через четверть часа все паруса «Бирэйна» поставлены и вытянуты, что называется, «в доску». Реи разбрасоплены на разные галсы.
— Пошёл шпиль! — раздаётся команда Вайрила.
И немедленно вслед за командой заклацал патентованный брашпиль, отделяя от грунта ранее подтянутый до панера якорь.
Нос барка плавно покатился под ветер.
Ещё минута — и по задним парусам пробежала чуть заметная дрожь от нечувствительного внизу ветерка.
— Пошёл фока-брасы!
И вся стена передних парусов плавно повернулась вокруг мачты и стала под одним углом с гротовыми. Тут произошло чудо: с безжизненно висящими мягкими шерстяными складками флагом, с плоскими, ненадутыми парусами барк тронулся вперёд и, плавно скользя по зеркальной воде гавани, начал сильнее и сильнее забирать ход, точно подгоняемый какой-то скрытой чудодейственной силой.
Я стоял как зачарованный и не верил глазам.
Вдруг чья-то рука дружески опустилась мне на плечо. Я обернулся. Передо мной стоял незнакомый человек, одетый в хороший тёмно-синий костюм и серую шляпу. На вид ему было лет под сорок.
По выражению загорелого лица, по аккуратно подстриженной, но довольно большой тёмно-рыжей бороде и по манере держаться я сразу узнал в нём моряка и, по всей вероятности, капитана.
— Нравится? — спросил он. — Интересно?..»[35]
Удивительно: не герой книги, а живой, рядом сидящий, уже пожилой человек с твёрдым взглядом небольших глаз, с сурово сжатыми губами видел всё это своими глазами! На его плечо опускалась рука рыжебородого капитана «Армиды». Когда Лухманов погружался в воспоминания, резкие черты его лица смягчались, лёгкая улыбка поднимала уголки губ.
«В знойном воздухе реял почти неощутимый ветерок, верхушки медленных, лениво зыбившихся волн закруглились, будто расплавились, море горело под безжалостным солнцем. Но клипер, чуть раздувая всю массу своих парусов, продолжал скользить по волнам шестиузловым ходом. Это казалось чудом, но это было так! Штилевая полоса на этот раз не мучила моряков вынужденным бездельем, нелюбимым гораздо сильнее всякой непогоды и особенно отвратительным в душную жару».
Этот отрывок уже не из книги капитана Лухманова — это повесть Ефремова «Катти Сарк»,[36] впервые опубликованная в 1944 году. Первая глава в ней называется «Юбилей капитана Лихтанова» — в юбиляре мы сразу узнаём Дмитрия Афанасьевича. Начинается глава так:
«В квартирке едва умещались многочисленные гости. Все сиденья были использованы, и в ход пошли торчком поставленные чемоданы. Почтить семидесятилетие капитана явились преимущественно моряки. Табачный дым плавал голубыми слоями, неохотно убираясь в тянувшее холодом приоткрытое окно. Сам хозяин, крупный и грузный, сновал между гостями и чувствовал себя отлично среди весёлых возгласов и смеха.
Молоденький штурман, стесняясь общества почтенных командиров, жался у стены, рассматривая картинки судов в простых коричневых рамках, и остановился взглядом на большой фотографии парусника. В точных линиях стремительного, узкого корпуса корабля чувствовалось совершенство, подчёркивавшееся неправдоподобной громадой белых парусов. Верхние реи были необычайно длинны и в размерах почти не уступали нижним.
Хозяин подошёл ободрить робкого гостя.
— Любуетесь? — одобрительно загудел он, опуская жилистую руку на плечо штурмана.
— Этим кораблём вы тоже командовали, Даниил Алексеевич? — спросил юноша.
— Вот ещё! — отмахнулся старый капитан. — Да это же «Катти Сарк»!»
Гости капитана уговаривают хозяина рассказать всё, что он знает о знаменитом клипере. Назван он в честь героини поэмы Бернса — красотки-ведьмы Катти Сарк, что означает «короткая рубашка». Оказалось, что у капитана даже есть рукопись, где рассказывается её история. Одна из глав повести так и называется: «Рукопись капитана Лихтанова».
«Катти Сарк» — это не просто повесть, а настоящая поэма в прозе, посвящённая морю и тысячелетнему опыту человечества в покорении водных пространств.
Любовь к морю уже давно жила в душе Ивана Ефремова, но капитан Лухманов подсказал юноше, как можно воплотить её в дело. Самому Лухманову пришлось добиться отчисления из шестого класса военной гимназии, когда он, платонически любивший никогда не виданное им море, решил вопреки воле отчима во что бы то ни стало сделаться моряком. Лухманову было тогда пятнадцать.
Ивану скоро уже шестнадцать, и ему ничто не препятствует. Однако в Петрограде того времени судов было крайне мало, на них служили квалифицированные моряки. К тому же, чтобы стать штурманом, нужно было пять лет морской практики.
В 1921–1923 годах Лухманов, будучи во Владивостоке, занимался сложнейшими вопросами возвращения Советскому Союзу судов Добровольного флота. Построенные на народные деньги пароходы были большей частью захвачены интервентами и белогвардейцами и плавали за границей. К 1924 году многие корабли удалось возвратить, и Добровольный флот слился с Совторгфлотом. Морская жизнь налаживалась.
По совету капитана Ефремов буквально на последние рубли отправился на Дальний Восток.
Навигация на Дальнем Востоке
В 1895 году Лухманов добирался до Владивостока по строящемуся железнодорожному пути. Проехав на поезде как можно дальше — до Челябинска, они с товарищем покатили на лошадях по Великому Сибирскому тракту. Ехали по 200 вёрст в сутки, без ночёвок на станциях, меняя лошадей и экипажи, каждый раз перегружая вещи. И только в Омске какой-то доброхот надоумил их купить собственный тарантас, чтобы продать его потом в Сретенске. От Сретенска плыли на пароходе по Амуру.
Сидя в вагоне поезда (денег, полученных при расчёте за шофёрскую работу, едва хватило на билет), Иван думал об огромных, часто ещё не исследованных пространствах нашей страны и вспоминал рассказ Лухманова о встрече с Владивостоком: «От Николаевска-Уссурийского я почти не отходил от окна: всё ждал, когда покажется давно не виданный друг — беспредельное, открытое море. И вот перед вечером оно блеснуло наконец — родное, любимое, долгожданное.
Поезд подлетел к Владивостокскому перрону. <…>
Владивосток был типичным военно-морским городом, напоминавшим Севастополь. Улицы полны блестящими флотскими офицерами в белоснежных кителях и матросами в белых форменках. На рейде покачивались чёрные, с жёлтыми трубами и высоким рангоутом крейсера первого ранга: «Нахимов», «Корнилов», «Память Азова» и «Владимир Мономах». Здесь же стояли крейсер второго ранга «Стрелок», канонерские лодки «Манчжур» и «Кореец» и больше десятка миноносцев. Внизу, у пристани Добровольного флота, дымил двумя высокими жёлтыми трубами только что пришедший из Одессы быстроходный красавец «Орёл».[37]
Ефремов приехал во Владивосток во времена новой экономической политики, проводимой правительством. «Экзотика, словно сошедшая со страниц Джозефа Конрада и Клода Фарраре, со всех сторон обступила юношу. Чего стоило одно название бухты — Золотой Рог! Тесные улочки китайского квартала. Тайные опиекурильни. Японские чайные домики. Экспортированные во Владивосток не первой молодости гейши. Стройные индусы в синих чалмах с гофрированными бородами и выразительными печальными глазами… Леденящие душу ночные вопли в районе порта и хриплая ругань чуть ли не на всех языках мира. Невообразимое, свирепое пьянство. Не очень всё это пришлось по душе шестнадцатилетнему романтику — штурману каботажных судов».[38]
В мае Ивану удалось устроиться старшим матросом на кавасаки — парусно-моторное судно «Ш-й Интернационал». Это убогое, тесное, грязное, провонявшее рыбьим жиром судёнышко принадлежало Камчатскому акционерному обществу; порт приписки — Владивосток. Кавасаки курсировал между рыбацкими промыслами, снабжая их солью и перевозя рыбу.
Капитан, чтобы платить матросам как можно меньше, набрал в команду всякой шпаны. Только благодаря врождённой силе и боксёрскому умению старшему матросу Ефремову удалось отстоять своё достоинство.
«Ш-й Интернационал» не был гордым океанским лайнером, но хмурые серые волны Тихого океана плескались совсем рядом. Кавасаки ходил на Сахалин, через пролив Лаперуза Охотским морем — в далёкий порт Аян, куда можно добраться только по воде. Высокие, покрытые тайгой вершины Джуг-джура теснились, прижимали к кромке прибоя домики посёлка. Солнце вставало из моря, чтобы раньше обычного скрыться за горами. Крупная соль, которую приходилось грузить матросам, разъедала кожу.
Иван освоился в море, научился чувствовать, понимать его. Память жадно вбирала подробности морской науки. Уже не детская романтика, но возможность проверить себя, свой ум и силы влекла Ивана в новый рейс.
Несколько кратких стоянок было у судна в Японии. Холодным презрением светились глаза Ивана, когда в кубрике после этих стоянок подробно обсуждались портовые кабаки и проститутки. Он отчётливо осознал, что он будет держаться другой стороны улицы — если иметь в виду сторону эмоционально-психологическую.
О своих переживаниях он не распространялся. Лишь спустя десятилетия написал такие слова: «В этой стране я познакомился с чрезвычайно милой девушкой. Она была моей возлюбленной четыре дня (и ночи), и я буду помнить о ней до конца своих дней…»[39]
Миико Эйгоро — так назовёт Ефремов одну из прелестных героинь романа «Туманность Андромеды», девушку-археолога с японскими корнями, происходившую из племени женщин-ныряльщиц. Дар Ветер, один из главных героев романа, плывёт с ней вместе на маленький островок: «Тихий полудетский голос окликнул его. Он узнал Миико и, взмахнув руками, лёг на спину, поджидая маленькую девушку. Она стремительно бросилась в море. С её жёстких смоляных волос скатывались крупные капли, а желтоватое смуглое тело под тонким слоем воды казалось зелёным».
Мы читаем эти строки так, будто Иван Антонович сам рассказывает нам о своей возлюбленной: «Звонкий смех Миико был ему наградой. Девушка, молчаливая и всегда немного грустная, сейчас неузнаваемо изменилась. Весело и храбро устремляясь вперёд, к тяжело плещущим волнам, она по-прежнему оставалась для Ветра закрытой дверью…»
В октябре, с окончанием навигации, Иван взял расчёт и этаким «штурманом четырёх ветров» вернулся в бывшую столицу, только что переименованную в Ленинград. Как жаль, что человек может прожить только одну жизнь! Но если он посвятит себя морю, то уже не сможет полноценно заниматься наукой. Как же быть?
Ефремов узнал, что Сушкин уже вернулся из Америки, но первым делом отправился к Дмитрию Афанасьевичу Лухманову.
«Мы сидели у него дома на Шестой линии, пили чай с вареньем, — вспоминал Иван Антонович. — Я говорил, он слушал. Внимательно слушал, не перебивая, знаете, это большой дар — уметь слушать! — потом сказал: «Иди, Иван, в науку! А море, брат… что ж, всё равно ты его уже никогда не забудешь. Морская соль въелась в тебя». <…> Это и решило мою судьбу».[40]
Иван выбрал науку, но и в самом деле никогда не забывал моря.
Однажды в Охотском море, возле Курильских островов, Ивану довелось пережить цунами. Встреча с гигантскими волнами нашла отражение в повести «Звёздные корабли». Пароход «Витим», на котором плывёт профессор Давыдов, получает весть об огромной приливной волне. Капитан выбирает единственный верный путь: идти навстречу цунами, подальше от берега: «Давыдов посмотрел вперёд и увидел несколько рядов больших волн, бешено мчавшихся к земле. А за ними, как главные силы за передовыми отрядами, стирая голубое сияние далёкого моря, тяжко нёсся плоский серый холм гигантского вала».
Когда читаешь описание, думаешь — только пережив подобное, можно было найти подходящие слова и образы: «Передние волны по мере приближения к земле вырастали и заострялись. «Витим» резко дёрнулся носом, взлетел вверх и нырнул прямо под гребень следующей волны. Мягкий тяжёлый шлепок отдался в поручнях мостика, крепко зажатых в руках Давыдова. Палуба ушла под воду, облако сверкающих водяных брызг туманом встало перед мостиком. Через секунду «Витим» вынырнул, нос его опять понёсся вверх. Мощные машины содрогались глубоко внизу, отчаянно сопротивляясь силе волн, задерживавших корабль, гнавших его к берегу, стремившихся разбить «Витим» о твёрдую грудь земли.
Ни одного пятна пены не белело на обрыве исполинского вала, который поднимался со зловещим хрипом и становился всё круче. Тусклый блеск водяной стены, стремительно надвигавшейся, массивной и непроницаемой, напомнил Давыдову кручи базальтовых скал в горах Приморья. Тяжёлая, как лава, волна вздымалась всё выше, заслоняя небо и солнце; её заостряющаяся вершина всплыла над передней мачтой «Витима». Зловещий сумрак сгущался у подножия водяной горы, в чёрной глубокой яме, куда соскальзывало судно, как будто покорно склонявшееся под смертельный удар».
«Витим» выдержал натиск цунами, а моряки потребовали от профессора объяснить им, «что это такое было». После лекции профессор долго размышлял о могучих, не познанных ещё силах Земли. Вероятно, об этом же думал в 1924 году в Охотском море юный ещё Ефремов.
«Немало лет тому назад я плавал старпомом на довольно большом пароходе «Коминтерн» — в пять тысяч тонн, добротной английской постройки. Ходили между Владивостоком и Камчаткой, изредка на юг — в Шанхай или поближе — в Гензан и Хакодате.
В июле 1926 года мы шли очередным рейсом в Петропавловск, с заходом в Хакодате, — следовательно, через Цунгарский пролив. Вышли из Хакодате к вечеру, а через сутки привалил бешеный шторм, настоящий тайфун от зюйд-веста. Поднялось такое волнение, что волны стали закрывать судно» — это первые строки рассказа «Встреча над Тускаророй». В нём «Коминтерн» над Тускарорской впадиной врезается в давно затонувший парусник, который вёз груз пробки и не пошёл ко дну, а дрейфовал, скрытый волнами. Освобождать корабль пришлось с помощью водолазов.
В рассказе «Последний марсель», действие которого происходит во время Великой Отечественной войны, моряки с гибнущего транспорта «Котлас» на спасательном плоту попадают в Норвегию, откуда уплывают на старинной бригантине, справляясь в штормовой ветер с непривычными для паровых моряков парусами.
Читатели рассказов, впервые знакомясь с автором, вполне могут подумать, что Ефремов — профессиональный моряк.
В романе «Лезвие бритвы» Ефремов мастерски описывает путешествие на яхте в Атлантическом океане и приключения водолазов у западных берегов Южной Африки, в дилогии «Великая Дуга» — плавание древних египтян по Красному морю и Индийскому океану, плавание греков по Средиземному морю.
Венчает этот морской ряд, безусловно, «Катти Сарк» — история корабля, который воплотил в себе многовековой опыт кораблестроения и опыт человека в борьбе со стихией:
«Шторм установился в одном направлении. Клипер нёсся сквозь бушующий океан, словно заколдованный. Гривастые водяные горы вздымались вокруг, угрожая задавить судно своей тяжестью, но не могли даже захлестнуть палубу, обдаваемую только брызгами. Серые разлохмаченные облака с огромной скоростью бежали по небу, обгоняя «Катти Сарк».
Видимость сократилась. Океан не казался беспредельным и стал похож на небольшое озеро, замкнутое в свинцовых стенах туч и изборождённое гигантскими волнами. Слева начал подниматься вал непомерной вышины. Тёмная зловещая бездна углублялась у его подножия. Вал рос, приближался, заострялся. Вот уже совсем навис над палубой «Катти Сарк» его заворачивающийся вниз гребень. В долю секунды клипер взлетел на него, лёгкий и увёртливый. Чудовище исчезло, подбросив корму своим последним вздохом. Волшебница Нэн плясала на волнах, и угнетающая сила бури не имела над ней никакой власти».
Глава третья ЮНОСТЬ (1924–1928)
Однажды капитан Гоп, увидев, как он мастерски вяжет на рею парус, сказал себе: «Победа на твоей стороне, плут». Когда Грэй спустился на палубу, Гоп вызвал его в каюту и, раскрыв истрёпанную книгу, сказал — Слушай внимательно! Брось курить! Начинается отделка щенка под капитана.
А. С. Грин. Алые парусаВ университете
— Ну-с, что вы, Иван Антонович, теперь намерены предпринять? — вежливо-бесстрастно спрашивал Сушкин, но в глазах у него горели весёлые искорки.
— Учиться в университете. Это ничего, что учебный год начался, я догоню. Только…
Пётр Петрович сел за стол и обмакнул перо в чернильницу.
С запиской Сушкина Ефремов обратился к ректору Ленинградского университета Николаю Севастьяновичу Державину, филологу и историку, и был зачислен вольнослушателем на биологическое отделение физико-математического факультета. Через год Ефремов числился уже студентом.
В душе теснились воспоминания об Охотском море. Юноша словно всё ещё слышал, как поёт такелаж при приближении шторма, ощущал, как дрожат руки после тяжёлой вахты. Привычная с детства Троицкая улица казалась Ивану тесным тёмным ущельем. Спеша по утрам в университет, Иван специально задерживал шаг на мосту, чтобы впитать в себя невский простор.
Трёхэтажное здание Двенадцати коллегий, торцом выходящее на Неву, длинное, составленное из двенадцати ритмично повторяющихся фасадов, напоминало Ивану лекционные часы — они тянулись немыслимо долго, темы разных лекторов порой повторялись, перекрещивались, и надо было только прилежно внимать, а юноше хотелось самостоятельного действия.
Когда-то здесь заседали министры, члены Сената и Синода, корпели над бумагами чиновники с протёртыми локтями. Вот уже больше 120 лет храм чиновников превращён в храм науки. Но после революции и Гражданской войны строгий ритм университетской жизни нарушился. Преподавателей не хватало. Изменились студенты — исчезли форменные фуражки и тужурки, никто уже не подкатывал к подъезду на рысаках, но в глазах молодых — жажда знаний.
Однажды в группе зашёл разговор о значении одежды. В пылу дискуссии Иван сказал, что может на спор пройти по Республиканскому (ныне Дворцовому) мосту во фраке и цилиндре.
Костюм взяли в театральном гардеробе, и в назначенный день товарищи издалека наблюдали, как по мосту шествовала высокая фигура во фраке и цилиндре.
Милиционер, стоявший на посту, чуть было не протёр глаза от удивления: что это за фрукт старорежимный здесь ходит?
— Предъявите документы, товарищ, — сказал он строго.
Иван протянул ему студенческий билет, так широко улыбаясь, что милиционер рассмеялся:
— Иди, студент!
В университете часто устраивались вольные диспуты и философские дискуссии, где молодёжь обсуждала различные вопросы марксистской философии, вопросы диалектики, системы Гегеля и Канта. Ефремов и его товарищи читали и конспектировали «Анти-Дюринг» Энгельса, «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина. Работу Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ефремов воспринимал как прямое продолжение «Происхождения видов» и «Происхождения человека» Дарвина.
Интерес был горячим и искренним: в начале нового пути, пути в коммунистическое будущее, было так важно понять законы этого пути, осознанно сформировать своё мировоззрение — на научной основе.
Мирочувствование, мироощущение присуще человеку от рождения, мировосприятие закладывается традициями окружающей среды, миропонимание скорее стихийно, чем продуманно. Мировоззрение — высшая ступень осознания действительности, чтобы подняться до него, надо постоянно исследовать жизнь в самых разнообразных её проявлениях.
В дискуссиях остро проявлялась личность каждого участника, и Иван учил себя не захлебываться в горячке спора, что было нелегко.
Победа в дискуссии не отменяла упорных занятий.
Многие отрасли науки были уже знакомы Ефремову — он в душе благодарил Петра Петровича за подбор книг, которые академик обязал его прочитать. Это позволяло не ходить на все лекции, но давало возможность рьяно трудиться над лабораторными заданиями.
Основы биологии не вдохновляли на подвиги, но Иван твёрдо знал, что бесполезными они не будут.
Необычная история произошла со сдачей анатомии человека. Дмитрий Иванович Дейнека, заведующий кафедрой гистологии, для сдачи зачёта пригласил группу студентов к себе домой.
— Ну-с, господа-товарищи, сообщите мне, какой именно раздел анатомии намерен сдавать каждый из вас.
Из всей группы лишь Ефремов сказал, что намерен сдавать весь предмет.
— Вы хотите сказать, что серьёзно относитесь к науке? Что ж, проверим.
Профессор отпустил остальных, поставив им зачёты, и до вечера гонял Ивана по всем разделам анатомии. В конце концов сначала раскрасневшийся, а затем и вспотевший Ефремов зачёт получил, на всю жизнь усвоив предмет. Спустя десятилетия он не раз удивлял осматривавших его врачей, когда давал им комментарии на латыни.
Из университета Иван направлялся в музей. Там Сушкин вновь созывал летучие митинги возле какого-нибудь необычного биологического объекта.
Однако деньги, заработанные старшим матросом Ефремовым, кончались.
«Стипендии мне не досталось — их было очень мало. Пришлось снова браться за неквалифицированный труд.
Дело пошло несравненно легче. Во-первых, тогда студенты не обязаны были посещать лекции, лишь бы своевременно обрабатывали лабораторные задания и сдавали зачёты. Во-вторых, были организованы студенческие рабочие артели, прикреплённые к разным организациям, подбиравшим им работу полегче и поприбыльнее.
Я вступил в студенческую артель из самых здоровых ребят, которая работала в Ленинградском порту. Механизация порта была ещё невысокой, порядочная доля погрузки шла на плечах и на тачках. Особенно выгодна была погрузка соли — девятипудовые кули посильны не каждому, — а также катание дубовой клёпки. Мокрая, она составляла на тачке очень тяжёлый груз, обращаться с которым на узких и гнущихся досках-трапах — целое искусство.
Мы зарабатывали при удаче до девяти рублей в день. Двухнедельная работа обеспечивала два месяца безбедного, по тем студенческим меркам, житья. Само собой разумеется, что так зарабатывать могли только сильные, закалённые люди. Другие же, более слабые ребята, сторожили по ночам склады, расчищали замусоренные пустыри. Зарабатывали они, разумеется, меньше. На одной из таких работ, взявшись вместе с товарищами построить ограждение вокруг чьего-то капустного огорода, я едва, как говорится, не «отдал концы»: исцарапал ржавой проволокой руки, заразился столбняком. <…>
…В то время строек в городе почти не было. Если и случались, то на них не было отбоя от постоянных квалифицированных строителей. Я был одно время секретарём комиссара по какой-то практике. Мы сами, студенты, распределяли места на практику. Это был более серьёзный вопрос, чем сейчас может показаться, потому что для нестипендиатов два-три месяца летней практики, то есть оплачиваемой работы по своей или близкой специальности были не только возможностью подкормиться, но и материально обеспечить себя хоть на часть следующего учебного года. Если бы вы видели, сколько слёз сопровождало каждое распределение путёвок на летнюю практику, тогда вам стало бы ясно нелёгкое положение студенчества в начале НЭПа, в только что начинавшей строиться Советской стране».[41]
Весной Иван встретил знакомого механика и узнал, что на пивзавод «Красная Бавария» требуется шофёр: «К концу первого года обучения в ленинградском университете я получил постоянное место шофёра ночной смены на пивном заводе и среди студентов стал богачом с постоянной зарплатой от пятидесяти до шестидесяти рублей в месяц.[42] Однако это «богатство» мне не принесло никаких сбережений на будущее. Товарищи вокруг жили так бедно, что я не мог не помочь им. В неизбежном результате мой «высокий» заработок позволял лишь иногда покупать книги. Всё остальное расходилось по рукам и, конечно, безвозвратно».[43]
Именно на эти годы приходится увлечение Ефремова футболом и академической греблей. Гребные базы в Ленинграде были на островах. Скольжение лодки по чистой воде, свежая зелень на берегах, радостная игра сильных мускулов давали ощущение слияния с природой.
Сложное впечатление оставляла в душе быстротекущая современность.
В 1920-е годы в Ленинграде существовала организация под названием «Всероссийская академия материальной культуры», её сокращённо называли Всеросакматеркуль. Аббревиатура произвела на студента неизгладимое впечатление. Когда хотелось отвести душу, высказаться крепко по поводу того-то и того-то, а приличия не позволяли, на ум приходило именно это сокращение.[44]
Кызыл-Агачский залив
Постоянные читатели иллюстрированного журнала охоты и рыболовства «Охотник» в одиннадцатом номере за 1925 год встретились с новой фамилией: И. Ефремов. Статья занимала два небольших столбца, но для Ивана она была важной вехой: это была его первая научная публикация. Приведём её целиком:
«Ещё о защите Закавказских зимовок.
Прочтя статью проф. Головнина («Охотник», № 2) и заметку И. С. Богомолова («Охотник», № 6–7), считаю долгом высказать своё мнение. Этим летом я как раз был командирован в Азербейджан,[45] в Ленкоранский и Кызыл-Агачский районы, для зоологических исследований и, между прочим, для обследования мест, пригодных для заповедника.
Проект заповедника в Ленкоранском районе давно уже возник в Отделе Охраны Природы, в Главнауке. И прежде чем говорить о получении средств на устройство заповедника, следует подробно и точно осветить вопрос о размерах его и условиях местности, в которой будет устроен заповедник. Тогда более или менее выяснится, какая сумма понадобится на устройство и содержание заповедника, и может быть поднят вопрос о получении нужной суммы. Конечно, говорить о необходимости заповедника не приходится. Если взглянуть на карту пролётных путей, станет ясно, что заповедник должен быть устроен или в Ленкоранском, или [в] Кызыл-Агачском районе. Пролётных путей из СССР можно считать два. Один по УССР (станция запов. Аскания-Нова) через Румынию и т. д. в Африку, а другой из РСФСР и Сибири через Астрахань (станция — Астраханский запов.) и по западному побережью Каспия в Ленкорань. Западное побережье Каспия от Махач Калы до Сальян неблагоприятно для водоплавающей и болотной дичи, вследствие наличия больших, выжженных солнцем пространств, где птицам негде укрыться. И масса летящих птиц, измученных долгим пролётом, в колоссальном количестве скопляется среди роскошной растительности, в мягком климате болот и озёр Ленкоранского и Кызыл-Агачского районов. Таким образом (считая и заповедники РСФСР), мы, с созданием Ленкоранского заповедника, имеем непрерывную линию заповедников от начала и до конца пролёта. С учреждением орнитостанции в заповеднике мы получим громадную пользу в смысле статистического учёта, кольцевания и изучения биологии наших птиц при том колоссальном количестве птицы, скопляющейся здесь. Мне приходилось, напр., видеть стаи короваек[46] по 1000–1500 штук на небольшом участке. Охотниками-промышленниками здесь набивается невероятное количество дичи — нередко 100–200 штук в день на ружьё. Но главная опасность грозит не с этой стороны. Наркомземом АССР намечены и уже начаты оросительные работы (проводка воды из озёр на Мугань), покамест в Зернан-Галинском районе. Легко видеть последствия. С высыханием озёр и заболоченных пространств камыши исчезнут, и птицы, принуждённые скучиться на ещё меньших пространствах, частью будут перебиты, частью уйдут зимовать в Африку или др. троп, страны. Значение Ленкоранского и Кызыл-Агачского районов как мест зимовок сведётся до минимума. А нельзя забывать, что Ленкоранский и Кызыл-Агачский районы как по богатству своей орнитофауны, так и по сконцентрированности зимовок северных охотничьих птиц не имеют себе равных во всём СССР. Всекохотсоюзу[47] и Отделу Охраны Природы нужно обратить на это самое серьёзное внимание. Мною сейчас разрабатывается проект заповедника в Ленкоранском районе, и возможно, что он вскоре будет напечатан вместе с описанием охотничьих животных и птиц Ленкорани. На основании моих исследований я нахожу, что устройство и содержание заповедника с орнитостанцией не потребует значительных затрат благодаря хорошим естественным условиям. Всех интересующихся устройством заповедника прошу за разъяснением обратиться ко мне — Ленинград, Троицкая, 23, кв. 4, И. А. Ефремову, — с удовольствием постараюсь дать нужную справку. Горячо желаю, чтобы Всекохотсоюз обратил внимание на идею заповедника в Азербейджане».
…В Ленкорань Ефремова отправил Сушкин. Для изучения будущей территории заповедника и сбора орнитологической коллекции нужен был молодой энергичный сотрудник.
Сушкин представил Ефремова академику Владимиру Леонтьевичу Комарову,[48] прославленному географу и ботанику, исследователю Туркестана, Дальнего Востока, Маньчжурии и Кореи. Комаров был знаком с директором биостанции в Ленкорани и написал для него рекомендательное письмо:
«Предъявитель сего И. А. Ефремов едет в Талыш для зоологической работы. Не можете ли Вы дать ему указания насчёт опорных пунктов и способа передвижения в этой замечательной стране? Помощь Ваша очень важна и наверное будет оценена по достоинству. Молодой человек — настоящий тип начинающего учёного.
Преданный Вам В. Комаров. 1 июня 1925 г.».
Такая рекомендация академика Комарова дорого стоила! Иван несколько раз, как заклинание, повторял: «Молодой человек — настоящий тип начинающего учёного». Лестно, но обязывает ко многому. И ему по-мальчишески хотелось во что бы то ни стало соответствовать этой характеристике.
Иван с энтузиазмом отправился в путь, тем более что ему предстояло встретиться с новым для него морем — Каспийским.
Пассажиры бакинского поезда были совсем не похожи на пассажиров поезда дальневосточного. Азербайджанцы, персы, армяне, грузины — все они были пёстро одеты, громко разговаривали, смеялись и постоянно пили чай, наливая его в пиалы из круглых больших чайников.
В жёлтом, прокалённом солнцем и пронизанном горячими ветрами Баку Иван надолго не задержался. Он поспешил на пристань, где нашёл небольшой корабль, направляющийся в Ленкорань, от которой рукой подать до Ирана. Каспий встретил путешественника крутой волной, но только когда на горизонте окончательно скрылся Апшеронский полуостров, Иван ощутил себя в море. Ему казалось, что он знаком с Каспием необыкновенно давно — так явственно представлял он себе это гигантское озеро по рассказам Лухманова, проплававшего здесь не один год.
Ленкорань заметна издалека по суровым и печальным развалинам крепости на горе. Здесь русскими войсками был совершён подвиг, полузабытый в России потому, что пришёлся на время другой великой войны. Когда войска Кутузова гнали армию Наполеона из России, в Закавказье продолжалась война с Персией, причём персы, пользуясь войной на территории России, усилили натиск. В декабре войско молодого генерала Петра Степановича Котляревского подошло к крепости Ленкорань, которую занимал четырёхтысячный персидский гарнизон. После пятидневной осады 1 января 1813 года отряды Котляревского, уступая в численности персам, пошли на приступ. После трёх часов штурма крепость пала, но Пётр Степанович был тяжело ранен в челюсть и уже никогда не смог воевать. Война с Персией завершилась победой России.
Иван без труда нашёл в маленьком городке с единственным двухэтажным зданием биостанцию, где ему дали проводника, и купил по его совету на базаре тюбетейку.
Вечером перед намеченным выходом Иван решил забраться на гору, увенчанную крепостной стеной с двумя сохранившимися башнями. Как же тяжело было подняться сюда под огнём противника солдатам дерзкого тридцатилетнего генерала!
Отдышавшись, Ефремов огляделся. На востоке дымчатым опалом блистало море. К югу хребты Талышских гор подступали к Каспию, там с вершин по крутым уступам ущелий неслись к морю бурлящие речки. На севере и северо-западе простиралась уже утопающая в вечернем сумраке низменность с рисовыми и овощными полями, фруктовыми садами, с многочисленными озёрами, заросшими камышом, за которыми впадала в Каспий мутная Кура.
Туда, на север, и отправилась маленькая экспедиция.
Ефремов с проводником исходили все берега Большого Кызыл-Агачского и Малого Агачского заливов. Первый состоял из двух больших мелководных заливов и косы между ними. Он почти не связан с морем и опреснён водами впадающих в него рек. Бродя по низким влажным берегам, путешественники часто едва продирались через сплошные заросли ежевики, тамарикса и высоченных тростников. Прекрасные угодья для водоплавающих птиц!
Вода в Малом Агачском заливе, соединённом с Каспием, оказалась солёной и очень тёплой. В ней водилось множество мелких рачков и других беспозвоночных, которыми круглый год питались морские утки и фламинго. Затаив дыхание, наблюдал Иван за этими диковинными птицами.
Вдоль моря на полоске берега шириной в три-четыре километра и длиной в 30 километров тянулись солончаковые луга, которые после дождей превращались в мелководные озёра, называемые здесь разливами.
Чаще всего путешественникам на глаза попадались белые цапли — на них Иван по просьбе Сушкина обращал особое внимание. В тростнике, скрытые от глаз, пели камышовки. Голос чёрного петушка турача слышался из кустов ежевики. Резко кричали чайки. Вскидывая головы, закидывали себе в мешок рыбу пеликаны. Над разливами кружили ястребы и орланы-белохвосты.
Болотные черепахи выходили на сушу, чтобы погреться на солнцепёке. Несколько раз дорогу пересекали семьи кабанов с полосатыми поросятами. Водились здесь волки, шакалы, барсуки, лисицы, водяные крысы и камышовые коты.
Выполнив задание Сушкина по сбору орнитофауны и подготовив схему будущего заповедника, экспедиция вернулась в Ленкорань. Уже через год Большой Кызыл-Агачский залив объявили охотничьим заказником, а в 1929 году здесь был создан заповедник.
На несколько дней Ефремов выбрался в Талышские горы. Его поразила могучая растительность гор: смыкались кронами высокие каштанолистные дубы, срастающееся ветвями железное дерево, кавказский граб. Стволы были обвиты лианами, под пологом рос самшит. Восхищало обилие дикорастущих плодовых деревьев: алычи, айвы, кизила, ореха, яблонь, груш, граната. В зарослях папоротника прятались дикобразы и каменные куницы, высоко держали головы пугливые косули, неслышно подкрадывались к ним леопарды и полосатые гиены.
Однако Иван заторопился назад, в Ленкорань. В конце XIX века этот город не имел своего порта: суда останавливались на открытом рейде в полуверсте от берега, а к кораблю устремлялись плоскодонные лодки — киржимы. После работ по углублению дна и постройки порта важную роль стала играть лоцманская дистанция, работники которой обеспечивали безопасность плавания. От гидрографического катера требовалось обследовать рельеф дна, делать промеры глубин и другие гидрографические измерения, обслуживать средства навигационного оборудования — ремонтировать буи и береговые знаки на дистанции.
До октября Иван Ефремов командовал гидрографическим катером Ленкоранской лоцманской дистанции УБЕКО[49] Каспийского моря в чине старшего матроса. После плавания на «Ш-м Интернационале» служба на Каспии сначала казалась сплошным праздником. В морском бушлате, в фуражке с кокардой — серп и молот над якорем, с трубкой в зубах — он хотел ощутить себя настоящим семнадцатилетним капитаном. Душа летела навстречу волнам, но ум продолжал работать, и откуда-то исподволь подступала странная неудовлетворённость. До книг, которые взял с собой Иван, не доходили руки — добравшись до койки, от усталости юный капитан засыпал мгновенно.
Как возликовал Иван, когда ему принесли телеграмму от Сушкина! Всего три слова: «Предлагаю место препаратора» — заставили его отплясывать дикую джигу на палубе старого катера. Он тут же телеграфировал согласие.
Сотрудник Геологического музея
Ещё только подходя к Республиканскому мосту, Иван кинул взгляд на ансамбль стрелки Васильевского острова и был поражён. Вот торцом — университет, справа — Академия наук. Но что-то не так, как было ещё весной, академия — вроде и не академия. «Старушка» стоит как новенькая: побелена, подкрашена, почищена!
Возле неё стояли бараки-мастерские, которые безобразили набережную. Их нет! Фасады всех окружающих зданий приведены в парадный вид. Подходя ближе, Иван заметил ещё одну перемену: на обновлённых тротуарах и мостовых не было травы! За годы войн и разрухи, когда по стрелке не было почти никакого движения, дороги заросли. Теперь трава была тщательно выполота. С площади возле здания Биржи исчезли склады стройматериалов. Вот и музей — бывшая Петровская таможня. Он тоже обновлён и покрашен.
Значит, юбилей действительно проходил с размахом!
Иван из газет знал, что в сентябре 1925 года Академия наук широко отметила своё двухсотлетие. Событие получило политическую окраску: наука помогала вывести страну из международной изоляции. Чтобы не ударить в грязь лицом перед именитыми иностранцами, правительство выделило деньги на срочный ремонт не только здания академии, но и всего прилегающего квартала. Были обновлены многие экспозиции, оборудованы новые выставки. На стене парадной лестницы академии было вмонтировано мозаичное панно Ломоносова «Полтавский бой», которое до этого 35 лет простояло в проходной комнате Академии художеств. Залы академии были обставлены прекрасной мебелью и цветами. Всем служащим пошили новые форменные костюмы. Молодая республика была бедной, но гордой — гостей встретили с достоинством.
Юбилей отшумел, но академия перестраивалась на новые рельсы: теперь она уже не была только Российской — она стала Академией наук СССР. Изменение в названии отражало структурные изменения: если раньше это было учреждение для «первенствующего научного сословия», то теперь академия превращалась в разветвлённую систему научно-исследовательских институтов, работа которых должна быть связана с народным хозяйством, иметь не только теоретическое, но и прикладное значение. Расширялся штат, позже стали выделяться самостоятельные институты.
Музей академии разделился на два самостоятельных музея: Геологический и Минералогический. Теперь Ефремову не нужен стол в кабинете Сушкина — у него, научно-технического сотрудника Академии наук СССР, появилось своё рабочее место. Сушкин уже не просто наставник — они вместе делают общее любимое дело.
Учреждение Кызыл-Агачского заказника — для Ефремова первая победа, для Сушкина — доказательство его проницательности. Он не ошибся в выборе. Этот юнец способен видеть проблему широко и, не упуская мелочей, двигаться к крупным обобщениям.
Сушкин с гордостью провёл Ефремова по обновлённым экспозициям музея. С особенным чувством учитель вошёл с Иваном в зал, где были выставлены птицы, добытые в алтайских экспедициях. На стене нарисовано живописное панно «Монгольский Алтай», чтобы посетитель сразу видел, где, в каком ландшафте обитают подобные птицы. На стремянке стоял с кистью невысокий, суховатый бритый человек, быстрыми и точными движениями что-то поправлявший в рисунке. Выставки обновлялись в спешке, чтобы всё было готово к приезду гостей. Панно было готово в целом, но художник видел недоделки и задержался в музее, чтобы довести работу до конца.
Увидев Сушкина, он спустился вниз.
— Это наш новый сотрудник, Иван Антонович Ефремов, — представил спутника академик. — А это Григорий Иванович Гуркин, замечательный алтайский художник. Только он умеет так виртуозно писать великие сибирские горы.
Почти 20 лет спустя, в первом номере журнала «Техника — молодёжи» за 1944 год, будет опубликован рассказ Ефремова «Дены-дерь» — «Озеро горных духов».
«…Всмотревшись в его желтоватое монгольское лицо, я заметил сильную проседь в торчащих ёжиком волосах и жёстких усах. Резкие морщины залегли в запавших щеках, под выступающими скулами и на выпуклом высоком лбу» — так опишет в этом рассказе Ефремов художника Чоросова, прототипом которого в рассказе стал Григорий Иванович, прибавивший к своей фамилии родовое имя — Чорос-Гуркин.
Гуркин протянул руку высокому парню в азиатской тюбетейке со сдержанной вежливостью, но восхищение юноши красотой панно было таким искренним, что художник стал приветливее.
Опытный художник и начинающий учёный ещё не раз встречались в музее, беседовали неспешно. Григорию Ивановичу было тогда 55 лет. Потомок теленгитского хана, несущий в себе представления и верования алтайских племён, он был глубоко вживлён в русскую культуру. Иван Иванович Шишкин пригласил молодого алтайца, не принятого в Академию художеств, работать в своей личной мастерской. Восемь месяцев трудился Гуркин бок о бок с прославленным пейзажистом. В марте 1899 года Шишкин умер на руках у своего ученика. После этого Григорий Иванович был зачислен в пейзажный класс Академии художеств.
Петербуржцы воспринимали Гуркина как сибирского художника. Григорий Иванович участвовал в выставках Императорского общества поощрения художеств, секретарём которого с 1901 года был Николай Константинович Рерих.
Романы Ефремова наполнены упоминаниями о художниках и скульпторах, о любимых картинах и статуях. Может быть, именно строгий алтаец пробудил в страстном юноше любовь к искусству?
Немногословные рассказы Гуркина об особо замечательных местах Алтая врезались в память Ивана, поражённого острой наблюдательностью собеседника. Возможно, именно тогда запала в память Ефремова история о встрече с озером горных духов, которая годы спустя превратилась в дивными красками переливающийся рассказ.
Картина «Озеро горных духов», написанная в 1910 году, была так популярна, что Гуркин сделал с неё несколько автокопий. Одну из них художник привёз с Алтая, где он жил, в Ленинград. Иван запомнил все малейшие оттенки красок, все чёрточки и детали. Это и помогло ему по памяти создать великолепное словесное описание картины.
В 1960-х годах в академическом санатории «Узкое», где отдыхал Ефремов, он обнаружил на стене перед душевыми комнатами — «Озеро горных духов»! Не веря своим глазам, он подошёл поближе. Вот подпись: «Гуркин». Он, уже создавший свой знаменитый рассказ, обнаружил автокопию картины, сделанную в 1915 году для народовольца и учёного Н. А. Морозова.[50] Словно привет из далёкого двадцать пятого года донёсся до Ефремова.
Чорос-Гуркин будет незримо присутствовать в жизни Ефремова. Через год художнику предстоит стать проводником экспедиции инженера-геолога H. Н. Падурова, которого правительство отправит на Алтай — проследить за маршрутом Трансгималайской экспедиции Н. К. Рериха.
«Всё вокруг первобытно, грандиозно и величаво: могучим кольцом раскинулись и ушли в беспредельную даль горы. Мягкие линии сдвинулись одна за другую, смешались в лабиринте очертаний и замкнулись в неуловимой дали воздушной лазури.
Какой везде простор и какая мощь!
Это ты, заколдованный, угрюмый, царственный Алтай!..
Это ты окутался туманами, которые, как мысли, бегут с твоего чела в неведомые страны…
Это ты, богатырь, дремлешь веками, сдвинув свои морщинистые брови, и думаешь заветные добрые думы…
И вот, среди этого могучего заколдованного царства, среди величественной природы, среди громад голубых гор, среди дремучих тёмных лесов, по нежным, благоухающим цветами долинам, по золотому дну Алтая, течёт изумрудная река-красавица Катунь. Глубоко врезалась она в самое сердце Алтая и между ущелий извилась голубою лентой. Бурная, неугомонная, крепко прижалась она к груди великана и стремительно, с шумом, течёт впереди…
И нет, кажется, никакой силы, могущей остановить её течение, нет преград её стремлению и могучему бегу…»
Так воспевал Алтай Чорос-Гуркин в своём стихотворении в прозе.[51]
А вот слова из путевого дневника Н. К. Рериха:
«Приветлива Катунь. Звонки синие горы. Бела Белуха. Ярки цветы и успокоительны зелёные травы и кедры. Кто сказал, что жесток и неприступен Алтай? Чьё сердце убоялось суровой мощи и красоты?»
В 1937 году пожилого алтайского художника обвинят в национализме и арестуют, он погибнет при невыясненных обстоятельствах. Два десятилетия его имя будет под запретом. Но рассказ Ефремова «Озеро горных духов» разобьёт цепь забвения.
…В 1925-м, занимаясь кропотливой препараторской работой, Иван ощущал себя в центре огромного котла, где бурлит молодая жизнь, где открытия, кажется, лежат совсем рядом — стоит лишь руку протянуть.
Зримым и близким спутником и сотрудником Ефремова на много лет станет Ян Мартынович Эглон — резчик по дереву, скульптор, который влюбился в палеонтологию и стал замечательным работником, незаменимым в музее: он делал из гипса и вытачивал из дерева недостающие части скелетов так, что их было невозможно отличить от настоящих, виртуозно монтировал их. Ян Мартынович стал героем шуточного стихотворения Быстрова «Копролит».[52]
Позже Эглон превратился в опытного раскопщика. Ему было около тридцати, а Ивану не исполнилось ещё и восемнадцати, но они быстро сдружились: весёлые, прямые, энергичные, они любили науку и готовы были отдавать ей все силы.
Осенью 1925 года Иван подал заявление о переводе его с биологического на геологический факультет Ленинградского университета. Решение комиссии было утвердительным, но продолжить занятия означало оставить работу, которая давала средства к существованию. К тому же надо было деньгами помогать матери. Университет пришлось покинуть — до 1930 года.
Итак, Ефремов стал «научно-техническим сотрудником Геологического музея» — так официально называлась его должность.
В музее располагалось несколько препараторских — у каждого отдела своя. Кораллами и раковинами моллюсков занимались в препараторской при отделе беспозвоночных. При остеологическом отделении освобождали от породы кости древних млекопитающих, пропитывали их скрепляющими растворами, склеивали обломки.
Препараторы Северо-Двинской галереи, к которым присоединился Ефремов, обрабатывали коллекцию ящеров, собранную Амалицким. На стеллажах, столах и на полу лежали сотни конкреций, в которых были заключены кости древних рептилий и амфибий. Трудность заключалась в том, что порода конкреций была более плотной, добывать из камня хрупкие кости — работа кропотливая и трудоёмкая. Чтобы извлечь из камня кость, приходилось изощряться — работать то молотком, то зубилом, то тонкими шилами. Вскоре после прихода Ефремова в Германии были закуплены специальные электрические машины для обработки камня, похожие на стоматологические аппараты с тонкими свёрлами.
Ивану было у кого поучиться — вместе с ним над конкрециями корпели препаратор из Варшавы Людвиг Кириллович Гадомский, работавший ещё под руководством Амалицкого, Иосиф Васильевич Кнырко и Максим Кузьмич Кузьмин. В 1926 году мастерская обработала 79 групп конкреций. 59 из них очистили Кнырко с Гадомским, 20 — Ефремов с Кузьминым. Дело не в меньшем прилежании: несколько месяцев Иван провёл в экспедициях.
Тургайские раскопки
К весне 1926 года сотрудники института начали готовиться к экспедиции в Тургайскую степь. До революции раскопки на реке Джиланчик и на берегу солёного озера Челкар-Тениз[53] велись несколько лет и стали самыми масштабными после северодвинских раскопок Амалицкого. Однако они были прерваны войной и разрухой.
С новой энергией палеонтологи взялись за продолжение исследований. 25 апреля экспедиция под руководством геолога и палеонтолога Михаила Викентьевича Баярунаса отправилась в путь. Кроме самого Баярунаса опытными раскопщиками были научный сотрудник института Елизавета Ивановна Беляева, худенькая женщина лет тридцати с гладко зачёсанными волосами, и препаратор Михаил Гаврилович Прохоров, который своей работой приблизил не одно научное открытие. Под стать плечистому Баярунасу оказались рабочие Пискарёв и Шалин. На их фоне юные препараторы Кирклиссов и Ефремов смотрелись совсем мальчишками. Однако Иван не хотел смириться с ролью юнца: водрузив на бритую голову ленкоранскую тюбетейку, на привалах он, как бывалый моряк, раскуривал трубку.
На поезде прибыли в Орск. Оттуда маленький отряд повернул на юго-восток по старинному почтовому тракту, ведущему в Ташкент и хорошо заметному в степи благодаря телеграфным столбам.
2 мая добрались до городка Иргиз, что на правом берегу одноимённой реки. В поселении, застроенном маленькими глинобитными домиками, едва насчитывалось две тысячи жителей. Местность вокруг выглядела совершенно пустынной, лишь редкие семьи кочевых киргизов встречались возле рек, теряющихся среди цветущих весенних степей волнистой равнины. В городке базой экспедиции стал глинобитный дом в четыре окна, с высокими ступеньками, со стоящей рядом телегой, на которой была закреплена внушительная бочка с водой.
На реке, в камышах, гнездилось много уток. Вооружившись до зубов, бравые охотники отправились «погулять, серых уток пострелять». Разжились ли тогда дичью — история умалчивает, а вот фотографии сохранились.
В Иргизе наняли переводчика и девятерых рабочих-киргизов (так тогда называли казахов). Баярунас говорил, что городские киргизы более работящие, чем степные и привычны к земляным работам. Степные часто даже не представляют, как надо обращаться с лопатой.
Пять арб, запряжённых быками, составили внушительный караван, двинувшийся 21 мая по тракту к урочищу, именуемому Могила Ботабая. В поводу шла верховая лошадь, необходимая для разведки местности.
«В той экспедиции, — рассказывала Таисия Иосифовна Ефремова, — они видели шаровую молнию. Почти бесцветный огненный шар плыл вдоль линии деревянных телеграфных столбов — и по мере его продвижения столбы исчезали один за другим. Ефремов хотел стрелять в шар из ружья, но бывший рядом начальник экспедиции сказал ему, чтобы он этого не делал. Возле очередного столба молния взорвалась. Потом они собрали оплавленный грунт на месте взрыва и передали в профильный институт».[54]
По дороге Михаил Викентьевич Баярунас (ему было слегка за сорок) рассказывал молодёжи историю открытия тургайских местонахождений. По должности он был старшим учёным, хранителем Геологического и Минералогического музеев Академии наук, по духу — подлинным хранителем истории палеонтологических открытий. Восемнадцатилетний Иван слушал старшего товарища и завидовал студенту Гайлиту, нашедшему в 1912 году на реке Джиланчике, западнее холмов Кара-Тургая, слои, богатые останками носорогов и мастодонтов.
В 1913 году Гайлит, командированный на открытое им самим местонахождение, совершил непростительный с точки зрения академической науки проступок. От киргизов, нанятых в качестве рабочих, он услышал про скопления гораздо более крупных костей на берегу солёного озера Челкар-Тениз. Киргизы верили, что на озере была большая битва великанов.
Гайлит увлёкся рассказами степных людей и повернул экспедицию.
«Я бы тоже так поступил!» — думал Иван. Синица в руке — хорошо, но тот не охотник за ископаемыми, кто не мечтает поймать настоящего журавля! Однако до места битвы великанов Ивану нужно было ещё добраться.
По мере продвижения отряда Баярунаса на юго-восток местность менялась. За мелководным Иргизом, через который переправились вброд, зеленеющие свежей травой просторы сменились серебристо-сизой полынной степью. Глинистая почва пошла трещинами, такими глубокими, что в них по колено проваливались ноги быков. Трудно было представить, что когда-то в этих краях шумели буковые леса…
Иргиз заметно замедлил свой бег, будто задумался: а стоит ли ему спешить навстречу с более резвым и полноводным братом — Тургаем? Тургай течёт с северо-востока на юго-запад, и у величественного подножия Нуры две реки встречаются, чтобы частью потеряться в песках, частью наполнить водой бессточное солёное озеро Челкар-Тениз, что в переводе с казахского означает «Бескрайнее море». Когда-то озеро целиком заполняло впадину на юг от выступа Нуры, а в древние времена соединялось с Аральским морем. Прежней, действительно бескрайней водной глади уже нет, и солёное озеро Челкар-Тениз предваряет цепочка пресных озёр, заполняемых водой Тургая. Здесь в изобилии водится водоплавающая птица.
В начале XX века Пётр Петрович Сушкин описал птиц озера Челкар-Тениз в работе «Птицы Средней Киргизской степи». Дно озера, рассказывал он, образовано солёной грязью, по которой можно идти разве что раздевшись и очень быстро. Стоит остановиться, как неминуемо начнёшь погружаться. Довольно далеко от берега из воды торчат кое-где скелеты домашних животных, словно напоминание об опасности. Пётр Петрович хотел попасть на острова, но не мог: для лодки озеро слишком мелководно. Слепящая гладь обманывает: кажется, рядом много воды, а ни попить, ни искупаться невозможно…
Экспедиция следовала мимо покрытых тростником берегов Кум-Куля, Ай-Куля, Балакты-Куля, проехали Кыркудук и Талды-Сай. В закатных лучах алым пламенем горели обрывы Нуры, высшая точка которой — 233 метра над уровнем моря. Высота обрывов над уровнем впадины — около 100 метров. Гигантский каменный выступ изрезан оврагами, которые заросли саксаулом и шиповником.
Наконец, назойливый скрип арб прекратился: экспедиция стала лагерем у родника, бьющего на дне ложбины. По сторонам возвышались слоистые, кое-где осыпающиеся песком стены.
Тринадцать лет назад Гайлит исследовал эти откосы, и удача улыбнулась студенту. Найденные им кости были длиной больше метра с четвертью, они встречались и цельные, и в обломках. Одно жаль — кости оказались необычайно хрупкими. Пришлось срочно изобретать способ их упаковки. Рабочие-киргизы брали мягкую глину, смешивали для прочности с травой и обмазывали каждую кость по мере её освобождения из песчаника толстым глиняным чехлом. Из привезённых досок по форме кости делали ящик, туда упаковывали глиняную болванку, а пустоты ящика забивали сухой травой. Гайлит пробыл на Челкаре всё лето, пока не кончились все отпущенные на экспедицию деньги. Поблизости не было ни одного села с почтовым отделением, и всё лето от экспедиции не было известий.
Вернувшийся Гайлит с торжеством заявил, что привёз целого мамонта. Но когда пришли ящики, стало ясно, что это не мамонт, а какое-то совершенно новое гигантское животное. С особым острым интересом — сигналом близости научного открытия — учёные приступили к препарированию костей.
Работа препараторов была необычайно кропотливой. Глина, которой обмазывали кости, по дороге растрескалась и грозила рассыпаться вместе с костью. Приходилось осторожно снимать слой глины, не вынимая кости из ящика, а затем склеивать и, пропитывая шеллаком, уплотнять обнажённую часть. Однако овчинка стоила выделки: готовый скелет индрикотерия пяти метров в высоту поражает каждого посетителя музея. До 20 тонн могли весить эти гиганты!
Безрогий носорог индрикотерий — крупнейшее сухопутное млекопитающее на Земле. Индрикотерий питался ветками, как жираф, а во время засушливых сезонов обдирал кору с деревьев. Ноздри животного расположены высоко на черепе — это говорит о том, что у зверя был хобот, не слоновий, а скорее как у тапира.
В 1915 году А. А. Борисяк описал род индрикотериев. Но в экспедицию академик поехать не смог — здоровье не позволило.
Эту местность географы недаром называют Тургайской столовой страной. На десятки, а то и сотни километров на запад и восток от реки Тургай простирается целая страна столовых гор. Когда-то здесь поднялось дно древнейшего моря, а потом по нему протекли бурные потоки воды, разрезав рыхлые породы глубокими ущельями.
30 мая 1926 года экспедиция Баярунаса начала раскопки на Нуре.
Лазая по крутым, часто отвесным склонам, хорошо изучать песчаные и глинистые слои третичных отложений. Однако сделать это непросто. Прочные, казалось бы, склоны осыпаются под ногами, пот заливает глаза, мучит жажда. Не раз и не два старшие товарищи посылали Ивана навстречу изнурённым разведчикам, которые не могли без подмоги дойти до лагеря с флягами свежей воды.
Костеносный слой лежал под мощной толщей — 10–12 метров — пустой породы. Заложили две площадки — в сумме 60 квадратных метров. Пустую породу приходилось снимать, прежде чем добраться до нужного слоя. Ивану немало пришлось поработать киркой. Затем костеносный слой осторожно снимался на глубину не более пяти сантиметров. При этом надо быть предельно внимательным, чтобы не пропустить мелкие кости, которые часто по цвету почти неотличимы от породы. Когда обнаруживается присутствие большой кости, кирку надо отставить в сторону. Породу вокруг кости снимают большим ножом с острым концом, сметая кисточкой или сдувая пыль. Когда форма кости определена, берётся молоток, чтобы обдолбить кость на расстоянии 10–15 сантиметров. Главное при этом — не повредить другие кости, которые могут находиться рядом.
Если кость достаточно крепкая, её вынимают; если нет, то осторожно очищают кость сверху и несколько раз пропитывают жидким столярным клеем. Препаратор старается не трогать кость кисточкой, а только тщательно капать с неё клеем. Иногда на то, чтобы кость просохла, требуется два дня…
Но и это не всё. Кость подкапывают снизу и закрепляют куском материи, пропитанной клеем. Затем эту материю обделывают гипсом или хорошо замешенной глиной. Кость, наконец, отделяют и отделённую часть так же закрепляют — клеем, материей, гипсом. Этот способ добычи костей был совершенно новым, и ни одна кость не была повреждена по дороге в музей.
Обрывы Нуры хранили память не только об индрикотериях, но и об их соседях, например, крупных свинообразных — энтелодонах. Экспедициям разных лет, продолжавшим раскопки, удалось обнаружить здесь и более древние, чем индрикотериевые, слои с остатками рептилий, и более молодые — с фауной млекопитающих.
Когда источники пресной воды, бьющие из глубоких расщелин Нуры, начали пересыхать от беспощадного зноя, лагерь свернули, и отряд, обогнув Нуру с юга, повернул на запад и через высохшие под солнцем Аккольские степи перешёл на реку Джиланчик. Здесь раскопщики расширили площадки прошлых лет, соединив рвом отдельные ямы. Обнаружили кости носорогов, куски окаменелой древесины.
В книге «Дорога ветров» Ефремов так опишет ископаемый мир Тургайских степей: 35 миллионов лет назад здесь обитали млекопитающие олигоценового времени и простирались «обширные степи-саванны с отдельными группами и рощами высоких деревьев. Исполинские носороги — белуджитерии и индрикотерии — благодаря своему неимоверному росту могли питаться ветками и листьями этих деревьев и не зависели от выгоравших в конце сезона мелких растений. Одновременно с гигантами жило множество степных грызунов и насекомоядных, а также мелких хищников. Более редкими были саркастодоны и эндрьюсархи — самые громадные хищные млекопитающие, когда-то обитавшие на Земле. Они походили на гигантскую гиену с чудовищной головой в треть всей длины зверя. Эти хищники, несомненно, питались белуджи-териями и подобными им исполинами. Однако вряд ли эндрьюсархи могли одолевать исполинских носорогов в бою при своих слабых лапах — скорее всего они питались их трупами».
7 июля работы на Джиланчике закончились. На обратном пути обогнули Нуру с севера; через Тургай, оказавшийся достаточно полноводным, переправлялись на лодках. 19 июля отряд вернулся в Иргиз.
Загорелые, сухие лица кочевников, скрип колёс, заунывный звук варгана, белые полотна ковыля, острый запах полыни. Мощные ветры, секущие грудь Нуры, поднимающие с солончаков мелкую соляную пыль, похожую на туман. Рассветный гомон птиц над озёрами, резкие краски закатов, алмазная россыпь звёзд в бескрайнем небе — всё это глубоко западёт в душу Ивана. Степи и пустыни станут главными героями книги Ефремова «Дорога ветров», подлинной поэмы, посвящённой Монголии. Но впервые будущий писатель окунулся в просторы степей именно в Казахстане.
На горе Богдо
Евгений Александрович Ферсман подал Ивану бумагу, на которой значилось:
«Доложено ходатайство Геологического музея о выдаче субсидии научно-техническому сотруднику Музея И. А. Ефремову, отправляющемуся на гору Богдо для отыскания материалов по стегоцефалам. Положено: выдать 50 рублей на путевое довольство.
За непременного секретаря академии Ферсман.
19 августа 1926 г.».
Ефремов, только что вернувшийся из Тургайской экспедиции, сиял — первая самостоятельная палеонтологическая экспедиция! Для отыскания древних амфибий — стегоцефалов!
Иван заспешил за деньгами. С Сушкиным уже были обговорены все детали экспедиции.
Собрать вещмешок — привычное дело. Лямки к мешку приделаны по старому русскому способу — в углах мешка лежит по картофелине: так удобнее захлестнуть верёвку, не сползёт. В мешок — брезентовый полог, плотное шерстяное одеяло (ночи в Прикаспии могут быть холодными), смену белья, несколько консервных банок, сухари. Ещё раз проверить экспедиционное снаряжение. Под ложечкой сосёт от предвкушения дороги.
Поезд. Москва. Старинный купеческий Саратов — Сары-тау, что значит «Жёлтая гора». Мост через Волгу. От Красного Кута железная дорога — стрелой на юг. Станция Шунгай[55] — от неё уже видно Богдо, резко выступающую на фоне ровной, как ладонь, степи. Посёлок Верхний Баскунчак.
На станции Иван напился чаю и на рассвете с соледобытчиками добрался до рабочего посёлка Кордон[56] на северном берегу солёного озера.
Начинался сентябрь, но в полдень столбы горячего воздуха колыхались над высохшей степью, которая казалась пустыней. Воздух был сух и горек. Вдали, на юге, в белёсом мареве над равниной парила красно-коричневая гора. Подобно подковообразной волне, вздымалась она из земных недр, и её скальные обрывы таили в себе палеонтологические сокровища.
Калмыцкая легенда гласит: однажды два буддийских монаха-калмыка решили перенести с Тянь-Шаня на берег Волги гору. Они долго постились, медитировали, наконец, взвалили себе на плечи Богдо и понесли. Они уже почти дошли до Волги, когда по дороге им встретилась красавица-казашка. У младшего брата в голове промелькнули греховные мысли, сила его ослабла, и гора придавила братьев. На склон хлынула кровь. Так и стоит Богдо с красными от крови боками.
С XVIII века географы и биологи всех стран, попадавшие в низовья Волги, стремились посетить озеро Баскунчак и гору Большое Богдо: так много было здесь природных достопримечательностей. В 1854 году здесь проводил исследования российский геолог и естествоиспытатель И. Б. Ауэрбах. Его работа «Гора Богдо. Исследования, произведённые по поручению Императорского Русского Географического общества…» была издана уже после его смерти, в 1871 году. Ауэрбах первым подробно описал найденные в известняках и глинах окаменелости растений и животных, в том числе чешую, зубы рыб и кости лабиринтодонтов; обобщил материал в четырёх таблицах.
Сушкин при подготовке к экспедиции настаивал, чтобы Ефремов обязательно читал труды, написанные до него. Запомнилась Ивану фраза из предисловия к книге, которое написал друг Ауэрбаха Г. Траутшольд: «Не одни наши уцелевшие кости будут говорить о нас нашим потомкам, подобно дошедшим до нас чешуям рыб, или позвонков ящеров, или бивням толстокожих. Мы вносим в этот вековой эпос новые краски, наши труды, — и они говорят потомству более живым, более живучим языком, чем наши ископаемые кости. Даже тогда, если бы все библиотеки были преданы огню, подобно александрийской, — даже тогда осталось бы достаточно свидетельств величия и мощи человека. Пусть вещество меняет свои формы — творящий дух остаётся вечным».
Чтобы имя твоё осталось в истории, надо отыскать в этих красных камнях, так похожих на обрывы любимого Оредежа, материалы по стегоцефалам. Несколькими годами ранее Баярунас нашёл на склонах Богдо два разломанных черепа лабиринтодонтов. Может, и юному искателю повезёт.
Иван поселился прямо на Кордоне, хотя оттуда довольно далеко добираться до нужного места. Жители кордона уважительно отнеслись к Ивану — сильный малый, да и оружие у него с собой.[57]
После нескольких дней разведки на лошади Иван поставил палатку в степи. Место он выбрал за горой, где из песчаников вытекал источник студёной минеральной воды и росло несколько невысоких деревьев. Устроил из полотна палатку, приготовил обед и с утра решил отправиться на разведку.
Иван поднялся с рассветом, вылез из-под полога, быстро оделся и зашагал вверх по осыпному склону, заросшему сухой травой, сначала пологому, потом становящемуся всё круче. Поднялся на малую вершину, спустился на седловину — и вверх. 150 метров от подножия — небольшая высота, но на ровной столешнице степи видно на десятки километров вокруг. Неудивительно, что калмыки, жившие здесь, считали Богдо священной горой. Её название так и переводится — «святая».
Вот встаёт на востоке солнце — так же величаво, как поднималось оно из волн Охотского моря. Да, в незапамятные времена здесь тоже плескалось море…
На севере — слепит глаза — словно лёд, блестит поверхность удивительного озера, где издавна ломают самую чистую соль. Захочешь в этом озере утонуть — не сможешь. А кое-где можно даже ходить по ослепительно-белым кристаллам.
В небо поднимается и парит степной орёл, зорко оглядывает выгоревшую степь. Трудно поверить, что весной здесь цветут тысячи цветов, среди которых — прекрасные дикие тюльпаны.
Иван подошёл к скалистому обрыву с юго-западной стороны от вершины, взглянул вниз. Круто отрываются вниз красные скалы, множество уступов, ниш дробят склон. Гора растёт из земли — и эта часть поднимается более резко, обнажая триасовые толщи. Да, сверху здесь не спуститься, надо подходить снизу.
Иван сбежал к лагерю, вскипятил чаю. Начинался рабочий день.
Самые большие обнажения нашлись на крутом восточном склоне, который пестрел всеми оттенками — от жёлтого цвета песчаников, розового, кирпичного и фиолетово-красного оттенков глин, и — на самом верху — белые илы, в которых захоронены остатки лабиринтодонтов.
Впечатления Ефремова оценил академик Борисяк. В 1930 году в очерке «Русские охотники за ископаемыми» он опубликовал рассказ молодого учёного о работе на Богдо:
«Ещё не доезжая станции Шунгай, гора Богдо, несмотря на её небольшую высоту (145 метров), резко выступает на фоне ровной степи. Протягиваясь в форме подковы на 11/2 километра, вблизи она производит впечатление монументальности, в особенности её центральная часть с чрезвычайно крутыми склонами. Конечно, в цепи, например, Кавказских гор гора Богдо затерялась бы незаметным холмиком, но здесь она стоит одиноко, окружённая, насколько хватает глаз, плоской тарелкой степи.
Резко обрываясь к озеру Баскунчак, блестящему на солнце, как бескрайнее снежное поле, выступает 40-метровая стена пермских песчаников. Здесь очень удобно наблюдать разные фигуры выветривания, всевозможные столбы, соты, уступы и т. п.
Немного отступя к горе от песчаникового предгорья, начинаются причудливые бугры, гребни и совершенно правильные конуса тёмно-красных с серыми прослойками мергелей. И прямо от них круто поднимается 80–100-метровая стена пёстрых мергелей с выступающими сверху слоями триасового известняка. Эта стена изборождена водными промоинами и протоками, засыпанными обломками известняковых плит. Обломки в бесчисленном количестве покрывают всю гору и насыпаны у подножья красных бугров.
Первое впечатление, создающееся у охотника за ископаемыми, впервые прибывшего на Богдо, это то, что в подобном хаосе совершенно невозможно что-либо найти.
Однако выдержка и терпение приходят здесь на помощь исследователю. Разбив всю гору на участки, я начал медленно продвигаться вдоль горы, исследуя каждый подозрительный обломок камня. Перебив и пересмотрев несметное количество известковых плит у подножья горы, я собрал несколько костей лабиринтодонтов и довольно большое число беспозвоночных и стал исследовать обломки известняков по склонам зигзагообразным путём, беспрерывно поднимаясь и опускаясь.
Обнажения пластов на склонах горы замыты натечной сверху глиной, усыпанной обломками известняка. Глина засохла плотной коркой, и, цепляясь за обломки известковых плит, можно подниматься по довольно крутым склонам почти до 60 градусов. Держа в одной руке молоток, без которого охотник за ископаемыми не может ступить ни шагу, другой забиваешь кирку в склон горы и осторожно подтягиваешься выше. Конечно, иногда бывают неприятные минуты, когда ноги соскальзывают, кирка вырывается из рыхлого размытого склона, и начинаешь сползать вниз сначала медленно, потом всё быстрее и быстрее. Но, мгновенно снова забив кирку поглубже, останавливаешься и продолжаешь таким же способом прерванное продвижение наверх. Спускаться можно, вырубая ступеньки, или, в прочном костюме, можно медленно сползать, просто сидя и упираясь на пятки, притормаживая киркой или молотком. Обычно в процессе работы очень быстро привыкаешь проделывать всё это автоматически, не отрывая взгляда от кусков известняка и беспрерывно расколачивая плиты.
Лишь по самым крутым склонам мне приходилось взбираться с канатом. Канат я закреплял за железный рельс, поставленный в качестве репера на самой вершине горы. Отклоняясь куда-нибудь в сторону, я забивал железный лом в склон горы и закидывал на него канат. Таким способом я мог делать значительные отклонения в ту или другую сторону, оставляя канат надёжно привязанным за железный репер на вершине. Однажды я плохо забил лом; закинув за него канат, я начал спускаться. Вдруг лом вырвался из рыхлой натечной глины, и я моментально полетел вниз. Падая, я крепко вцепился в канат, который, как только размотался до репера, резким толчком натянулся, ободрав мне кожу на руках, и я, качнувшись, как маятник, перелетел на другой склон, приняв отвесное положение относительно репера. Пожалуй, эта секунда была одной из самых неприятных в моей жизни. По счастью, я не выпустил каната и потом легко взобрался на вершину, проклиная изобретённый мною способ.
Обследовав все осыпи по склонам, я заложил раскопки на одном из самых крутых выступов Богдо — юго-юго-восточном. Копаться посредине крутого склона горы было очень трудно. Тут нам большую помощь оказали сильные ветры, обдувавшие склон горы и обеспечивавшие большую устойчивость при балансировании на маленькой ступеньке с помощью кирки. Впоследствии, когда на отвесном склоне горы образовалась большая площадка, работать стало гораздо легче. Пласт за пластом расчищали и выбирали мы из горы, то испытывая сильное разочарование, когда пласт оказывался пустым, то с полным удовлетворением достигнутой цели выбивали из него красивые завитки аммонитов и тёмные или светло-жёлтые кости лабиринтодонтов. Для определения нижних горизонтов горы приходилось спускаться в пещеры под красными буграми и ползать под землёй по воронкам и пещерам гипсового поля на юг от Богдо. В одной из пещер, шедшей наклонно в землю под углом в 35–40 градусов, я поскользнулся и, скатившись вниз, провалился в отвесный колодец, глубоко уходивший в бездонную чёрную темноту. По счастью, колодец был довольно узок, и я заклинился в нём до самых плеч, которые уже не могли пролезть в колодец. Я очутился в положении пробки в горлышке бутылки, и потребовалось немало труда, чтобы высвободиться и, главное, снова влезть по наклонной гипсовой стенке, покрытой песком, принесённым водой.
Ремесло охотника за ископаемым богато всевозможными впечатлениями; работать приходится в самых разнообразных условиях и местностях. Это значительно развивает наблюдательность и сообразительность и, главное, доставляет ту чистую радость, радость добычи и достигнутой цели, так хорошо знакомую охотнику, коллекционеру и спортсмену».[58]
Находя остатки лабиринтодонтов, Ефремов думал, как могли кости пресноводных животных попасть в морские осадки. Молодой учёный предположил, что в этом месте мог быть мелководный залив или эстуарий — затопляемое устье реки, куда река несла остатки существ, обитавших в пресной воде.
Научная статья Ефремова об условиях захоронения остатков лабиринтодонтов в прибрежных морских отложениях была опубликована в «Трудах Геологического музея». Данные 1926 года положили начало цепи наблюдений, которую через десять лет Ефремов назовёт учением о захоронениях, а к 1940 году найдёт название для новой отрасли науки — «тафономия».
Личные впечатления от раскопок на Богдо отразятся в одном из самых увлекательных рассказов Ефремова. В «Белом роге» геолог Усольцев в отчаянной попытке добыть с вершины горы оловянный камень — касситерит — будет подниматься по гладкой скале: «Прилепившись к стене на высоте ста пятидесяти метров, геолог понял, что не может отнять от скалы на ничтожную долю секунды хотя бы одну руку. Положение казалось безнадёжным: чтобы обойти выступавшее ребро и шагнуть на карниз, нужно было ухватиться за что-то, а вбить зубило он не мог.
Распростёртый на скале, геолог с тревогой рассматривал нависший над ним обрыв. В глубине души поднималось отчаяние. И в тот же миг ярко блеснула мысль. «А как же сказочный воин? Ветер… да, воин поднялся в такой же бурный день…» Усольцев внезапно шагнул в сторону, перебросив тело через выступ ребра, вцепился пальцами в гладкую стену и… качнулся назад. С болью, будто разрываясь, напряглись мышцы живота, чтобы задержать падение. В ту же секунду порыв вырвавшегося из-за ребра ветра мягко толкнул Усольцева в спину. Схваченное смертью тело, получив неожиданную поддержку, выпрямилось и прижалось к стене. Усольцев был на карнизе. Здесь, за ребром, ветер был очень силён. Его мягкая мощь поддерживала геолога. Усольцев почувствовал, что он может двигаться по карнизу жилы, несмотря даже на подъём её вверх. Он поднялся ещё на пятьдесят метров выше, удивляясь тому, что всё ещё не упал. Ветер бушевал сильнее, давя на грудь горы, и вдруг Усольцев понял, что он может выпрямиться и просто идти по ставшему менее крутым склону. Медленно переставляя окровавленные ступни, Усольцев ощупывал ими кручу и сдвигал в сторону осыпающуюся вниз разрыхлённую корку. Медленно-медленно поднимался он всё выше. Ветер ревел и свистел, щебень, скатываясь, шуршал, и Усольцева охватило странное веселье. Он словно парил на высоте, почти не опираясь на скалу, и уверенность в достижении цели придавала ему всё новые силы».
На спуске с Белого Рога ветер вновь помог геологу: «Страстная вера в свои силы овладела Усольцевым. Он подставил грудь ветру, широко раскинул руки и принялся быстро спускаться по склону, стоя, держа равновесие только с помощью ветра. И ветер не обманул человека: с рёвом и свистом он поддерживал его, а тот, переступая босыми ногами, пятная склон кровью, спускался всё ниже».
Лабиринтодонты Шарженьги
Мелкий дождь моросил через сломанную крышу перрона. Сыро, мокро встречал Ленинград юного естествоиспытателя. Но в душе не было уныния: Ивана ждала любимая работа.
Позже Иван Антонович вспоминал: «Эта работа — освобождение ископаемых костей от породы, в которую они вкраплены, оставляет свободной голову. Приобретя некоторые навыки, можно хорошо работать и думать о своём. То же и в экспедициях. Долгие поездки и утомительные ожидания на железнодорожных полустанках и аэродромах. Сколько часов, суток и месяцев пропало даром! Геологов и палеонтологов я бы награждал медалью за долготерпение. Но есть в этом и хорошая сторона: праздное время освобождает голову для размышлений».[59]
Освобождая от породы хрупкие кости, Иван раздумывал о судьбе всего живого на Земле, о неумолимых законах природы, о направлении эволюции. Неизбежно приходилось ему задумываться и об эволюции духовной: в городах процветали нэпманы, и жизнь казалась совсем непохожей на царство добра и справедливости. Но учитель и старший товарищ давал ему высокий образец служения науке. Несмотря на бедное платье, на материальные и бытовые трудности, Сушкин, его друзья и коллеги — Вернадский и Ферсман — показывали молодым путь истинного благородства и духовной отваги.
Иван по-прежнему сидел за учебниками, выполнял лабораторные работы в университете, обрабатывал свои палеонтологические находки, но в то же время, внимательно вслушиваясь в биение жизни, искал важные начинания, места, где человек по-новому может применить свои знания и силу. Желание всё увидеть, перечувствовать и понять наполняло его.
Весной 1927 года Ефремов как сотрудник Академии наук получил отпуск. Но решил его потратить не на подготовку к сессии. Он помчался на Кубань — поработать трактористом в сельскохозяйственной коммуне «Звезда красноармейца». На ладонях — окаменевшие мозоли, запахи машинного масла и железа словно в кожу въелись.
Сушкин спрашивал:
«— Что это вас, батенька, понесло на Кубань?
— Очень интересно, Пётр Петрович. Там начинается новое, настоящее дело: впервые у нас машины заменяют тяжёлый крестьянский труд. Ведь это будет большое человеческое счастье.
— Гм… гм… Поезжайте-ка, милый Иван Антонович, в экспедицию. На Север. Может, повезёт, так тоже новое сыщете для науки…»[60]
Ефремов мечтал теперь не только о приключениях — он уже ощутил, как замирает, а потом гулко колотится сердце, когда ты находишь решение даже небольшой научной загадки, как ликует душа, когда ты сознаёшь, что одной мыслью стало в мире больше и эту мысль уловил и сумел воплотить в слове именно ты. Экспедиции, дающие пищу для ума и сердца, были необходимы ему так же, как месяцы кропотливой научной работы. В путешествии проверялись теоретические догадки; задачи, которые ставила действительность, опускали мысль на землю, делали мысль хотя и короче, но резче, отчётливее.
Ясно было, что следующая дорога Ивана будет лежать на полночь, туда, где искал удачи Амалицкий. Но не по следам Владимира Прохоровича он пойдёт — будет прокладывать свой путь.
Одна из находок Амалицкого недаром названа котлассией. Самый близкий населённый пункт к Соколкам, главному месту раскопок, — город Котлас, в 1927 году маленькая тупиковая станция. У Ивана, конечно, было искушение добраться до Котласа, побывать на Малой Двине.[61] Но по экспедиционному плану надо было сначала посетить Ветлугу, и он отправился из Ленинграда по железной дороге до станции Шарья.
Последние 40 лет геологи исследовали отложения на реках Севера, привозили обломки различных костей, находили фрагменты черепов. Молодому палеонтологу предстояло исследовать местонахождения, зафиксированные геологами.
Близ Шарьи, на Ветлуге, левом притоке Волги, Ивана более всего интересовала деревня Большая Слудка. Почва на породах — как полуда на посуде. Места, где она слудилась, оползла, где обнажились древние слои на крутых речных берегах, носят на Севере название «слуды».
Опоки и Соколки — это северные, а обрывы на Ветлуге — южные окраины Северных Увалов. Пытаясь представить себе, как возникли эти местонахождения, Иван отчётливо осознал, что ему не хватает геологического образования.
20 июня 1927 года молодой охотник за ископаемыми выехал из Ленинграда:
«Проехав 30 км от ст. Шарья, Сев. ж.д., я добрался до излучины р. Ветлуги, где она, идя с севера на юг, круто заворачивает на восток. Далеко был виден противоположный правый берег, постепенно повышавшийся вдали. На самом высоком пункте мрачно чернел еловый лес, и смутно виднелись очертания деревни. Это и была цель моего путешествия, первое и самое южное из трёх местонахождений, которые мне предстояло обследовать. От этой деревни берег снова понижался, сливаясь с горизонтом вдали. Для охотника за ископаемыми высокий берег — хороший признак: здесь всегда можно наткнуться на выходы пластов, заключающих в себе фауну древнего мира. Прибыв к искомой деревне, я отправился на поиски выхода костеносного пласта, продвигаясь по болотистой террасе Ветлуги вдоль обрывистых обнажений. Пристально всматриваешься в обрывы, не мелькнёт ли где-либо желанная красная полоса выхода мергелей пестроцветной толщи. Нет пока ничего, только рыхлый безнадёжный речной песок. Но вот у подножья обрыва кучка обломков песчаника, скрытая кустами. Ускоряешь шаги и, шлёпая по болоту, весь облепленный бесчисленной мошкарой, подходишь к цели. Неразлучный товарищ — молоток — застучал по кускам песчаника. Каждый кусочек тщательно осматривается, обдувается от пыли и песка. Кости стегоцефалов небольшой величины и требуют внимательного осматривания вмещающей их породы. Уже порядочная кучка свеженабитого щебня высится передо мной, уже пересмотрены все куски песчаника, но не встречено ничего, хотя бы только указывающего на содержание костей в этой породе. Сомнение закрадывается в душу. Но вот ещё куски песчаника. Эге! Даже не нужно разбивать: вот она лежит сверху камня, жёлтенькая, покрытая причудливо-узорчатой скульптурой, кость стегоцефала. Удар по другой плите песчаника — и тут ещё кость… И ещё… Костеносная порода найдена. Надо найти самый костеносный пласт, лежащий где-то вверху, откуда скатились эти куски. С чувством победителя начал я трудный подъём по крутому и сыпучему обрыву, сплошь покрытому сползшим сверху песком. Заработали другие неизменные спутники охотника за черепами — кирка и лопата. Среди ровной массы серого песка мелькнули красные куски мергелистой глины. Вот она, пестроцветная толща. Дальше и дальше углубляется кирка. Но слишком велик оползень, слишком толст слой песка, защищающий выход драгоценного костеносного пласта от пытливого ума человека. Со скромными средствами рекогносцировочной поездки многого откопать нельзя. Надо экономить, впереди ещё местонахождения, ещё большие маршруты. Ну, хорошо, на следующий раз! Я ещё расквитаюсь с этим обрывом на будущий год.
С досадой слез я с обрыва и направился дальше, вдоль обнажения. Немного выше вдоль по реке мне удалось найти незасыпанные выходы пластов. Заложив здесь небольшую раскопку, я собрал значительное, сравнительно с площадью раскопки, количество костей стегоцефалов. Обследовав обнажения на несколько километров вниз и вверх по реке, я установил границы выходов костеносного пласта. Таким образом миссия моя здесь была закончена. Тщательно запаковав добытое и отправив ящики, я отправился в шестидесятикилометровый переезд до другого местонахождения, севернее описанного, также на берегу р. Ветлуги. Здесь опять знакомая масса серого песка, знакомые обрывы. Осыпь здесь была более богата, и уже в ней удалось собрать много костей.
На крутом обрыве под церковью была заложена раскопка. Несмотря на тщательную разборку костеносного пласта, были найдены только две небольшие кости стегоцефала. Жаль потраченного времени и усилий. Ну, что ж, надо закончить. «Кончай, ребята!» — обратился я к рабочим и в последний раз ударил киркой по краю нашей выемки. Отвалился кусок плиты, и на нём — череп стегоцефала. Вот вам счастье охотника за ископаемыми! Выше по реке, на самой северной границе костеносного пласта, была заложена вторая раскопка, где также удалось найти несколько крупных костей».[62]
На север от Ветлуги — лесные дебри. В деревнях мужики в синих картузах толковали, что редко теперь кто ходит через сузём — волоки, мол, с южной опушки на северную совсем заброшены, через некоторые можно пройти лишь зимой на лыжах, и то со сведущим человеком. Иван внимательно прислушивался к беседам, заинтересованно спрашивал, пока не выяснил, что сузёмом на границе костромских, нижегородских и северодвинских земель называют дремучие болотистые леса, покрывающие Северные Увалы, — водораздел между реками, бегущими к Северному Ледовитому океану, и теми, что впадают в Волгу. Вдоль больших рек распаханных земель больше — с юга сузёма сеют хлеб, с севера лён, на маленьких же речках сузём начинается сразу за краем поля. В глухих дебрях обитают волки, медведи, лоси.
Иван направился на север до притоков Юга древним путём — через сузём.
Белые илы Богдо, в которых содержались ископаемые остатки, лежали под самой крышей одинокой горы, наверху. Здесь, на Севере, тоже есть горы — не крутые и не высокие, но от этого не менее ощутимые — благодаря течению рек. Северные Увалы. Где находится высшая точка? Вот, в Никольском уезде, к югу от Устюга. 293 метра. Там реки, вытекающие из болот сузёма, быстры, берега — обрывисты. Ивана заинтересовала речка Шарженьга,[63] истоки которой располагались ближе всего к высшей точке Увалов.
Огромные ели нависали над дорогой, редко встречались сторожевые избы. Телега долго вползала на едва заметные глазу, но ощутимые для лошадей угоры. Наконец добрались до Никольска. От Никольска на Великий Устюг ведёт старый, кое-где вымощенный булыжником тракт, по которому на телеге Иван добрался до отворотки на Калинино. Тут, выше устья реки Шарженьги, переправа через Юг. Река Юг делает крюк на восток, впадает в Сухону, почему Устюг и носит своё название — Усть-Юг. Деревни стоят или по реке, или по тракту. Но река всё же — главная, наиболее древняя дорога этих мест.
Сам исследователь так описал свой путь:
«Отсюда [от Ветлуги] мне предстоял 230-километровый переезд по лесам и болотам, и мои бока подвергались сильному испытанию, пока я, наконец, прибыл в доисторическом экипаже на берег р. Шарженга, притока р. Юга. Наметив раскопки в трёх пунктах, я сразу напал на богатое местонахождение костей, и первой костью в первой раскопке был великолепной сохранности череп стегоцефала. Кости здесь попадались часто, пласт был огромной толщины, и приходилось соблюдать большую осторожность при разборке его. Мой рабочий был удивительно способный молодой крестьянин, и его природный ум быстро схватывал основные правила добывания костей. Под конец нашей работы я мог совершенно спокойно поручить ему разборку пласта, и работа наша двигалась быстро. Много мы полазали с этим рабочим по обрывам рек бассейна Шарженга и лесным трущобам, отыскивая новые выходы пластов и определяя границы. Однако средства приходили к концу, истекал и срок командировки. Надо возвращаться. Надежда с большими средствами вернуться сюда на следующий год помогла мне преодолеть азарт коллекционирования, который всецело овладел мною. Не нужно быть коллекционером, чтобы понять упорство охотника за ископаемыми, когда осталось ещё многое, что он мог бы забрать с собой. Приходится силой вводить себя в рамки, будничные и разумные рамки средств и времени».[64]
Странные дни проживал Иван. Не плоская Прикаспийская степь с прекрасным обзором лежала вокруг, а дремучий, словно затаившийся сузём, где даже на холмах ничего не было видно, кроме окружающих деревьев. Иван исхаживал вдоль русел рек десятки километров, карабкался по отвесным обрывам, срывался, падал. Порой ему казалось, что терпение его кончается, что он не может больше сделать ни шагу, но страстное желание найти заставляло его отодвигать предел утомления и подниматься на новые поиски. Заходил он и в избы, расспрашивал крестьян.
В крутой излучине Шарженьги, у деревни Вахнево, ниже устья реки Анданги, Ивану удалось обнаружить обрыв, сложенный из красных глин. От церкви в сторону реки — поскотина. К реке сбегает тропинка, ведёт к насыпи, доходящей до середины реки, и оттуда до другого берега речку перегораживает заезок — плетень с воротцами, в которые вставляются морды из ивовых прутьев для ловли рыбы.
На мысу, в прослое косослоистого буровато-серого песчаника, начали попадаться кости и конкреции, которые крестьяне называли сопласы — «сплюснутые, спрессованные». В песчанике встретились замечательный по сохранности череп и отдельные кости скелета, беспорядочно перемешанные и рассеянные.
Здесь Иван наметил площадку для раскопок будущего года.
Животные, обнаруженные Ефремовым, были похожи на маленьких крокодильчиков с короткими ножками, с узкой вытянутой мордочкой. Вероятно, они прятались на дне, подстерегая рыбу, и, догоняя её быстрым рывком, хватали длинными челюстями. В 1929 году Ефремов описал открытое им животное и назвал его Bentosaurus sushkini. Оказалось, что под таким именем уже зарегистрировано одно ископаемое животное. И тогда из бентозавра («донной ящерицы») существо превратилось в бентозуха — «донного крокодила».
У речки Медвежьей Иван присмотрел ещё одну площадку. Высокие деревья здесь выглядели тонкими спичками. Попав в зону оползня, беспомощно съезжали они по крутому склону, наклоняясь в разные стороны.
В один из дождливых вечеров, сидя в тёплой избе, Иван рассказывал крестьянам, что песчаник представлял собой отложения древнего речного потока, который впадал в озеро. Доисторическая река несла трупы водных животных, которые заносило илом и песком.
Иван уже понимал, что Шарженьга — его первый крупный успех. Подобные кладбища ещё найдут на огромном пространстве от Белого моря до Прикаспийской впадины на юге, будут открыты десятки обитателей раннетриасовой эпохи, но столь крупные скопления останков земноводных, как у деревни Вахнево, будут найдены только через несколько десятилетий.[65]
Обработка материала и выводы ещё ждали своего часа, но уже на раскопках Иван задумался, что могло вызвать массовую гибель лабиринтодонтов. Позже Ефремов напишет статью «Два поля смерти минувших эпох», а Алексей Петрович Быстров, коллега и ближайший друг Ефремова, исследует микроскопическое строение зубов бентозухов и сделает поразительный вывод: многие из этих животных болели цингой и причиной массовой гибели мог стать недостаток пищи.
Обшив досками куски окаменевшей породы и разместив их в одном из старых крестьянских амбаров, Иван отправил несколько монолитов, в которых содержались лучше всего сохранившиеся кости, по тракту на Великий Устюг. В дороге он обдумывал, как вывезти оставшиеся монолиты в следующем году. Лучше всего ранней весной, пока Юг ещё не обмелел, сплавить их на барже по воде до Котласа — дешевле будет, чем посуху на телегах, затем, погрузив на поезд, отправить их в музей.
Общая длина маршрута составила 630 километров — пешком и на телегах. Всего было добыто 86 костей.
Прощание с учителем
Вернувшись в Ленинград, с лучшим из найденных им черепов Ефремов пришёл к Петру Петровичу.
— Ну, оставьте этот череп здесь, может быть, я найду время его описать.
— Нет уж, я опишу его сам и время на это уж точно найду, — дерзко ответил молодой препаратор.
Пётр Петрович считал, что полевые сборы принадлежат добытчику: уж очень он ценил полевую работу и удачливых собирателей. Началась обработка коллекции, привезённой из Вахнева. Сушкин понял, что из молодого препаратора вырастет настоящий учёный. Только вот воспитывался он в сложной среде, порой груб, неотёсан, часто не принимает во внимание субординацию…
За молодым препаратором утвердилась слава необыкновенно удачливого охотника за ископаемыми.
«Разнообразная деятельность лаборанта, старание помочь любимому учителю, наконец, сама наука так увлекли меня, что я часто засиживался в лаборатории до ночи. Всё труднее становилось совмещать столь интенсивную деятельность с занятиями», — писал Иван Антонович.[66] К биологическому видению палеонтологии прибавлялось понимание геологических закономерностей.
В декабре 1927 года в Ленинграде проходил III съезд зоологов, анатомов и гистологов. Подготовка к нему отнимала много сил и времени. Иван же с нетерпением ждал заключительного заседания: на нём Пётр Петрович должен был прочитать доклад «Высокогорные области земного шара и вопрос о родине первобытного человека».
Речь Сушкина была насыщена яркими фактами и смелыми выводами. Слушали его, стараясь не проронить ни слова, и потом долго аплодировали академику. Л. Портенко вспоминал: «Я слушал его доклад буквально затаив дыхание, так я был поражён и восхищён им. Здесь я видел и слышал Сушкина во всём его научном величии. Вы не представляете того впечатления, которое оставляло логическое развитие его мысли, как убедительно он объяснял и доказывал развитие человека от предка, сошедшего с деревьев в обстановке горного ландшафта, опиравшегося на камни и ставшего двуногим, как вследствие освобождения рук, теперь помогавших обработке пищи, была облегчена работа нижней челюсти, и таким образом височные части мозговой коробки испытывали меньшее давление жевательного аппарата. Для развития психических способностей человека в горном ландшафте открывался неограниченный простор, чтобы накапливать зрительные восприятия».[67]
Иван гордился своим учителем. Это чувство помогало ему терпеть от него еженедельные субботние разносы: «На длинном лоскуте бумаги записаны были все «грехи», совершённые Ефремовым за неделю. «Нагрубил», «совершенно невежливо отвечал по телефону», «проявил непростительную забывчивость».
Сотрудники музея посмеивались: опять старик исповедует беднягу Ефремова. Иногда уныние охватывало и самого Ивана Антоновича — ну можно ли придираться к таким пустякам! Позже он понял, что щедрый, великодушный учёный старался вложить в него все необходимые качества, которыми владел сам и без которых нельзя было стать настоящим научным работником.
Пётр Петрович, проводив взглядом обескураженного препаратора, усмехался, рвал на мелкие кусочки «список преступлений» и думал о том, что Ефремову надо предоставить побольше свободы, пусть ищет, борется с трудностями, рискует, принимает самостоятельные решения…»[68]
Весной 1928 года Сушкин отпустил ученика в свободное плавание, вновь — в северные края. Отправились вместе с препаратором Фёдором Максимовичем Кузьминым. Предстояло не только продолжить раскопки на одном из местонахождений, но комплексно обследовать весь огромный район.
Снова побывали на Ветлуге.
«Искомая деревня» — Большая Слудка. Под высоким берегом по обширной долине петляла река, ещё не вошедшая после разлива в свои обычные берега, вились многочисленные старицы. Солнце блистало в тысяче водных зеркал. На крутых склонах местами ещё лежал снег, распускались ивы. Иван гордился тремя раскопами, каждый из которых был высотой едва ли не в два человеческих роста. Над обрывом он установил высокий флагшток, где развевалось алое полотнище.
Затем, как и годом ранее, перебрались в село Зубовское, в 60 километрах от Большой Слудки, богатое село с двумя церквями — каменной и деревянной, шатровой, стоящей почти на самом краю обрыва. Отражение её чётко прорисовывалось в почти неподвижных водах Ветлуги.
В Зубовском Иван поселился в добротном доме с высоким подклетом, окна начинались только на уровне десятого венца. Гостеприимные хозяева были польщены, когда столичный гость предложил их сфотографировать. Бабка надела лучший цветастый сарафан, дед — чистую рубаху, хотя и остался в валенках. Однако волосы и бороду расчесал тщательно. А вот невестка и сын нарядились по-городскому: невестка в белом платье и кожаных ботиночках на шнуровке, сын в отглаженных брюках, лакированных туфлях, в рубашке, при галстуке, да ещё с булавкой. Вчетвером они чинно сели на лавку возле дома, под окна с нарядными наличниками, а чуть в стороне пристроились трое парней — родственников.
Неизвестно, послал ли после экспедиции Иван фотографию в Зубовское. Но в альбом, посвящённый раскопкам, вклеил. И сейчас эти люди смотрят на нас, удивляя выражением: обычно лица крестьян на фотографиях напряжены и серьёзны, а эти семеро смеются, не скрывая радости жизни. Невестка даже рот рукой прикрыла. Видно, что-то очень весёлое сказал им молодой фотограф.
В Вахневе Иван развернулся. Сначала обратился в правление потребительского общества. Возле дежурного магазина собрались семеро мужчин — один, постарше, при бороде, шестеро молодых выбриты. Потолковали — в итоге удалось нанять десяток крепких, основательных мужиков. Было заложено пять раскопов; Иван, любивший основательность, тщательно документировал процесс, фотографируя масштабные выемки.
До села Захарова, что ниже по реке, по реке долгонько плыть — такие петли закладывает Шарженьга. А по прямой — меньше часа ходьбы. В этом году там сошёл свежий оползень — огромная часть склона, поросшего лесом, по влажной глине, как на салазках, съехала в реку, ломая высокие берёзы и ели, вынося в реку пласты дёрна и обломки стволов. В Захарово Ефремов, Кузьмин и краевед П. П. Чегодаев отправились втроём. Разглядывая обнажившийся склон, Иван видел в действии один из тех процессов, что в течение миллионов лет складывали облик Земли.
Иван тщательно изучил геологию любимых местонахождений. Одно лишь биологическое исследование находок казалось ему узким, молодому учёному важно было понять закономерности образования местонахождений в конкретные геологические эпохи. Ефремов утвердился в мысли об образовании подобных типов местонахождений в поясах речных дельт, о подводном (субаквальном) захоронении останков.
С Шарженьги вывезли более тонны отборного материала по лабиринтодонтам, в том числе несколько целых черепов, пояса конечностей и группы позвонков. Объём раскопки на Шарженьге приближался к полутора сотням квадратных метров.
Всего же в Геологический музей привезли около тысячи костей. Примечательно, что среди них нет ни одного скелета — это особенность сохранности лабиринтодонтов. Их кости встречаются обычно в разрозненном виде. Более или менее целые скелеты — единичны, хотя целых черепов находят довольно много.
Черепа Иван обрабатывал сам: «Чтобы обнажить наружную и, особенно, внутреннюю поверхность такого черепа, внешне напоминавшего череп современного крокодила и длиной с ладонь взрослого человека, по возможности не повредив при этом своеобразного рисунка снаружи и следов пролегания нервов и кровеносных сосудов внутри, нужны не только твёрдая рука и адское терпение, но и (как мне тогда казалось) особое вдохновение. Иван Антонович делал эту работу отлично. Он был левша и гордился этим.
— У левши левая и п-п-правая сторона развиты од-д-дина-ково, — говорил он при случае, как бы объясняя свои успехи. Глядя на его уверенную, красивую работу, можно было пожалеть, что сам не левша».[69]
Большая и хорошо обработанная добыча позволила в деталях изучить бентозуха. Спустя 15 лет Ефремов вместе со своим другом А. П. Быстровым издадут удивительную по полноте монографию, в которой детально опишут различные кости бентозухов, рассмотрят особенности роста этих животных, их половое различие, условия жизни и смерти.
Черепа бентозухов и их фрагменты составили целую серию — от крошечных, в два сантиметра, до обломков громадных, метровых черепов. Сами бентозухи, видимо, могли вырастать до четырёх-пяти метров. Анализируя их рост, Ефремов пришёл к мнению, что бентозухи могли жить несколько сотен лет.
Пока драгоценные ящики с новыми находками ехали в бывшую столицу, Иван с товарищем по тракту добрались до Устюга. Древний город с богатым Соборным дворищем был в то время центром Северо-Двинской губернии.
Ближайшая станция железной дороги — Луза на реке Лузе. Наняв лодку, Иван договорился с хозяином на утро. Потом отправился на крутой обрыв, чуть выше Устюга по течению — Гребешок. Опытный глаз за небольшое время мог осмотреть каждую складочку красного обрыва.
Про Амалицкого, который исследовал обрыв лет двадцать назад, жители ближних домов не помнили. Зато все рассказывали про недавно ушедшее время, про воскресные «променады» устюжских мещан, когда на Гребешке устраивались балаганы с «бакалеей», с прохладительными напитками, медовиками и пряниками. Отметился Гребешок лет двадцать назад и в полицейских донесениях — здесь однажды политссыль-ные устроили первую в Устюге маёвку. А вот на изыскания Амалицкого никто внимания не обратил. Мало ли какая у заезжего барина блажь приключится? Не обратили устюжане внимания и на Ивана.
Иван долго сидел на краю обрыва, смотрел на Сухону, на Дымковскую слободу, на заречную сторону. Леса до горизонта, ступеньками… Слева церкви Дымковской слободы, где-то там, за ними начинается уже пройденный Никольский тракт. Люди спешат к перевозу. На паузок[70] заезжают на лошадях. По Сухоне туда-сюда снуют вёрткие лодочки, спешит с одного берега на другой маленький пароходик-труженик «Орлец».
Дальше надо было бы плыть в Опоки. Только вот быстро туда никак не доберёшься: нужного парохода иногда сутками ждать можно. Какое тут расписание: то на мель налетят, то в тумане станут…
Величественная картина, открывающаяся с высоты опокских обрывов, достойна кисти самого лучшего художника. Но по сю пору внимание учёных было приковано к иной — геологической — картине. На крутейшем склоне можно наблюдать тонко переслаивающиеся породы перми: пестроцветные доломиты, мергели, глины и алевролиты.
Антракозии — раковины моллюсков, чешуя и отпечатки древних рыб, отдельные позвонки амфибий и рептилий, окаменевшие обломки каменных стволов — вот что нашёл здесь Амалицкий. На отмели, на противоположном берегу, находили жеоды с кварцем и брахиоподы. Местных жителей из всех этих каменных зверушек интересовали только «чёртовы пальцы» — белемниты. Их растирали, а образовавшийся порошок прикладывали к ранам.
(Спустя четверть века в Опоках побывают с экспедицией ученик Ефремова Пётр Константинович Чудинов и сын писателя Аллан.[71])
В утреннем тумане прошли на лодке устье Юга. Корабль экспедиции был невелик, в нём умещались лишь гребец, рулевой и поклажа: походный сундучок, вещмешок и ящик с инструментами.
Когда туман рассеялся, остановились на перекур. Как бы невзначай завёл Иван разговор о раскопках Амалицкого — оказалось, весь край знал о работах в Соколках, которые длились полтора десятка лет. Крестьяне, нанятые профессором, сначала сочли, что он из костей будет добывать золото, затем решили, что профессор хочет оживить древних чудовищ. Потом, когда в окрестных деревнях начал болеть скот, профессора обвинили в сношении с нечистой силой. Только вмешательство велико-устюжского епископа Гавриила спасло Амалицкого. Епископ не только с интересом осмотрел раскопки, но и благословил их. Пришлось крестьянам снять подозрение с профессора. Позднее рабочие вошли во вкус и радовались, как дети, когда им удавалось находить бугристые, шишкастые черепа парейазавров, которых они для простоты окрестили «назарками».
Хозяин лодки поведал Ивану, что сейчас раскоп заброшен, оплыл и смотреть там не на что.
Воды Лузы текли навстречу гребцу, напрягающемуся на стремнинах излучин. Иван, сидя на корме с широким рулевым веслом, внимательно вглядывался в обрывы, оголённые оползнями. Периодически менялись местами, и тогда Ивану приходилось попотеть. Наиболее интересное обнажение возле деревни Чёрный Бор (Ключи) оказалось недоступным для изучения — вода от дождей поднялась высоко и залила пласт, который мог бы быть костеносным.
Срок командировки подходил к концу. Надо было успеть заглянуть ещё в одно место — в известняковый карьер под Вяткой. Миновав городок с нежным названием Лальск, Ефремов доплыл до села Кулига, где Луза круто меняла направление, добрался на телеге до железнодорожной станции. Поезд шёл на юго-восток, пробиваясь через макушку Увалов, где истоки нескольких рек. Побродить бы здесь…
После одиноких, затерянных в лесах полустанков Вятка показалась Ивану крупным городом. Но отдыхать было некогда. Требовалось выполнить поручение Петра Петровича Сушкина.
В начале 1920-х годов сотрудники Слободского краеведческого музея прислали в Петроград, в Геологический музей, несколько образцов известняка с отпечатками различных ископаемых остатков. Карьер на правом берегу реки Вятки, возле сёл Шихово и Чирки, был описан ещё в 1879 году, но Сушкин после изучения образцов пришёл к выводу, что требуется детальное палеонтологическое исследование карьера.
Добывали в карьере известняк — не для постройки зданий, а для получения извести. Рабочие досконально изучили различные слои известняка — их больше полутора десятков, — дав им свои названия: белякова корка, плитняшка, синяя булыга, серяк, корка синей булыги, красноплитка, подбулышка, булыч. Внизу, на берегу Вятки, известняк разбирали по сортам, дробили и обжигали. Работали дедовскими методами. Рядом с мужчинами трудились и женщины. По дну карьера были проложены рельсы, платформу нагружали камнем, к реке ещё тащила по рельсам уставшая лошадь.
Иван, осмотрев карьер Шихово-Чирки свежим взглядом, сумел дать мужикам несколько дельных советов, чем заслужил их уважение. В ответ они показали ему, в каких слоях чаще всего встречаются остатки ракушек, отпечатки растений и чешуи древних рыб, остатки лабиринтодонтов. Описав слои и собрав 650 килограммов образцов, Иван вернулся в Ленинград.
Во второй половине лета Иван в сопровождении препаратора Ф. М. Кузьмина вновь отправился на Богдо, где он сделал стратиграфические наблюдения. Здесь ему повезло: он нашёл челюсть крупного лабиринтодонта-капитозавра и ряд отдельных костей амфибий.
В этот раз поселились в посёлке Кордон, обследовали и сфотографировали Богдо со всех сторон. Иван увлёкся съёмкой панорам из двух-трёх кадров и чрезвычайно обрадовался при проявке плёнки, когда выяснилось, что контуры горы совпали.
Экспедиционная жизнь словно испытывала организм на прочность: с прохладного севера — в прокалённые солнцем Астраханские степи.
Здесь Иван часто думал о Петре Петровиче, беспокоился о его здоровье. Спустя десятилетия Ефремов характеризовал свои отношения с Сушкиным как подлинные отношения Учителя и ученика.
Обострившаяся болезнь заставила Петра Петровича поехать в Кисловодск, в санаторий. Лёгкие Сушкина были не в порядке ещё со времён работы на организованной русскими учёными морской биологической станции в бухте Вильфранш на Лазурном Берегу: уж очень он надышался тогда, в 1900 году, формалином. Сердце было ослаблено. Чистый воздух гор уже давал свои благотворные результаты, но в начале осени с ледяных полей Эльбруса подул студёный ветер, который вызвал воспаление лёгких, и 17 сентября 1928 года Сушкин умер.
Елена Владимировна Козлова, ученица Сушкина в орнитологии, вспоминала: «Счастье общения с Петром Петровичем было очень велико, но слишком кратковременно… <…> Потом всё сразу оборвалось, и мы остались одни. Почва ушла из-под ног. Ничего не хотелось делать, потому что не с кем было поделиться. Всякому начинающему, да и не только начинающему, нужны доброжелательный отклик, критика, совет».[72]
Горе Ивана было велико. Опереться не на кого. Но двадцатилетний препаратор, у которого не было более близкого человека, чем Учитель, не позволил себе уныния. Лучшая память об учёном — это продолжение его дела. С удвоенной силой Иван принялся за исследования: закончил обработку черепа и скелета лабиринтодонта-бентозуха, назвав его в честь Сушкина, и уже в 1929 году опубликовал несколько описательных палеонтологических статей по наземным позвоночным.
В 1929 году пришли известия о смерти отца и Василия Александровича Давыдова, школьного учителя математики, который первым поддержал Ивана в его стремлении к науке…
Быстро происходило духовное возмужание Ефремова, утверждалось его самостояние. Через пару лет он уже не будет искать поддержки в других, но сам труднейшими маршрутами поведёт за собой людей.
Глава четвёртая ЛЕНИНГРАД (1929–1935)
Ты должен приучиться смотреть в бездонные глубины!
Ж. Верн. Путешествие к центру ЗемлиСтранствия — лучшее занятие в мире.
Когда бродишь — растёшь, растёшь стремительно, и всё, что видел, откладывается даже на внешности.
Людей, которые много ездили, я узнаю сразу из тысячи. Скитания очищают, переплетают встречи, века, книги и любовь. Они роднят нас с небом.
Если мы получили ещё недоказанное счастье родиться, то надо хотя бы увидеть землю.
К. Г. Паустовский. РомантикиДинозавровый горизонт Средней Азии
Часы шли за часами, а за окном словно висел, замерев, один и тот же пейзаж: ровное, плоское красное пространство, далеко, на самом горизонте, отмеченное растворёнными в мареве силуэтами пологих останцев. Иван знал, что утром он увидит из окна вагона не пустыню, а степь, выжженную лучами летнего солнца. Ещё сутки — и раскинутся поля, зашумят леса… Далеко на севере, за нитями параллелей, кристаллом на ленте Невы — Ленинград.
Но поезд тянется медленно, подолгу стоит на редких станциях, украшенных старыми ветвистыми деревьями, указывающими на близость воды. «Зачем спешить? Один шайтан торопится», — говорят на Востоке. Время в пути — данность, его нельзя подхлестнуть, ускорить. Как бы ни рвалась твоя душа вперёд, поезда ты не обгонишь. Значит, надо прожить жизнь полно, насытить осмыслением прожитого и увиденного.
Попутчики, как и прежде, пили чай, заваренный прямо в пузатом железном чайнике, разливая его в расписанные белыми завитками глиняные и фаянсовые пиалы, но разговаривали теперь негромко, с уважением посматривая на Ивана, который что-то сосредоточенно помечал в записной книжке с клеёнчатой обложкой.
Иван обдумывал события, которые — он отчётливо понимал это — повернут жизни миллионов людей.
Последние годы геологами страны велась последовательная, кропотливая работа по сбору и обобщению данных о полезных ископаемых, исследовались территории республик СССР, открывались новые месторождения. Геологи, строители, экономисты, партийные работники планировали новое, небывалое. В недрах нэпа вызревала идея пятилетнего плана — принципиально новая идея планирования индустриального развития страны. Природные богатства должны были послужить базой для необычайного рывка в новое время.
Остеологический отдел, где Иван теперь числился научным сотрудником 2-го разряда, считался подразделением Геологического музея. Иван близко общался с ведущими геологами страны, которые привозили новые образцы минералов, выступали с докладами и лекциями. Он знал, что осенью 1925 года неутомимый Ферсман отправился с товарищами на верблюдах в страшные, неисследованные Каракумы, чтобы разведать серные богатства пустыни, а затем дерзко снарядил туда автомобили. С этого момента разведка природных богатств Средней Азии ускорилась. Данные по всем республикам стекались в один центр, гидрологи намечали места возможного строительства каналов, которые понесут воду на поля, и электростанций, которые дадут энергию заводам и фабрикам. В тщательном, методичном труде вызревал ритм будущих строек. Редкий случай, когда производственные интересы страны совпадали с интересами науки.
1 октября 1928 года — дата начала первой пятилетки. Но в октябре большинство населения ещё не знало об этом крупнейшем событии. Только в апреле 1929 года, на очередной конференции ВКП(б), план будет представлен к обсуждению, а съезд Советов с энтузиазмом утвердит его. Мыслилось: промышленный переворот — вот то, ради чего свершилась революция. Пришло время посвятить все силы самоотверженной работе на благо народа!
Иван узнал о решении съезда из газет уже в Средней Азии, понимая, что его поездка — необходимая составляющая разумного, научного освоения природных богатств. Отдельные отряды геологов собрали сведения о находках костей динозавров в северных предгорьях Тянь-Шаня. Местонахождения могли быть повреждены при строительстве каналов, попасть в зону затопления при сооружении гидроэлектростанций. Следовало изучить уже открытые скопления костей, сделать вывод об их научной ценности.
В 1927 году в Средней Азии уже побывали Е. И. Беляева и М. Г. Прохоров, с которыми Иван близко познакомился в Тургайской экспедиции. Их Илийская экспедиция по раскопкам позвоночных работала в Джетысуйской губернии Казахской АССР. Беляева и Прохоров исследовали Карачекинское местонахождение, открытое в 1926 году горным инженером Кириковым, и Кал канское местонахождение, обнаруженное в 1925 году горным инженером В. Г. Мухиным. Главные находки тогда были сделаны в Джаркитском уезде, в логу Джар-Салык, на юго-западной оконечности Киш-Кал канских гор.
Однако огромные территории Средней Азии оставались малоисследованными. Много дорог предстояло учёным. Исполнилась ещё одна детская мечта Ивана — побывать в местах экспедиций Пржевальского. 23 апреля 1929 года лёгкий на подъём палеонтолог отправился в путь. Надо было торопиться, пока в Джеты-Су, с киргизского языка переводящееся как «Семь Вод», Семиречье, не пришла летняя жара…
Бирюзовым куполом висело над Фрунзе[73] утреннее небо. Восточный край его золотился, нежной пеной на лёгкой воде казалась тонкая гряда облаков. На юге прямо из долины вырастали горы, уходившие снежными вершинами в самое небо. Там тянутся ввысь острые пики тянь-шаньских елей, заостряются кончики готовых раскрыться тюльпанов. Бурные холодные реки сбегают в долину, где цветут сады и зеленеют поля. А на севере, где теряется в песках говорливая Чу, раскинулась пустыня. В её недрах геологи находят урочища: из песка и гальки там торчат огромные кости, покрытые чёрным пустынным загаром.
Из Фрунзе, куда ему ещё предстояло вернуться, Иван добрался до Алма- А ты, которая была ещё ближе к горам: белые хребты словно вырастали из синеватого тумана.
Из Алма- А ты — в посёлок Илийский, в долину реки Или. Сбегая с заснеженных хребтов, она неслась в Балхаш по широкой межгорной впадине, где удобно было в будущем построить гидроэлектростанцию. Развалины древних строений, курганы-усыпальницы сакских царей и земляные насыпи в долине говорили о том, что когда-то в этих местах кипела бурная жизнь. По дорогам проходили караваны, везущие из Китая шёлк и пряности. Потом всё замерло на несколько столетий, только казахи кочевали вдоль реки и время от времени сражались с джунгарами.
Эта долина стала местом действия рассказа Ефремова «Обсерватория Нур-и-Дешт»: «Девять холмиков теснились на краю бесконечной, постепенно понижающейся к югу равнины, а с запада, справа, почти у самого горизонта, виднелась иззубренная полоса далёких снеговых гор. В той же стороне равнину пересекала узенькая, отливающая сталью извилистая лента; сбегавшая с гор речушка огибала холм обсерватории и, отклоняясь на восток, терялась в песках. Вокруг обсерватории, внизу, расстилалась жёлтая степь, испятнанная кустиками серебристой полыни и голубых колючек. Дальше, к северу, степь очерчивалась по краю песков тёмной лентой саксаульника.
Покой, простор, чистый горный воздух, синева тяжёлого зноя над головой…»
В низовьях Или Иван нашёл грядообразные нагромождения костей. Палеонтолог не обнаружил целых или хотя бы частично сохранившихся скелетов; хаотичные нагромождения обломков поражали воображение. Как очутились в одном месте столь разные кости, к тому же в таком количестве? Палеонтология в одиночку не могла ответить на этот вопрос. Требовалось тонкое понимание геологических процессов.
Иван так задумался, что вздрогнул от неожиданности, когда перед ним предстал полутораметровый древний ящер — настоящий допотопный зверь. Наваждение не развеялось, а прытко побежало на мощных низких лапах и скрылось за ближайшим холмом. Только тут Иван догадался, что это был «пустынный крокодил» — варан.
Затем путь под знойным солнцем: горы Аркарлы — горы Карачеку — Алтын-Эмель — Баш-Чий — горы Калкан.
Настоящим открытием для Ефремова стало местонахождение Карачеку близ глинистых берегов Или. В широкой долине сухого лога разбросаны кости динозавров. Чёрные склоны долины сложены породами, богатыми железом. Кости динозавров блестят от пропитавшего их железа. На склонах почти нет растительности, а редкие маки, способные быть индикаторами присутствия железа, тоже выглядят чёрными, словно диковинные цветы иной планеты.
Выцветающее небо, ровная степь, поросшая ковылём и колючками. На горизонте огромной синей тюбетейкой лежит Калкан. Иногда встречались тополя, порой попадались диковинные ивы полутысячелетнего и более возраста — дерево разрастается огромной купой, боковые ветви склоняются к земле и пускают корни, которые омывает узенький арык. Под этими ивами отдыхали не только многие поколения кочевников, но, возможно, и сам Тимур-Тамерлан. И жители словно понимали заповедность этих величественных деревьев, берегли их от топора.
В 250 километрах на северо-восток от Алма- А ты находятся две невысокие горные гряды — Малые и Большие Калканы (по-казахски Киши-Калкан и Ульген-Калкан). Человек уничтожил лес на этих горах, и теперь они стремительно превращаются в пустыню. Лишённые защиты почвы горные породы разрушаются. Рядом небольшой меловой хребет, изрезанный ручьями, со степной растительностью. В крутых склонах находят слоистые белые камни с отпечатками древних растений, кости давно исчезнувших на этой части суши животных. Миллионы лет назад здесь жили гигантские свиньи и носороги. Ивана, однако, интересовали ещё более ранние обитатели Земли — динозавры.
Калканские горы поразили Ивана своим густо-бордовым цветом. Выветривание создало здесь удивительный мир — скалы необычайных очертаний, с отверстиями, просверленными песком, завораживали. Местами горы состояли из множества куполов, как бы растущих друг из друга, при этом каждый купол имел свой оттенок — от светлого, почти белого, до жёлтого, коричневого, красного или фиолетового.
На юго-западе видно было, как над долиной парят, словно оторвавшись от земли, снеговые вершины Джунгарского Алатау. Белые сыпучие горы Актау, изборождённые исчезнувшими потоками, огромные уступы — чинки, обрывающиеся вертикально на десятки метров, высохшие русла рек, отмеченные крутыми берегами и змеящимися линиями глины. Поющий бархан, сложенный из миллиардов белых песчинок, при ветре издающих странный свистящий звук. Иван влезал на крутые склоны по породе, осыпающейся под ногами, и не уставал удивляться разнообразию и богатству форм и цветовых оттенков, рождённых природой Земли.
Дальнейший путь лежал через долину реки Конур-Улен и Койбынское ущелье, по реке Борохудзир на Джаркент.
Койбынское ущелье пролегает между Тигровыми горами, почти лишёнными растительности, названными так за свой удивительный даже в Джунгарии цвет. Сложенные жёлто-коричневыми глинами Праилийского моря, ныне причудливо размытыми, с полосами беловатых разводов, они создают впечатление складок тигровой шкуры, кинутой на землю.
Река Борохудзир поражает контрастом: после зноя и пустынных просторов Калкана зелень и свежий полынный ветер бодрят душу. Из травяного малахита склонов вдруг встают красные, оплывшие сверху столбы — к ним и устремлялся Иван в поисках ископаемых костей.
Долгий путь настраивал на неспешные размышления. Иван вспоминал виденные в разных частях Семиречья гряды холмов, под ярким полуденным солнцем на гладкой гальке долин Иван замечал огромные тёмные кости. Поверхность их, покрытая, словно полировкой, пустынным загаром, блестела. Останки динозавров виднелись повсюду: торчали в песчанике обрывов, выглядывали из бугорков, сложенных из крупной, плотной, словно спрессованной гальки. Так вот откуда берутся сказки о драконах! Встречая такие кладбища, кочевники, конечно, рассказывали о них другим племенам, широко пошла народная молва, а воображение рисовало красочные сцены сражений богатырей и чудовищ.
Мощность костеносного слоя достигала порой восьми метров. В ширину гряды занимали несколько сотен метров, а в длину тянулись порой на десятки километров. Миллионы тонн костей залегали здесь. Однако для коллекции Иван взял всего несколько кусков. Пропитанные кремнием и железом, они оказались необычайно тяжёлыми и плотными.
Ивану ясно представилось, что местонахождения, которые он посетил, — разрозненные ныне части единой прежде структуры.
Сухие ветки саксаула горели бездымно и жарко. Ночью, когда угли костра потухали, а в космической дали ярко вспыхивали искры звёзд, на холодной земле Иван ощущал себя словно в глубинах времени. Отчётливо представлялись ему картины геологического прошлого Средней Азии: здесь, где он сидит, в незапамятные времена плескались морские волны. Затем «мощные горообразующие процессы всколыхнули огромными цепями и гирляндами гор весь Азиатский материк и в конце каменноугольного периода окружили мощные массивы Сибирского и Российского щитов складками горных хребтов. Тогда создался Урал, связавшийся через Киргизские степи с Алтаем, а из глубин древнего моря потянулись складки древних цепей Тянь-Шаня и Алтая, кое-где опоясываемые древними рядами вулканов <…> а под поверхностью хребтов бурлили расплавленные массы, приносившие наверх пары металлов. Море ушло, и его место заняла суша, до наших дней не заливавшаяся водами океанов в восточных частях страны. Десятки, сотни миллионов лет тянулось это время. Разрушались горные цепи. Воды смывали и намывали пески, галечники. В одних местах в отдельных озерках и болотцах накапливались угли из тропической растительности, в других отлагались соль и гипс из соляных озёр пустыни. Климат периодически менялся. Горячие сухие периоды сменялись жаркими, но дождливыми периодами, длящимися тысячелетия. Страна заравнивалась, а по долинам и низинам откладывались тысячеметровые осадки, скрывая древние хребты под покровом песка и глины. Море сменилось горами, горы сменились пустыней, ещё более бесплодной и безводной, чем сейчас.
Но вот снова заволновался Туркестан. Громадные подземные волны стали нажимать на поверхность земли Европы и Азии. Ожили каменные массы. Снова из глубин вод, из горных песков стали вырастать горные цепи. Земля стала ломаться, появились громадные трещины. Одни глыбы земли начали опускаться, другие — подниматься, и снова из земли выросли горы: теперь это были знакомые нам хребты. Тогда наш Копет-Даг, как по линейке отрезанный с севера такими трещинами, стал подниматься из глубин. Колоссальные хребты Памира, Алая и Тянь-Шаня поднялись выше снеговой линии. С них потекли мощные реки Аму- и Сыр-Дарья, а на западе морские волны несколько раз набегали, заливая низины, осаждая ракушки и снова убегая на запад».[74]
Возможно, именно волны этого, последнего моря перемыли кости ископаемых животных, останки которых миллионы лет откладывались в мелких, спокойных потоках, накапливались в тёплых озёрах и болотах. Образовались целые «поля смерти», гигантские кладбища динозавров. А может быть, гибель динозавров была массовой? Сейчас мы имеем дело лишь с остаточными местонахождениями, размытыми в третичное время.
Много лет пройдёт, а загадка динозаврового горизонта Средней Азии будет тревожить Ефремова.[75] Переживания и мысли учёного обретут художественное воплощение в рассказах «Тень минувшего» и «Звёздные корабли».
Джаркент, основанный генералом А. Н. Куропаткиным на месте уйгурского поселения, как и Алма-Ата, поражал сочетанием несовместимого: казачьи домики с раскрашенными ставнями, резными наличниками и воротами — на фоне парящих гор, за которыми — Китай. Великий шёлковый путь здесь отмечен Дунганской мечетью, деревянный минарет которой трудно признать за минарет — деревянная, нарядно раскрашенная пагода с двумя шестиугольными кровлями, по-китайски загнутыми вверх.
В Джаркенте — возможность передохнуть, сходить на почту и узнать свежие новости. До Китая — меньше 30 километров. Но кто проведёт границу по этим пустынным горам?
Из Джаркента началась южная часть кольцевого маршрута, который привёл Ефремова в исходную точку: Таш-Кара-Су — предгорья Бага-Богуты — Чунджа — Киргиз-Сай — северные склоны Кетменского хребта близ Чулек-Аксу и Ак-Тама — заезд к Такыр-Ачинохо — Киргиз-Сай — Темерлик — горы Куулук — Каркаринская долина — Талды-Булак — хребет Сары-Джас — Талды-Булак — перевал Кызыл-Кия — река Джергалан — река Каракол — район Джеты-Огуз — Каракол — Тюн — Уй-Тал — Сазоновка — Чоктал — Рыбачье — Кок-Майнак (Буатское ущелье) — Джиль-Арык — Токмак — Фрунзе.
Тщательно исследовал Иван долины Кетменского хребта, что протянулся в широтном направлении на восток от Иссык-Куля.
В рассказе «Белый рог» действие происходит именно в предгорьях Кетменя. Ефремов глазами геолога Усольцева так показал эти места: «Долина быстро раскрылась перед ним; иноходец вышел на простор. Ровный уступ предгорий в несколько километров ширины круто спускался в бесконечную степь, затянутую дымкой пыли и клубящимися струями нагретого воздуха. Там, далеко, за жёлто-серой полосой горизонта, лежала долина реки Или. Большая быстрая речка несла из Китая свою кофейную воду в зарослях колючей джидды и цветущих ирисов. Здесь, в этом степном царстве покоя, не было воды. Ветер, сухой и горячий, шелестел тонкими стеблями чия».
Восточная часть Кетменя расположена на территории Китая.
Однажды с Иваном случилась неприятная история. В одном из селений он зашёл во двор, чтобы спросить воды. Двор был пуст. Иван оглядывался, не зная, что за чужаком внимательно следят недобрые глаза. Лёгкий шорох выдал нападавшего, вилы, направленные Ефремову в спину, отклонились вниз. Резкая боль под коленкой: один зубец вошёл в кожу, задев вену. Ударом кулака уложив противника, Иван поспешил покинуть негостеприимный двор. Проводник качал головой: не надо было ходить туда. Там контрабандисты живут, нехорошие люди, опиум возят. Глубокая колотая рана долго тревожила Ефремова.
Всё выше и выше в горы вела дорога. Вот уже снежные вершины не сияют вдали — они вплотную обступили Ивана. В пропастях, кажущихся бездонными, текут бурлящие реки. На крутых подъёмах он вёл лошадь в поводу, и в памяти возникали строки из «Путешествия к центру Земли» Жюля Верна: чтобы спуститься в кратер вулкана, надо было сначала подняться на колокольню, преодолев страх, а после подняться ещё раз — на склон вулкана.
Слава и гордость Киргизии — Иссык-Куль. Иван стремился обязательно увидеть это дивное тёплое озеро, на берегу которого, в Караколе, завещал похоронить себя кумир его детства — Николай Михайлович Пржевальский. Ему удалось сделать величайшие открытия — благодаря устремлённости к цели и широте интересов (география, ботаника, минералогия, зоология, орнитология). В 1860 году, во время учёбы в Академии Генерального штаба, Николай Михайлович выступил с докладом «О сущности жизни на Земле» (опубликован в 1967 году), в котором высказывал свои суждения в пользу эволюционной теории. Сущность жизни — как раз то, что более всего будет занимать ум Ефремова.
В юности Николай Михайлович, как и — спустя десятилетия — Иван, мечтал об Африке, но судьба привела его в Центральную Азию. Судьба Ефремова отныне также неразрывно связана с Азией.
Николай Михайлович бы прославлен ещё и тем, что во всех его сложнейших маршрутах не погиб и серьёзно не пострадал ни один человек. За три года работы в труднодоступных районах Монголии под руководством Ефремова не будет ни тяжёлых травм, ни человеческих потерь.
Иван жадно всматривался в профиль Пржевальского, закреплённый на серой скальной глыбе, увенчанной распахнувшим крылья орлом. Этот человек, не доживший до пятидесяти лет, абсолютно равнодушный к чинам и наградам, успел совершить так много… Что двигало им, заставляя вновь и вновь отправляться в опасные, никому не знакомые области? Последней мечтой Николая Михайловича было путешествие в Лхасу, столицу высокогорного Тибета, духовный центр буддизма. Именно туда направлялся он, когда смерть встала на его пути. Великий путешественник завещал похоронить себя на берегу Иссык-Куля…
За несколько дней Ефремов исследовал бесчисленное количество крутых склонов вдоль речушек, что стекают в Иссык-Куль с хребта Терскей-Алатау, опоясывающего озеро с юга. Голубая жемчужина в обрамлении белых вершин, память до конца жизни сохранит в сознании твои блистающие закаты.
В отчёте Ефремов написал: «С прибытием 22/VI во Фрунзе маршрут был окончен. Все осмотренные напластования красноцветных толщ не содержат фауны позвоночных. В известных местонахождениях динозавров в этих толщах (урочища Карой, Карачеку, Калкан, Кок-Майнак и др.) кости залегают в нижних частях свиты Trt в виде разрозненных, изломанных и окаменелых фрагментов, мало пригодных для изучения. Образование этих местонахождений, по-видимому, автохтонное и совершенно отличное в фациальном отношении от монгольских находок Эндрьюса и западнокитайских Свен Гедина.
Ввиду того, что на всём протяжении маршрута не было обнаружено соответствующих фаций, можно считать, что вопрос о нахождении цельных скелетов динозавров, по крайней мере в пределах маршрута, разрешён в отрицательном смысле».[76]
За два месяца Иван преодолел свыше 1300 километров по грунтовым дорогам и 800 километров без дорог, верхом и пешком. 22 июня маршрут был закончен.
Возможно, именно из Фрунзе Иван отправил письмо Александре Паулиновне Гартман-Вейнберг, которая была в то время его непосредственным руководителем. Письмо это не сохранилось. Сама Гартман-Вейнберг 28 июня 1929 года писала А. А. Борисяку: «От И. А. Ефремова я недавно получила тревожное, непохожее на его обычные, письмо. Если он не свалился, так как писал о ряде болезненных явлений, то трудности работы и некоторая неудача весьма полезны в его возрасте, шлифуют душу и характер».[77]
Мы можем только догадываться, что путешествие нелегко далось 22-летнему исследователю.
В семье Ефремова существует легенда, что Иван Антонович подхватил странную, периодически повторяющуюся лихорадку, которая мучила его много лет, именно в экспедиции по Семиречью и Джунгарии.
H. М. Пржевальский, выпив речной воды, заразился брюшным тифом и умер. Может быть, именно история его смерти повлияла на создание легенды о возникновении болезни Ефремова. Однако известно, что путешествие 1929 года закончилось 22 июня, а в Ленинград Ефремов прибыл 15 июля. Мы не имеем данных о том, как прошли эти три недели, но письмо Гартман-Вейнберг наталкивает на мысль, что именно во Фрунзе Иван Антонович впервые заболел этой самой лихорадкой.
Столица Киргизии притягивала Ивана незнакомыми прежде ощущениями: «Шумящие арыки, стройные тополя, лёгкая сухая пыль… свист ветра по жёсткой траве, слепящий солнечный свет, тёплые сухие ночи, тёплый сухой, чуть горьковатый воздух — хорошо!»[78]
Во Фрунзе молодой искатель испытал необыкновенную лирическую встречу, которая потом отразилась в рассказе «Тень Минувшего». В нём Ефремов будто заново любуется обликом загадочной и притягательной Мириам: «Прямо перед ним выскользнула из тени аллеи, легко перескочила арык и пошла по дороге девушка в белом платье. Голые загорелые ноги почти сливались с почвой, и от этого казалось, что девушка плывёт по воздуху, не касаясь земли. Толстые чёрные косы, резко выделяясь на белой материи, тяжело лежали на её спине и спускались до бёдер своими распушившимися концами».
…Лето приближалось к макушке, и поезд нёс Ивана на север, к прохладе великих рек и новым открытиям.
Медное поле Каргалы
С отчётом приходилось спешить. Впереди ждала новая экспедиция, в задачах которой переплетались интересы палеонтологии и промышленные потребности страны. Ивану предстояло исследовать местность, где были найдены первые на территории России кости ископаемых животных. Ещё в середине XVIII века Василий Никитич Татищев и Виллим Иванович Генин об ископаемых остатках писали как о «куриозных вещах, показывающих премудрость натуры». Татищев сообщал, что рудокопы находят «многие дивные или фигурные камения, в которых закаменелые рыбы, черви, листья от деревьев или травы, раковины и прочая видимы».
И вот уже Иван идёт по степной дороге от Уранбаша к хутору Горный.[79] Далеко впереди — шлейф пыли. Это телега, что везёт к хутору снаряжение экспедиции, на ней едут коллектор[80] и рабочий. Иван решил пройтись пешком, чтобы оглядеться на той земле, из которой русские рудокопы извлекали «куриозные вещи».
Дорога вела вдоль поймы речки Каргалки, празднично-зелёной, украшенной белыми соцветиями таволги. Развесистые вётлы с тёмно-серой, в глубоких продольных трещинах корой росли у воды, узкие серебристые листья тихонько покачивались над быстрым потоком. Слева встал десятиметровый обрыв, крупные угловатые глыбы грозили упасть на дорогу. Затем берег начал выполаживаться, и вскоре он поднимался вверх плавным увалом. Нежно волновались под ветром ещё зелёные, нераспушившиеся ковыли, розовыми шарами готовилось зацвести перекати-поле. В полугоре почти из-под ног Ивана взлетела крупная птица, затрепетала пёстрыми крыльями, тонкий необычный свист доносился до слуха даже тогда, когда птица была уже далеко. Ефремов успел заметить чёрную шею с белым галстучком, по которому сразу узнал стрепета. Вспомнился Пётр Петрович. Иван ясно ощущал, что вера учителя в него, совсем ещё юного учёного, поддерживает его и сейчас, когда надо найти ответ на сложный, ещё никем не решённый вопрос.
Вот и вершина плато — по-здешнему «сырта». Здесь, верстах в семидесяти на северо-запад от Оренбурга, располагаются значительные по степным меркам высоты — до 300 метров над уровнем моря. По ним проходит водораздел между реками, текущими в Урал, и бассейном Волги. Сырты по краям словно надрезаны логами — широкими оврагами, в верховьях которых растут колки — весёлые и светлые берёзовые рощицы. В низинах, поближе к воде, стоят небольшие хутора — белые домики издалека кажутся особенно приветливыми.
Добрый друг — степной ветер — дул прямо в лицо. Небо и земля сливались на горизонте. Пространство, не ограниченное видимыми преградами, превращалось в простор.
Когда взгляд насытился зрелищем неоглядных далей, Иван стал внимательнее разглядывать сырт — и сразу понял, почему возница назвал эти земли порчеными. Из окна вагона Иван видел, что почти всё Оренбуржье распахано, покрыто полями. Здесь полей не было, да и трудно было что-то сеять на земле, покрытой бугорками и буграми, ямками и большими провалами — остатками древних и новых выработок, шахтами и отвалами пустой породы и бедной руды. Провалы и пригорки покрылись вишарником — так здесь называли густые заросли низкой дикой вишни с блестящими, будто глянцевыми тёмно-зелёными листочками и сладкими, терпкими, душистыми ягодами. Что-то вздрогнуло в душе юноши, когда он представил, что всё тело сырта пронизано множеством рукотворных подземных ходов, уходящих на глубину до 100 метров. С бронзового века трудились в Каргалах рудокопы, добывая зелёные и голубые камни — малахит и лазурит, из которых потом выплавляли необычайно чистую медь. Затем добыча на много столетий прервалась, чтобы начаться заново лишь в XVIII веке.
В 1740 году симбирский купец Иван Борисович Твердышев откупил земли Каргалы и быстро наладил добычу медных руд по следам так называемых чудских, или ордынских, выработок. Рудники были настолько богаты, что на каждый вложенный рубль Твердышев получал десять рублей прибыли, притом что возить руду для выплавки меди приходилось на южноуральские заводы за сотни вёрст. Выплавку меди на месте производить было невозможно: для этого использовался древесный уголь, а леса в Оренбуржье не росли. До середины XIX века земли Каргалы давали от одной пятой до четверти всей меди Российской империи. Однако к концу века добыча прекратилась: рентабельные по тем временам руды оказались исчерпанными. К тому же отмена крепостного права лишила горнозаводчиков дешёвой рабочей силы, а платить рабочим, которых они совсем недавно считали своей собственностью, владельцы рудников не желали.
Советской стране, которая готовилась к индустриальному рывку, цветные металлы были необходимы. Возможно, в недрах Каргалы таится ещё немало сокровищ. Помочь геологам могли архивные планы и карты, различные данные по рудникам, которые сохранялись в конторах почти полтора столетия. Однако все эти документы погибли во время Гражданской войны. Ивану предстояло открыть для себя и для науки неизвестную страну подземных лабиринтов, обследовать её, нанести на карту шахты, колодцы и штольни, взять образцы руд, определить, пригодно ли месторождение к дальнейшей разработке, и, конечно, отыскать в шахтах и отвалах следы жизни древнейших времён: скелеты и кости животных, отпечатки растений и целые древесные стволы.
Проходя между пёстрыми холмиками рудных отвалов, Иван вдруг увидел прямо под ногами узкий каменный колодец, прямоугольный, со скруглёнными краями, уходящий в чёрную глубину. Каменные стенки колодца были неровными — чётко различались следы ударов кайла. Туда, под многометровую толщу песчаников и мергелей, где температура не поднимается выше семи градусов, предстояло спуститься Ивану. На секунду сосущая пустота возникла в солнечном сплетении, холодок пробежал по спине, но вновь вспомнился с детства любимый образ профессора Отто Лиденброка из «Путешествия к центру Земли», который бесстрашно пустился в небывалый путь — в жерло вулкана. Так неужели же он, Иван, лишь пару месяцев назад поднимавшийся на крутые склоны Тянь-Шаня, побоится ради науки спуститься в подземный лабиринт? «Ты должен приучиться смотреть в бездонные глубины!»
К тому же это даже не жерло вулкана, а рукотворное подземелье, где до него работали тысячи рудокопов, которые спускались в шахты ежедневно на протяжении всей жизни. Трёхмерность пространства звучит, словно колокол, осознанием глубины времени. (Эту многомерность приобретут позже художественные произведения Ефремова.)
Хутор Горный, где жили рудаши — дети и внуки горных рабочих, — Иван увидел сверху. Несколько домов прятались в садах, где росли яблони, вишни, смородина и крыжовник. Выделялось несколько стройных клёнов, не характерных для этой местности. В низинке, в полосе клёнов, бежала речка Усолка, которую на родине Ивана, в Вырице, и ручьём бы назвать постыдились.
Иван спустился в хутор, когда телега с его товарищами подкатилась к дому рудашей Самодуровых.[81] Возница посоветовал остановиться у них: горница просторная, и место для снаряжения на дворе найдётся. Но Иван отказался жить в горнице, он поселился в амбаре: так он и хозяев не побеспокоит, и ему свободнее.
Большая семья Самодуровых приняла молодого учёного как родного. Правда, хуторяне жили небогато. Как-то соседка Самодуровых, Анна Егоровна Камнева, пришла к молодому инженеру подзанять ржаной муки из экспедиционных запасов. Посулила отдать более дорогой пшеничной, из нового урожая.
— Не надо белой, я ржаной хлеб люблю, — ответил Иван.
Этот ответ Анна Егоровна помнила много лет спустя.
Иван с живостью вглядывался в жизнь народа, запоминал яркие слова, приметы, желая проникнуть в то, что потом с лёгкой руки Алексея Николаевича Толстого стали называть «русский характер». В 1969 году, беседуя с оренбуржцем Вильямом Савельзоном, приехавшим в Москву, Ефремов спрашивал гостя:
«— У вас всё ещё говорят: «ничё»? Я это оренбургское «ничё» на всю жизнь запомнил. Едем как-то с возницей, лихим казачиной. Очень крутой спуск, мостик через ручей, за мостиком село. Я говорю: «Держи, дядя! Лошадь понесёт, телега раскатит — и дров, и костей наломаем!»
Посмотрел, подумал: «А, ничё!»
А какое «ничё» — лошадь помчалась, телега прыгает, прёт на неё. Чудом удержались, одним духом пролетели мостик, вышибли ворота. И встали. А хозяин уже бежит из дома с топором. Ну, конец! Подбежал, сверкнул глазами. А увидел, как нас на полуразвалившейся телеге смешно разметало, — засмеялся, бросил топор: «А, ничё!».[82]
В работе потекли дни за днями. Сбывались детские грёзы о путешествии к недрам Земли, навеянные романом Жюля Верна.
Спустя тридцать с лишним лет Ефремов вспоминал:
«В шахты я обычно спускался прямо на канате, закреплённом залом, вбитый в край воронки, образовавшейся вследствие осыпания земли вокруг устья шахты. Спуск производили коллектор и рабочий. На конце каната привязывалась палка, обычно ручка от кирки, закреплённая в большой петле. Я пролезал в петлю, усаживался на палку и, держась руками за канат, пятился назад в воронку шахты. В самой шахте нужно было всё время отталкиваться ногами от стенки шахты, так как канат полз по одной из стенок, а не был закреплён в центре над шахтой. Подъём производился в обратном порядке. В этом случае приходилось как бы идти по стенке шахты лицом вперёд, что менее неприятно. Были случаи, когда из особенно глубоких шахт мои помощники были не в силах вытащить меня обратно и извлекали только при помощи лошадей. Огромная сеть выработок под землёй нередко не могла быть обследована за один раз, и я проводил в подземных работах дни и ночи, иногда по трое суток не выходя на поверхность. Помощники мои обычно отказывались спускаться вместе со мной из страха перед обвалом, и в большинстве случаев я работал один.
Глубочайшая тишина и темнота старых заброшенных выработок имеет какое-то своеобразное очарование. Работа настолько затягивает, что не замечаешь, как бегут часы. День или ночь там высоко на поверхности — совершенно всё равно: здесь переходишь на другой счёт времени. То проходишь по высоким очистным работам, где гулко отдаются шаги и теряется слабый свет свечи, то ползёшь, еле протискиваясь, в узких сбойках, то карабкаешься по колодцам, восстающим на другой горизонт. Иной раз проходишь по широкому штреку, и вдруг тебя подталкивает каким-то инстинктом; резко останавливаешься — и вовремя: в двух-трёх шагах впереди чернеет огромная круглая дыра большой шахты, уходящей на более глубокий горизонт. Вверх в бесконечную тьму также уходит тот же колодец, и свет свечи слабо освещает отвесные стены без малейших следов давно сгнившей или вынутой крепи. В древних очистных выработках иногда натолкнёшься на высокие чёрные столбы старых крепей, уходящие вверх в темноту. Если ткнуть пальцем, палец влезает совершенно свободно, как в масло, в берёзовую или в кленовую крепь. Иногда журчат ручейки по дну водоотливных выработок, громко звенят водопады, сбегающие вниз на затопленные горизонты. Часто в потолке на стенках выработок обнажены гигантские (до двух метров в поперечнике) стволы хвойных деревьев пермского времени, окремненных и ожелезненных. Встречаются иногда пни с корнями и сучья. Большая радость встретить непосредственно в стенке выработки торчащую кость и, работая киркой в этом месте, обнаружить целое скопление крупных гладких зеленовато-синих от медных солей костей пермских пресмыкающихся. Или разбивать хорошо раскалывающуюся на плитки мергельную руду, отыскивая на зелёной поверхности её чёрные кости амфибий, скелеты рыб, отпечатки крыльев насекомых и остатки растений — все эти следы прошлого животного и растительного мира на глубине 60–80 и более метров под землёй, в глубочайшей тишине и мраке…»[83]
Проводником Ефремова по заброшенным рудникам стал потомственный штейгер Корнил Корнилович Хренов. Иван Антонович описал его в своём рассказе «Путями старых горняков» под именем Корнила Поленова, «девяностолетнего, но ещё крепкого старика, бывшего крепостного владельцев рудников графов Пашковых».
Иван Антонович рассказывал о нём: «И бодрый старик был, дрова рубил, по хозяйству работал. Выходил со мной на сырт, показывал старые шахты, следов которых уже и не осталось. Он помнил их местонахождение, глубины помнил. И я от него очень много записал. Мудрый был старик, настоящий горняк. Он к жизни вдумчиво подходил, не мелочился, видел самую глубинную суть…»[84]
Сначала старик неохотно беседовал с молодым учёным: «Я понял, что в глубине души Поленов затаил обиду на торопливых и поверхностных геологов, побывавших в районе и вместо подлинного исследования ограничившихся расспросами, вытягивая кое-какие сведения из старика путём безответных посулов». Когда же Иван завоевал прочное уважение среди местных жителей, штейгер сам начал заводить речь «о тех или иных особенностях руды, упоминая несколько новых для меня названий шахт».
К концу лета, когда у Ивана был вчерне готов план расположения рудников, Корнилыч сам решил спуститься в шахту с Иваном, чтобы показать ему самые глубокие горизонты. Поход этот описан Иваном Антоновичем в рассказе, где соединились наблюдательность учёного и художественное видение писателя. Повествование об опасном пути по подземным выработкам, который пришлось преодолеть исследователям после обвала породы, закрывшей вход в шахту, переслаивается с историей жизни горняков на излёте крепостного права. Благородство крепостных рабочих, решимость отстаивать своё достоинство и сила чувств оставляют в сердцах глубокое впечатление.
Поразил Ивана и сам Корнил Корнилыч: «Многолетняя, с детства воспитываемая практика работы под землёй выработала у Поленовых особое чутьё, про которое старик рассказывал так:
— Теперь пошли эти теодолиты, буссоли… Сорок раз вычисляй и исправляй, пока уверишься, что правильно наметил выработку. Если жилу какую-нибудь нужно проследить, куда она, родимая, ушла, начинают горную геометрию разводить, чертят, вычисляют. А вот мы — мой отец да и я — как работали? Походишь под землёй, примеришься и чувствуешь, куда подкоп вести, особенно если на сбойку со встречной или старой работой. Это чутьё горное нас никогда не обманывало. Сам небось видел, какие выработки прокладывали. У меня-то его меньше осталось — с буссолью заставляли работать, — но и то иной раз знаю: врёт инструмент; ошибки найти не могу, а знаю — врёт. Походишь, породу пощупаешь, куда прожилки направлены, куда зерно укрупняется. Начнёшь раздумывать, и такая уверенность придёт, что прямо приказываю: бей квар-шлагом сюда вот! И всегда правильно угадывал, а почему — сам объяснить не могу. <…> Так же точно и воду чувствую под землёй, где к водяному слою ближе, где под песчаником вап лежит. Много чего знаю…»
Не просто наблюдательность, но и своеобразную духовную остроту ощутил Ефремов в старом штейгере и других рудашах. Понял он, что ему посчастливилось встретиться с людьми, являющимися носителями глубинной, сокровенной культуры, которая стремительно уходит из современной жизни, понял её самобытность, ценность — и невосполнимость. Недаром на первой странице своей фундаментальной работы «Фауна медистых песчаников» (1954) он написал: «Посвящается безымянным горнорабочим старых медных рудников Западного Приуралья — первым открывателям фауны медистых песчаников».
К началу осени перед Ефремовым лежала карта рудников, масштабы которых поражали воображение. Линза распространения медной руды, вытянутая с северо-запада на юго-восток, занимала 500 квадратных километров. Ивану удалось обнаружить и нанести на карту местоположение нескольких старых шахт и рудников, которые упоминались в связи с находками ископаемых костей. И хотя принципиально новых находок сделать не удалось, Иван осознавал, что карта и описания рудников ценны сами по себе — как историко-культурный феномен.[85]
Жизнь Ефремова в Горном казалась спокойной и размеренной: спуски в шахты, вычерчивание схем, беседы со старыми рудознатцами. Однако в душе и уме его шла серьёзная работа. В Средней Азии Иван мощно ощутил величие геологических преобразований, бездонную глубину геологического времени. Здесь, в тишине Каргалинских рудников, в постоянном ощущении опасности, в безусловной, физически ощутимой близости к недрам Земли, ткань времени стала утоньчаться, делаться всё более прозрачной. Вот первая её складка — его собственная жизнь, в которой всего 21 год. Вторая складка — жизнь штейгера Хренова, в пять раз длиннее его собственной жизни. Ему, сейчас девяностолетнему, было меньше, чем Ивану сейчас, когда он помогал своему другу бежать от хищника-управляющего. И всего за 100 лет до рождения Корнилыча Каргалинские рудники возобновили свою работу после двух тысячелетий забвения.
Двадцать — двести — две тысячи… Когда Иван проползал по гладким наклонным ходам доисторических времён, ему казалось, что жители бронзового века где-то совсем рядом. Такими близкими представлялись два тысячелетия на фоне 250 миллионов лет, когда образовывались медистые песчаники, когда водные потоки несли с высоких Уральских гор рудные растворы, замедлялись и осаждали их в низинах, где обитали хищные диноцефалы,[86] растительноядные венюковии и горгонопсии.
Время расслаивалось, но не разрывалось, всё яснее вырисовывалась кровная связь человека с глубинами Земли — и с космосом, частью которого является наша планета. В Каргалинских рудниках вызревали не только темы будущих научных работ палеонтолога Ефремова, но укреплялись основы мировоззрения, благодаря которым исследователи творчества Ефремова отнесут его к плеяде русских космистов.
Палеозоологический институт
Осень для геологов и палеонтологов — время новостей. Возвращаются из экспедиций друзья и коллеги, всем хочется поделиться находками. Да и в музее всего накопилось довольно.
Одной из таких новостей для Ивана стало получение письма из Германии от Отто Пратье. Имя этого геолога-тектониста называлось в череде самых выдающихся учёных немецкой школы. Иван догадался, что пришёл ответ на рукопись, посланную им в журнал Geologische Rundschau. Написать туда он решил после того, как познакомился с основами геологии и общей истории лика Земли, в частности, с теорией рельефа океанических впадин. Тектонисты полагали, что тектонические впадины — это ровные подводные долины с равномерным слоем осадков. Вспоминая мели и течения Азовского, Охотского и Каспийского морей, сопоставляя прочитанное с собственным опытом морехода и лоцмана, Иван пришёл к выводу, что океанские впадины должны иметь сложный рельеф и свою геологическую историю. Подводные хребты на дне впадин не могут быть покрыты слоем осадков, которые должны будут скапливаться в низинах, значит, хребты доступны изучению. (Да, то, что сейчас кажется очевидным, приходилось доказывать!)
С волнением разворачивал Ефремов письмо от именитого учёного.[87] Призвав на помощь знание немецкого (спасибо школе!), Иван читал обескураживающий ответ. Пратье писал, что взгляды Ефремова — домыслы и невежество дилетанта, а дно океана ровное и покрыто сплошным толстым слоем осадков. Глубокое возмущение наполнило душу молодого учёного. Письмо не поколебало его уверенности в собственных взглядах, но дало ему пример косности в науке.
В 1929 году по всей стране геологи вели съёмку местности. К работе были подключены и студенты. Студент Носов, работавший на Волге, в Татарии, обнаружил в одном из ничем не примечательных оврагов крупные кости. Правда, кости рассыпались при попытке взять их, но в отчёте студент упомянул об этой находке, возраст которой определили как верхнюю пермь. С ней на много лет свяжет свою судьбу палеонтолог Ефремов, но будет это позже. А пока верх берёт геология.
Работая над отчётом по Каргалинским рудникам, Иван ощутил необходимость шире взглянуть на вопрос добычи медной руды в Приуралье, его интересовали другие известные рудники к северу от Каргалы, вопрос образования медистых песчаников. Для определения перспектив разработки меднорудных месторождений следовало расширить район поисков.
Археологи, раскапывая древнее городище, описывают каждую найденную бусину. Кажется, что это необычайно скучно. Но наука начинается с внимания к любой, порой малозаметной, детали. Такими бусинами для палеонтолога становятся даже самые мелкие находки.
Перед Ефремовым возникла задача: для установления фауны медистых песчаников следовало расширить район поисков — но на сей раз бумажных: надо собрать максимально возможные данные по всем находкам, сделанным в Каргалинских рудниках. Многие из них хранились в частных коллекциях за рубежом, некоторые — в музеях других стран. Описать и систематизировать эти находки, сравнить с теми, что хранятся в СССР, и сопоставить с фаунами других местонахождений… Эта задача станет магнитом, который четверть века будет притягивать мысли Ефремова.
Однажды под сводчатые потолки светлого вытянутого зала, где на фоне живописного панно высился громадный скелет индрикотерия, а вдоль стен, увешанных бивнями, стояли стеклянные витрины с челюстями и позвонками древних животных, вошёл незнакомый Ивану человек. На вид ему было лет двадцать семь. Ищущий взгляд обратился к Ивану.
— Я хотел бы показать свои находки, — с сомнением оценивая юный возраст научного сотрудника 2-го разряда, сказал гость после знакомства.
— Валяйте! — разрешил Ефремов.
В кабинете гость выложил на стол несколько окаменелостей.
— Что за ерунду вы принесли! — воскликнул насмешливо Иван, оглядывая находки.
— Я взял с собой лишь то, что смог.
Гость не на шутку оскорбился и хотел было покинуть кабинет, но Иван остановил его:
— Погодите, погодите. Вы это сами добыли? Где? Ах, в Казахстане, в верховьях Иртыша… А вот это ценно!
Так началось знакомство Ивана Антоновича и Юрия Александровича Орлова. Увидев искренний интерес Ивана, Юрий Александрович рассказал, что в Казахстан он ездил по собственной инициативе, во время своих отпусков и на свои средства. Сначала Орлов был биологом, специализировался в гистологии, был учеником академика Алексея Алексеевича Заварзина, который славился строгой подготовкой своих подопечных, требовал от них не только знания своей специальности, но и широкой биологической эрудиции. Орлов занимал уже довольно высокий для молодого учёного пост старшего преподавателя Военно-медицинской академии, когда неожиданно увлёкся палеонтологией, увидев в ней возможность объяснить кардинальные вопросы биологии, исследовать причины возникновения морфологических структур. К удивлению коллег, он начал по совместительству заниматься новой для себя наукой в Центральном геолого-разведочном институте, но это не удовлетворяло желания глубоко погрузиться в мир древних животных.
Во время самостоятельных экспедиций Орлов открыл в Казахстане несколько местонахождений прошлых эпох. Самое большое открытие он сделал на Иртыше, возле Павлодара — нанёс на карту гигантское местонахождение ископаемых млекопитающих.
Несколько месяцев — и Юрий Александрович станет ближайшим помощником Алексея Алексеевича Борисяка, которому требовались энергичные сподвижники: по музею ходили слухи о превращении палеонтологии в самостоятельную «боевую единицу» советской науки.
И действительно: вскоре стало известно, что в Академии наук по инициативе Борисяка и Петра Петровича Сушкина готовится создание отдельного института по проблемам палеонтологии. Весной 1930 года на базе остеологического отдела и Северодвинской галереи Геологического музея такой институт был создан. Именовался он Палеозоологическим,[88] сокращённо, по моде того времени — ПИН. Иван автоматически стал сотрудником института. Возглавил его академик Борисяк, которому было уже около шестидесяти. Заместителем стала энергичная дама сорока восьми лет — Александра Паулиновна Гартман-Вейнберг, до увлечения палеонтологией занимавшаяся сравнительной анатомией в медицинском институте.
Гордостью института стала уникальная музейная экспозиция, которая располагалась в двух больших залах и была открыта для посещения. Препараторы и реставраторы трудились над обработкой экспедиционных сборов, за счёт которых коллекцию планировалось значительно увеличить.
Академическая зима в этот год выдалась особенно кропотливой. Иван поставил себе целью собрать все имеющиеся в наличии палеонтологические материалы по Каргалинским рудникам. Судьбы многих находок были весьма причудливыми: так, челюсть пресмыкающегося, найденная ещё при Екатерине, попала в руки агенту английской меднорудной концессии, а тот направил её в Австралию.
Чтобы установить места хранения и историю находок, штудировал отечественную и зарубежную литературу: где, в каком музее или частной коллекции хранятся упомянутые в отчётах образцы? Можно ли получить их для изучения? Если нельзя сами образцы, то, может быть, пришлёте гипсовые слепки? Письма написать было недолго, гораздо сложнее было дождаться ответов, и дело затянулось на годы.
Между тем вопрос добычи медной руды остро стоит перед страной, которая начинает второй год первой пятилетки. Ефремов с увлечением, со всем жаром пылкого сердца продолжает работу по обследованию меднорудных месторождений, но в новом году уже по поручению Инцветмета.[89] В качестве прораба Каргалинской геолого-поисковой партии Иван вновь приезжает в хутор Горный и снова останавливается у Самодуровых. С горечью узнаёт он, что старый штейгер, с которым они прошли опасный путь под землёй, умер.
22 июля 1930 года 22-летний Ефремов пишет академику А. А. Борисяку: «Недостаток материалов и рабсилы сильно тормозит развитие горных работ. Завтра начинаем вскрытие двух больших старых шахт, где можно ждать хороший палеонтологический материал, да и для изучения медистых песчаников будет получено не мало. В другое время занимаюсь геосъёмкой. В общем, я производитель горных работ и геосъёмки, официально — опробования. Кое-что из косточек уже найдено, пока немного. В начале августа уеду в Уфимскую губернию, а в конце будут готовы шахты, тогда проникнем в подземные выработки. На днях перекидаю все рудные штабеля на Кузьмоловском руднике — обеспечено пудов 25 остатков амфибий и рыб. Разработка Левских, Щербаковских и Верхнеордынских рудников для опробования также даст возможность собрать материал по позвоночным… Собрал новые, интересные данные. Работа этого лета пройдёт для меня с пользой, так как ознакомлюсь с многими видами горных и разведочных работ непосредственно на практике. В начале я был ещё производителем работ алмазного и ударного глубокого и мелкого бурения. Видите, как полезно. В довершение специальностей работаю с теодолитом по маркшейдерской наружной и подземной съёмке. Вот пока все мои подвиги…»[90]
Район поисков расширяется — за лето Иван успевает не только нанести на карту новые шахты Каргалы, но объехать и исследовать рудники Башкирии и Прикамья, выполняя необходимую работу по съёмке местности и собирая сведения о палеонтологических находках.
В 1965 году к Ефремову, уже известному писателю, обращается учитель из Оренбургской области по фамилии Зенов, который собрался с детьми в краеведческий поход. Ефремов пишет ему, что поход этот «должен пройти как раз по интересующим меня местам распространения рудников в Уфимской губернии».
«Эти рудники, — продолжает Иван Антонович, — работались раньше Каргалинских, в 1760–1790 годах, часть позже, в период 1820–1850. В них были найдены интереснейшие находки древнейших зверообразных пресмыкающихся и земноводных, огромные скопления древесных стволов и раковины моллюсков.
Я был на этих рудниках в 1930 году, когда брал пробы с отвалов рудников и руководил их нанесением на карту, исследовать их было очень трудно, так как рудники (вернее, то, что от них осталось) заросли густейшим дубовым лесом. Мне удалось найти только несколько открытых шахт и карьеров. Я спускался в них — они стоят очень прочно, совершенно сухие.
Мне думается, что Вы с ребятами могли бы пройти по отвалам этих рудников и посмотреть, в каком виде они сейчас находятся. Если лес, росший на них 35 лет назад, вырублен, то теперь они гораздо более доступны для изучения и ученики смогут посетить их. Напишите мне, что Вы увидите, — сделаете полезное дело, а если на отвалах найдёте какие-либо окаменелости, стволы окаменелых деревьев, стяжения медных минералов — пришлите в Палеонтологический институт Академии Наук (Москва, В-71, Ленинский проспект, 16), Чудинову Петру Константиновичу. Определения будут Вам сделаны.
Главное поле этих рудников находится между горочками Стерлибашево и Киргиз — Мияки, на сыртах около деревень Казанка, Старая Родионовка, Дмитриевское — Болгарино — в среднем по 400 отвалов у каждой. Дальше идут штольни и отвалы у деревни Кочегановой и большой рудный карьер у деревни Семашево.
Огромные отвалы есть у деревни Яшляр и у Каркалинского завода в деревне Камышлы, там же были открыты шахты на глубине 10 метров.
Где-то около Камышлов есть (вернее, был) Ужов хутор, там тоже есть рудный карьер, как у дер. Семашкино. На Каркалинском заводе осталась большая куча рассыпавшейся в песок руды и такая же куча серного колчедана — пирита, почти тоже рассыпавшегося.
У дер. Ново-Генераловки — опять большое поле отвалов и открытая штольня на верхе сырта. Оттуда близко дер. Ключевка с одним из самых древних рудников — Ключевским, первые сведения о котором восходят к 1745 г. Там есть открытые шахты. Дальше по сырту идут отвалы у деревень Ново-Николаевка, Турган, Дурасова (тоже самый старый рудник — Дурасовский), Таняева и Фёдоровка — самая южная группа маленьких отвалов.
На 3-х вёрстной карте Европейской части Союза посёлок Камышлы находится в 2-х км на восток от Большой Каргалы. Дер. Яшлар в 10 км на юго-юго-восток от Б. Каргалы. Посёлок Казанка на карте — Ильиновка, дер. Алдарова (где тоже много отвалов) = Айдаралина. Дер. Булгарино, иначе назыв. Болгарова, на юго-юго восток от Дмитриевки и на запад от Ильиновки. Большие и Мал. Каргалы вблизи села Уязы-Башево Киргиз-Миякинского района».[91]
Остаётся только поражаться памяти учёного, который мог в деталях рассказать о своих исследованиях 35-летней давности.
Осенью 1930 года, на заседании комиссии Инцветмета, защищая месторождения, на которых можно было поставить добычу медной руды, Иван увлечённо излагал свои доводы. Как неожиданный выстрел, прозвучал для него вопрос одного из членов комиссии: где вы получали образование, молодой человек? Ах, не закончили? А на каком основании вы считаете, что вы правы?
Иван смело ответил, что теорию он изучил самостоятельно, лучшая проверка теории — это практика, то есть результаты его работы. Там, в поле, он был безусловным авторитетом, опытным геологом и руководителем, но здесь, в столицах — он видел: значение имело иное. Вспомнились слова Сушкина: «Да и университет небесполезно окончить…»
Но для того чтобы получить документ, необязательно уныло ходить на занятия. Иван прекрасно знал это: сумел же он окончить школу, занимаясь самостоятельно! Диплом высшей школы тоже можно добыть экстерном. Только надо сначала с отчётами и текущими делами разобраться…
С особым чувством спешил Иван в Ленинград после полевого сезона 1930 года. В этот раз разлука с любимым городом казалась ему на редкость долгой. Ксения, милая, ласковая, жена…
Ксения Свитальская работала препаратором в ПИНе. Была она дочерью известного геолога Николая Игнатьевича Свитальского, профессора Горного института. Худенькая, миниатюрная, она вызывала в Иване чувство трогательной заботы. Когда они вместе возвращались домой, прохожие с улыбкой оглядывались: юная женщина казалась крохотной рядом с огромным, широкоплечим Иваном.
Злые языки говорили, что Иван женился на ней ради карьеры: профессор Свитальский одним из первых начал исследовать криворожские руды. На основании его исследований на Южном Урале, возле горы Магнитной, начали строить гигант первой пятилетки — Магнитогорский металлургический комбинат.
В ответ на слухи Иван морщился: люди судят по себе. Нет, не лавры отца покорили Ивана.
Кстати, о злых языках. Осенью Иван обнаружил, что в ПИНе появились новые сотрудники. Музею требовались препараторы. Александра Паулиновна как заместитель директора по научной части приняла на работу сотрудников, которые беззастенчиво использовали ПИН как место, где можно было временно скрыться от политизации общества. Не имеющие ничего общего ни с геологией и биологией, ни тем более с палеонтологией, такие личности, как М. Ф. Косинский, вошли в число «научных сотрудников», совершенно равнодушных к науке. На место учёного секретаря по совету Косинского был принят его приятель — пианист Дмитрий Брониславович Ловенецкий. Он не имел никаких познаний в палеонтологии, однако Александра Паулиновна сочла, что люди, обязанные ей приёмом на работу, будут занимать её сторону. Вообще всех сотрудников она делила на «своих» и «чужих».
Препараторы и реставраторы составляли бблыпую часть сотрудников, а при проведении партийных и комсомольских собраний были важны голоса каждого из участников.
Одним из препараторов музея был Николай Косниковский, дружбу с которым Ефремов сохранит до конца жизни. Вместе они выпускали юмористический журнал «ПИНоптикум». Иван сочинял короткие иронические стишки, а Николай рисовал картинки.
Для Ефремова образцом учёного являлись такие люди, как Пётр Петрович Сушкин, Александр Евгеньевич Ферсман, Владимир Иванович Вернадский, в которых любовь к науке сочеталась с высокой интеллигентностью и порядочностью. Общаясь с Александрой Паулиновной, Ефремов не мог взять в толк, как совмещаются в этой немолодой, не имевшей детей женщине страстная преданность науке — и невероятное честолюбие, крайне ревнивое отношение к достижениям других, желание утвердить за собой безусловное первенство и влиять на судьбы других людей. Она мечтала о достойных учениках, но не находила таковых. Одно время она взяла шефство над спутником Ефремова на Богдо, препаратором Фёдором Кузьминым, хотела помочь ему получить образование. Но из этого ничего не вышло.
В начале 1920-х годов, когда в обществе говорили о равенстве мужчины и женщины, было принято здороваться за руку. Александра Паулиновна здоровалась именно так, но только с людьми, хорошо ей знакомыми. Посторонним руку не подавала. «Я могу пожать руку человеку, только будучи уверенной в его порядочности», — говорила она, а «порядочный» в её интерпретации означало «лояльный».
Ефремова Александра Паулиновна терпела с большим трудом, считая его выскочкой, дилетантом в палеонтологии, не имевшим научной школы, постоянно припоминая ему отсутствие диплома, и демонстративно не здоровалась с ним за руку. При встречах, правда, старалась относиться к нему максимально сдержанно, зная покровительственное отношение Борисяка: тот помнил, как юный искатель, мечтающий об охоте за ископаемыми, пришёл к нему в кабинет. Сам же Борисяк в институте появлялся редко по причине нездоровья.
В экспедиции все мелкие заботы отодвигались, действовал один мощный вектор научного поиска, неотделимый от самого тесного взаимодействия с различными силами природы. В городе внимание вынужденно дробилось, разбивалось на несколько потоков. В череде бытовых дел ещё более, чем в поле, нужно было держать цель, к которой стремились бы извилистые пути мысли. После смерти Сушкина Иван мысленно искал учителя, человека, которому он мог бы доверить самые важные свои мысли. Ни Гартман-Вейнберг, ни стареющий Борисяк на эту роль не годились…
19 ноября 1930 года 22-летний Ефремов пишет письмо академику Вернадскому: «У меня есть некоторые новые взгляды на эволюцию наземных позвоночных в связи с равновесием ССЬ в атмосфере в разные геологические эпохи и ионизацией вод в присутствии различных элементов, например V, Си, К. В настоящее время в СССР Вы единственный человек, от одобрения которого зависит судьба моих гипотез».
Ефремов посылает Вернадскому небольшую работу, перепечатанную на пишущей машинке. Ответа не было. Вполне возможно, что великий учёный при громадной занятости просто не смог прочитать присланную рукопись.
Размышляя о том, как образуются кладбища динозавров, какие диалектические закономерности лежат в основе разрушения пород и как эти породы осаждаются, Ефремов штудировал работы современных учёных-геологов. Иван живо интересовался новинками, не прошёл он и мимо монументального труда профессора Михаила Михайловича Тетяева «Геотектоника». Исследуя формы складчатости, Тетяев считал, что в геологической летописи лучше сохраняются те породы, что накапливались в пониженных участках земной коры, не подвергавшихся разрушению. Значит, думал Ефремов, в каждом геологическом периоде будут сохраняться отнюдь не все типы осадков. Постепенно в сознании молодого учёного зарождалась идея будущей тафономии, накапливались всё новые и новые факты.
Палеонтология оставалась неизменной точкой притяжения мыслей Ефремова, но экспедиционная жизнь временно складывалась иначе.
Всех в институте взволновали результаты экспедиции Центрального геолого-разведочного института под руководством Б. А. Штылько: в 1930 году в Каменном овраге близ села Ишеева были найдены останки улемозавров. Штылько был намерен продолжить раскопки и в 1931 году. Александра Паули-новна тоже собралась на Волгу, в междуречье великой реки и Свияги. В результате её экспедицией была собрана коллекция парейазавров.
Ефремов считал изучение захоронений под Ишеевом исключительно перспективным, несмотря на плохую сохранность самих костей: требовалось большое искусство препараторов, чтобы скелеты не рассыпались при первом прикосновении.
В новом полевом сезоне Ивана ждали Амур-батюшка и заманчивые дальневосточные земли, на которые ещё не ступала нога русского картографа.
Нижне-Амурская геологическая экспедиция
Проезжая на низкорослой бурятской лошадке по пологим увалам, где вольготно расположился Хабаровск, Иван мысленно призывал себя к терпению. Кончается июнь, две недели он торчит в этом городе,[92] теряя драгоценное время, хотя уже 28 мая экспедиция должна была выступить на маршрут. Но это из столиц всё выглядит гладко, а на месте приходится распутывать множество нитей, развязывать сотни узелков. Слишком далеко от Москвы до центра Дальневосточного края.
В 1930 году ВЦИК и правительство РСФСР приняли решение о культурном и хозяйственном строительстве Дальневосточного края. «Зажжём в тайге маяки индустрии!» «Дальний Восток станет валютным цехом страны!»
Но как же можно строить новые заводы и фабрики, развивать промышленность, если богатства края ещё не исследованы геологами, а некоторые территории даже не нанесены на карту? Прозвучал новый клич: «Не оставим «белых пятен» на карте Родины!»
Зимой 1931 года Москва решила организовать несколько экспедиций для общего геологического исследования Дальнего Востока. В них входили более восьмидесяти местных геологических отрядов. Всего же было организовано 160 изыскательских партий. Опыта такой масштабной полевой работы ещё не было, не хватало квалифицированных научных кадров. Вновь прибывающим геологам часто приходилось получать совсем иные задания, не те, на которые они рассчитывали, вглядываться в карты новых маршрутов. Необходимые деньги для Академии наук задерживались, и даже в начале апреля организация всей исследовательской работы была под угрозой срыва.
В Совете по изучению производительных сил (СОПС) Союза ССР при Академии наук было решено, что Ефремов станет начальником отряда Иманской экспедиции на период с 28 мая по 31 октября 1931 года. Иван тщательно подготовился к маршруту. Бывалые люди посоветовали закупить в Бурятии лошадей и отправить их в Хабаровск поездом: местные геологи заранее разберут всех лошадей, и отряд, если не примет меры, останется без транспорта. И вот лошади есть, но маршрут, видимо, будет иным, нежели предполагалось.
Газета «Тихоокеанская звезда» писала:
«Из Центра прибыла экспедиция по исследованию верховий Имана. Такая же экспедиция стояла в плане наших местных научных организаций, и люди специально готовились для работы именно в этом районе. В последнюю минуту (начало июня) одной партии пришлось переключиться с исследований верховий Имана на исследование Горюно-Самагирского района, в районе озера Эворон и выше на север в сторону Ам-гуни, где они могут встретиться с работниками Селемджино-Буреинской партии экспедиции Академии наук».[93]
Прибывших из Москвы разместили в общежитии научных работников, которое чаще называли «бывшей пятой гостиницей Хабаровска». Отвратительные бытовые условия в ней не скрашивал даже блеск великолепного Амура.
Когда маршрут был определён, непросто было договориться об отправке по реке грузов и лошадей. Иван мог бы не раз выйти из себя, однако его сдерживала спокойная улыбка геолога Павловского. Евгений Владимирович, руководитель Нижне-Амурской экспедиции, был учеником Владимира Афанасьевича Обручева. Много дорог было пройдено молодым учёным, он хорошо знал особенности Сибири.
22 июня 1931 года Дальневосточный краевой исполнительный комитет Хабаровска выдаёт удостоверение: «Начальник отряда Нижне-Амурской геологической экспедиции Академии наук СССР тов. Ефремов Иван Антонович командируется в Эворон-Лимурийский район во главе отряда экспедиции для производства геологических работ. Предлагается всем организациям оказывать всяческое содействие отряду экспедиции в его работе». Из-за вынужденной задержки срок командировки был увеличен до 15 ноября. В состав отряда вошли старший коллектор H. Н. Ульянов и топограф И. П. Шилов.
На пароход, помнивший ещё времена капитана Лухманова, погрузили лошадей и снаряжение экспедиции, и могучий Амур понёс судно вниз по течению. Холодны быстрые мутные воды. Тёмным хвойным лесом заросли крутые обрывистые берега. Яркими цветами покрыты прогалины. Там, где берега выполаживаются, встречаются пашни и луга, на которых пасётся скот.
На левом берегу великой реки, на вытянутом валу, расположилось село Пермское, построенное выходцами из Пермского края. Пристани здесь не было, и пассажиры с любопытством наблюдали, как, развернувшись поперёк течения и двигаясь носом к берегу, пароход упёрся в грунт. Носовой проволочный трос быстро закрепили за лесину, и пароход, маневрируя, встал параллельно берегу. Подали сходни. С волнением ступил Иван на колеблющиеся под ногами доски: наконец начинался его первый таёжный маршрут. Здесь отряды Павловского и Ефремова разделялись.
В 1933 году Академия наук СССР издала «Геологический очерк западной половины озёрного края Приамурья», написанный совместно Павловским и Ефремовым. Во введении сказано: «Отряд Ефремова прошёл от устья реки Горин вверх до слияния Горина с рекой Хуин (ныне р. Девятка). Затем вверх по Хуину до озера Эворон, вокруг всего озера Эворон с заходом в низовье р. Эвур. Другой маршрут того же отряда был проведён от селения Среднетамбовского на Амуре вниз по Амуру до селения Киселёво. Отсюда по вьючной и приисковой тропе до прииска Спорного на реке Лимури; вверх по Лимури до вершины левой Лимури, далее — в верховья реки Боктор. Отсюда вниз по Боктору отряд вышел снова на реку Горин». Но это очень упрощённая нитка маршрута, протянувшегося на тысячу километров с лишним.
Задач у малочисленного отряда было несколько. Ефремов знал, что в просторной пойме Амура, на месте села Пермского и Дзёмги — стойбища гольдов (так тогда называли нанайцев) — предполагалось построить новый индустриальный центр Дальнего Востока. Необходимое составление топографических карт почти неизученного Амуро-Амгунского междуречья предполагало изыскание пути, по которому могла бы протянуться к новому городу линия железной дороги. Требовались изучение геологии района, геологическая съёмка — и на всём протяжении маршрута опробование пород на золото промывкой в лотке.
Пробиваться к озеру Эворон прямиком через тайгу и сопки не имело смысла. Отряд, навьючив лошадей, пошёл к стойбищу Биди до устья реки Горин, вверх вдоль русла Горина, затем вверх по Куину. От жителей Пермского Ефремов знал, что на Куине, недалеко от озера, есть стойбища гольдов — Синдан и Кондон.
Лошади тяжело шли по таёжному бурелому и прибрежным камням. Взятый в Дзёмги проводник говорил, что Эворон легче будет исследовать на улимагде — лодке-долблёнке с острыми носом и кормой, — а лошадей временно оставить в Кондоне. Предложение было разумным: на севере и востоке берега озера были плоскими и топкими, покрыты мягким болотным ковром, с высокими кочками и редкими корявыми лиственницами. Такие места недаром носили название «марь»: передвигаться здесь с тяжёлой ношей было очень трудно.
Погружаясь в мир девственной тайги, где сотни лет жил в ладу с природой древний народ, Ефремов словно заново учился слышать и видеть. Отталкиваясь шестом, тихо скользил он по зеркальной глади мелководного озера на остойчивой улимагде, распугивая куликов и уток. С берега струился тяжёлый пряный запах цветущего багульника, похожий на аромат перебродившего вина. Зудела мошка. Нехотя взлетали из тростника серые гуси и цапли. В тёплой воде, как брёвна, стояли сомы, охотились щуки. Стремительно кидалась вниз хищная скопа, взлетая с трепещущей в клюве рыбой.
Это озеро и тайга сотни лет кормили простых людей, живших в приземистых фанзах. Они выделывали меха и шкуры, заготавливали на зиму рыбу — сушили её на вешалах, а затем хранили в небольших амбарчиках на сваях. Но рыбы гольды заготавливали столько, сколько могли съесть, дичи стреляли столько, чтобы быть сытыми. Исконная мудрость человека, осознающего лес, реку, озеро и себя единым организмом, поразила Ивана. Простота и знание сливались в нанайских песнях, звучали в незамысловатых рассказах.
С теодолитом и нивелиром начальник отряда и топограф обследовали Эворон. Овальное озеро имело площадь почти 200 квадратных километров. С высокого западного берега, покрытого лесом, противоположный берег казался узкой сизой полоской, на которой едва заметными пологими холмами обозначались гольцы верховьев Эвура.
Нанеся на карту берега, только с помощью проводника Иван смог отыскать устье реки Эвур, которая закладывает невероятные петли при впадении в озеро. Но в болотистой котловине было трудно установить основные геологические породы.
Рассказ Ефремова «Алмазная труба», написанный во время войны, наполнен множеством деталей, позволяющих воочию представить трудности таёжного похода:
«В сердце тайги царит душная неподвижность. Ветер, отгоняющий назойливого гнуса, здесь редкий и желанный гость. На ходу мошка ещё не страшна: она облаком вьётся сзади путников. Но стоит остановиться, чтобы осмотреть породу, записать наблюдения или поднять упавшую лошадь, и туча мошки мгновенно окутывает вас, липнет к потному лицу, лезет в глаза, ноздри, уши, за воротник. Мошка забирается и под одежду, разъедает кожу под поясом, на сгибах колен и щиколотках, доводит до слёз нервных и нетерпеливых людей. Поэтому мошка является своеобразным «ускорителем», определяющим убыстрённый темп работы на случайных остановках и сводящим к минимуму всякие задержки. И только во время длительного отдыха, когда разложены дымокуры или поставлена палатка, появляется возможность неторопливо оглянуться на пройденный путь».
Совершив переход к реке Мони, отряд изучил Наймуковский минеральный источник в Хорпичеканском водоразделе. В верховьях Мони построили плот, погрузили продукты и вещи. Горные реки с характером, и норовистая Мони перевернула плот. Геологи остались без продовольствия, одежда и вещи промокли. Как из-под земли, перед путешественниками появился гольд лет тридцати, коренастый, крепкого сложения — Никифор Дзяпи, бригадир только что созданного колхоза «Сикау покто» («Светлый путь»). Никифор поделился продуктами с русскими геологами и вывел их кратчайшим путём в район Чукчагирского озера, где было пастбище колхозных оленей. Оленеводы, амгунские эвенки, дали геологам запас продовольствия, нашли для них лодки. Дальше отряд Ефремова двинулся в путь уже с проводником, представителем древнейшего нанайского рода Самар Григорием, в крещении Духовским.
На улимагде удобно плавать по озеру, но на извилистой реке такая лодка тяжела. Лёгкая берестяная оморочка — самая подходящая лодка для геолога, который решил подняться вверх по таёжной реке. Добравшись до вершины реки Хорпи (на современных картах — Харпин), Ефремов увидел всё ту же ровную котловину. Пройдя с оморочкой и полным грузом снаряжения километров двадцать за урочище Гиляхальжиктани, геолог спустился назад на Горин, а затем зашёл с севера, с Эвура, на его приток Хорпичекан, быструю речку с тёмной водой, струившейся между извилистыми берегами. На речке не было обнажений коренных пород, даже гальки не нащупывалось на вязком, илистом дне. Пришлось подниматься в вершину реки Хорпи, «где нашлись интересные геологические штуки».[94]
На Эвороне, реликтовом по происхождению озере, трудно было рассчитывать на золото. Наметив возможную трассу железной дороги, к 30 июля долиной реки Горин отряд вернулся на Амур.
За селением Среднетамбовское пойма Амура резко сужается, и справа, и слева к реке подступают высокие сопки. Амур почти перестаёт петлять, течение убыстряется. Плыли на улимагдах, подходя к берегам, изучая геологическое строение, собирая образцы и фотографируя обнажения. На широких ветровых просторах Амура нанайские улимагды оказались неожиданно устойчивыми.
За селом Клселёво (ныне Киселёвка) горы вновь расступились, река распалась на многочисленные протоки, а пойма блестела старицами. Здесь в Амур слева впадает резвая Лимури. В горах по её течению известно несколько приисков.
Но прежде чем отправиться на исследование приисков, отряд Ефремова, спустившись ещё ниже по течению, сделал боковой маршрут на озеро Кизи, в село Мариинское, после чего достиг берега Японского моря, побывав в заливе Де-Кастри.
От озера Кизи отряд поднялся вверх по Амуру. И вот вьючный караван отправляется через сопки, уже тронутые осенней желтизной, по набитой тропе к реке Лимури. Копыта лошадей то чавкают по болотистой жиже, то звякают по камням, ремни и кольца вьюков на сёдлах равномерно поскрипывают.
В прозрачной воде дрожит отражение Мартемьяновой горы. Недалеко, на ровной площадке — деревянная изба, коновязь, сарай. Прииск Спорный. Ох, видать, не зря его так назвали… Развьючить лошадей — теперь им предстоит несколько дней отдыха. Молодым путешественникам — исследование окрестностей и гадание: мелькнут ли в лотке золотые крупинки. Иван рад возможности спокойно поработать в избе, привести в порядок записи в полевом дневнике, где на страницах — расплывчатые розоватые пятна от капель пота и прилипшей мошки.
Всё выше горы, всё гуще и глуше тайга, всё говорливее реки.
Резко испортилась погода. Сильнейший снегопад скрыл траву, которой питались лошади. Под полуметровым слоем снега трудно было различать, что перед тобой — топкая марь или каменистая осыпь. Мороз доходил до 12 градусов. Ефремов отправил топографа, коллектора и рабочих с лошадьми обратно на прииск, а затем в райцентр; сам с проводником двинулся дальше.
Через верховья левого истока Лимури путешественники перевалили через хребет в систему реки Боктор. Но от истока до устья — целая жизнь.
Ефремов вдвоём с проводником на оморочке начал было сплавляться по Боктору. Река то стремительно неслась узким коридором среди высоких, падающих в воду деревьев, образующих заломы,[95] то резко поворачивала, упираясь в скалу, вспениваясь бурунами. Оморочку так швыряло, что не раз приходилось срочно чинить тонкую берестяную посудину. Какой утлой казалась Ивану их лодочка по сравнению с мощью дикой воды!
Поднялись на гребень сопки — отсюда река была видна на несколько километров. Стало окончательно ясно, что река перегорожена десятками заломов. Погибла надежда проплыть 300 километров до устья. Караван лошадей ушёл на прииск уже неделю назад, их не догнать. Продукты кончились. Как быть?
«И оба мы — гольд и я решаем. Ставим палатку, обносим её обрывками материи на верёвке, чтобы защитить от росомах и медведей, складываем туда имущество (оставшееся снаряжение, большие образцы и фотоснимки на тяжёлых стеклянных пластинках)… И мы идём без троп через множество перевалов, сквозь дождь и снег, без крошки пищи… Семь дней без еды, а амурская тайга не легка для пешего похода напрямик».[96]
Величаво молчала тайга, и на десятки километров вокруг не было ни единого жилья.
Семь суток без пищи шли по засыпанной снегом тайге Ефремов и Григорий Самар. Недаром в романе «Лезвие бритвы» герой вспоминает «время далёких походов маленьких геологических отрядов с небогатым снаряжением, когда всё зависело от здоровья, умения, выдержки каждого из участников. Пути сквозь тайгу, по необъятным её марям, торфяным болотам, по бесчисленным сопкам, гольцам, каменным россыпям. Переходы вброд через кристально чистые и ледяно-холодные речки. Сплавы по бешено ревущим порогам на утлых лодках и ненадёжных карбазах. Походы сквозь дым таёжных пожаров, по костоломным гарям, высокому кочкарнику, по затопленным долинам в облаках гудящего гнуса».
Казалось, человеческих сил недостаточно, чтобы преодолеть огромные пространства труднопроходимых болот: «Самый сильный человек, самые привычные ноги смогут сделать за день по мягкому моховому покрову, хлюпающей грязи, цепляющейся траве и багульнику не более тридцати тысяч шагов. И если их нужно полмиллиона, чтобы выйти из этих болот, кричите, бейтесь в тоске, зовите кого хотите — ничто вам не поможет. Тридцать тысяч шагов, и из них ни одного неверного. Иначе, попав между кочками, корнями, в щели каменных глыб россыпей, треснет хрупкая кость. Тогда — гибель».[97]
Лёгкому гольду в мягких кожаных олочах, казалось, было легче, чем высокому и крупному геологу. На ходу, чтобы не сбиться с ритма, срывал он красные кислые ягоды и тонкие веточки с коричневой корой, жевал, подавал их Ивану. Терпкая и кисловатая кора лимонника бодрила, идти становилось легче. Однако к концу пути силы Ивана иссякли. Заслышав вдалеке лай собак кондонского стойбища, он сел, прислонился к стволу, блаженно улыбнулся и забылся…
Маленький нанайский мальчик Ермиш смотрел из темноты на огромного бородатого русского, лежащего на канах.[98] Был русский худым и страшным, тяжело дышал во сне. В дом вошли мать и её родственница с пучками сухого тархуна в руках, они отослали Ермиша покормить собак. Когда дверь за мальчиком закрылась, в доме раздалось тихое пение. Ермиш чувствовал тонкий горьковатый аромат свежих стружек черёмухи, затем запахло дымом багульника…
Как мало, до удивления мало знаем мы природу Земли!.. До этого похода Иван считал себя едва ли не знатоком полевой работы. Он словно очнулся от какого-то странного морока, когда вдруг увидел себя в дикой тайге без привычных вещей, без пищи, вне всяких условностей внешнего мира. Когда кожей, мышцами, тайными, глубинными струнами ощутил себя сыном природы, которому дано одновременно и ничего — и всё. Всё, что сделало человека господином: сила мысли и духа, воля и стремление, напор и страсть.
Очистить разум от суеты, освободить сознание, впустить в себя весь мир — с будоражащим запахом болот, лёгкими шорохами леса, шумом ветра и рёвом воды, с ночами на прелой листве, с криками пролетающих птиц, с неслышными, но явственными шагами тигра по склону ближней сопки.
Как мало, до удивления мало знаем мы природу человека! Как резко включаются в нас первобытные инстинкты, казалось бы, навсегда заглушённые ритмом цивилизации, и ухо вдруг начинает ловить звуки, которые не слышало ранее, глаз — видеть то, что не замечал, и вскипает в теле могучая сила жизни, и толкает человека вперёд, в нехоженое, неизведанное.
Вот гольды — они ещё не отделили себя от природы резкой, узкой чертой города, энергия тайги и ветра свободно вливается в их жилы, позволяет им ощущать мир иначе — и, возможно, влиять на него. Какие вибрации пробудило древнее пение в его, Ивана, теле, в какую область проник запах багульника, что Иван вдруг почуял в себе силы новые, необыкновенные?
И что же теперь? Неужели для того, чтобы вновь слиться с природой, человеку необходимо погасить мощь интеллекта и вернуться в первобытное состояние? Нет, крупицы научных знаний, которыми обладает человечество, слишком дорого достались ему. Слишком большую цену заплатили мы за то, чтобы обрести способность мыслить. Выход один: гармонически развить в себе физические и умственные способности, так тонко настроить струны своего организма, чтобы он был способен на новом, более высоком уровне чувствовать и воспринимать, мыслить и действовать.
…Урэктэ, мать Ермиша, и Наталья Самар выходили больного русского. Когда он улыбнулся мальчику, то показался ему совсем нестрашным.
Однажды Наталья, отец и мать Ермиша надели нарядные халаты с широкой узорной оторочкой, а мальчику дали новое пальто с блестящими пуговицами и новую фуражку Женщины встали по краям, а отец сел в середине, обняв сына. Серьёзно смотрели они, как русский геолог направляет на них коробку с круглым окошечком.
Так в отчёте экспедиции среди кадров с геологическими обнажениями и видами рек и сопок появилась фотография с подписью: «Гольды рода Самар в посёлке Кондон».[99]
Много позже, в повести «На краю Ойкумены», появится сцена исцеления главного героя, грека Пандиона, оказавшегося в африканском племени в центре Чёрного материка. Пандион пострадал в борьбе с огромным носорогом, потерял силы и радость жизни. Женщины племени вылечили его с помощью древнего магического ритуала. Возможно, эта сцена была написана именно под впечатлением исцеления самого Ивана в Кондоне.
Кирзовые сапоги геолога сносились, наступала зима, и нанайские женщины подарили Ефремову высокие олочи из белой оленьей кожи, с носами, вышитыми национальными узорами, и с широкой каймой наверху из красного китайского сукна с цветами.[100]
На прощание русский подозвал к себе Ермиша:
— На, держи на память!
Несколько листков из блокнота и карандаши показались мальчику настоящим богатством. Главным сокровищем стал толстый карандаш — двухцветный, с одной стороны которого был синий, с другой — красный грифели…
Как познать силу импульса, передаваемого от человека к человеку? Какие чудеса творит энергия знания и мысли? Ермиш Владимирович Самар стал замечательным нанайским писателем, автором повести «Из жизни Кесты Самара» и книги «Трудные тропы».
Осенью бригадира Никифора Дзяпи вызвали в село Возне-сеновское, в райком ВКП(б), по делам колхоза. Там он неожиданно встретился с геологом, которому не повезло с плотом на Мони. Никифор не раз встречал геологов, но этого крепкого парня он запомнил хорошо. Узнал его и геолог, в знак благодарности снял с руки часы… Эти часы, уже старые, с испорченным механизмом, Никифор Дмитриевич хранил до конца своей жизни.
Через несколько месяцев, весной 1932 года, возле села Пермское причалили пароходы «Коминтерн» и «Колумб». Около тысячи молодых строителей высадились на берег. Светлым майским днём закончилась история Пермского — началась история Комсомольска-на-Амуре.
В 1984 году, спустя более полувека после экспедиции Ефремова, через станцию Кондон до Комсомольска-на-Амуре прошёл первый поезд легендарной Байкало-Амурской магистрали.
Но уже тогда, в начале 1930-х, стремление сшить стальными стежками Сибирь и Дальний Восток жила в умах и сердцах советских людей. Спустя несколько месяцев Ефремов уже готовился к новой экспедиции, составлял смету, а друзья подшучивали над ним: «Зачем тебе, Иван Антонович, вообще получать продукты и таскаться потом с ними, если ты прекрасно ходишь голодом, налегке?..»
Олёкмо-Ткндинская экспедиция
Недалеко от устья реки Талумакит, на пологих мшистых склонах, поросших лиственницами, паслись пригнанные с верховьев Алдана олени. Два эвенка день за днём наблюдали, как по утрам всё крепче замерзает вода в лужицах между камнями. Талумакит стал совсем узким. Может, малая вода и задержала русских в пути? Спокойно и терпеливо ждут эвенки вестей.
К северу от станции Могоча, в верховьях Тунгира, терпеливо, но неспокойно ждал воды Иван Ефремов. Нанятые в Могоче рабочие помогли членам экспедиции построить карбаз. Чтобы прийти в начальную точку маршрута, необходимо было сплавиться по Тунгиру и Олёкме. Лето в Забайкалье выдалось сухим и жарким, и воды для сплава было недостаточно. Ждали дождей.
Это в Ленинграде и Москве имеет значение фраза «научный сотрудник 1 — го разряда Академии наук СССР». А здесь, на камнях Тунгира, ты только один из небольшой группы людей, которым зачем-то нужно попасть в факторию Нюкжа, что находится на Олёкме, в двух километрах выше устья реки Нюкжа.
Ещё 14 июля 1932 года в Иркутске Восточно-Сибирский краевой исполнительный комитет выдал удостоверение: геолог Ефремов в качестве начальника отряда «по изысканиям железнодорожной линии Лена — Бодайбо — Тында… командируется для производства изысканий от р. Олёкмы и до пос. Тында. Предлагается всем советским организациям оказывать полное содействие в выполнении возложенного на начальника задания».
Прошло уже два с половиной месяца… Ожидание груза в Могоче, маленькой станции Транссибирской магистрали. По телеграфу удалось договориться с Нюкжинским оленеводческим колхозом о вьючных оленях, на которых экспедиция может отправиться в поход. Подъём с вьючным караваном лошадей на Становик — водораздел между реками, впадающими в Амур, и бассейном Олёкмы, далеко на севере сливающейся с Леной. Грань между севером и востоком оказалась неявной, словно бы стёртой — пологие склоны округлых массивных гольцов, вечная мерзлота, в верховьях рек — болота. Вспомнился другой хорошо знакомый Ивану водораздел между великими реками России — Северные Увалы. Там тоже переход между бассейном Волги и Северной Двины был неясным, плавным, но это не умаляло его роли на географической карте. Не всегда узловые, переходные моменты заявляют о себе острыми пиками.
Перевалив Становик, экспедиция оказалась в посёлке с говорящим названием Тупик. Построив карбаз, Иван отпустил рабочих с лошадьми в Могочу и стал ждать воды. Но природа — не советская организация, и оказать содействие в виде дождей она не пожелала.
Иван досконально изучил единственную печатную карту Олёкмо-Амурского водораздела. Она была составлена в 1915 году горным инженером Е. К. Миткевичем-Волочасским. Поразило его то, что инженер вынужден был производить съёмку местности с плывущего плота. Это заставляло думать, что при съёмке могли быть погрешности в определении расстояний. Так что начальник отряда даже не мог точно сказать, сколько километров предстоит пройти от устья Нюкжи до посёлка Тындинский (ныне город Тында), который находится на важной автомобильной трассе — Амуро-Якутской магистрали (АЯМ).
Наконец ровная свинцовая пелена затянула небо, заморосил дождь. Через несколько дней можно было начинать сплав…
«18 сентября я выступил с начального пункта маршрута — фактории Нюкжа на р. Олёкме, в 2 км выше устья р. Нюкжа. В составе партии были: старший коллектор, студент Харьковского географического института Г. А. Прошкурат, проводник и трое рабочих», — писал Ефремов в «Геологическом очерке Олёкмо-Тындинского района».[101] Ниже он, отмечая энергию и настойчивость своих товарищей, называет три фамилии: рабочие А. И. Яковлев, М. С. Карякин и тунгус (эвенк) H. С. Непсердинов.
Небывало поздний выход заставил «максимально ускорить продвижение в пути», сократив до минимума численный состав экспедиции.
От устья Нюкжи небольшой отряд, захватывая попеременно оба берега, поднялся вверх до устья правого притока — реки Талумакит. Огромное облегчение испытал Ефремов, когда нашёл оленей там, где они должны были его ждать. «Здесь был сформирован вьючный караван, с которым я отправился параллельно долине реки Нюкжи по гольцовым водоразделам её правых притоков к устью р. Чильчи. Старший коллектор Г. А. Прошкурат отправился на лодке (бечевой) по реке Нюкже также до устья Чильчи, откуда мы прошли совместно по правому берегу Нюкжи до устья р. Верхней Ларбы».
Таёжные исследователи ощутили истинную радость, когда два отряда одной экспедиции встретились после долгой разлуки, после дороги, для каждого наполненной опасностями и препятствиями. Торжественно прозвучали выстрелы, и вскоре два маленьких отряда сидели у костра. В котелке закипал чай, в который проводник щедро бросил несколько горстей шиповника. Густые заросли шиповника по склонам сопок и у рек были серьёзным препятствием для путешественников, о чём свидетельствовали ободранная одежда и вьюки, обвязанные измочаленными верёвками. Но крупные красные ягоды, тронутые морозом, казались ещё вкуснее, слаще и дарили людям свою силу, накопленную за лето.
Путешественники делились наблюдениями и размышлениями. Несомненно, железнодорожная линия должна будет пройти вдоль берега Нюкжи. Однако серьёзную угрозу для трассы представляют «каменные реки» — подвижные россыпи, медленно сползающие по высоким крутым склонам в долины, прямо к воде. Для строителей борьба с ними будет делом весьма трудным.
Вместе со строителями на Нюкжу вновь придут золотоискатели. Исследователи не раз встречали остатки шурфовочных линий и заявочные столбы 1913 года Верхне-Амурской золотопромышленной компании. Знаки золота встречаются здесь буквально на каждом шагу, прямо на поверхности кос и отмелей. Только добывать его будет ох как нелегко…
Когда ударили морозы и реки стали замерзать, старший коллектор даже обрадовался: теперь не надо продираться по берегу, густо заросшему деревьями, будучи ежеминутно готовым свалиться в воду, и тащить бечевой вверх по течению нагруженную снаряжением лодку, обдирая об камни её днище. И вообще — идти вместе с Иваном намного легче. Неразрешимые, казалось бы, вопросы становятся простыми и понятными.
Сначала под снегом скрылись кустики багульника с побуревшими вытянутыми листиками, затем — пушистые ветки кедрового стланика. Над метровым слоем снега алели ягоды шиповника. Передвижение по марям стало особенно опасным: снег покрывал местность ровным слоем, и невозможно было угадать, куда попадёт нога — на кочку или в яму. Идти же по льду было нельзя: быстрая горная река промерзала неравномерно, на быстринах долго оставались открытые участки.
Вьючный караван делал в среднем по 25 километров в день. На себе геологи несут снаряжение, которое постоянно должно быть под рукой: анероид, съёмочная планшетка, фотоаппарат, винтовка. Каждое утро надо было собрать вещи, связать в тюки, навьючить их на оленей. Каждый вечер — развязать (а верёвки на морозе замерзали, не хотели развязываться), разложить, поставить палатки.
Необходимо вести постоянные наблюдения и измерения, добывать образцы пород, брать пробы на золото, при этом мысленно прокладывая по долине Нюкжи железнодорожные пути.
В рассказе «Алмазная труба» автор говорит: «Движение вьючного каравана сквозь тайгу, поход через неисследованные области, «белые пятна» географических карт… Казалось бы, что может быть романтичнее покорения неизведанных пространств! На самом же деле только тщательная организация и твёрдая дисциплина могут обеспечить успех подобного предприятия. А это значит, что обычно не случается ничего непредвиденного: день за днём тянется размеренная, однообразная, тяжёлая работа, рассчитанная далеко вперёд по часам. Один день отличается от другого чаще всего числом преодолённых препятствий и количеством пройденных километров. В тяжёлом походе душа спит, впечатления новых мест скользят мимо, едва задевая чувства, и механически отмечаются памятью. Потом, в более лёгкие дни или после вечернего отдыха, а ещё вернее — после окончания похода, в памяти возникает вереница воспринятых впечатлений. Пережитая близость с природой, обогащая исследователя, заставляет его быстро забыть все невзгоды и снова манит, зовёт к себе».
Дойдя до устья Верхней Л арбы, партия вновь разделилась на два отряда, чтобы охватить съёмкой большую часть местности.
Два рабочих под началом Прошкурата, сделав несколько боковых маршрутов на гольцовую группу Янкан, поднялись долиной Уркумы к её вершине, к гольцовому массиву Амнуннакта — самой высокой точке местности. Уркума бежит на северо-восток, а на запад с гольца стекает Геткан. А дальше — вниз по Геткану, не заблудишься.
Отряд Ефремова прошёл по долине Верхней Ларбы до устья реки Амнуначи (на современных картах — Амунакит), поднялся в её верховья.
В ясный морозный день далеко видно со склонов гольца. Русла рек то глубоко врезаются в склоны, то закладывают крутые петли по долинам. Печать безмолвия лежит на тайге. Белое безмолвие… Студенты в Ленинграде увлекались книгами Джека Лондона, с удовольствием читал их и Иван. Что вело на Аляску предприимчивых американцев? Золото, которое люди жаждали добыть для собственного обогащения, ради которого не считались ни с чем: ни с понятием чести, ни с человеческой жизнью.
Здесь, на водоразделе Олёкмы и Амура, тоже скрыто золото — и не только оно. Но не ради личного обогащения, а ради создания нового облика страны придут сюда люди. Протянется через горы и мари железнодорожная магистраль, «могущество труда рассечёт непроходимые пространства дорогами, расчистит леса, высушит болота. Шум машин и яркий электрический свет нарушат тёмное молчание тайги».[102]
Оставив округлые вершины Амнуннакты на юге, долиной ключа Тапаски отряд спустился к Геткану. Чуть ниже устья Геткана на речке Тынде — посёлок.
Мороз достиг 28 градусов в тот день, когда отряд Ефремова заметил следы оленей Прошкурата. Чувствуя близкое окончание пути, молчаливый проводник стал словоохотливее. Согревшись у костра, не спеша прихлёбывая чай, он говорил:
— Тында — «место, где распрягают оленей». Где распрягают оленей? В конце пути — дома. Тында — значит дом. Оленей распрягают, однако, где еды много, где людям жить удобно. Плохой место оленей не распрягают.
Иван, едва улыбаясь, глядел на языки пламени, а в уме сами собой складывались строки будущего отчёта: «По всем маршрутам выполнена глазомерная компасная съёмка масштаба 1:500 000 с определением относительных высот барометром. Хорошее покрытие района обнажениями, большое количество точек и достаточное уравновешение съёмки между опорными пунктами позволяют в порядке перевыполнения плана работ дать геологическую и геоморфологическую карты всего района в масштабе 1:500 000 вместо миллионного».[103]
Вечером 6 ноября в долине засветились огоньки посёлка — бревенчатые дома, где жили старатели, и несколько двухэтажных бараков, куда поселили раскулаченных из других областей страны. В одном из домов с нетерпением ждали маленький отряд три товарища.
7 ноября, в день пятнадцатилетия Октябрьской революции, Иван отправил в Ленинград телеграмму о том, что экспедиция, пройдя 600 километров, вернулась из маршрута.
Через несколько дней, сдав колхозных оленей, погрузив снаряжение и добытые коллекции, Ефремов со старшим коллектором и рабочими поехал по Амуро-Якутской автомагистрали до станции Большой Невер. Путешествовали с неожиданным комфортом — в полугусеничном автобусе, салон которого был похож на старинный дилижанс. На борту красовалась надпись: «Почтовый». Водитель чрезвычайно гордился своим диковинным транспортом: мол, таких тарантасов всего полдюжины на страну.[104]
Далее — путь, уже ставший привычным: по Транссибирской магистрали — домой, в Ленинград. Чтобы ещё раз, всего через полтора года, вернуться в эти места и пройти свой самый знаменитый маршрут — Верхне-Чарский.
Раскопки в Каменном овраге
После быстрых, каменистых рек Становика Нева казалась особенно величественной. Исполинские мосты обнимали её, покрытую толстым льдом. Местами лёд был изломан и торчал острыми глыбами, отсвечивая сине-зелёным, как кристаллы горного хрусталя. Ниже моста Лейтенанта Шмидта река была свободна ото льда, по стальной воде шла быстрая рябь. Низкое небо пронзал золотой шпиль Адмиралтейства.
Ленинград, стынущий на морозном ветру, «был прекрасен особенной, хмурой красотой».[105]
В душе Ивана боролись разные желания. Прожить бы несколько дней, ничего не делая, просто гуляя по улицам, встречая улыбкой красивых женщин. Иногда он мечтал путешествовать по свету, иметь любовниц всех рас, воспринимая каждую женщину как чудо.
Хотелось не спеша, с наслаждением читать новые книги, твердить звучные стихи.
Что же предстоит? Сразу с головой кинуться в работу. Только на обработку собранных данных и написание подробного отчёта может уйти несколько месяцев. Как бы совместить одно и другое?
Ксения встретила его ласково, но сурово заявила, что больше его в такие длительные экспедиции не отпустит. Жена не должна оставаться одна, без мужа! Иван с грустью слушал её слова. Женщина, которая не живёт своей, полной и богатой жизнью, которая всё своё счастье полагает только в мужчине? Чеховская «Душечка» — такой ли должна стать женщина новой эпохи? Скорое расставание становилось неизбежным.
С нескрываемой радостью спешил Иван в гости к верному другу — Алексею Петровичу Быстрову, преподавателю Военно-морской медицинской академии. Он был сыном священника, за что получил прозвище Алёша Попович. В небольшой квартире жили Алексей Петрович с женой Тильдой Юрьевной, сестра жены с мужем и дочкой.
Ирма Викторовна Исси, племянница Быстрова, вспоминала: «Если разговоры велись на общие темы, мне разрешалось присутствовать с условием полного молчания. Для меня не было ничего интереснее экспедиционных впечатлений, артистически рассказываемых И. А. или О. М.[106] Взрослые засиживались до глубокой ночи, и моим родителям стоило больших трудов извлечь меня из дядиной комнаты и уложить вовремя спать. Вообще, от тех лет на меня до сих пор веет романтикой путешествий, высокой дружбы, любви к людям и ко всему прекрасному».[107]
В Палеонтологическом институте — большие изменения. Главное — ушла Александра Паулиновна Гартман-Вейнберг, «железная леди» палеонтологии, заведовавшая отделом позвоночных, тем самым, где числился Ефремов. Вслед за ней институт покинули несколько приближённых к ней сотрудников. В основном это были люди, которых наука совершенно не интересовала. Александру Паулиновну пригласили в Москву, в университет, на почвенно-географический факультет. Очень скоро Ивану предстояло с ней встретиться — не как сотруднику, а как сопернику на палеонтологическом поле…
Вакансии в ПИНе оставались открытыми недолго. Внимание Ивана привлекла одна новая коллега — её звали Елена Дометьевна Конжукова. Строгая, серьёзная, она держалась подчёркнуто независимо, в суждениях её слышались тонкое знание биологии, глубокий интерес к проблемам любимой Ефремовым науки.
Кстати, поговаривали, что Академию наук будут переводить из Ленинграда в Москву, что ПИН назначен к переводу одним из первых. Эта новость заставила Ивана задуматься: надо срочно получать диплом. И так ситуация сложилась, мягко говоря, нестандартная: сотрудник Академии наук первого разряда — и при этом не имеет диплома об окончании высшего учебного заведения! В том, что знаний у него достаточно для квалифицированного выполнения своих задач, Иван не сомневался. Но необходимость оценки в ведомостях отменить было нельзя.
Величественное здание Горного института, выходящее фасадом на набережную Невы, хранит лучшие традиции геологов и горных инженеров России. Не только замечательные специалисты привлекали сюда Ивана, но и сокровища, хранящиеся в великолепных залах музея и в библиотеке. Это был настоящий храм науки, и шутки студентов, казалось, только подчёркивали сосредоточенность мысли, которая ощущалась в атмосфере института.
Лето и осень 1933 года Иван проводил в Ленинграде за учёбой и обработкой собранных материалов, вынашивая мысль об организации экспедиции в Монголию — американцам (сотрудникам Американского музея естественной истории) в 1929 году удалось сделать замечательные находки, но они проскакали галопом по Европам, взяли лишь то, что лежит на поверхности. Вот бы поставить серьёзные исследования в пустыне Гоби!
Были планы более детально изучить «динозавровый горизонт», направить в район Урумчи Джунгарскую экспедицию. Но в центре внимания оказалась Волга.
В 1930–1931 годах Ленинградский центральный геологоразведочный институт (ныне — ВСЕГЕИ) вёл раскопки в Татарии, на правобережье Волги. Находки были такими интересными, что Палеонтологический институт не мог пройти мимо этих мест. Монголия оставалась мечтой, а постановка раскопок в междуречье Свияги и Волги стала насущной необходимостью.
Итак, на сезон 1934 года запланированы работы на Волге. Начинается подготовка, составлены сметы и список участников экспедиции. Но у геологов возникает предложение, от которого Ефремов не может отказаться: ему предлагают исследовать верховья Чары. Там тоже должен пройти один из участков будущей железной дороги, в одном из самых недоступных и малоисследованных мест Забайкалья. Но это-то и прекрасно! О Чаре Иван слышал от тунгусов Усть-Нюкжи: на топографической карте в этом месте находилось в буквальном смысле белое пятно, только несколько неуверенных линий обозначали направления рек и горные хребты. Естественно, что геологических исследований в месте, которое даже на карту толком не нанесено, ранее не проводилось. Неужели настоящий геолог откажется от возможности — в XX веке, когда, казалось бы, исследована каждая пядь земли, — стать первопроходцем!
Но палеонтологическая экспедиция тоже должна состояться.
Подготовка двух экспедиций одновременно требовала предельного внимания. Только благодаря опыту Иван справился с этой задачей.
Весной, когда сошёл снег и земля немного подсохла, отряд Волжско-Камской палеонтологической экспедиции выехал в междуречье Свияги и Волги. Добирались поездом до Казани, оттуда пароходом на противоположный, обрывистый берег, в городок Тетюши. (Впечатления от Волги отразились позже в первых главах романа «Лезвие бритвы».)
Любопытные ребятишки возникали и на обнажённых волжских откосах, и на склонах оврагов, которые обследовали палеонтологи.
— Откудова вы? Из самого Ленинграда? — удивлялись пронырливые мальчишки, взявшиеся показать приезжим Сёмин овраг. — А о прошлом годе сюда из Москвы приезжали, да, копали туточки. Тётенька такая сухая, всё под зонтиком сидела. У ей палка с железным концом, она палкой машет, показывает, куда кости складывать.
Иван сразу узнал в портрете Александру Паулиновну Гартман-Вейнберг.
В Сёмином овраге Ефремов обнаружил прошлогодний раскоп. Здесь можно было получить хорошие результаты, но стоило поискать другое место.
Иван хорошо знал нрав Александры Паулиновны и её неприязненное отношение к нему. Она, бесспорно, относилась к тем людям, которые обладают врождённой способностью к внушению. Даже слабую способность можно усилить различными приёмами — для подчинения себе других людей. Спустя более четверти века Ефремов напишет: «Я знал одну учёную женщину, заведовавшую лабораторией, привлекательную и развратную, которая умело использовала внушение для самых разных целей».[108] Неприязнь к Ефремову порождалась его противостоянием воле бывшей начальницы.
У Ивана созрела идея. В 35 километрах к западу, недалеко от реки Свияги, находился тот самый Каменный овраг, где студент Носов нашёл в верхнепермских песках крупный скелет. Хрупкие кости рассыпались, однако местный краевед Князев успел его сфотографировать. Снимок был опубликован в журнале «Природа», и палеонтологи сделали вывод: скелет принадлежал хищному ящеру. Местонахождение получило название «Ишеевское». В 1930–1931 годах здесь вёл раскопки Ленинградский центральный геолого-разведочный институт, но значительных находок сделать не удалось.
С одной стороны от дороги стоял глухой, старый лес, с другой — невысокие голые холмы, изрезанные оврагами. Идёшь среди холмов — и видишь, как за поворотом торчит, будто из-под земли, блестящий железный гвоздь. Подходишь ближе, постепенно открывается взору небольшая татарская деревня. Гвоздь оказывается обитым жестью шпилем небольшой мечети с жёлтым полумесяцем на верхушке.
Итак, Каменный овраг. Заложив шурфы, Иван уточнил: костеносный слой находится под пятиметровой толщей с одним или двумя слоями плотного известняка.
Сухая Улёма, что вытекает из лога, недаром так названа: летом она совершенно пересыхает. В лесостепном Поволжье, которое несколько лет терзают засухи, вода не будет мешать исследователям.
Если раскапывать самый край оврага, это даст только разрушенные от воздействия атмосферы скелеты. Надо пробиться вглубь, туда, где скелеты лежат нетронутыми, попытаться вскрыть костеносные слои крупными площадками.
Иван, предвкушая крупные находки, решил нанять местных татар. Люди, ещё не оправившиеся от недавнего голода, измучившего всё Поволжье, согласны были работать за макароны. Раскопки велись кирками и лопатами. Сначала рабочие не вполне понимали, что от них требовалось, но постепенно дело наладилось.
Сняты известняки и мергеля, покрывающие красные рыхлые пески. В них обнаружены три скелета крупных пресмыкающихся — диноцефалов, черепа и множество отдельных костей пресмыкающихся и земноводных. Кости в рыхлых песках настолько хрупки, что на воздухе быстро разрушаются. Пески разбирали осторожно — большими ножами и шильями. Небольшие кости очищались, просушивались, пропитывались клеем и лаком. Глубокими траншеями со всех сторон обкапывали целые скелеты и крупные кости. Затем по контуру обделывался монолит. Чтобы песок не рассыпался, поверхность монолита пропитывалась клеем, после чего он заделывался в деревянный ящик, заливался гипсом и упаковывался. Вес ящиков доходил до двух тонн. Дальнейшая работа с ними велась уже в препараторской мастерской института.
Несмотря на то что кости залегали гнёздами, было добыто большое количество костей пресмыкающихся южноафриканского типа, и работа путём вскрытия больших площадок полностью себя оправдала. Но к этому выводу руководство института пришло уже после препарировки.
…По вечерам Иван, ненадолго уходя от суеты лагеря, гулял вдоль кромки прекрасной дубравы, недалеко от которой разбили палатки. Поле и дубрава были полны звуков и запахов. Вскрикивали птицы, устраиваясь на ночлег, пел соловей; по полю пробегал лёгкий прохладный ветерок, а из глубины нагретого за день леса веяло теплом. В траве, где светились белые цветы земляники, шелестело, попискивало и стрекотало. Всходила луна. Иван невольно вспоминал, как эта же самая луна в ледяном молчании поднималась над округлыми вершинами гольцов, а вокруг неё ярко сиял морозный нимб. Тайга казалась безжизненной, и только совы, облюбовавшие соседние лиственницы, смотрели на путешественников круглыми светящимися глазами.
Собравшиеся у костра пекли в золе картошку, пели, и звонкие молодые голоса словно открывали дверь в новую, чистую жизнь.
Вскоре из Ленинграда приехал Юрий Александрович Орлов. Оставив его на хозяйстве, Ефремов поспешил в Ленинград: его властно звала Сибирь, манила недоступная красавица Чара.
Ксения печалилась: муж опять оставлял её одну на несколько месяцев. Отвечая на упрёки, Иван вспоминал медведя, прикованного во дворе отцовского дома. Говорил: «Пойми, медведь не должен сидеть на цепи!» Ксения отступала, но горькое чувство сохранялось, пока его не развеивал ветер дальних дорог.
Верхне-Чарская экспедиция
«Полевая геологическая практика была обязательной для студентов, закончивших III курс университета. Заведующий кафедрой исторической геологии профессор Павел Александрович Православлев беседовал с каждым из нас, спрашивая, куда и почему хотел бы поехать студент. У меня было большое желание поехать в Восточную Сибирь; геопрактика в этой области представлялась мне более разносторонней. Павел Александрович предупредил, что, может быть, не совсем по желанию, но ему удастся подыскать поездки для всех. Два дня спустя он направил меня к академику В. А. Обручеву, а тот после краткой беседы к И. А. Ефремову. Иван Антонович в то время ещё не вернулся с палеонтологических раскопок в долине Свияги. Только в четвёртый или пятый визит я увидел спускавшегося по лестнице статного, молодого мужчину, и мы оглядели друг друга. «Вы — Иван Антонович Ефремов?» — спросил я. «А вы Нестор Иванович Новожилов», — утвердительно ответил он и пригласил подняться в его кабинет. Так мы познакомились».[109]
Экспедиции была поставлена следующая задача: геологическое маршрутное исследование Верхне-Чарской котловины — 100-километрового отрезка долины реки Чары от истоков до порожистой части с целью выявления признаков нефти и других полезных ископаемых.
«…Все обернулись к окну… Хорошо, ясно, как на ладони, виднелись все корабли: стройная «Марианна», длинный «Президент» с высоким бугшпритом; «Пустынник» с фигурой монаха на носу, бульдогообразный и мрачный; лёгкая, высокая «Арамея» и та благородно-осанистая «Фелицата» с крепким, соразмерным кузовом, с чистотой яхты, удлинённой кормой и джутовыми снастями, — та «Фелицата», о которой спорили в кабаке, есть ли на ней золото».[110]
Если посмотреть в раскрытую дверь сарая, увидишь огородик с грядками редиски и капусты, коровник, чуть ниже по склону — ещё сарай, где должен был быть склад продуктов и снаряжения. Но там пока пусто, и томительные дни ожидания груза приходится проводить в сарае, лёжа на жёстких топчанах.
Если не смотреть на Ивана Антоновича, кажется, что он читает по книге — не рассказывает наизусть, на память, а именно читает. Пятнадцать названий записано в полевой книжке Нестора Ивановича, среди них — «Борьба за огонь» Ж. Рони-старшего, «Конец сказки» Джека Лондона, «Дитя из слоновой кости» Райдера Хаггарда, «Горизонт» Роберта Кэрса, любимые произведения Александра Грина — «Алые паруса» и «Корабли в Лиссе». Польза была обоим: Иван Антонович сохранял то, что имел, а Нестор Иванович приобретал то, чего не знал.
Сюда, в Могочу, начальник экспедиции Ефремов, старший коллектор Новожилов и петрограф Арсеньев приехали из Иркутска в конце июня, подыскали базу недалеко от вокзала. База — громко сказано: простой бревенчатый сарай рядом с коровником и отхожим местом во дворе одного из частных домов. От мысли снимать комнату в жилом доме пришлось отказаться: безбожно донимали клопы.
Трое мужчин шутили: внизу у нас будет гостиная, а вверху, под крышей — дортуар. Освещения в сарае не было, и жильцы занимались «сычиным спортом» — во время дождей, когда было темно, и в сумерках пытались двигаться и находить нужное в полутьме. Дожди лили каждый день, и члены отряда с тоской смотрели на барометр-анероид.
Во дворе жил пёс Алёшка, без его присутствия не обходилось ни одно дело.
Старший коллектор был ровесником начальника отряда, и между ними установилось взаимопонимание — но без панибратства. Новожилов с глубоким уважением относился к знаниям и полевому опыту товарища, называя его Симбой — «Львом».
Дни проходили за днями, а груз не прибывал. Нестор Иванович вспоминал: «Питались хлебом и длинной сочной редиской, которую я покупал утром и вечером у огородника-китайца прямо из грядок. Днём пили чай или молоко. Иван Антонович любил хорошие конфеты и просил покупать ему в вагонах-ресторанах проходящих поездов «сливочную коровку».
Ждали коллекторшу с деньгами и продовольственным багажом из Иркутска. Каждый день ходили на станцию встречать иркутский поезд — напрасно. Наконец из Иркутска сообщили, что груз отправлен полностью — тремя партиями. С помощью транспортного отдела ГПУ удалось получить две партии.
Иван ругался, называя порядки на железной дороге «кабаком».
Прибыла коллектор Лесючевская — с ничтожной против обещанной суммой денег.
В Иркутске забыли укомплектовать экспедицию накомарниками — и Лесючевская купила в местном магазине тюль шириной восемь метров. Сарай сотрясался от хохота, слушая рассказ, как она волокла этот тюль по городу.
Было решено отправить Л есючевскую и Арсеньева на телеге с грузом в посёлок Тупик, откуда должен начаться сплав. Ефремов и Новожилов оставались ждать третий груз.
Телеграммы летели из Могочи в Иркутск и Москву, оттуда — в Могочу.
Наконец выяснилось, что третий груз благополучно проследовал Иркутск, но до Могочи не добрался: пропал, исчез, потерян железной дорогой — или кем-то украден? Это так и осталось невыясненным.
Новых средств институт не давал, Иван Антонович проявлял чудеса изобретательности, подыскивая замены снаряжению.
Нужно было два листа железа, чтобы изготовить печки для палаток. Новожилов отправился с отношением к начстройучастка. Тот ответил, что железа выделить не может, но дал совет: подите, мол, к складу и украдите! Увы, будущий горный инженер и выдающийся палеонтолог оказался бездарным вором.
В сарае лежали полученные продукты — мука, крупы, сахар. Однажды, закончив пересчитывать снаряжение, Ефремов и Новожилов легли спать в три часа ночи. Вдруг кто-то начал тихо ломать крышу. Охраняя свою «факторию», владельцы продуктов держали пистолеты заряженными. Симба начал стрелять через крышу — и грабитель, скатившись в огород, удрал через забор. Утром оказалось, что доски крыши изрядно пробиты стрельбой — прямо-таки решето.
Однако не ждёт, тает короткое забайкальское лето… Можно было бы вернуться, но Ефремов знал: в 1935 году Палеонтологический институт переводят в Москву, а на 1937 год намечен XVII Международный геологический конгресс, на котором непременно будет секция палеонтологов. Предстоит колоссальная работа: перевезти в Москву экспонаты музея и на новом месте смонтировать их, провести подготовительную работу по приглашению гостей, обработать собранные палеонтологические материалы, чтобы представить их коллегам. Другой экспедиции в Сибирь могло не случиться. Иван шестым чувством ощущал, что в третий раз, как в сказке про Ивана-царевича, чудо-юдо должно быть самым страшным — о двенадцати головах, но Иван-царевич обязательно победит его.
Новожилов писал: «Как-то в августе мне вспомнилось об университете, и стало ясно, что я надолго отстану от курса, а уехать к началу занятий и оставить партию без коллектора-геолога недопустимо и к тому же самому остаться без практики не лучше. Мы обсудили эту проблему. Иван Антонович начал с того, что отпустить меня не может… Столковались вот на чём: 1) Иван Антонович прочтёт мне некоторые лекции из программы 4-го курса и что лучше эти лекции иллюстрировать фактическими разрезами, когда будем уже в пути к месту работы, 2) пока не разделимся, я буду вести съёмку вместе с ним, 3) по возвращении в Ленинград он, кроме отзыва о геопрактике, даст справку о прочитанных мне лекциях из программы текущего курса…»
И практика началась.
Ефремов и Новожилов отправились на Тупик — пешком. Пройдя за день по извилистой горной дороге 47 километров, они решили заночевать в зимовье, которое значилось на карте. Подошли к дому, мечтая о горячем чае и постели — и вдруг из темноты:
— Стой! Кто идёт? Стрелять буду!
— Зимовать! — ответил без колебаний Иван Антонович.
Ответ обескуражил хозяина: он первый раз слышал, чтобы к нему шли зимовать!
Оказалось, в темноте путники прошли мимо зимовья и приняли за ночлег золотоскупку. Сторож ужасно нервничал — пришлось быстро уйти, но возвращаться назад не хотелось, и ночевали на улице.
(В 1935 году Новожилов написал целую поэму о могочинском сидении и пути на Тунгир — оригинал с вклеенными фотографиями и рисунками автора хранится в семейном архиве И. А. Ефремова и Т. И. Ефремовой.)
В конце августа маленький отряд: Ефремов — начальник партии, петрограф А. А. Арсеньев, сотрудник треста «Восток-нефть» старший коллектор Н. И. Новожилов, студентка четвёртого курса Ленинградского горного института О. Н. Лесючевская, которая исполняла обязанности и художника, и старшего коллектора, — воссоединился в Тупике, том самом, где Иван Антонович два года назад ждал большой воды, чтобы отправиться в Усть-Нюкжу. В этот раз Тупик буквально плавал в остатках наводнения — дожди в горах не прошли даром, и Лесючевская с Арсеньевым дожидались друзей, сидя на крыше.
Наняв трёх рабочих, построили карбаз, погрузили на него дополнительно лёгкую лодку. Иван Антонович предложил дать кораблю имя, выбрали то, которое придумал начальник: «Аметист». Новожилов на борту написал это имя голубой краской, быстро поставили мачту, приснастили парус, из платка сделали вымпел.
В полдень 4 сентября карбаз поплыл по сливу струй — вниз по шумному Тунгиру, затем по широкой Олёкме, правому притоку величественной Лены. Команда дружно распевала сочинённый там же «Верхне-Чарский гимн». Каждый знал, что вместо 80 тысяч рублей, положенных на экспедицию по смете, у отряда на всё про всё только четыре тысячи, что наступает осень, а впереди их ждёт тяжелейший путь. Но весело было на карбазе — весело не от бездумности и беспечности: душа звенела от радости долгожданного труда, от сознания, что мы, люди, можем преодолеть любые трудности.
Камертоном для каждого в дружном коллективе был Ефремов. Нестор Иванович вспоминал, как описывал Грин одного из своих любимых героев — лоцмана по имени Битт-Бой: «Теперь нам пора объяснить, почему этот человек играл роль живого талисмана для людей, профессией которых был организованный, так сказать, риск.
Наперекор умам логическим и скупым к жизни, умам, выставившим свой коротенький серый флажок над величавой громадой мира, полной неразрешённых тайн, — в короткой и смешной надежде, что к флажку этому направят стопы все идущие и потрясённые, — наперекор тому, говорим мы, встречаются существования, как бы поставившие задачей заставить других оглядываться на шорохи и загадочный шёпот неисследованного. Есть люди, двигающиеся в чёрном кольце губительных совпадений. Присутствие их тоскливо; их речи звучат предчувствиями; их близость навлекает несчастья. Есть такие выражения, обиходные между нами, но определяющие другой, светлый разряд душ. «Лёгкий человек», «лёгкая рука» — слышим мы. Однако не будем делать поспешных выводов и рассуждать о достоверности собственных догадок. Факт тот, что в обществе лёгких людей проще и ясней настроение; что они изумительно поворачивают ход личных наших событий пустым каким-нибудь замечанием, жестом или намёком, что их почин в нашем деле действительно тащит удачу за волосы. Иногда эти люди рассеянны и беспечны, но чаще оживлённосерьёзны. Одна есть верная их примета: простой смех — смех потому, что смешно и ничего более: смех, не выражающий отношения к присутствующим».[111]
Нестор Иванович уже ощущал, что судьба его неожиданно поворачивается: с 1935 года студент-геолог поступил работать в Палеонтологический институт — и покинул его только в 1973-м, выйдя на пенсию.
В Усть-Нюкже, в колхозе, Иван Антонович рассчитывал взять в аренду оленей. Не удалось. Тогда команда сплавилась до устья Хани, где была фактория, откуда вьючной тропой через отроги хребта Удокан планировалось выйти в район Верхней Чары, — но в Хани олени были слишком дороги. По слухам, якуты кочевали где-то не очень далеко. Арсеньев вызвался было найти у них вьючных лошадей, но надеяться на это не стоило.
Ефремов принял, возможно, единственно верное решение: пробиться к Чаре кружным путём, через Якутию, сплавившись ещё ниже по Олёкме, затем поднявшись по реке Токко. Говорили, что оленей там гораздо больше.
Пока стояли в посёлке, удалось захватить съёмкой низовья речки Хани.
Ниже Хани Олёкма бурлила порогами, которые по низкой осенней воде считались непроходимыми. Длина порожистого участка составляла 170 километров.
Как переоборудовать карбаз — неуклюжее судно, этот «утюг на воде», для плавания в порогах?
«Аметиста» надо было разгрузить для надстройки бортов и двускатной носовой кровли. «Груз перетаскивали по косогору, работали все. Оставалась самая тяжёлая ноша — 80-килограммовый ящик с сахаром; нужно было нести его вдвоём, но Иван Антонович подставил спину и приказал взвалить ящик; нёс его он как будто без усилий».[112]
По команде Ефремова отряд взялся нашивать борта и укреплять нос, вдобавок обтянув его брезентом, и 3 октября партия двинулась вниз — туда, где Олёкма с рёвом прорывается на север через отроги хребта Удокан, где вода бьётся о скалы — «чёртовы зубы» и бушуют пороги Болбукта, Олдонгсо и Махочен.
«Поверхность воды начала вспучиваться длинными и плоскими волнами. Карбаз — тяжёлый плоскодонный ящик с треугольным носом — стал медленно поворачиваться и нырять. Под носом захлюпала вода. Рёв приближался, нарастая и отдаваясь в высоких скалах. Казалось, самые камни грозно ревели, предупреждая пришельцев о неминуемой гибели.
Лоцман подал команду, гребцы заворочали тяжёлыми вёслами. Карбаз повернулся ныряя. Река входила в узкое ущелье, сдавившее её мощный простор. Гигантские утёсы, метров четыреста высотой, надменно вздымались, сближаясь всё больше и больше. Русло реки напоминало широкий треугольник, вершина которого, вытягиваясь, исчезала в изгибе ущелья. У основания треугольника высокий пенистый вал обозначал одиночный большой камень, а за ним треугольник пересекался рядом острых, похожих на чёрные клыки камней, окружённых неистово крутящейся водой. Ущелье вдали было заполнено острыми стоячими волнами, точно целый табун вздыбленных белых коней протискивался в отвесные тёмные стены. Налево в каменную стену вдавался широкий полукруглый залив, искривляя левую сторону треугольника, и туда яростно била главная струя реки, взмётывая столбы сверкающих брызг. <…>
Карбаз взлетел на гребень высокого вала — за камнем вода падала в глубокую тёмную яму. Карбаз рухнул туда. Раздался тупой стук днища о камень, рывок руля едва не сбросил Никитина и лоцмана с мостков, но оба крепко упёрлись в бревно и пересилили. Судно слегка повернуло и неслось теперь под тупым углом к берегу, отклоняясь к грозным каменным клыкам. Карбаз, заливаемый водой и пеной, отчаянно дёргался, прыгая на высоких волнах» — так Ефремов описал прохождение олёкминских порогов в рассказе «Тень Минувшего».
В кипящей воде порогов «Аметист» разгонялся до 40 километров в час. Кораблекрушения удалось избежать только благодаря капитану.
На Олёкме началась посменная геологическая служба — выезд на лодке для описания обнажений и сбора образцов. Местность вокруг не баловала геологов ярко выраженными обнажениями. Чаще всего берега были покрыты крупной и мелкой галькой, многочисленные заливы забиты плавником — деревьями и ветками, которые река несла с верховьев. На берегах путешественника поджидали топкие болота с ледяной водой, горелый лес и проклятие путника — ёрник. Этот берёзовый кустарник высотой от метра до двух, где кусты состоят из множества отдельных тонких стволов, переплетающихся между собой, делал долины и рек, и ручьёв практически непроходимыми.
Поэтому геологи так ценили обнажения, по которым можно было выделить отдельные горизонты и сделать нужные замеры.
Выезжали по очереди: один день — Ефремов с Новожиловым, другой — Арсеньев и Лесючевская. Как правило, обрывы высотой до 30 метров состояли из отложений четвертичного периода: сверху плотными известняками с прослоями песчаников и глинистых сланцев. Внизу громоздилась осыпь — хаос рыхлых кусков, гальки, песка — продуктов выветривания. Не раз учёные могли сорваться и упасть с крутых, почти отвесных склонов. Но судьба благоволила им.
Этот труднодоступный район был исследован геологами впервые.[113]
Как только появлялась возможность, Иван Антонович со свойственной ему обстоятельностью читал Новожилову обещанные лекции, попутно проводя практические занятия по тектонике, геоморфологии и фациям, с описанием разрезов и всеми сопутствующими наблюдениями и документацией.
Ударили морозы.
В отчёте Ефремов писал: «Ввиду особенно раннего ледостава в текущем году партии удалось только круглосуточным плаванием с густой шугой доплыть к 16 октября до якутского посёлка Кудукёль, расположенного на левом берегу Олёкмы, всего в 100 км от устья, где карбаз и вмёрз окончательно. Несмотря на то, что в последние дни плавания по Олёкме шуга пошла сплошной массой, при дружной и упорной работе всей партии от начальника до рабочего карбаз всё же доплыл до первого жилого якутского посёлка.
При этом плавании пришлось много льда прорубить под носом карбаза и зачастую проталкивать его в густой шуге, напиравшей со всех сторон, особенно в узких протоках реки или на тихом плёсе.
Из-за отсутствия тёплой одежды (главное обуви) выстоять на руле больше 172–2 часов не было возможности».
Ранняя якутская зима заставила плыть даже по ночам. Греться приходилось, ломая баграми лёд перед носом карбаза. Но уныния не было: «Верхне-Чарский гимн» по-прежнему звучал бодро. Когда же в Кудукёле, маленьком посёлочке, рассечённом пополам глубоким оврагом, удалось наконец договориться с проводником и раздобыть оленей, настроение и вовсе поднялось, и маленький отряд отважно двинулся от Олёкмы к неведомой речке Токко.
Переход оказался весьма тяжёлым. Взятые в посёлке олени не отличались силой и крепостью. На нарты погрузили по 150–200 килограммов — такой груз был бы велик даже для хороших оленей на наезженной дороге. На мягком, ещё не слежавшемся снегу нарты глубоко проваливались, и оленям приходилось помогать почти на каждом, даже небольшом, подъёме.
По склонам высились острые тёмные ели, стройные кедры, сбросившие хвою лиственницы. Дикой, суровой казалась эта местность. Лишь однажды отряд оказался в небольшой берёзовой рощице — даже в пасмурный день она казалась светлой и живо напомнила Ефремову родные места.
На перевале из долины Олёкмы в речку Тяню (правый приток Токко) глубина снега достигла двух метров. Тут от каждого члена отряда потребовалась недюжинная выносливость: пришлось тропить дорогу, идя впереди оленей. Несмотря на это, часть Ленско-Алданской плиты была захвачена топографической и геологической съёмками.
Иван Антонович вёл отряд настолько спокойно и уверенно, что казалось, будто он идёт по знакомой местности. Если бы не твёрдое знание, что начальник здесь впервые, Нестор Иванович готов бы был подумать иначе. Не раз — когда издалека доносился волчий вой, когда, засыпая палатку, кружила метель, или морозная луна светила нестерпимо ярким светом — Новожилов вспоминал слова Ефремова: стыдно человеку склоняться перед мощью природы.
Однажды к стоянке отряда вышел бурый медведь-шатун. Поднявшись на задние лапы, он устремился к вышедшему из палатки Ивану. У того в руках было ружьё, но он пожалел лесного гостя. Не поднимая оружия, он грозно рыкнул на медведя — так, что тот мгновенно опустился на все четыре лапы и показал хвост. Видимо, зверь решил, что встретился с настоящим хозяином тайги.
Наступил декабрь, когда отряд наконец вышел к эвенкийскому посёлку Тяня, где находилась пушная фактория. Здесь отряд разделился, основная партия из трёх человек — Ефремов, Арсеньев и промывальщик И. А. Яковлев — пошла на юг, вверх по долине Токко. Новожилов отправился на север, в Олёкминск. Ефремов передал ему несколько писем, среди которых — письмо директору института А. А. Борисяку. Иван пишет, что финансовая организация экспедиции отвратительная: имея на свою партию 67 тысяч рублей, он вынужден был всю основную работу проводить на 4500 рублей! «Вследствие всего этого я решил раз навсегда оставить работу в экспедициях в Сибирь и ДВКрай, а также окончательно прекратить всякие поездки по чистой геологии».[114]
Осёдлого населения в долине Токко не было, здесь эвенки и якуты только кочевали. Ещё никто не составил карты этой реки.
При работе в Токкинском ущелье, в районе порогов, самым большим препятствием неожиданно стал ветер. Как в колоссальной аэродинамической трубе, ветер дул здесь постоянно, достигая такой силы, что снег начисто сдувало, оставались лишь чистый, словно стекло, лёд да голые камни. Требовалось предельное напряжение всех сил, чтобы двигаться против такого ветра: «Наутро, едва мы прошли три-четыре километра, за поворотом ущелья прямо в лоб ударил нам сильный и непрерывный ветер. На льду, на крутых скалах, среди редких голых деревьев — нигде не было ни одного местечка, в котором можно было бы укрыться от полёта бесчисленных копий мороза. Мы шли, наклоняясь вперёд, закутав лица так, что оставались лишь узенькие щёлки для глаз. Олени низко спустили головы, почти касаясь снега чёрными носами. Сильный ветер при шестидесятиградусном морозе почти непереносим. Через несколько минут я почувствовал, что вся передняя половина тела застывает до полного онемения. Приходилось поворачиваться спиной, идти пятясь, пока не согреешься. Шум и свист ветра заглушали все звуки…»[115]
Поднимаясь вверх, к хребту Удокан, на северных склонах которого берёт начало Токко, отряд обнаружил обширную котловину: «К вечеру мы вышли из страшного ущелья в громадную котловину — впадину с плоским дном, окружённую ступенчатыми горами. Перед нами расстилалось ровное снежное, сияющее в сумерках поле, окаймлённое чёрной полосой леса. После шума ветра в ущелье тишина и покой поразили нас. Мы назвали эту впервые открытую нами котловину Верхне-Токкинской, пересекли её по глубокому снегу и достигли в темноте опушки леса».
На всём протяжении маршрута велись геологические наблюдения.
В отчёте Ефремов писал: «В морозы ниже 40 градусов, т. е. больше половины времени всей работы, приходилось туго. Пришлось срочно приспособлять все приборы и инструменты. Обшивали все металлические приборы, чтобы к ним можно было прикасаться, не рискуя отморозить пальцы. Все компасы были обшиты кожей. Сконструировали упрощённую планшетку, прикреплённую на гужи для топографической съёмки. В запас заготовлялись рукоятки на геологические молотки. При таких морозах на кристаллических архейских породах ручки у молотков выдерживали очень короткий срок, а часто и сам молоток обламывался по кусочкам».[116]
Читая описания пятидесятиградусных морозов, представляешь такие морозы невероятными на широтах Нижнего Новгорода, Твери и Риги. Тем не менее эта часть Сибири характеризуется необычайно суровым климатом, а в межгорных котловинах наблюдается температурная инверсия: на дне котловины холоднее, чем на склонах окружающих её хребтов.
В рассказе «Голец Подлунный» Иван Антонович говорит о якутском выражении «шёпот звёзд»: «…пар дыхания, вырываясь изо рта, сразу превращается в мельчайшие льдинки». Трение льдинок на лету друг о друга производит характерное тихое шуршание, которое означает: мороз больше 45 градусов.
Ефремов жалел, что не успевает дойти до легендарной Мамонтовой горы[117] в гольцовой группе Тынтур. О ней впервые удалось собрать интереснейшие сведения. Местные жители говорили о целом кладбище мамонтов! Только ради этой горы стоило бы организовать отдельную экспедицию!
Отряд добрался до устья ручья Ульгулук, оттуда перевалил через речку Тарын и оказался на южном склоне хребта Удокан, в долине Чары, после чего выполнил боковой маршрут к Чарским порогам — на север, туда, где река пробивает себе путь через отроги Кодара. Идя по льду против течения реки, отряд поднялся в вершину Чары и изучил её истоки — озёра Большое Леприндо и Леприндокан, образованные в результате тектонической активности. Исследования охватывали всю Верхне-Чарскую котловину, хребты Кодар и Удокан, долины рек Нижний и Средний Сакукан, Апсат, Кемен, Нерунгнакан, Калер, озера Леприндо, Амудиси…
К тому времени продукты почти закончились. Оставались лишь хлеб, лепёшки, чай, сахар и ячка. Несмотря на то что Пётр I называл ячневую кашу «самою спорою и вкусною», Иван Антонович говорил, что эта каша не вызывает у него аппетита.
Новый год партия встретила в пути. Исследования закончились лишь 12 января 1935 года в долине Чары, где в обширной котловине, между хребтами Удокан и Кодар, находился небольшой населённый пункт с факторией и радиостанцией.
Теперь надо было вернуться на железную дорогу. Пробиваясь на юг вверх по течению реки Кемень (на современных картах — Кемен), отряд перевалил в долину озёрной цепи Ам-мудига, добрался до реки Калар и достиг прииска «XI лет Октября» в Китемахтинской котловине. От прииска до хорошо знакомой Могочи вела конно-зимняя дорога.
Что может быть приятнее — после месяцев пути в мороз, по глубокому снегу, через опасные перевалы и обледенелые пороги оказаться в мягко обволакивающем тепле ладно срубленной высокой избы! Раздеться, умыться тёплой водой и вытереться белым полотенцем! Тяжёлый полушубок и полевая сумка висят на стене, на широком дощатом столе — огромный самовар, медный чайник с крепкой заваркой и несколько кружек. Вдоль стен — широкие лавки, застеленные чистыми одеялами, на которых так приятно выспаться после оленьих шкур, постланных на лапник. В окна льётся яркий утренний свет. Там, за окном, суровая забайкальская стужа, а здесь весёлые товарищи и новые друзья — старатели, готовые помочь словно с неба свалившимся геологам.
Сотрудники треста «Верхамурзолото» снабдили Ефремова деньгами. Иван Антонович рассчитался с проводником за аренду оленей.
24 января партия отправилась в новую дорогу. За неделю благополучно добрались на санях до Могочи. Телеграммы полетели в Москву и Ленинград, где радовались друзья, уже считавшие отряд Ефремова погибшим.
Новожилов, торопясь в университет, отчитался в расходе денег, сдал снаряжение. Теперь надо было купить билет до Ленинграда — сделать это было сложно, а после таёжной чистоты — весьма противно. Пришлось немало заплатить носильщику, чтобы он через знакомых купил Нестору Ивановичу билет в купейный вагон скорого поезда. Прощаясь, молодой геолог предложил Ивану Антоновичу своё меховое полупальто, чтобы тот мог доехать в нём до дома: в своей видавшей виды спецовке Ефремов выглядел «вербованным» и мог вызвать подозрение. Иван Антонович без отказа взял полупальто до Ленинграда.
Ефремов сдержал своё слово: написал Новожилову справки о прочитанных лекциях и практике. Обширная полевая геологическая практика с самостоятельной геологической съёмкой долины Токко признана была отличной. По лекциям Ефремова Нестору Ивановичу были зачтены тектоника, морфология и методы исследования фаций.
Казалось бы, в этом нет ничего удивительного. Однако стоит вспомнить, что в 1935 году у самого Ефремова ещё не было диплома о высшем образовании. Важнейшая деталь, характеризующая время: подлинные знания, доказанные практикой, в тот момент ценились выше бумаги с гербовой печатью.
Дожидаясь в Могоче денег для расчёта с проводниками, для отправки в академию собранных коллекций и снаряжения, Иван Антонович систематизировал полевые материалы, обобщал наблюдения и писал отчёт по строго заданному плану: обзор литературы по району (он был готов ещё в Ленинграде), морфологический и геологический очерки, схема геологической истории района, описание полезных ископаемых.[118]
Сейчас, по окончании пути, он отчётливо понимал, что летом партия не смогла бы пройти от 120-го до 150-го меридиана к востоку от Гринвича и от 54-го по 61-й градус северной широты, охватить исследованиями такой огромный район: болотистая местность котловин, обилие рек и озёр делали Верхне-Токкинскую и Верхне-Чарскую котловины практически непроходимыми. Одним словом, не было бы счастья, да несчастье помогло.
В беседах со старателями Иван Антонович убеждался, что ничто так не развивает наблюдательность и смекалку, как жизнь в тяжёлых условиях тайги. Техники на приисках и старатели прекрасно знали каждый свой район, и Ефремов в беседах с ними собирал крупицы знаний, из которых потом сложилась яркая мозаика. Иван Антонович обобщил материал по Могочинскому золотоносному и редкометалльному району, наметив новую оценку природных богатств этой части Забайкалья.
Коллеги в Ленинграде стремились вызволить Ивана из невольного плена, хлопотали, чтобы финансовые документы быстрее прошли необходимые согласования и деньги были скорейшим образом перечислены в Могочу.
Домой Ефремов вернулся только 7 марта.
Свой предварительный отчёт — свыше ста страниц — партия сдала через пять дней после приезда в Москву. Он одобрен академиком Андреем Дмитриевичем Архангельским и принят Советом по изучению производительных сил.
Вскоре в газете Академии наук СССР «За социалистическую науку» появилась статья под названием «Их имена должен знать весь коллектив Академии наук». Подзаголовок гласил: «Верхне-Чарская партия Прибайкальской экспедиции работала героически». Корреспондент С. Шмулович писал:
«В лютую стужу партия начала работу. Это тогда, когда другие уже вернулись в институты и начали спокойную, размеренную «камералку».
Можно было бы поставить крест на работе и вернуться с первой же оказией на железную дорогу, сославшись на объективные причины.
Но так не поступают советские люди.
Стальной молоток разлетается от удара о камень на якутском морозе. А люди, наши молодые советские учёные, ведь они сделаны из того же материала, что и героические строители Кузбасса, что и полярные мореплаватели советской страны, что и дозорные на советских рубежах. Наши люди не отступают, а берут любые крепости! Этой дерзости учит весь коллективный опыт миллионов трудящихся нашей родины! Это крепкая воля советских людей, вдохновляемая великим вождём.
Верхне-Чарская партия сделала своё дело скромно и хорошо. Но дело это героическое. <…>
Вот образец настоящей героической, большевистской работы! Имена товарищей, сделавших эту работу, должен знать весь коллектив работников Академии.
В повседневной работе миллионов трудящихся героизм проявляется каждодневно на тех участках, где тяжелее всего, где больше препятствий, где нужнее всего упорство, выдержка, творческий энтузиазм и где яснее сознание великой чести трудиться и побеждать под знаменем Сталина».
Ефремов подал заявление на вступление в ВКП(б) — Всесоюзную коммунистическую партию большевиков. Однако ему было отказано: в графе «происхождение» стояло: «из купцов», именно эта строка оказалась определяющей, несмотря на все заслуги молодого учёного.
Рассказ «Голец Подлунный», написанный Ефремовым в 1942–1943 годах, хронологически и топографически точно описывает путь отряда по долине Токко. Обладая мощным магнетизмом, зачарованный мир горных хребтов и котловин, мастерски нарисованный художником, притягивает к себе современных путешественников. Люди стремятся добраться до Чары и долины Токко, увидеть своими глазами голец Подлунный — вершина с таким названием действительно нанесена на географические карты. А оставшаяся недоступной для Ивана Антоновича Мамонтова гора превратилась в рассказе в таинственную вершину с пещерой, где лежали гигантские бивни слонов.
В честь недоступной и прекрасной таёжной реки получила своё имя одна из героинь знаменитого романа Ефремова «Туманность Андромеды» — Чара Нанди.
Горы, ставшие фактически персонажами ефремовского рассказа, тоже получили значимые имена. Недалеко от реки Итчиляк, в 30–35 километрах к северу от линии БАМа, над горным хребтом резко возвышаются два пика — 3000 и 3200 метров абсолютной высоты. Один из них сейчас носит имя Усольцева, второй называется Подлунным.
Верхне-Чарская экспедиция Ефремова для многих исследователей стала образцом самоотверженного научного поиска.
В 1982 году читинские учёные А. Трубачёв, кандидат геолого-минералогических наук, и А. Котельников, кандидат географических наук, изучили предварительные отчёты Ефремова и петрографа партии А. А. Арсеньева, хранящиеся в архиве Читы. Под впечатлением от отчётов они выступили со статьёй «Забайкальские маршруты писателя Ефремова» в газете «Читинский рабочий»:
«Полуголодные люди прошли по «белым пятнам» Восточной Сибири втрое больше заданного (2750 километров, из которых 1600 — с геологической и топографической съёмкой) и обнаружили признаки знаменитых теперь месторождений: удоканской меди, каменного угля, золота и железной руды, открытых позже другими геологами в Чарской котловине.
Когда читаешь эти труды, поражают изящный слог, меткость наблюдений, тщательность обработки материала, смелость в выводах. В «Очерках рельефа района» подробно охарактеризовано строение речных долин Верхне-Чарской котловины и её бортов — хребтов Кодар и Удокан. Кроме описания рельефообразующих форм, даётся описание их происхождения. Суждения Ефремова и Арсеньева о рельефе и четвертичных отложениях согласуются в целом с нынешними представлениями, полученными с применением современных геофизических методов. <…>
Геология севера Читинской области изложена в отчётах на уровне тех теоретических взглядов, которые тогда господствовали, и, конечно же, эти сведения в наши дни представляют главным образом исторический интерес. Поиск полезных ископаемых вёлся по принципу: ищи всё, что встретишь. Серьёзных методов прогноза большинства рудных скоплений тогда практически не существовало. И всё же И. А. Ефремовым и А. А. Арсеньевым верно предсказывалось направление поиска рудного золота в кварцевых жилах. Находки железа самими авторами оценивались невысоко, так же, как и угольные пласты в районе Читканды считались ими пригодными только для местных нужд. Что же касается нефти, то доказательств её наличия обнаружить не удалось. Это тоже был один из ответов на поставленные перед исследователями вопросы».[119]
Карта района, составленная партией Ефремова, была позже использована при составлении «Большого советского атласа мира».
Экспедиционные записи — ценнейшие документы эпохи. Однако, видимо, не только биографам они интересны. В записной книжке с советами жене, найденной после смерти Ивана Антоновича, написано: «Экспедиционные дневники самой большой и интересной экспедиции 1934–1935 гг. — Чарской — таинственным образом исчезли с картами в геологическом институте Академии наук…» А ведь на картах были отмечены обнаруженные месторождения золота…
Станция «Иван Ефремов»
Великая Отечественная война помешала строительству железнодорожной магистрали в Забайкалье и Приамурье. В 1942 году уже уложенные звенья пути и фермы мостов были сняты и отправлены на запад для строительства Волжской рокады. Только в 1974 году возобновилось строительство Байкало-Амурской магистрали.
В 1978 году в честь семидесятилетия Ефремова во многих городах проводились встречи и литературные вечера, посвящённые его памяти. Тогда же возникла идея увековечить его имя в районе трассы БАМа, где он когда-то проводил исследования.
21 сентября 1978 года Постоянная междуведомственная комиссия по географическим названиям вынесла такое решение:
«Согласиться с предложением Тындинского райисполкома Амурской области, Амурского облисполкома, Дирекции строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и Государственного проектно-изыскательного института «Ленгипротранс», поддержанным Госпланом РСФСР, о переименовании на участке Чара — Тында станции с проектным названием «Усть-Нюкжа» в станцию «Иван Ефремов» (в память об Иване Антоновиче Ефремове, учёном-палеонтологе и писателе-фантасте).
Председатель А. С. Земцев.
Секретарь Т. В. Савина».[120]
В центре Усть-Нюкжи хотели установить памятник Ефремову.
Теперь требовалось дождаться одобрения свыше. В поддержке никто не сомневался — ведь Ефремов на протяжении четверти века был лучшим советским фантастом.
1 ноября 1979 года комсомольцы строительно-монтажного поезда — 594-го треста «Тындатрансстрой» — постановили:
«Мы, члены бригады монтажников, строящих станцию «Усть-Нюкжа», которая будет называться «Иван Ефремов», принимаем почётным членом бригады первооткрывателя трассы БАМ, писателя-фантаста Ивана Антоновича Ефремова».
Под протоколом — 13 подписей. Такие решения не принимаются по указке сверху, они идут от сердца, поэтому так важно перечислить эти подписи: бригадир Н. Матвеев, комсорг Л. Анганзоров, члены бригады: В. Ахмедов, С. Шестаков, И. Радул, Э. Эралиев, В. Зеликович, А. Щукин, Б. Соколовский, Б. Алдохин; начальник СМП-594 В. Б. Осенчук, секретарь партбюро С. 3. Цуркан, секретарь комитета комсомола Т. А. Кореннова.
Однако сверху одобрения почему-то не было.
В 1980 году в «Советской России» — одной из крупнейших газет страны — выступили академики АН СССР Владимир Васильевич Меннер и Александр Леонидович Яншин. Они писали:
«Предложение о присвоении имени Ефремова одной из станций на БАМе впервые высказал главный инженер головного проектного института «Мосгипротранс» Михаил Леонидович Рекс. Комсомольцы-строители с энтузиазмом восприняли это предложение. <…> В прошлом году научный совет по проблемам БАМа при АН СССР (в который входят 44 известных учёных страны) также единодушно присоединился к этому ходатайству. А в начале 1980 года эту же просьбу поддержали челябинцы, которые шефствуют над строительством Усть-Нюкжи. Таким образом, к настоящему времени уже 12 организаций одобряют и поддерживают инициативу комсомольцев, но решение этого вопроса почему-то затягивается. Уверены, что отклики читателей после этого письма помогут завершить благородное начинание молодых строителей магистрали».[121]
Спустя два года читинские геологи А. Трубачёв и А. Котельников опубликовали большую статью, в заключение которой — такие слова:
«Многие герои И. А. Ефремова — сильные и смелые люди. Их прототипом, видимо, надо считать самого писателя, который обладал огромным мужеством. Будучи руководителем экспедиции в пустыне Гоби, он на ногах перенёс инфаркт миокарда. Если именем этого замечательного человека будет назван посёлок или станция на нашем участке БАМа, то этим мы выразим самое глубокое уважение человеку, который так много сделал для того, чтобы наш мир стал ещё лучше».[122]
Видимо, дело хотели спустить на тормозах. У власть предержащих, тех, кто отдавал команду об обыске в квартире Ивана Антоновича и запрещал его роман «Час быка», было упорное желание замолчать тему. Сначала смерть Брежнева и смена генсеков, а затем и вихри перестройки заставили забыть об этой идее.
Сегодня на Байкало-Амурской магистрали нет станции «Иван Ефремов», нет даже станции Усть-Нюкжа. Само село находится на левом берегу Нюкжи, а станцию с проектным названием Усть-Нюкжа с 1977 года строили на правом. Однако в 1979 году её почему-то переименовали в Юктали: слово «юктэ» в переводе с эвенкийского обозначает «ручей, источник».
Однако сам Ефремов, его жизнь и творчество для тысяч людей остаются источником вдохновения. И, возможно, когда-нибудь на новой трассе — межпланетной или межзвёздной — в честь человека, впервые описавшего «Эру Великого Кольца», будет смонтирована станция «Иван Ефремов».
Кандидат биологических наук
Река, берущая начало высоко в горах, может течь единым потоком, может разбиваться на множество рукавов, уходить под камни, образовывать озёра, но при этом она неудержимо стремится выполнить своё предназначение — собрав свои воды, достичь долины, чтобы по ней вольготно и свободно направляться к морю.
Жизнь Ивана Антоновича после возвращения из Забайкалья была чрезвычайно насыщена самыми разнородными событиями. Кропотливая сосредоточенная работа — написание отчёта по Верхне-Чарской экспедиции. До начала нового полевого сезона оставалось всего полтора месяца. Этого времени было совершенно недостаточно для всестороннего отчёта: надо было дождаться лабораторных материалов.
Выезд же в поле отложить было нельзя: раскопки 1934 года в Каменном овраге дали такие удачные результаты, что нужно было досконально узнать, что скрывает этот костеносный пласт.
Июнь начался, как обычно, с экспедиции. С 21 июня по 15 июля Иван Антонович провёл в знакомом Ишееве — официально: принял участие в «Волжско-Каспийской экспедиции Палеозоологического музея в Апастовский р-н Татрес-публики».
Опираясь на данные прошлого года, Ефремов заложил площадки раскопок более удачно, там, где пески были наиболее богаты костями.
Пришлось снимать более мощный слой кровли, однако овчинка выделки стоила: были добыты скелет крупного хищного диноцефала, сходного с добытым в 1934 году, однако гораздо более крупной величины, череп и часть скелета in situ огромного улемазавра, части черепов лабиринтодонтов и множество отдельных костей различных родов рептилий.
Стояло вёдро. Работали в одних трусах, и бронзовый от загара Иван мог бы служить отличной моделью для ваятеля.
Николай Николаевич Косниковский, препаратор Геологического музея, вспоминал: «Вечерами собирались вокруг обязательного костра. Пекли картошку, жарили яичницу (Иван Антонович предпочитал ей гоголь-моголь из одних желтков). Высокие яркие звёзды на чёрном небе и взлетающие высоко искры, тишина и ощущение полной оторванности от остального мира — всё это располагало к беседе, иногда к тихому пению. Иван Антонович не говорил много, но никогда не выглядел безучастным. Меткими замечаниями он как бы поддавал жару в общий разговор и смеялся со всеми характерным отрывистым смехом».[123]
Природа и размеренная физическая работа помогли снять психологическое напряжение последних месяцев.
Нестор Иванович Новожилов, под влиянием рассказов Ефремова полюбивший палеонтологию, летом 1935 года отправился в Архангельскую область, на Мезень. Там геолог Я. Д. Зеккель обнаружил кости в пермских отложениях. Новая фауна тетрапод, добытая на Мезени, оказалась принципиально новой: её отличали уникальные условия захоронения и географическая специфика. Это заставило Ивана Антоновича некоторое время даже посомневаться: а пермь ли это?
«Удивительна эта фауна и в зоогеографическом отношении: одни формы связывают ее с пермскими фаунами Северной Америки, другие — с раннепермской фауной Западной Европы, третьи — с позднепермскими (раннетатарскими) фаунами Восточной Европы, содержащими гондванские элементы».[124]
К середине 1935 года Иван Антонович был автором семнадцати палеонтологических и геологических трудов и производственных геологических отчётов. В августе по совокупности работ, без защиты, ему была присвоена учёная степень кандидата биологических наук.
Удивительно было то, что 27-летний кандидат не имел диплома об окончании высшего учебного заведения!
В этом же году кандидатом биологических наук — также по совокупности работ — стала и Елена Дометьевна Конжукова. К тому времени они с Ефремовым уже жили вместе — первый брак Ивана Антоновича распался.
Вскоре, после двух с половиной лет учёбы экстерном в Горном институте, Ефремову было присвоено звание горного инженера. Однако диплом он получил лишь в 1937 году.
В 1987 году в доме 45 по набережной Лейтенанта Шмидта, в величественном вестибюле была установлена мемориальная доска. Надпись, выбитая в граните, гласит: «В Горном институте учился и окончил в 1937 году Иван Антонович Ефремов, профессор, лауреат Государственной премии СССР, известный геолог, палеонтолог и писатель-фантаст».
Новый материал требует основательного осмысления. Этому помогает книга Карла Альфреда Циттеля «Основы палеонтологии», которая в 1935 году готовилась к изданию на русском языке. Анатолий Николаевич Рябинин, профессор Ленинградского горного института, под чьим руководством велась работа, поручил Ефремову подготовить к публикации раздел «Позвоночные. Класс амфибий». Иван Антонович дополнил раздел новой информацией.[125]
Опыт геолога настойчиво говорил Ефремову о необходимости шире применять палеонтологические знания в прикладных областях: «Постепенно в его научном творчестве центр тяжести смещается от описания остатков позвоночных к их практическому использованию как «руководящих ископаемых» для стратификации отложений. Тем самым учёный закладывает основы стратиграфических схем для расчленения континентальных пермских и триасовых отложений СССР. И здесь И. А. Ефремов оказывается в центре разработки важнейших практических задач: его схемы расчленения континентальных отложений по смене фаун позвоночных повсеместно применяются геологами при геологических съёмках для поисков нефти в районах Второго Баку».[126]
В 1935 году Иван Антонович подошёл к основам тафономии.[127]
Пётр Константинович Чудинов так пишет об этом в своей книге: Ефремов «сформулировал главные положения, вытекающие из условий захоронения наземных позвоночных: 1) со времени существования огромных материков палеозоя (арены жизни наземных позвоночных) до современности сохранилась лишь незначительная часть континентальных пресноводных отложений; 2) остатки позвоночных рассеивались по суб-аэральной поверхности древних материков; 3) значительная часть площади древних материков недоступна исследованию, поскольку закрыта более поздними геологическими напластованиями или скрыта под водами моря. Кроме того, значительная часть осадочных толщ уничтожена длительным размывом в течение мезозоя и кайнозоя; 4) из всей массы древних наземных животных в условия, благоприятные для захоронения, попадает лишь небольшая часть их остатков. Сохраняются преимущественно остатки животных, обитавших вблизи водных бассейнов. Обитатели равнинных и степных пространств сохраняются реже. И, наконец, исключительно редки остатки животных горных областей, где преобладали процессы денудации, измельчение и снос продуктов разрушения литосферы.
Отсюда следовало, что остатки древних позвоночных могут сохраняться до современности лишь в определённых условиях: 1) количественного расцвета форм и наличия большого числа особей; 2) массовой гибели количественно богатой фауны при усилении неблагоприятных условий или миграциях; 3) наличия в данном пункте поверхности материка условий, способствующих концентрации скелетных остатков (дельты рек, заводи, многочисленные временные потоки, снос в озёрные бассейны и т. п.) и достаточной скорости процесса захоронения во избежание разрушения остатков; 4) нормального хода процессов литификации или окаменения, обеспечивающих полную минерализацию остатков; 5) сохранения костеносных толщ в литосфере и их последующего выведения на дневную поверхность.
Следовательно, необходимо совпадение многих обязательных условий, чтобы остатки животных попали в руки исследователя. Поэтому понятно, почему в пермских фаунах позвоночных обычно сохраняются водные и полуводные формы. Они достигли количественного расцвета, как формы специализированные, т. е. хорошо приспособленные к определённым условиям существования. При резком изменении условий в силу своей глубокой специализации, они становятся боковыми, вымирающими ответвлениями в длительном развитии той или иной группы наземных позвоночных. Поэтому И. А. Ефремов придавал особенно важное значение так называемым переходным формам, не достигавшим количественного расцвета и существовавшим в течение короткого отрезка геологического времени. Эти формы, малочисленные в общих комплексах наземной фауны, были обычно обитателями более высоких участков суши. Вместе с тем именно эти переходные формы представляют исключительный интерес для палеонтолога: они являются связующими звеньями при установлении родственных, филогенетических отношений в различных эволюционных рядах.
Таким образом, отсутствие или малочисленность в геологической летописи переходных и редких форм объяснялась закономерностями сохранения остатков. Обнаружение этих редких форм во многом определяется тщательностью исследований континентальных толщ, образовавшихся в благоприятных для сохранения остатков условиях».[128]
Завершив дела в Ленинграде, собрался в Москву и Ефремов. Но не один. Сдав свои комнаты, он и Елена Дометьевна Конжукова — как муж и жена — получили квартиру в Большом Спасоглинищевском переулке, возле Китай-города, в сердце Москвы.
Можно ли схватить стрелу в полёте так, чтобы она продолжала лететь?
Необходимо развивать свои душу и мысль, чтобы следовать за жизнью великого человека.
Глава пятая МОСКВА (1935–1941)
Сумбурна жизнь, но всё же она полна ощутимого смысла.
Вся она, с её любовью, голодом, смехом, сражениями, — как непрерывные и внятные толчки к созданию самого себя.
К. Г. Паустовский. РомантикиБольшой Спасоглинищевский
Прямые, как стрела, проспекты Ленинграда остались словно в прошлой жизни.
Маросейка, Лубянка, Солянка окружают Ивановскую горку — один из семи холмов старой Москвы. Среди разномастных домиков и особняков, взбирающихся по склонам горки вдоль извилистых переулков, стоит пятиэтажное здание, построенное в двадцатых годах XX века. Видимо, в нём планировалось разместить какое-то учреждение.[129] Высокие, почти четыре метра, потолки, огромные залы. Фасад здания выходил на Большой Спасоглинищевский переулок.
В начале 1930-х годов почти все дома, находящиеся между Лубянкой и этим переулком, перешли в ведение Центрального комитета партии. Когда в Москву начали переводить институты Академии наук СССР, требовалось срочно расселить людей. Дом 8 по Большому Спасоглинищевскому решено было отдать под квартиры научных работников. Огромные помещения наскоро разделили тонкими перегородками. Получились квартиры с необычайно высокими потолками и окнами. Сюда и поселили несколько семей сотрудников ПИНа.
Квартира из двух просторных комнат на пятом этаже, в торцевой части здания, досталась Ивану Антоновичу Ефремову и его жене Елене Дометьевне Конжуковой. На левой створке высокой двери прикрепили дощечку, на которой значилось: «И. А. Ефремов».
Немало времени потребовалось, чтобы обжить новое место. К обустройству быта необходимо было отнестись серьёзно: Елена Дометьевна, любимый Ежонок, ждала ребёнка.
Иван Антонович, шутя называя жену Ежом за колючий характер, уважал её смелый, резкий ум, обширные знания. Она владела несколькими иностранными языками, увлекалась археологией, культурой Востока, любила стихи поэтов Серебряного века, была страстной театралкой, умела слушать музыку.
Если купеческое происхождение подводило даже Ефремова, то о своём происхождении Елена Дометьевна предпочитала умалчивать. Она родилась в 1902 году в Павлограде,[130] в семье, корни которой восходили к польским панам и греческим монахам. Отец её рано ушёл из жизни — ему было всего 49 лет. В феврале 1911 года весь Павлоград оплакивал кончину Дементия[131] Пантелеевича Конжукова, купца, мецената, церковного старосты и благотворителя.
Конжуков окончил коммерческое училище и получил в наследство от отца чуть больше 350 рублей. Приняв участие в постройке Владикавказской железной дороги, он значительно увеличил своё состояние, а вскоре, поселившись в Павлограде, купил каменноугольные копи. На доходы он начал строить в городе первое шоссе, затем «абиссинский колодец» — скважину для снабжения населения хорошей водой. Он завершил строительство церкви, начатое его дядей Яковом Фёдоровичем Голубицким, построил церковно-приходскую школу, на свои средства содержал хор, много лет был попечителем Александровского высшего училища. В 1898 году, 16 октября, протоиерей Иоанн Кронштадтский во время приезда в Павлоград лично крестил новорождённую дочь Дементия Пантелеевича Надежду, старшую сестру Елены.
…Посвящая учебный год занятиям, Елена ждала лета. Летом снимали дом в Крыму, куда перебиралась вся большая семья, приезжали в гости двоюродные братья и сёстры, друзья и подруги. В саду слышался весёлый смех, обитатели дома устраивали игры и розыгрыши. По ночам любили изображать привидения. Однажды девушки нарядились привидениями, брат стрелял в них холостыми выстрелами, девушки же кидали в него патроны, будто бы пули отскакивают от них. Переполошили всю округу.
Часто выезжали в город — на концерты, в театр, в оперу. Любовь к музыке Елена Дометьевна унаследовала от отца.
Образованная девушка с приданым, вероятно, стала бы женой состоятельного промышленника, очаровательной хозяйкой дома.
Елена Дометьевна помнила тот день, когда она, восьмилетняя девочка, смотрела в окно на огромную, залившую все улицы пятнадцатитысячную толпу, сопровождавшую гроб с телом отца. Впереди шли духовенство и оркестр местного полка. Таких похорон в городе не было со дня его основания.
Старшая сестра недавно вышла замуж и уехала в Италию, а маленькая Елена и другие сёстры остались с матерью.
Революция и Гражданская война окончательно разрушили спокойный ход жизни, заставили выбирать иную дорогу. После окончания войны, когда Иван из Херсона направился на север, Елена поступила в Крымский университет в Симферополе, откуда только что уехал в Петроград профессор П. П. Сушкин. Окончив в 1926 году естественный разряд физико-математического факультета, она стала зоологом и занялась изучением современных брахиопод, морских донных животных в двустворчатых раковинах, затем заинтересовалась брахиоподами карбона.
Ленинград, Палеозоологический институт Академии наук. Невысокая стройная красавица с ясными внимательными глазами, тонким носом и чувственными губами, с тёмными пышными волосами, зачёсанными на косой пробор, сразу привлекла внимание вернувшегося из экспедиции Ивана Антоновича. Она с интересом слушала рассказы молодого голубоглазого и широкоплечего палеонтолога, вставляла дельные замечания. В её поведении не было легкомысленного кокетства, за внешностью нежной, хрупкой девочки скрывалась страстная, сильная натура.
Как особую драгоценность, Елена хранила «Романтические цветы» — третье издание стихов Николая Гумилёва, выпущенное в Санкт-Петербурге в 1918 году. Цветы гумилёвской поэзии были не блёклыми и слезливо-сентиментальными, но яркими, отважными, устремлёнными к подвигу:
Как конквистадор в панцире железном, Я вышел в путь и весело иду, То отдыхая в радостном саду, То наклоняясь к пропастям и безднам. Порою в небе смутном и беззвёздном Растёт туман… но я смеюсь и жду, Я верю, как всегда, в мою звезду, Я, конквистадор в панцире железном.Елену захватила героика первых советских экспедиций. В 1926 году она сумела попасть на «Персей», первое в СССР научно-исследовательское судно, в качестве лаборантки. В этом году «Персей» проводил океанографические работы в Белом море и Чешской губе. Под звёздно-синим флагом Елена встретила мужественных, сильных и надёжных мужчин, женщин, ставших достойными подругами и соратницами своих избранников. В кают-компании «Персея» она познакомилась с геологом Сергеем Владимировичем Обручевым, автором гимна корабля, перекликавшегося с гумилёвскими строками:
На звёздном поле воин юный С медузой страшною в руках. С ним вместе нас ведёт фортуна И чужд опасности нам страх.Сергей Владимирович был сыном знаменитого исследователя Владимира Афанасьевича Обручева. Его брат Дмитрий Владимирович, палеонтолог, работал под руководством А. А. Борисяка. Возможно, благодаря этим знакомствам Елена пришла в палеонтологию. К моменту знакомства с Ефремовым она была участницей нескольких экспедиций, в том числе на Алтай.
Иван, желая стать достойным любви этой молодой женщины, готов был посвящать ей свои научные подвиги. У Елены не на шутку разболелось сердце, когда в 1934 году он пропал в заснеженных горах Чарской котловины, до Нового года не подавал вестей.
Теперь они живут вместе — уже в Москве. И ждут ребёнка.
Елена Дометьевна — рост метр шестьдесят, чёлочка на прямой ряд, косынка «татарочкой» повязана, сумка через плечо, папироска в руке — мечтала не бросать научную работу, не становиться домохозяйкой. Заботы по хозяйству, стирка, уборка, хождение по магазинам, приготовление пищи занимали так много времени. Елена Дометьевна считала, что вести дом — не есть главная женская доблесть.
Пришлось взять домработницу. В семьях многих учёных в то время это было обычным делом. Девушки, приехавшие в город из голодающих деревень, часто нанимались в частные дома ради жилья и питания.[132]
Домработница тогда не была признаком роскошной жизни, особенно если учесть, что жалованье научных сотрудников отнюдь не было высоким. Иван Антонович говорил, что его зарплата меньше, чем у шофёра Борисяка.
Письмо Сталину и восстановление музея
Елене Дометьевне не надо было объяснять, в какой сложной ситуации при переезде оказались Палеонтологический институт и сам Иван Антонович.
Институт разместили в наскоро оборудованных помещениях по Большой Калужской улице, 16, на окраине Москвы, возле Нескучного сада. Выбор места объяснялся тем, что в 1934 году особняк в Нескучном саду занял президиум Академии наук и остальные институты планировалось устроить поблизости.
В 1936 году академия начала подготовку к грандиозному мероприятию — Всемирному геологическому конгрессу, в рамках которого должна была работать и палеонтологическая секция. В начале сентября Ефремова выбрали учёным секретарём института. Иван Антонович, только что вернувшийся из Каргалы, вынужден был оставить почти всю собственную научную работу — написание статей, подготовку к печати научных сборников — и сосредоточиться на организационной деятельности: «Бросить все дела и всеми силами вывозить институт».[133]
В Ленинграде тщательно упаковали и отправили в Москву бесценные экспонаты Палеонтологического музея, но в новой столице музею пока не находилось места. Ящики гнили в подсобках, вызывая в учёных чувство беспомощности и досады. Часть коллекции оставалась в Ленинграде.
Трудности возникали на каждом шагу. Многие сотрудники не получили нормального жилья. Академия наук оказалась неспособна оперативно решать жилищные проблемы. Год спустя Новожилов, спутник Ефремова по Чарской экспедиции, ценный раскопщик и образцовый препаратор, оказался в особо сложном положении: московская прописка, в то время чрезвычайно строгая, у него кончилась, без прописки его не селили даже в общежитие, и некоторое время он на нелегальном положении жил в квартире Ивана Антоновича. Спал на снятой с петель двери, положенной на ванну. Без жилплощади и прописки его могли выслать из столицы. Ефремов хлопотал, пытаясь добыть для него жильё. В конце концов Нестор Иванович получил небольшую комнату возле Курского вокзала.
Необработанные коллекции хранились в ящиках, не было помещений для препаровки и изучения находок. Негде было развернуть библиотеку института, упакованная, она была практически недоступна. Проблемы возникали даже с хорошими машинистками: статью об амфибиях, которую Ефремов отдал на перепечатку, подготовили настолько скверно, что пришлось искать новую машинистку. Ею стала М. П. Климовицкая, которая жила в том же доме, что и Ефремов.
Грамотных машинисток передавали по знакомству, как несомненную ценность.
Иван Антонович отчётливо видел, как плетутся бумажные сети, как опутывает живое дело бумажная волокита, как страдает труд великих подвижников науки. Музею срочно нужно было собственное помещение. Отчётливо осознавая происходящее в стране, Ефремов понимал, что быстро разрешить ситуацию мог только один человек — Иосиф Сталин. И созрело письмо — простое, ясное, в котором учёный секретарь Палеонтологического института, кандидат биологических наук Ефремов подчёркивал неоценимое значение коллекций и предлагал передать музею пустующее помещение графских конюшен в Нескучном саду, рядом со зданием Президиума АН СССР.[134]
Конюшни и манеж составляли единое здание, входившее в ансамбль Нескучного сада. В середине XIX века корпус был перестроен в зал для загородных царских приёмов, ныне заброшенный и разрушающийся.
Когда писалось письмо, в манеже были сложены ящики с экспонатами музея здравоохранения. Их собирались вынести, а здание передать академику Ферсману для развёртывания Минералогического музея. Та же часть, в которой находились конюшни, пустовала. Просторное помещение и высокие потолки вполне подходили для монтировки скелетов крупных динозавров. Конечно, все экспонаты музея здесь развернуть было невозможно, однако это лучше, чем ничего.
Письмо подписали ведущие специалисты института.
Иван Антонович с женой напряжённо ждали ответа. И рождения ребёнка.
В сентябре родился сын, которого Иван Антонович назвал Алланом — в честь любимого героя детства Аллана Квотермейна.
К октябрю стало известно, что письмо дошло до вождя народов, и бывшие конюшни графа Орлова-Чесменского переданы музею.[135]
Перед проведением Всемирного геологического конгресса надо было специально подготовить залы для размещения коллекций, сделать полный ремонт вплоть до настилания новых полов, соорудить постаменты и витрины, а затем заново смонтировать разобранные скелеты древних чудовищ.
Переехавший из Ленинграда институт насчитывал 16 научных и 13 научно-технических сотрудников. Воссоздание экспозиции воодушевило небольшой коллектив палеонтологов. Коллекции высвобождались из ящиков. К Всемирному геологическому конгрессу монтировались новые экспонаты.
В начале лета 1937 года Ефремов оказался действующим лицом сцены с новым препаратором Марией Фёдоровной Лукьяновой. В ПИН тридцатилетняя женщина с тремя классами церковно-приходской школы, член ВКП(б), пришла по совету двоюродной сестры после работы в фабричной библиотеке, где она попала под сокращение. Владимир Самуилович Бишоф обучал препараторов научно-технической обработке скелетов. Работа пыльная, грязная, кругом одни мужчины. Да и боязно: шутка сказать, настоящая наука! Привлекало Марию Фёдоровну ещё и то, что в ПИНе занимались образованием сотрудников: в кружках обучали палеонтологии, зоологии, физиологии, немецкому языку.
Мария Фёдоровна с белыми после работы в библиотеке руками старалась вовсю, хотя сотрудники подшучивали, что такую грязную работу нельзя делать такими нежными ручками.
Заходил в препараторскую Ефремов — вежливый, уважительный; красивое благородное лицо, синий костюм, всегда белоснежный воротничок, из рукавов — белые манжеты. Только вот заикается сильно.
В конце мая Лукьяновой поручили взяться за скелет — метра два длиной и полтора шириной. Над ним работали всю зиму и всю весну — поковыряются и бросят. Только и видно — песок плотный, а в нём череп и кости. Мария Фёдоровна вспоминала: «Я с ним быстро разобралась, тем более что конечностей не было. Рёбра сложила на лоток, песок мне уборщица помогла вытащить. Вёдрами таскали… Принялась работать над черепом. Владимир Самуилович и предлагает: «Не могли бы вы сверхурочно поработать? Надо успеть смонтировать скелет к конгрессу». <…> Вот для него я и старалась. Конечно, и денег хотелось подзаработать сверхурочно, тогда ведь мало платили. Быстро управилась, череп положила на лоток, работаю над ним. А тут Иван Антонович заходит. Он любил приходить к нам, не то что некоторые учёные — дадут работу и забудут. Владимир Самуилович докладывает: «Вот, мол, Мария Фёдоровна отпрепарировала скелет». Иван Антонович прямо удивился и недоверчиво так спрашивает: «Так быстро?» Я прямо похолодела: ведь конечностей нет, многих позвонков тоже нет. Наверное, думает, что я половину костей для скорости выкинула. Ноги подкашиваются, но всё-таки встала и лепечу: «Иван Антонович, здесь все свидетели. Я ничего не выкидывала, даже песок чуть ли сквозь сито не просеяла. Ног у скелета не было, а рёбра и череп — вот они». <…> Как он хохотал! Схватился за живот и чуть не до полу согнулся. Глядя на него, все в препараторской захохотали. И я смеюсь, как дурочка».[136]
После этого случая Иван Антонович пригласил Марию Фёдоровну в свой отдел низших позвоночных, которых он ценил более всего, называя ископаемых беспозвоночных «минералогией», «щебёнкой», «плесенью». Расхаживая по препараторской и потирая пальцами лоб, он предупредил женщину, что работа у него в отделе трудная, по твёрдым породам, но интересная. Лукьянова сразу согласилась. Она станет незаменимым работником, единственной женщиной, прошедшей три года Монгольской экспедиции, и до конца жизни останется верным другом семьи Ефремова.
Монтировка скелетов продолжалась даже поздно ночью. Позже в рассказе «Тень Минувшего» Ефремов описал эту работу так:
«Металлические удары глухо разносились по огромному залу. Никитин остановился у входа. В двух стоявших друг против друга витринах приземистые ящеры скалили чёрные зубы. За витринами пол был завален брусьями, железными трубами, болтами и инструментами. Посредине на скрещённых балках поднимались вверх две высокие вертикальные стойки — главные устои большого скелета динозавра. К задней стойке уже присоединились сложно изогнутые железные полосы. Два препаратора осторожно прикрепляли к ним громадные кости задних лап чудовища.
Никитин скользнул взглядом по плавному изгибу трубы, обрамлявшей каркас сверху и щетинившейся медными хомутиками. Здесь будут установлены все восемьдесят три позвонка тиранозавра по контуру хищно изогнутой спины.
У передней стойки Мартын Мартынович[137] с большим газовым ключом балансировал на шаткой стремянке. Другой препаратор, мрачный и худой, в холщовом халате, карабкался по противоположной стороне лестницы с длинной трубой в руках.
— Так не выйдет! — крикнул палеонтолог. — Осторожнее! Не ленитесь передвинуть леса.
— Да ну, что тут канителиться, Сергей Павлович! — весело отвечал сверху латыш. — Мы — да не сумеем? Старая школа!
Никитин, улыбнувшись, пожал плечами. Мрачный препаратор вставил нарезку трубы в верхний тройник, которым заканчивалась стойка. Мартын Мартынович энергично повернул её ключом. Труба — опора массивной шеи — повернулась и повлекла за собой мрачного препаратора. Он и латыш столкнулись грудь с грудью на узенькой верхней площадке стремянки и рухнули в разные стороны. Грохот упавшей трубы заглушил звон стекла и испуганный крик. Мартын Мартынович поднялся, смущённо потирая свежую шишку на лысой голове.
— Падать — это тоже старая школа? — спросил палеонтолог.
— А как же ж! — подхватил находчивый латыш. — Другие бы покалечились, а у нас пустяк — одно стекло, и то не зеркальное…
— Леса-то придётся передвинуть, неладно же, — как ни в чём не бывало закончил Мартын Мартынович.
Никитин надел халат и присоединился к работающим. Наиболее медленная часть работы — предварительная сборка скелета и изготовление железного каркаса — была уже пройденным этапом. Теперь каркас был готов, оставалось собрать его и прикрепить на уже припаянных и привинченных к нему упорах, хомутиках и болтах тяжёлые кости — тоже результат многомесячного труда; препараторы освободили их от породы, склеили все мельчайшие отбитые и рассыпавшиеся части, заменили гипсом и деревом недостающие куски.
Каркас был прилажен удачно, исправления в ходе монтировки скелета оказались незначительными. Учёные и препараторы работали с энтузиазмом, задерживаясь до поздней ночи. Всем хотелось скорее восстановить в живой и грозной позе вымершее чудовище.
Через неделю работа была закончена. Скелет тиранозавра поднялся во весь рост; задние лапы, похожие на ноги гигантской хищной птицы, застыли в полушаге; длинный выпрямленный хвост волочился далеко позади. Громадный ажурный череп был поднят на высоту пяти с половиной метров от пола; полураскрытая пасть напоминала согнутую под острым углом пилу с редкими зубьями.
Скелет стоял на низкой дубовой платформе, сверкающей чёрной полированной поверхностью, подобно крышке рояля. Косые лучи вечернего солнца проникали через высокие сводчатые окна, играя красными отблесками на зеркальных стёклах витрин и утопая в черноте полированных постаментов.
Никитин стоял, облокотившись на витрину, и придирчиво оглядывал в последний раз скелет, стараясь найти какую-нибудь не замеченную ранее погрешность против строгих законов анатомии.
Нет, пожалуй, всё достаточно верно. Огромный динозавр, извлечённый из кладбища чудовищ в пустыне, теперь стоит, доступный тысячам посетителей музея. И уже заготавливаются каркасы для других скелетов рогатых и панцирных динозавров — великолепный результат экспедиции».
Дома тоже ждала радость — Аллан, драгоценный Лучик, рос не по дням, а по часам.
Елена Дометьевна не стала домоседкой. Они вместе ходили в театры, в консерваторию, принимали гостей, оставаясь в гуще молодой, бурлящей жизни.
Геологический конгресс должен был пройти на высоте.
Но экспедиционную работу ПИН свернуть не мог. Ясно, что середина лета для экспедиций будет потеряна, посему весной 1937 года Ефремов вновь поехал в Ишеево. Твёрдый песчаник постепенно поддавался, открывая перед учёным всё новые и новые научные сокровища. В плохую погоду, сидя в палатке, Иван Антонович писал свой будущий доклад. Разрозненные факты соединились в стройную систему, и теперь ход его размышлений стал спокоен, холоден и глубок.
Всемирный геологический конгресс
Ранним июльским утром 1937 года заведующий лабораторией низших позвоночных Палеонтологического института АН СССР, ведущий специалист по древнейшим наземным позвоночным Иван Антонович Ефремов быстро шёл по Большой Калужской улице. На лацкане его нового пиджака блестел ромб значка: внизу на зелёном поле золотом два окрещённых геологических молотка, вверху, на белой полосе слева — цифра «XVII», справа — «USSR», выше них — буквы «GC», а венчает ромб золотистая пятиконечная звезда.
Пройдёт ещё немного времени — и сад заполнится множеством гостей, узнающих друг друга по таким же значкам, зазвучит приветливая разноязыкая речь. Впереди — час триумфа советской палеонтологии: сегодня перед участниками XVII Международного геологического конгресса откроет свои двери обновлённый Палеонтологический музей.
Два неполных года, прошедших с момента переезда Палеонтологического института в Москву, были наполнены постоянной, напряжённо звенящей работой, яркой дружбой, радостью семейной жизни.
Первейшей задачей учёных стало не просто восстановление Северо-Двинской коллекции Амалицкого: им предстояло показать всему научному миру достижения последнего десятилетия, обработать и подготовить к экспозиции находки экспедиций ПИНа, в том числе находки Ефремова на Шарженьге и в Каменном овраге. Александра Паулиновна Гартман-Вейнберг, с 1935 года принявшая заведование палеонтологической лабораторией почвенно-географического факультета МГУ, готовила научную сенсацию. Парейазавров смонтировали так же, как было у Амалицкого. Только одного Александра Паулиновна переделала на свой лад. Она основательно изучила весь материал по африканским и европейским парейазаврам, описала новые формы из Вятской губернии — и решила реставрировать скелет иначе, чем сделал Амалицкий.
Ефремов, имевший огромный экспедиционный опыт, стремился теперь к всестороннему осмыслению увиденного. Страстным напряжением ума и воли он сводил воедино все доступные ему палеонтологические и геологические данные о пермском периоде, обдумывая стратиграфическую схему расчленения всего комплекса красноцветных отложений. Особую радость доставляла ему мысль о том, что дома его размышления будут приняты и поняты и в целом, и в самых мельчайших деталях, что Елене не нужно будет доказывать важность его работы — она, как палеонтолог, глубоко осознавала неотложность задач, которые поставил перед собой её муж.
Новый, 1937 год коллектив музея встречал горячей работой. Задерживались допоздна: кропотливую работу невозможно было сделать наскоком.
Удалось подготовить два зала общей площадью около 700 квадратных метров. Работу завершали ночью, перед самым открытием конгресса. Препараторов отпустили отсыпаться, а учёные дома едва успели привести себя в порядок перед торжественным открытием.
Восстановление Северо-Двинской галереи и развёртывание новых экспозиций было огромным достижением. Но в душе Ефремова, ощущавшего себя наследником Петра Петровича Сушкина, последнего хранителя Северо-Двинской галереи, оставался тяжёлый осадок: сегодняшний музей занимал всего одну четвёртую часть от прежних своих размеров, и многие экспонаты просто не могли быть выставлены за недостатком места.
Большая Калужская, застроенная невысокими частными домами с уютными двориками, была окраинной улицей Москвы. Слева остался поворот к бывшему Александрийскому дворцу, в котором расположился президиум Академии наук. Перед ним благоухал роскошный партерный цветник. Дальше — вдоль старинной парковой ограды — до музея.
С тротуара можно войти в полукруглую арку. Далее вдоль по улице стоят два кирпичных столбика с небольшим забором, а затем куб здания в стиле классицизма. Три окна по фасаду, круглые колонны по бокам от центрального окна. Такие же колонны обрамляют вход, сделанный сбоку. На фронтоне вместо привычных в классицизме античных героев — барельеф древнего ящера.
Зал, пристроенный к первому кубу, соединяет его со вторым — более объёмным, со световым барабаном и круглым куполом, где располагался собственно манеж. Затем — просторный, в два света, но ещё не отремонтированный зал.
Большой внутренний объём помещения, не стеснённого колоннами, — как раз то, что нужно было для размещения скелетов, переживших миллионы лет.
Иван Антонович остановился, закурил. Улыбка тронула его сосредоточенное лицо: он вспомнил, как накануне в музее, ещё не открытом для посетителей, неожиданно появился палеоботаник Эдвардс из Британского музея. Он требовал, чтобы ему непременно показали коллекцию гондванской флоры, которую обнаружил на Северной Двине профессор Амалицкий. На счастье, коллекцию, затерянную в запасниках музея ещё в Ленинграде, удалось обнаружить при переезде в Москву, и успокоенный мистер Эдвардс удовлетворил свою любознательность.
И вот 20 июля 1937 года тысяча геологов из пятидесяти стран мира собрались в Москве. Выдающиеся учёные будут участвовать в палеонтологической сессии конгресса. К этому дню был специально выпущен путеводитель по музею.
Сегодня Ефремову и его коллегам предстоит показать его гостям.
Торжество — да, торжество советской науки. Однако в душе молодого учёного — глубокая трещина. Множество фактов заставляет его напряжённо думать. К примеру, такой: его бывший тесть, Николай Игнатьевич Свитальский, один из лучших знатоков железорудных месторождений страны, директор ИГН АН УССР, должен был участвовать в конгрессе и руководить научной экскурсией на Курскую магнитную аномалию. Однако на конгрессе его нет, и никто не знает, куда он подевался.[138] Экскурсией будет руководить другой человек.
В первый день, 20 июля, на конгрессе появились несколько видных учёных-геологов — о них шёпотом передавали, что их тоже взяли. Каждого сопровождали «секретари» в штатском, присутствовавшие при каждом разговоре и особенно внимательно относившиеся к иностранным гостям.
Перед внутренним взором Ефремова предстала фигура Льва Гумилёва, сына двух знаменитых поэтов — Николая Гумилёва и Анны Ахматовой. В 1935 году его исключили из Ленинградского университета и арестовали. Не так давно он вернулся из заключения — и едва ли не голодал, не мог найти работу. Даже доброжелательно настроенные люди боялись связываться с молодым человеком. Через знакомых слух о положении Гумилёва дошёл до Ивана Антоновича. Ефремов нашёл для Льва Николаевича работу по беловой переписке статей и отчётов. Не много, но это была рука помощи…
Залитая солнцем Москва встречала гостей, проводила грандиозные парады физкультурников, всюду гремели стройки, молодёжь пела бодрые песни — а неведомая сила выкашивала лучших представителей культуры и науки, тех уникальных людей, которым действительно не было замены. Что за стрела, которая без промаха попадает в самых выдающихся, усредняя, делая общество серым и безликим?
Однако надо было собраться. От здания президиума академии уже подходили группы гостей. Иван Антонович улыбнулся и приготовился отвечать на английские и немецкие приветствия.
Двери вновь созданного музея первый раз открылись для гостей.
В первом, самом большом зале была выставлена гордость отечественной палеонтологии — Северодвинская галерея. Посетителей встречала груда конкреций, добытых В. П. Амалицким на берегу Малой Двины, в Соколках. За ними — два скелета парейазавров: один в конкреции, а другой очищенный, но оставленный в породе. Уже с первых шагов гости видели, как огромен труд палеонтолога, как сложно и важно извлечь из монолита породы хрупкие кости.
С правой стороны за стеклом огромных витрин возвышались скелеты семи парейазавров, слева — две смонтированные иностранцевии и одна — в виде выложенного на подставке скелета. Внушительный череп дицинодонта, парейазавр в новой монтировке А. П. Гартман-Вейнберг, соколковские амфибии, материалы из Ишеева, кости ящеров из Каргалы и Шихово-Чирков, с Мезени и Шарженьги, каменноугольная фауна морских беспозвоночных Подмосковного бассейна — морские лилии, громадные раковины брахиопод — целые гроздья в белом известняке, так называемая «брахиоподовая мостовая», отпечатки пермских насекомых, материалы по палеоэкологии — посетители внимательно рассматривали каждую находку, с неподдельным уважением выслушивая комментарии сотрудников ПИНа.
С почтением встречали гости Анну Петровну Амалицкую, жену и сподвижницу знаменитого основателя Северодвинской галереи. Её специально пригласили на открытие музея из Ленинграда, где она жила в Доме для престарелых учёных. Старая женщина подолгу разглядывала скелеты, которые были ей как дети: она знала весь их путь от монолитов, добытых из толщи земли, до монтировки скелетов.
Этот день стал действительно триумфом советской палеонтологии.
Доклад Ефремова был посвящён наземным позвоночным верхней перми и нижнего триаса. Учёный давно уже размышлял о практическом использовании остатков позвоночных как руководящих ископаемых для определения геологического возраста осадочных горных пород — стратиграфии. Ефремов разрабатывает важнейшую для геологии практическую задачу, составляя стратиграфические схемы. Эти схемы расчленения континентальных отложений по смене фаун позвоночных начинают повсеместно применяться геологами для поисков нефти в районе так называемого Второго Баку.
Доклад вывел Ивана Антоновича в ряды самых видных палеонтологов мира.
Спустя два года в Москву по официальному приглашению лаборатории Гартман-Вейнберг (Московский университет) приехал профессор Тюбингенского университета Фридрих фон Хюне, знаток западноевропейских и южноафриканских ископаемых пресмыкающихся, в том числе зверообразных.
Его оценкой палеонтологи особенно дорожили. Переписка Ефремова с Хюне началась ещё до конгресса 1937 года и продолжалась много лет.
Высокому, худому учёному с клиновидной бородкой было уже 64 года, и всех поразила та энергия, с которой он выразил желание поработать в Палеонтологическом музее. Профессору были предоставлены для научной обработки останки пресмыкающихся из нижнего триаса бассейна Ветлуги и Южного Приуралья, собранные Иваном Антоновичем. Изыскания фон Хюне принесли неожиданный результат: среди останков профессор установил нового маленького ящера и дал ему видовое название в честь Ефремова.
Осенью 1937 года, после конгресса, ПИНом была организована очередная экспедиция в Татарию под руководством Михаила Николаевича Михайлова. Целью на этот раз была разведка. Костеносный слой в Каменном овраге был выбран, и надо было найти новые площадки. Препаратором поехала Лукьянова. Ефремов оставался в Москве.
Михайлов, присмотрев место в Сёмином овраге, как обычно, нанял для работы окрестных мужиков. Закончив вскрышные работы на намеченном участке, мужики отпросились домой, к жёнам. Сотрудники института принялись разбирать костеносный слой. Вскоре стало известно, что в Тетюши приехала Гартман-Вейнберг.
Вечером сотрудники, как обычно, ушли в деревню — они жили в избе. В палатке у оврага остался ночевать татарин Зиннур. Холодным туманным утром он прибежал в избу, запыхавшийся и возмущённый: Гартманша кости ворует!
Михайлов и Лукьянова поспешили к раскопу: на краю, на снопе соломы, сидит Александра Паулиновна, а школьники, которых она наняла в помощники, как чертенята, копаются, костеносный участок разбирают! Овраг-де её, она уже несколько лет сюда ездит, стало быть, кости тоже её!
Михайлов от неожиданности опешил и решил обратиться в Тетюшинский райисполком — искать правду.[139]
— Вы учёные, сами и разбирайтесь, — отрезал председатель. — Вам что, оврага мало?
Тогда Михайлов дал телеграмму, и из Москвы приехала комиссия: геолог и два палеонтолога, в том числе и Ефремов.
Посоветовавшись с коллегами, Иван Антонович предложил Александре Паулиновне объединить усилия МГУ и Палеонтологического института. Он привык к мысли, что научные открытия принадлежат всему обществу, что в науке нельзя считаться — только отдавая, можно вновь и вновь черпать из неиссякаемого источника знаний. Но Гартман-Вейнберг не намерена была делиться будущими научными открытиями.
Два дня они разбирались и решили: участок должен принадлежать тому, кто провёл вскрышные работы. Мария Фёдоровна обрадовалась: значит, кости наши!
Она рассказывала:
«Иван Антонович тихонько отвёл Михайлова в сторону и говорит:
— Знаете, Михаил Николаевич, мне что-то жалко её. Пожилая женщина. Давайте отдадим участок ей, а сами уедем на Волгу. Там до костеносного слоя не так много метража снимать. Всё-таки мы мужчины.
Вот эта доброта Ивана Антоновича меня тогда поразила. Да я бы ни за что в жизни не уступила, тем более что Гартманша была неправа! И ещё мне запомнилось с того случая предсказание, сделанное Иваном Антоновичем, когда он уезжал. Он садился в тарантас, а потом повернулся к нам и говорит:
— Чёрт побери, ведь будет же время, и это не так уж далеко, когда мы на наши палеонтологические раскопки будем летать на самолётах, раскапывать машинами, грузить машинами, обрабатывать машинами! И не так уж далеко это будущее!
И действительно, всё стало так, как он сказал».[140]
Окончательно оформилось отношение Ивана Антоновича к Александре Паулиновне: ничего, кроме плохого, он от неё не ждал.
Через год Ефремов вернулся в Татарию, на Волгу, руководителем экспедиции. С ним были жена, Елена Дометьевна, Эглон с семьёй, Лукьянова и несколько других препараторов. Жили у лесника, целый день копались в земле, а по вечерам наедались до отвалу и играли в волейбол — учёные против препараторов. Невысокие препараторы обычно проигрывали — с набитым животом не больно-то попрыгаешь. Это Ивану Антоновичу хорошо было: он высокий, как хлопнет ручищей по мячу — никто взять не может.
М. Ф. Лукьянова вспоминала такую экспедиционную историю: «Поскольку мы работали в Татарии, Иван Антонович решил всех рабочих в день сабантуя отпустить. А я с шофёром Лебедевым поехала на базар. Лебедев выпить очень любил, всегда спирт клянчил. Я даже и не заметила, как он успел, глядь — уже пьяный. А нам ещё обратно ехать! У татар такие коляски есть с высокими колёсами. Прямо колесницы! Так Лебедев то одну колесницу заденет машиной, то другую. А я-то рулить не умею! Еле-еле доехали до Еникея, где Зиннур жил. Этот тоже с праздника пьяный. Заставила я шофёра поспать, так что в лагерь мы приехали поздно вечером. Лебедев уже протрезвел и видит, что от татарской колесницы у него в бензобаке вмятина. Испугался, что начальник заругается, заехал с машиной в кусты, чтобы бака не видно было. Но Ивана Антоновича не проведёшь! Спросил, почему так поздно приехали, потом обошёл машину. Вмятину, конечно, разглядел. <…> Пуще всего Иван Антонович не терпел неправды. Уж лучше, говорит, горькая, но пусть будет правда».[141] Как говорила Мария Фёдоровна, Ефремов нутром чуял ложь.
Шофёра Ефремов наказал просто: не взял с собой в следующую экспедицию. В глазах работников это было самым суровым наказанием.
Широкий мир
Успех ПИНа на конгрессе открывал перед палеонтологией широкие перспективы. Эти перспективы радовали Ивана Антоновича: ему предстояло вновь встретиться с дорогим для него человеком, выдающимся учёным и другом Алексеем Петровичем Быстровым. Ефремов приложил немало сил, чтобы блестящий биолог и анатом, кандидат медицинских наук, по ходатайству АН СССР был демобилизован из Военно-медицинской академии, где он служил, и в октябре 1937 года приехал из Ленинграда в Москву, чтобы работать в отделе низших позвоночных Палеонтологического института.
Ещё в Ленинграде Иван Антонович поразил воображение Быстрова масштабными картинами давно исчезнувшей жизни. Академия наук обещала квартиру, и учёный ради любимой науки решился на переезд.
Алексей Петрович был на девять лет старше Ефремова. В детстве он, сын сельского священника и учительницы, страстно увлёкся естествознанием и заразил этой любовью своих младших братьев и сестёр. Так он открыл в себе дар увлекать, который с годами стал сверкать, как бриллиант. Спустя десятилетия на его лекции будут собираться толпы студентов, которые наизусть запомнят фрагменты выступлений Быстрова.
Как старший сын священника, Алексей Петрович после сельской школы окончил духовное училище и поступил в Рязанскую духовную семинарию, но революция повернула его жизнь на иную дорогу. Происхождение не помешало прекрасно образованному молодому человеку поступить в Военномедицинскую академию в Петрограде.
Когда два кремня ударяются друг о друга, вспыхивает искра. В Ленинграде Быстров встретился с Ефремовым — и вспыхнул его яркий интерес к древней жизни Земли.
Ефремов мыслил широко, чётко очерчивал научные проблемы, у Быстрова были необходимая биологу скрупулёзность и педантичность, и наметилось несколько совместных научных работ.
Два учёных подружились, величали друг друга, как в старину — по имени-отчеству и на «вы». Кто сказал, что от фамильярного тыканья дружба бывает крепче?
С Алексеем Петровичем можно было в самые тяжёлые времена, не опасаясь, говорить на любые темы. В преданности его Иван Антонович не сомневался.
Самые задушевные беседы, самые горькие истины и самый искренний смех — понимание было удивительным. Остроумный, тонкий, ироничный, Быстров стал частым гостем молодой семьи.
Ефремов с радостной жадностью слушал рассказы Алексея Петровича о старопрежней жизни, особенно нравилось ему повествование о дяде Быстрова, отце Леониде, священнике. Хохотал он над историей о блинах. Может быть, именно Иван Антонович убедил Алексея Петровича запечатлеть эту историю, и сейчас она известна под названием «Этнографический этюд профессора А. П. Быстрова».[142] Трудно удержаться, чтобы не процитировать этот этюд:
«Отец Леонид также не любил унывать. Это был огромный попище с окладистой бородой, с лохматой головой, с широким лицом и со слегка вздёрнутым носом. Издали он очень напоминал большого гривастого льва в рясе священника. Да и имя носил, как видите, львиное (Λεωνειδος — похожий на льва).
Приехав к нам в гости и ввалившись в комнату, дядя, не раздеваясь и не здороваясь, прежде всего и независимо от времени года кричал низким басом на весь дом: «А блины будут?!» Мы, услышав эту фразу, поспешно бросали все свои занятия и бежали встречать дядю.
«Будут, будут, — отвечала мать. — Что ты рычишь как оглашенный? Раздевайся».
«Ну, а если будут, то в таком случае здравствуйте!»
Отец Леонид обнимал отца и мать своими огромными лапами и снимал дорожную одежду. Мать тотчас же бежала в кухню, и скоро там раздавался её голос, отдающий приказания кухарке: «Наталья, скорей растопи печь!» — «Какую?» — «Большую, конечно, русскую. Видишь, Леонид с Леной приехали!» И в кухне начиналось поспешное приготовление блинов.
Когда на стол перед дядей ставили тарелку со стопой горячих блинов, прикрытых белым полотенцем, он, потянув воздух носом, крякал от удовольствия и начинал священнодействовать. «А ну-ка, — говорил он, — дайте мне влагу. Ю ЖЕ И МОНАСИ ПРИЕМЛЮТ…» К нему придвигали объёмистый графин с водкой. Дядя наливал себе рюмку. «Ну-с… Желаю много лет здравствовать!» Он быстро опрокидывал рюмку в рот и ставил её на место, так что мы только мгновение видели её донышко. «Так, начало положено. Водка — это альфа и омега нашей жизни».
Дядя, потирая от удовольствия руки, быстро придвигался ближе к столу и усаживался в кресло плотней. Он быстро скидывал полотенце с блинов и, подцепив первый блин вилкой, ловко бросал его себе на тарелку. Нужно сказать, что у нас блины пеклись всегда большие; размеры каждого из них почти равнялись тарелке.
На первый горячий блин Леонид клал три столовые ложки густой холодной сметаны и размазывал её толстым ровным слоем. Дядя требовал, чтобы сметана подавалась на стол непосредственно со льда из погреба. Покончив с первым блином, он говорил: «Одобряю весьма!» И тотчас же клал себе на тарелку второй. Он разрезал его на четыре части и при помощи вилки мочил каждый кусок в блюдце с холодным молоком. Когда и от этого блина не осталось никаких следов, отец Леонид изрекал басом, покачивая своей львиной головой: «Блины — это воистину пища богов!» — и взяв третий блин, ловко свёртывал его в трубочку. Проткнув блин вилкой, он погружал один его конец в тарелку с подсоленными желтками сырых яиц. Дядя делал это несколько раз, пока не съедал блин. «Добро зело!» — говорил он и тянулся к четвёртому блину. Этот блин он смазывал малиновым вареньем, а затем разрезал на четыре части. Не успевали мы опомниться, как уже и этого блина не было. «А блины-то, благочинниха, уже остывать начали», — говорил Леонид и клал себе на тарелку пятый блин. Он выливал на него две столовые ложки горячего сливочного масла. Так как в уничтожении блинов ему помогали и мы все, то шестой дядин блин обычно оказывался последним. Дядя съедал его, смачивая в холодной воде с сахаром. «Отдохни, Леонид, — говорила ему мать, — сейчас горячих ещё подадут». — «А вот мы пока полыновочкой займёмся», — отвечал он и тянулся к большому графину с светло-зелёной жидкостью. На дне в этом графине лежал толстый слой сочных листьев майской полыни. Дядя наливал себе вместительную рюмку этой влаги, и мы, ребята, с невольным сомнением спрашивали себя: неужели он это выпьет? Нам казалось, что полыновка — это по вкусу что-то похожее на хинин, растворённый в морской воде.
Отец Леонид поднимал рюмку и говорил: «Ну, отец благочинный, благослови». — «Благословляю». Дядя проглатывал рюмку сразу, а мы за него невольно морщились. От рюмки полыновки он только крякал громче, чем обычно, и проводил рукой себя по груди и животу. «Воистину сказано: всяк злак на службу человеком сотворил еси, — весело говорил он, — это не полыновка, а геенна огненная. Не скрываю — хороша!».
Хозяйка приносила новую порцию горячих блинов: «Когда с тарелки исчезал двадцать четвёртый блин, он слегка отодвигался от стола и говорил: «Спасибо, други мои. Надо признать, что блины сегодня удались на славу. Трудно оторваться от них. Откровенно скажу — устал».
Отец Леонид неторопливо выкуривал папироску и выпивал стакан крепкого чая. «Мрак безыменный в скудоумной голове моей, — говорил он, поднимаясь из-за стола. — Разрешите часок-другой поспать».
Он отправлялся в спальню и тотчас же засыпал богатырским сном».
Когда Быстров доходил до фразы «Мрак безыменный в скудоумной голове моей» — слушателей от хохота пробивала слеза.
Иван Антонович полюбил это выражение, неотделимое от интонации.
Быстров был прекрасным рисовальщиком, графика его была отточенной и не менее остроумной, чем речь. Однако красками Алексей Петрович пользоваться не мог — он был дальтоником, различал лишь жёлтый и голубой цвета. Он влюбился в свою будущую жену, Тильду Юрьевну Исси, может быть, потому, что у неё были голубые глаза и светлые, почти жёлтые волосы.
В институте же друзья вместе обратились к находкам Ефремова десятилетней давности. Триасовые лабиринтодонты-бентозухи с реки Шарженьги были уже обработаны препараторами, настало время их кропотливого изучения. Ивана Антоновича давно занимала причина массовой гибели этих существ.
Так была написана совместная монография «Bentosuchus sushkini Efr. — лабиринтодонт из эотриаса р. Шарженги», ставшая классической работой по палеонтологии древнейших наземных позвоночных. В 1945 году за эту работу И. А. Ефремову и А. П. Быстрову будет присуждена премия им. А. А. Борисяка, а ещё 12 лет спустя, в 1957 году, авторы получат почётный диплом лондонского Линнеевского общества.
В Палеонтологическом институте в те годы возникали новые идеи и темы, рождались фундаментальные научные работы, приходила в науку талантливая молодёжь. В старшем поколении учёных она видела своих учителей. Быстров любил жадную любознательность, часто беседовал с молодыми, давая ответы на многочисленные вопросы, реализуя свою потребность передавать знания.
В 1933 году Роман Фёдорович Геккер, занимаясь палеоэкологическими исследованиями, обосновал необходимость совместной работы палеонтологов и литологов, изучавших осадочные породы. Союз этих наук был необходим для восстановления среды обитания древних организмов. В 1937 году Светлана Викторовна Максимова, исследуя пермских аммоноидей Урала, добилась привлечения к своей работе литолога — специалиста по составу, строению и закономерностям образования осадочных пород. Так в ПИН пришла студентка-заочница Александра Ивановна Осипова, позже ставшая женой Р Ф. Геккера.
На склоне лет она вспоминала:
«Для изучения пород, заключающих остатки организмов, был нужен микроскоп. Мне сказали, что его можно получить только с разрешения Ефремова, который строго следит за обращением с оптикой и требует бережного к ней отношения. С трепетом открыла я указанную дверь и… вместо ожидаемого занудливого старичка, увидела красивого молодого человека, которого я не раз встречала в коридорах института. Так осенью 1937 года я познакомилась с Иваном Антоновичем. Микроскоп был мне обещан, и, более того, Иван Антонович поинтересовался, какие ещё методы я собираюсь применять для изучения пород. Я ответила, что для других методов необходимо лабораторное оборудование и я ещё не обращалась по этому поводу в дирекцию. И вдруг (о, чудо!) Иван Антонович сказал, что давно хотел устроить лабораторию для проведения опытов по фоссилизации скелетных остатков и думает, что сейчас в институте найдутся средства.
Вскоре Иван Антонович сообщил, что получил разрешение дирекции на заказ лабораторных столов, химического вытяжного шкафа, и по его чертежам они были сделаны и быстро установлены. Опыты по фоссилизации почему-то откладывались, а я могла теперь выполнять необходимые анализы пород».[143]
Коллектив института жил дружной, насыщенной жизнью. Сотрудники так увлекались работой, что часто задерживались до позднего вечера, отрываясь лишь на короткий отдых.
Собираясь за чаем, «для освежения мозгов» обращались к литературе.
А. И. Осипова писала: «Иногда к нам присоединялись другие молодые сотрудники и чаепитие затягивалось, обсуждали книги, читали стихи. У каждого из нас были свои любимые поэты, но мы стремились находить новых и даже соревновались в этом.
Как-то вечером к нам заглянул Иван Антонович и услыхал стихи почти неизвестного поэта-минералога Драверта, изданные в Сибири в 1923 году. Он заинтересовался ими и сам прочёл любимые стихи Блока — «Ты помнишь? В нашей бухте сонной» и «Когда я уйду на покой от времён…».
В те годы нам было трудно купить книги, стихи обычно переписывались. Поэтому большой радостью в 1939 году был приход Ивана Антоновича с книгой стихов Киплинга. Ивану Антоновичу особенно нравились «Заповедь», «Мери Глостер», «Томлинсон».
Геологи, работавшие в Институте минерального сырья, прослышали, что у нас есть книга Киплинга, и прислали посла — просить её для прочтения, обещая оплатить двумя стихами редкого поэта. Мы согласились и получили два стиха Софии Парнок, нам неизвестной. (Через несколько десятилетий две строки из них Иван Антонович поместил в четвёртую главу романа «Лезвие бритвы»:
Если узнаешь, что ты другом упрямым отринут, если узнаешь, что лук Эроса не был тугим…В декабре 1940 года на чаепитии, организованном месткомом, отметили два события: защиту докторской диссертации А. Г. Эберзина и защиту моей дипломной работы. Иван Антонович произнёс весёлую поздравительную речь и подарил мне книгу о Рерихе. В это время он усиленно работал над докторской диссертацией и успел защитить её в 1941 году до начала войны».
По выходным Иван Антонович с Еленой Дометьевной посещали музеи и театры, ходили в гости. В одном из домов, где сохранялся дух старинного московского гостеприимства, Ефремов познакомился с Николаем Николаевичем Зубовым, участником легендарного Цусимского сражения, выдающимся моряком, впервые обогнувшим с севера Землю Франца-Иосифа. За полвека Николай Николаевич прошёл огонь и воду; в 1932 году он создал в Московском гидрометеорологическом институте кафедру океанологии и теперь руководил ею.
Вероятнее всего, именно Зубов стал прототипом старого океанолога в рассказе Ефремова «Атолл Факаофо»:[144]
«В президиуме собрания произошло движение. На кафедру поднялся огромного роста старик с широкой седой бородой. Зал стих: многие узнали знаменитого океанографа, прославившего русскую науку о море. Учёный нагнул голову, показав два глубоких зализа над массивным лбом, обрамлённым серебром густых волос, и исподлобья оглядел зал. Затем положил здоровенный кулак на край кафедры, и мощный бас раскатился, достигнув самых отдалённых уголков зала.
— Вот он, наш Георгий Максимович! — шепнул Ганешину Исаченко.
— С таким голосом линкором в шторм командовать, а не лекции читать.
— Так ведь он и командовал, — бросил Ганешин…»
Узнав, что палеонтолог тоже имеет отношение к морю, Зубов оживился и начал рассказывать о высокоширотной экспедиции ледокола «Садко», в которой он был руководителем научной части. В 1935 году экспедиция установила мировой рекорд свободного плавания за полярным кругом.
В экспедиции ледокола «Садко» участвовала художница Ирина Владимировна Вальтер. Из-за обострившейся болезни «Садко» высадил Ирину Владимировну на севере Норвегии, где она жила до возвращения экспедиции, захватившей её на обратном пути.
Иван Антонович услышал от неё такой рассказ: Ирина Владимировна страдала туберкулёзом и после экспедиции пошла к врачу на очередной профосмотр. Поразительно: врач не нашёл у пациентки никаких признаков чахотки!
— Где на юге отдыхали? — спросил врач.
— Не на юге, а в Норвегии!
— А чем питались?
— Настоящей печенью трески и очень вкусной картошкой.
Ирина Владимировна обещала новому другу показать рисунки, сделанные ею во время плавания и в Норвегии, на островах Арнёя и Сёрёя, что к северо-востоку от городка Тромсё.
Иван Антонович склонился над столом с разложенными на нём рисунками. На полу, на медвежьей шкуре, играл Лучик, рядом сидела жена, но погружённый в созерцание Иван словно забыл, где находится. Ясная графика создавала ощущение подлинной жизни. Вокруг вздымались волны сурового Норвежского моря, затем из тумана возникли скальные ворота фьорда. Пролив Лоппхавет.
Фьорд разветвлялся, нависая над водой острым гранитным мысом. Полукруглая бухта с нагромождениями камней, разделённых протоками. Силуэт старинного парусника, в котором Иван Антонович узнал бригантину, мачты рыбацких судов. На берегу — древняя норвежская церковь необычной архитектуры, будто на один дом насажен другой, меньших размеров, а на него третий. Внимание палеонтолога привлекли необычные железные флюгера: головы драконов раскрывали пасти, высовывая тонкие языки. Откуда в Норвегии драконы?
«Дерево почернело от времени, и угловатая, устремлённая вверх форма здания резко выделялась мрачно и угрожающе. Тёмные ели окружали церковь, а позади уже садились на горы белёсые хмурые облака».[145] Иван Антонович ощутил вдруг глубокую печаль, исходившую от «полной холодного покоя обители севера».
Зрительную память Ефремова, развитую геологией и топографией, можно было назвать абсолютной. Наложенная на волнения страстного путешественника и моряка графика резко отпечаталась в памяти. В 1942 году Ефремов создал героический рассказ «Последний марсель», в котором русские моряки, спасаясь с тонущего судна, попадают к норвежским рыбакам, а затем с их помощью выходят в море на старинной бригантине.
В жёстком рабочем режиме, который Иван Антонович установил для себя, находилось время для стихов, книг, искусства и мечты — давней мечты о звёздах, которые в детстве качались в кронах высоких сосен, в морской юности помогали определить направление, а в ледяной темноте сибирских ночей служили единственным светом и надеждой.
В Москве Иван Антонович стал частым посетителем планетария.
Величественный купол на Садовом кольце служил символом чаяний, которые часть интеллигенции возлагала на новый строй в первое десятилетие после революции. Открытый 5 ноября 1929 года, он воплощал мечту о высших устремлениях человечества, направлял мысли людей от обыденного к звёздному небу. Московский планетарий стал тринадцатым в мире и первым в Советском Союзе.
В репертуаре планетария было немало тем: строение Вселенной, происхождение и развитие Солнечной системы, строение Солнца, Луна и её движение, метеориты, метеоры, кометы. Инженеры планетария добились эффекта «живого неба». В подкупольном пространстве мерцали звёзды, плыли облака; зрители восхищались настоящим августовским звездопадом, величественным зрелищем полярного сияния и полётом кометы. Это была уже не просто работа дорогого прибора — планетарий стал настоящим оптическим театром. Кульминацией был пролёт шипящей ракеты Циолковского с огненным хвостом и алая заря, которая под прекрасную музыку рождала «советское Солнце».
Мечта о звёздах должна воплотиться в жизнь! И планетарий превратился в научную лабораторию. Помимо кружка для школьников, здесь работали инженерно-конструкторские курсы и заседал Стратосферный комитет, изучавший верхние слои атмосферы и реактивное движение.
Увлечённый сиянием звёзд, Иван Антонович остро ощущал тонкую, но неотменимую связь с космосом его любимой науки — палеонтологии. Спустя годы появятся глава «История Земли и жизни — окно в космос» в его популярной работе «Тайны прошлого в глубинах времён» и знаменитая статья «Космос и палеонтология». Ефремов напишет повесть «Сердце Змеи» о контакте землян и представителей иной цивилизации, а первый его роман будет называться «Туманность Андромеды».
Купол планетария — на высоком холме. С площадки возле него хорошо видны пруды и строения зоопарка. Это было второе из любимых мест Ивана Антоновича. Он часто приходил сюда, подолгу простаивал возле вольеров, наблюдая за гармоничными движениями любимых африканских животных — жирафов, слонов, антилоп. Позже, когда Ефремов будет работать над повестью «На краю Ойкумены», описания животных Африки зазвучат у него так, будто он сам долго жил в сердце Чёрного материка, изучая его природу.
Посещение зоопарка укрепило Ефремова-палеонтолога в мысли, что надо как можно тщательнее изучать тех животных, которые живут на Земле сейчас, причём как распространённых, так и самых редких. Это составит бесценный фонд биологической науки, поможет понять обитателей древнейшей Земли и предсказать, какой станет наша планета тысячелетия спустя. Если же не сделать этого сейчас, не зафиксировать исчезающее, уходящее, то наши потомки не простят нам такой ошибки.
Второе письмо Сталину
Шёл 1939 год. Энтузиазм, вызванный успехом палеонтологии на Геологическом конгрессе, спадал. Но, казалось, всё набирал обороты чудовищный вал репрессий.
В марте 1938 года был арестован Михаил Викентьевич Баярунас, руководитель первой палеонтологической экспедиции, в которой участвовал Иван Антонович. Что с ним стало — никто не знал.[146]
Каждый чувствовал себя под ударом. В 1937 году Иван Антонович сжёг свои дневники и письма. «В наше время нельзя…» — думал он, понимая, что одно неосторожное слово в письме может поставить под удар многих.
Ефремов отчётливо осознавал, что каждый день может оказаться последним, что надо спешить — запечатлеть в научных трудах то, что он успел осмыслить и понять.
Пряный ветер оренбургских степей остужал горячую кровь. Волнение, вызванное дорогой, улеглось, оставив ясные кристаллы мысли. С наслаждением занимался Ефремов привычной полевой работой, руководя Каргалинской геологоразведочной партией, изучая медистые песчаники и занимаясь поисками остатков позвоночных.
Подводя итоги десятилетнего исследования медистых песчаников, важно было сделать обзор всего района их залегания. Иван Антонович не сидел на месте: экспедиции в старые медные рудники Башкирии по рекам Белой и Дёме дополнили общую картину. Отчётливо вырисовывались контуры будущей книги. «Фауна наземных позвоночных в пермских медистых песчаниках Западного Приуралья» будет опубликована через 14 лет.
Ефремов работал сосредоточенно, мощно, напористо, зная, что теперь останется в ПИНе единственным специалистом по древнейшим позвоночным. Алексей Петрович Быстров, так и не получив обещанной квартиры, в августе 1939 года возвратился в Ленинград, в Третий ленинградский медицинский институт. Их совместные исследования были плодотворными, и в 1940 году Быстров защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора биологических наук «Структура зубов кроссоптеригий и лабиринтодонтов». Алексей Петрович был избран профессором кафедры нормальной анатомии. Новые обязанности предельно сократили время, которое он мог посвятить палеонтологии.
Однако друзья не мыслили жизни без общения, которое обогащало и Быстрова, и Ефремова. В письма свои Быстров, прекрасный рисовальщик и фантазёр, вкладывал иллюстрации, часто юмористические. Иногда Алексей Петрович, не имевший детей, делал рисунки и специально для маленького Аллана, которые мальчик разглядывал порой часами — настолько чётко и детально были прорисованы тушью все персонажи.
Аллан Иванович вспоминал: «Рисунки отвечали трём основным фантастическим темам: изображение животных, часто ископаемых, встречи с ними (первая тема). Потом вымышленное домашнее существо — Шиц, нечто вроде своеобразного «домовёнка», напоминающего одновременно и лори, и тушканчика, — доброе, несколько безалаберное существо, разбрасывающее неубранные игрушки, подражающее взрослым обитателям квартиры. Это вторая тема. И, наконец, мифический ужасный «Людячий Хорик», который охотится на непослушных мальчиков (в основном это на меня), которому только в самый последний момент удаётся чудом спастись. Кроме чисто художественного интереса (это я понял позднее), рисунки обладали большой познавательной ценностью — точность изображений ископаемых животных, а также анатомическое соответствие деталей у вымышленных животных».[147]
Следует заметить, что изображения быстровских чудовищ в точности аналогичны тем, что много позже будут рисовать пациенты С. Грофа на сеансах холотропного дыхания. Страшилища, что прячутся в глубинах подсознания каждого человека, особенно близки к нам, когда тонка и неверна плёнка дневного сознания. В раннем детстве, во сне, в трансе. И все они — отражение опыта первых стрессов ещё дородового состояния. Поэтому так упорно все культуры воспроизводят жуткие, оскаленные и паукообразные формы. Поэтому дети пугают друг друга неизбывным фольклором, а взрослые порой тянутся к «ужастикам». Чуткая нервная натура Быстрова освобождалась, выплёскивала архетипические фигуры бессознательного, в изображении они связывались, заклинались. С древнейших времён названное, изображённое попадает под власть человека, потому что самое страшное — то, что неизвестно. Немало размышлял над этим Иван Антонович и понимал всё отчётливее — зависимость человека от давления архаичных глубин бессознательного, уходящих в вязкую мглу биологии, следует преодолевать. Преодолевать светящейся прозрачностью напряжённой мысли и целостным переживанием радости познания, сходной с радостью плавания в прозрачных и бескрайних морских водах.
За два прошедших года в состоянии ПИНа практически ничего не улучшилось, многие сотрудники оставались без постоянного жилья. По Большой Калужской строили новые дома, и было приказано снести приведённую в порядок два года назад часть здания музея, мешавшую строительству, переселив экспонаты в неотремонтированный пока зал. Всё это вызывало боль в душе Ефремова.
До сих пор ждала своего издания переведённая на русский язык книга К. Циттеля «Основы палеонтологии» (1895). Перевод делался под руководством профессора Ленинградского горного института А. Н. Рябинина, и ещё в 1935 году Ефремов подготовил раздел «Позвоночные. Класс амфибий».[148]
Положение в мире накалялось: в Европе вспыхнула война, Советский Союз начал Финскую кампанию. Если сейчас ничего не сделать, положение может остаться таким на неопределённо долгий срок.
Увы: в государстве, где де-факто всё подчинено одному человеку, повлиять на ситуацию может только этот человек.
11 декабря 1939 года было написано письмо:
«Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович.
Не сочтите нелепостью или дерзостью наше обращение к Вам.
Ваше время драгоценно для всей страны и, безусловно, занято гораздо более важными вещами. Однако глубокая уверенность в том, что только Вы можете помочь, и в том, что наука есть немаловажная вещь, заставляет нас обратиться к Вам.
Дело, в котором мы просим Вашей помощи, — это вопрос о двух музеях Академии Наук СССР — Геологическом и Палеонтологическом, погубленных при переезде Академии из Ленинграда в Москву, — первый нацело, второй частью.
Геологический музей с огромными коллекциями и превосходными витринами (изготовить которые снова очень трудно) был упакован в Ленинграде в 1935–36 г., два года лежал в ящиках в своём старом помещении в Ленинграде, затем переведён в Москву. Здесь, в Москве, никакого помещения для Геологического музея нет, коллекции его истлевают и разрушаются в сыром неотапливаемом подвале академического дома по ул. Чкалова 21/23, витрины частично разбазарены, частью гниют в сарае за городом в академическом доме отдыха «Узкое».
Тот музей Академии, который сейчас называется Геологическим Музеем им. Карпинского, представляет собой бывший Минералогический Музей и никакой собственно геологической части в нём нет, и, за малостью помещения, не будет.
Палеонтологический Музей — один из крупнейших в мире (включающий одни из наиболее драгоценных научных коллекций Академии Наук) был переведён из Ленинграда в 1935 г., два года лежал в сарае и подвале, пока наконец (с Вашей помощью, глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович) не был размещён во временном здании из капитально отремонтированной бывшей конюшни Нескучного сада (Б. Калужская, 26). Это здание обеспечило развёртывание не более половины имевшейся в Ленинграде экспозиции. К Международному Геол. Конгрессу 1937 г. была спешно реконструирована часть музея — зал древнейших ископаемых позвоночных. Другая часть здания ещё ремонтировалась и была закончена ремонтом в мае этого года, одновременно с распоряжением сломать ранее отремонтированную половину здания для освобождения площадки скоростного строительства жилых домов по Б. Калужской улице.
Результат — Палеонтологический музей остался на неопределённое время на 1/4 части своей ленинградской площади в неблагоустроенном здании. Большая часть коллекций и витрин Музея сложены в сарае и подвалах Института, часть витрин и каркасов скелетов ископаемых животных сгнила, перержавела и разрушилась. В Ленинграде лежит около 80 тонн непрепарированных коллекций, под угрозой выброса на улицу, и перевоз их в Москву за отсутствием помещения невозможен.
Перспектив на получение помещения нет и не будет. Даже если Палеонтологический Музей, вопреки существующим намерениям А. Н., будет намечен к размещению в будущем здании Президиума А. Н., то (темпы академического строительства Вам известны) это будет не ранее чем через 5 лет, а при известных затруднениях во внешней обстановке и все 10.
Таким образом, в течение 10–15 лет перевезённые из Ленинграда музеи будут — один полностью существовать в ящиках и разрушаться, а другой частью в ящиках и частью разрушаться.
Если Вам, в ответ на Ваш запрос в Академию, скажут — создана комиссия, вопрос с музеями разрешается, то это будет неверно, ибо этот вопрос можно разрешить только одним реальным путём — путём постройки здания. Для этого в Академии нет ни кредитов, ни титулов, ни возможностей, хотя на представительство затрачиваются суммы более крупные.
Нормально ли то, что в результате грубейшего организационного ляпсуса (зачем было перевозить на пустое место?) в Советской стране, где Партия, правительство и лично Вы, Иосиф Виссарионович, делаете так много для развития науки, происходит настоящее варварство, и варварство это происходит в крупнейшем научном центре страны — Академии Наук СССР.
Опасность ещё в том, что если уйдут из состава Академии те весьма немногочисленные лица, которые знают эти коллекции, — значительная часть коллекций попросту погибнет за невозможностью разобрать их и за невозможностью восстановить разрушенное в новых условиях.
Вывод — положение с указанными Музеями должно быть исправлено и исправлено немедленно. Всяческие отлагательства в этом вопросе снова ведут к 10-летнему сроку, а это не решение. Мы не можем поверить, чтобы в нашей стране не было никакой возможности скорого разрешения этого позорного для Академии случая. Если постройка (немедленная) специального здания в настоящее время нереальна, нужно передать эти музеи незамедлительно обратно в Ленинград, в Киев, в Тбилиси, в Алма-Ату, в какой-либо крупный центр, где здание для таких музеев найдётся, если столица СССР в силу неумелости руководства Академии не может обеспечить переведённые в неё музеи помещением.
Поэтому, пробившись с самого момента переезда в Москву, вместе с другими товарищами, пять лет над восстановлением Палеонтологического Музея и видя полную бесплодность всех попыток (более того, положение Музея не улучшилось, а ухудшилось), мы обращаемся к Вам, глубокоуважаемый и дорогой Иосиф Виссарионович, с великой просьбой разрубить наконец узел бюрократических записок, отписок, комиссий и прекратить исключительное безобразие, проделываемое с указанными музеями Ак. Наук.
Зав. Отд. высших позвоночных Палеонтологического института Академии Наук СССР:
профессор (Ю. А. Орлов).
Зав. Отд. низших позвоночных Палеонтологического института: (И. А. Ефремов).
11 декабря 1939 г.
Москва, 71, Б. Калужская, 75, Палеонтологический институт Академии Наук СССР».
Второе письмо Сталину осталось лежать в архиве.
Почему оно не было отправлено?
Последние годы показали, что проблемы решаются главным образом не путём постройки новых зданий, а путём уничтожения людей. В этих условиях мольба о сохранении научного наследия могла обернуться угрозой не только для жизни авторов письма, но и других сотрудников института. А этого Ефремов никак не мог допустить.
Защита докторской диссертации
Геологическая романтика ленинградского периода сменилась упорной кабинетной работой, прерываемой не очень длительными экспедициями, главным образом в Поволжье и Предуралье.
В 1939 году Ефремов последний раз проводил раскопки в Ишееве. Это лето — одно из самых безмятежных в его семейной жизни. Все были вместе: он, Елена, маленький Аллан. В работе участвовал Ян Мартынович Эглон, он взял с собой трёхлетнего сына Юру. Дружный коллектив, шутки, смех…
По итогам раскопок Ефремов дал общую характеристику захоронения и ископаемой фауны Ишеева и описал наиболее интересных ящеров — крупного хищного ящера Titanophoneus и примитивного растительноядного аномодонта Venjukovia (позже этого ящера выделили в новый род Ulemica).
Иван Антонович обобщил литературные сведения, систематизировал полевые наблюдения над условиями захоронения скелетных остатков. Так закладывались основы тафономии — новой науки о закономерностях захоронения ископаемых останков.
Постепенно публикуются стратиграфические схемы Ефремова, описание улемозавра, статьи на русском и английском языках. В 1940 году была опубликована совместная с А. П. Быстровым монография о бентозухе с Шарженьги.
Учёный считал, что при анализе закономерностей захоронений необходимо учитывать все известные местонахождения, и составил систематизированную их картотеку. Позже эта картотека легла в основу «Каталога местонахождений пермских и триасовых наземных позвоночных на территории СССР».[149]
Одновременно Ефремов активно участвует в издании «Палеонтологического обозрения» («Приложения к трудам Палеонтологического института АН СССР»), где публикует обзоры важнейшей мировой литературы по древнейшим позвоночным.
В 1940 году в Академии наук состоялось заседание, посвящённое восьмидесятилетию выхода в свет знаменитой книги Чарлза Дарвина «Происхождение видов». Дарвин одним из первых обратил внимание, что геологическая летопись Земли не может считаться полной. Ефремов выступил на этом заседании с докладом, посвящённым закономерностям местонахождений ископаемых останков.
Роман Фёдорович Геккер, старший коллега Ефремова, вспоминал: «Нам известно, когда зародился такой подход к ископаемым останкам. Это была середина 30-х годов. Тогда в Западной Европе появилась публикация двух авторов — Руд. Рихтера и Иоганна Вейгельта, которые сделали первые шаги в направлении использования в палеонтологии данных о закономерностях захоронения останков неживущих животных. Появился рихтеровский термин актуопалеонтология и в 1927 году — вейгельтовский термин — биостратономия (т. е. учение о закономерностях пространственного расположения останков организмов в слое по отношению друг к другу). В том же 1927 году Вейгельт напечатал большую книгу — целый том — под названием «Современные трупы позвоночных и их палеобиологическое значение». Эту книгу я выписал из-за границы, и Иван Антонович однажды, отправляясь в поле, попросил её с собой для штудирования. Вернувшись, он сказал: «Здесь речь только о мелких вопросах захоронения». И он был прав. Действительно, Вейгельт писал, например, о «законе нижней челюсти» (то есть о том, что у трупов позвоночных она отделяется первой), о «законе рёбер», о «законе шеи», то есть о том, что у трупов (хорошим примером служат археоптериксы) шейные и затылочные мускулы сокращаются и оттягивают череп назад. Это были мелочи по сравнению с тем, что составило тафономию Ефремова…»[150]
В начале 1941 года Иван Антонович сделал на учёном совете Палеонтологического института первое сообщение о тафономии. Он стал основателем этой отрасли науки, подобрав для неё название из греческих корней: ταφος тафос; (могила, погребение) и vopoς (закон).
В научной среде важно своевременное появление публикации о новых фактах и явлениях. Ефремов печатает статью «Тафономия — новая отрасль палеонтологии». Основные положения тафономии были опубликованы за рубежом в журнале «Pan American Geologist».
Путь мысли учёного подробно описан самим Иваном Антоновичем в популярной работе «Тайны прошлого в глубинах времён», одна из глав которой так и называется: «Неполнота геологической летописи». В ней он объясняет:
«Огромные пробелы в напластованиях горных пород, отсутствие прямых связей между различными ископаемыми животными и растениями, как бы внезапно появляющимися и также внезапно исчезающими, неизбежно приводили к теории катастроф и признанию актов многократного творения жизненных форм, т. е. к идеалистическому отрицанию эволюционного процесса.
Теперь известно, что неполнота, пробелы в документации истории Земли и жизни возникли закономерно как следствие геологических процессов. Ещё в 1940 году было намечено новое направление в исторической геологии и палеонтологии, названное «тафономией» или учением о закономерностях захоронения органических остатков в слоях осадочных пород, а также закономерностях сохранения самих пород в течение геологического времени».
В марте 1941 года Ефремов защищает докторскую диссертацию по биологии на тему «Фауна наземных позвоночных средних зон перми СССР». Основное внимание автора сосредоточено на новой для севера европейской части СССР мезенской фауне пресмыкающихся и на описании ишеевского диноцефала-улемозавра.
Выходят серийные издания «Палеонтологии СССР» и «Палеонтологического обозрения». В апреле выехала экспедиция в Тургай. Руководитель ПИНа академик Алексей Алексеевич Борисяк, профессор Юрий Александрович Орлов и заведующий лабораторией низших позвоночных Иван Антонович Ефремов строят новые планы, обсуждают организацию масштабной экспедиции в Монголию, которая должна открыть новые страницы в истории науки.
Летом 1941 года Ефремов и четыре сотрудника ПИНа собирались в очередную экспедицию. Выезд был назначен на понедельник, 23 июня.
Глава шестая СТАНОВЛЕНИЕ ПИСАТЕЛЯ (1941–1946)
Щит мечты, броня фантазии — я не знаю более надёжной защиты. Мечта была тем мечом знания, с которым человек пробивался и пробивается к будущему.
И. А. Ефремов. Из интервью П. П. Супруненко, 1968 годПалеонтологический институт в начале войны
15 октября 1941 года в Нескучном саду стояла такая тишина, что слышно было, как падают листья. Вечерело, но в окнах дворца не светилось ни огонька. Даже маскировка была не нужна: здание президиума Академии наук опустело.
Нынешней ночью в детском парке, вблизи проезда с улицы к президиуму, упала фугаска. В музее посыпались стёкла, когда полтонны железа и взрывчатки ухнули совсем рядом. Несколько сотен метров — и от величайших сокровищ науки осталась бы одна пыль. Очевидно, пилот бомбардировщика не знал, что выдающийся палеонтолог Германии Фредерик Хюне обращался в Ставку Гитлера со специальной просьбой — не подвергать бомбёжке здание Палеонтологического музея на Большой Калужской улице, где находятся коллекции мировой научной ценности.
Юрий Александрович Орлов поднялся на высокое крыльцо, открыл тяжёлую дверь. Наткнувшись в темноте на массивные ящики с оригиналами Геологического музея, которые предполагалось эвакуировать вместе с коллекциями ПИНа, он ощупью стал пробираться через большую залу. Здесь, среди пустых витрин и штабелей ящиков, возвышались не тронутые упаковщиками диплодок и индрикотерий. Эти доисторические чудовища казались милейшими существами на свете на фоне коричневого фашистского чудища, которое придвинулось вплотную к Москве.
Впереди ориентиром виднелась полоска света — дверь в квадратную залу. Там, как шутили сотрудники ПИНа, «вечный свет» при заколоченных окнах. Каркасы скелетов, полупустые витрины, а между ними «логово»: на не использованных ещё постаментах и тюках стружек устроили себе постели постоянные обитатели музея — Иван Антонович Ефремов и заведующий препараторской Вольдемар Самуилович Бишоф. Здесь же была и постель Орлова.
Отопление не работало, в «логове» было едва тепло: день и ночь его согревала лишь маленькая спираль от отражательной печки.
Ефремов и Бишоф встретили Юрия Александровича радостными возгласами. После сентябрьского перехода на казарменное положение они почти не бывали в городе и жадно ждали новостей…
К октябрю коллектив Палеонтологического института сжался, как шагреневая кожа. В середине июля с первой группой академиков уехал в Казахстан, в санаторий «Боровое», директор ПИНа академик А. А. Борисяк. Этот же поезд увёз 700 детей академических служащих. На хозяйстве остался штаб по подготовке эвакуации в составе Ю. А. Орлова, И. А. Ефремова и Е. А. Ивановой, которая была назначена заместителем директора. Надо было отобрать наиболее ценные коллекции и подготовить их для длительного пути.
21 июля группа сотрудников ПИНа отправилась в Башкирскую экспедицию Академии наук СССР, организованную для поиска нефти на Урале. Ушли на фронт Р. Л. Мерклин и некоторые технические сотрудники, несколько женщин были эвакуированы по линии мужей.
Ефремов в первые дни войны явился в военкомат (по военному билету он числился морским офицером), однако его пока решили не призывать: и без докторов наук призывников хватало.
А. А. Борисяка вскоре перевели из Борового во Фрунзе, где разместилось бюро биологического отделения Академии наук: Борисяк с 1939 года являлся заместителем академика-секретаря биоотделения.
Оставшийся к середине августа в Москве коллектив палеонтологов немногим отличался от ПИНа ленинградского состава.
Фашисты неумолимо продвигались на восток. Стало ясно, что музейные ценности надо срочно вывозить. Каждую ночь звучал сигнал воздушной тревоги. Одна зажигательная бомба пробила крышу музея и упала на чердак. Сотрудники, дежурившие за пожарных, быстро потушили её.
Президиум академии дал на вывоз принципиальное согласие, но куда везти и где хранить? Иван Антонович предложил спрятать коллекции в одной из штолен Каргалинских рудников: там сухо и температура постоянная. Его поддержали академик Александр Евгеньевич Ферсман и его сотрудники: туда же можно было вывезти драгоценную коллекцию метеоритов и минералов.
Неожиданно идеей заинтересовалась организация, которую пиновцы в письмах именуют «неким ведомством», — Наркомат обороны. Этому ведомству требовались пустоты в земле, горные выработки для сохранения военных материалов. Так была создана Экспедиция особого назначения (ЭОН) во главе с Ферсманом. В неё вошли почти все остававшиеся в Москве сотрудники Палеонтологического института. Р. Ф. Геккер составил проект и договор, по которому экспедиция должна была работать пятью отрядами в Чкаловской (Оренбургской) и Молотовской (Пермской) областях. По проекту полевой период должен был составить три месяца плюс один месяц на камеральную обработку данных.
Пришлось заниматься различными согласованиями и договорами. 17 сентября Иван Антонович с гордостью писал А. А. Борисяку: «Что касается лично меня, то мне удалось склеить оборонную работу самого настоящего значения в Приуралье…»[151]
Ефремов назначался консультантом Каргалинской партии и получал на время экспедиции бронь. В Чкалов (Оренбург) почти сразу выехал Б. Б. Родендорф, затем Я. М. Эглон и Е. Д. Конжукова с сыном, О. М. Мартынова, М. Ф. Лукьянова. На Урал отправился и Д. В. Обручев.
Орлов, Геккер, Бишоф и Ефремов оставались пока в столице. Их выезд намечался на конец сентября. Елизавета Ивановна Беляева, Татьяна Алексеевна Добролюбова и Елена Алексеевна Иванова — все кандидаты наук — таскали, сортировали, прятали мебель и ящики с книгами и оригинальными рукописями. Как никогда, им хотелось работать, заниматься любимой палеонтологией…
Из Москвы спешно эвакуировали детей, заводы, институты. Оставшиеся жильцы каждую ночь дежурили на крышах домов, тушили «зажигалки». Семья Орлова эвакуировалась в Соликамск. Юрий Александрович, дежуривший на крыше своего десятиэтажного дома несколько недель, перебрался жить в музей — там совсем не осталось пожарных. Экспонаты для эвакуации уложены в ящики со стружкой, то есть, по сути, приведены в пожароопасное состояние. Академическое начальство обещало специальные бомбоубежища, но уже сентябрь, а их нет как нет.
По улицам двигались колонны военной техники, большинство встречных было одето в военную форму. В десять часов вечера по радио раздавалось: «Говорит штаб МПВО, граждане города Москвы, замаскируйте окна…»
По ночам над чёрным городом стоял беспрерывный грохот зенитной канонады.
Информбюро оптимистично передавало, что все бомбардировщики противника рассеяны на подходе к столице. Но обитатели «логова», дежурившие в холодном и сыром музее, слышали характерный гул немецких бомбовозов — иногда по пять раз за ночь.
С тревогой говорили о ленинградцах. У института, шесть лет назад переехавшего в Москву, оставались прочные связи с городом на Неве. Ефремов часто думал о друзьях, о Быстрове, который продолжал службу в Военно-морской медицинской академии. Орлов беспокоился о Преображенских — родителях своей жены. В Ленинграде же оставалась и Гартман-Вейнберг, незадолго до войны вернувшаяся из Москвы в родной город. Как хрупка жизнь человека под непрерывными бомбёжками! А что с ними будет в случае падения города? Если не случится какое-нибудь неожиданное избавление, чудо… Но откуда же взяться этому чуду?
3 октября немцы заняли Орёл, 5 октября — Юхнов, 6 октября захвачен Брянск, 13 октября пала Калуга. Десятки дивизий попали в плен под Брянском и Вязьмой.
Фашисты уже вплотную подошли к Москве. Что ждёт столицу?
Сегодня Юрий Александрович, отстояв очередь в столовой ради похлёбки, полуголодный и простуженный, вновь пытался добиться вывоза музея, хлопотал о вагонах и барже — безрезультатно. Отправил письмо H. М. Швернику, члену Верховного Совета СССР. Письмо подписали все оставшиеся сотрудники музея. Однако в действенность его почти никто не верил.
В этот момент никто из пиновцев не знал, что в середине октября было-таки принято общее постановление Совета по эвакуации при Совнаркоме СССР об эвакуации Академии наук, что с 18 по 25 октября требовалось утвердить списки. Постановление опоздало.
…На притихший чёрный город надвинулась октябрьская ночь.
Вскоре загрохотали зенитные орудия. Пальба стояла такая, что не слышно было отдельных выстрелов — всё сливалось в сплошной гул. Однако сирены не выли, значит, тревоги не было. Но и спать в такой обстановке было невозможно.
15 октября Государственный Комитет Обороны СССР принял решение об эвакуации Москвы.
16 октября началось генеральное наступление вермахта на Волоколамском направлении.
Этот день для Москвы был самым тяжёлым. Закрыли метро, не ходили автобусы. Было приказано — но только устно — рассчитать рабочих и служащих многих предприятий и учреждений, которые спешно минировались. Весь день слышались глухие взрывы — подрывали химические и некоторые другие заводы. Коммунистам и комсомольцам предписывалось оставить город, всем способным к пешему хождению идти к часу дня к Рогожской Заставе, а затем по Владимирскому шоссе двигаться на восток.
Срок «один час дня» по существу означал, что три-четыре часа спустя немцы займут город. Это поняли все, и началась паника.
По Владимирскому шоссе потянулись десятки тысяч людей, женщины с детьми — почти все безо всякого продовольствия и видов на ночлег. Хаос довершали гудящие автомашины, телеги и гурты скота. Рабочие разграбили мясокомбинат, с кондитерских фабрик пудами растаскивали шоколад.
Все сотрудники ПИНа тоже получили расчёт, но ни один не ушёл из Москвы. Все собрались в музее, слушали сообщения Информбюро и с напряжением ждали развития событий. Все понимали, что сейчас в нескольких десятках километров идёт битва — не на жизнь, а на смерть.
Наутро решили сходить в здание президиума Академии наук — никого! Все двери нараспашку. Ветер врывается в открытые форточки, носит по коридорам ставшие ненужными бумаги. В одном из кабинетов на столе — секретные карты и другие материалы с грифом. В кабинете вице-президента АН СССР — «вертушка», прямая связь с Кремлём. Стали звонить в Кремль — и там никого!
Ивану Антоновичу удалось дозвониться до Андрея Васильевича Хрулёва, начальника Главного управления тыла Красной армии. Изложив обстановку, Ефремов спросил: что делать с секретными картами?
— Поступайте по своему усмотрению, — ответил генерал-лейтенант. — Я через полчаса уезжаю в войска.
Карты Ефремов сжёг.
Через день-два многие из ушедших на восток стали возвращаться — измученные, чуть живые. Выяснилось, что надо продолжать работу. Некоторые институты к тому времени не имели в Москве ни уполномоченных, ни вообще сотрудников. ПИН представлял в этом отношении редкое исключение.
19 октября Орлов и Геккер сели в поезд: им предстояло начать работу на Урале, в Экспедиции особого назначения. Ефремов пока оставался в Москве — он должен был получить для экспедиции оставшееся снаряжение и оборудование (в частности, психрометры и термометры-пращи). Он с горечью понимал, что его первоначальная идея надёжно спрятать музейные сокровища в Каргалинских рудниках уже не осуществится. В дальней комнате Иван Антонович вырыл блиндаж глубиной два метра, чтобы можно было скрыть от бомбёжки самое ценное. Со всей силой своего воображения он представил себе, как фашисты занимают Москву, как хозяйничают в музее. Он моряк — и драться он будет до последнего.
Вместе с ним в институте оставались четыре женщины: Е. А. Иванова, Е. И. Беляева, Т. А. Добролюбова и Н. В. Кабакович. Оставались до конца, каким бы он ни был. На крайний случай на берегу Москвы-реки, в кустах, была спрятана лодка — можно было посадить в неё хотя бы женщин и отправить вниз по течению, за пределы города.
Что передумал и перечувствовал Иван Антонович за эту страшную неделю? Как переживал за институт и музей, за драгоценные кости, остающиеся в Москве? Как ощущал пульсирующее напряжение фронта, который напрямую угрожает столице?
О его мыслях и чувствах мы узнаём через его рассказы, в которых воплотились мужественные и стойкие характеры моряков («Последний марсель», «Атолл Факаофо»), артиллериста майора Лебедева («Обсерватория Нур-и-Дешт»), лейтенанта Леонтьева («Эллинский секрет»).
Действие фантастической повести «Звёздные корабли» начинается на поле великой танковой битвы, произошедшей в 1943 году. Туда с помощью сапёров пробираются после войны профессор Шатров и майор-танкист, чтобы найти подбитый танк Виктора, бывшего ученика Шатрова. Ученика, разработавшего оригинальную теорию движения Солнечной системы в пространстве, но не успевшего переслать тетрадь с вычислениями своему учителю: танковую часть стремительно бросили в бой и Виктор погиб. В разбитом прямым попаданием танке Шатрову удалось отыскать заветную тетрадь.
Иван Антонович знал, что даже в аду войны человек стремится к знанию, к звёздам. Эта устремлённость помогает выносить труднейшие условия жизни.
25 октября 1941 года Ефремов выехал из Москвы в Свердловск.
И только через месяц, 29 ноября, Палеонтологический институт, а 1 декабря — музей в присутствии комиссии Академии наук были переданы на хранение уполномоченным ПИНа в Москве Татьяне Алексеевне Добролюбовой и Наталье Васильевне Кабакович.
В ночь на 1 декабря сотрудники и курсанты Военно-морской медицинской академии, в числе которых был военврач первого ранга, профессор нормальной анатомии Алексей Петрович Быстров, покинули блокадный Ленинград. Пройдя 30 километров по льду Ладожского озера, они при свирепом морозе совершили пеший марш по тылам Волховского фронта, через Сясьстрой — это ещё 300 километров.
Академия была эвакуирована в Киров. В голодном, замерзающем городе оставалась Тильда Юрьевна, жена Быстрова. Она будет эвакуирована только летом 1942 года вместе с членами семей сотрудников ВММА, пережив самую страшную зиму блокады.
Александра Паулиновна Гартман-Вейнберг, тоже остававшаяся в Ленинграде, умрёт, как многие тысячи ленинградцев…
В 1941 году на фронте погиб младший брат Ивана Антоновича Василий.
В Москве тоже готовились к эвакуации. 4 декабря Иванова и Беляева с ящиками, в которых были упакованы самые ценные коллекции, выехали поездом в Алма-Ату.
5 декабря Красная армия перешла в контрнаступление, отбросив врага от столицы.
Экспедиция особого назначения
Приехав в конце октября 1941 года в Свердловск, Ефремов встретился с руководителем экспедиции А. Е. Ферсманом и представителем Наркомата обороны Е. А. Гавриловым. Экспедиция в Свердловске была обставлена солидно: для работы выделили превосходные помещения, у подъезда постоянно дежурили две автомашины, питание получали в различных закрытых столовых и распределителях.
Получив снаряжение, Ефремов отправился на полуторке в Уфу — это более 500 километров. Почти месяц он «проскребался» по уральским снегам, в лютый мороз — в фанерной кабине полуторки.
В Уфе Иван Антонович узнал о бедственном положении чкаловской группы, базирующейся в Каргале, на хуторе Горном. В эту группу входила и Елена Дометьевна. Оказалось, что обещанное снаряжение к сотрудникам так и не прибыло, нет тёплых вещей, обуви, свечей, кончились даже записные книжки. Отряд, вооружённый единственным компасом, рано утром выходил на место — девять километров дороги по сугробам туда и обратно занимали три с половиной часа. На работу оставалось всего четыре часа. Инструкция, первоначально данная Ефремовым Б. Б. Родендорфу, была исчерпана. Однако с пищей дело обстояло хорошо, по крайней мере хлеба было много, и это серьёзный плюс.
Из Уфы, нагруженный тёплыми вещами и оборудованием, Ефремов кинулся в Чкалов, уже понимая, что настоящая работа из-за снегов практически невозможна, и размышляя, можно ли часть сотрудников перевести в Алма-Ату.
До Чкалова Иван Антонович добрался 12 января, оттуда — ещё 60 километров до Горного. Там он наконец встретился с женой, сыном и коллегами.
Говорили о линии фронта, которая начала отодвигаться от Москвы. Жуткое ощущение вызывали сообщения о грабежах и разорениях, о чудовищных зверствах, чинимых гитлеровцами на оккупированных территориях. Бойцы, освобождая захваченные земли, видели сгоревшие деревни и города, тысячи трупов женщин, детей и стариков. Линия фронта временно стабилизировалась, армии собирали силы, готовясь к весне, и всем уже было понятно, что быстро эта война не кончится.
Позже Елена Дометьевна писала: «В период работы в Чкаловской области, несмотря на частое вынужденное сидение без работы (заносы, морозы, отсутствие одежды и прочее), сама работа элементарная, не по специальности, трудная физически, с преодолением многих километров снежных полей, ползанья под землёй, большой усталости — чем-то давала мне моральное удовлетворение. В период плохого устройства нашего быта было, как бы это сказать, ощущение, что мы в чём-то равняемся по всем тем людям, которые что-то делают для войны или страдают от неё…»[152]
Ю. А. Орлов в это время работал по делам ЗОН в Соликамске, куда была эвакуирована его семья. Выяснилось, что Соликамск обладает колоссальной подземной кубатурой и площадью, там же в фондах сосредоточены наиболее интересные для ЗОН материалы.
Много разъезжал по рудникам и выработкам Р. Ф. Геккер. Он побывал на Нижне-Тагильском дунитовом массиве, в Кизеловском каменноугольном бассейне, на Богословском буроугольном месторождении, Турьинских медных и железистых рудниках, Североуральских бокситах, Сылвенском рифовом участке, в Асбесте, Алапаевске, Кунгуре, Красноуфимске…
Палеонтологи, много писавшие о приспособляемости древних организмов к среде, сейчас проверяли этот тезис на себе: учёным приходилось заниматься делами, далёкими от их профессии. Жизнелюбивый Геккер, увлёкшийся изучением пещер, писал, что он даже в казарме искал и нашёл бы интересное: стал бы изучать людей из чужой среды.
Но не всем было дано черпать в новом удовлетворение для души.
В Горном Ефремов узнаёт новости из Алма- А ты, куда 15 декабря приехали учёный секретарь и заместитель директора ПИНа Елена Алексеевна Иванова с больной матерью и Елизавета Ивановна Беляева. Вскоре в столицу Казахской республики прибыли самые ценные коллекции музея — 238 ящиков. С огромным трудом ящики удалось разместить в крытом помещении под лестницей, под навесом во дворе, бблыиую же часть — в траншее глубиной три метра, приготовленной для строительства овощехранилища. Алма-Ата оказалась забита эвакуированными, и ПИНу отказали в помещении. Пробиться на приём к начальству было невозможно. Три женщины — «бабы с костями», как их прозвали — были вынуждены ютиться в коридоре Казахского филиала АН СССР, в тёмном углу возле мужской уборной. Именно это обстоятельство однажды позволило им встретиться сразу со всем начальством, чтобы решить и согласовать вопросы пребывания ПИНа в городе. С трудом Ивановой и Беляевой удалось снять две комнатки в частном доме — далеко от трамвая, без электричества, а оплата высокая.
Каргалинцы, читая письма, волновались: после завершения экспедиции им тоже предстоит перебраться в Алма-Ату, где же они будут жить со своими семьями? Где работать? Мечтали о постройке домов для сотрудников института: Иван Антонович вспоминал, как строят дома в Сибири, в тайге; Борис Борисович Родендорф видел, как строят саманные дома в Ташкенте. Может быть, устроить людей не в столице, а где-нибудь в районе? Но гадать уже не было времени.
В начале марта чкаловская группа распоряжением Е. А. Гаврилова была ликвидирована, Ефремов хлопотал о нормальных условиях выезда сотрудников в Алма-Ату, а затем поездом отправился в Свердловск: составлять научный и финансовый отчёты. После сдачи отчётов он собирался возвратиться в Чкалов, чтобы на автомашине перевезти в Свердловск снаряжение — сразу это сделать было невозможно из-за распутицы. Иван Антонович планировал уложиться в две-три недели, после чего приехать в Алма-Ату и посвятить себя палеонтологии — он задумал «чисто научную работу масштаба всесоюзного, а не местного, и очень важную (с научной, конечно, стороны) при современном положении…».[153]
13 марта 1942 года Ефремов пишет из Свердловска, что тематика ЭОН изменилась в сторону сугубого делячества, даже не особенно оправданного. Доктора наук и горные инженеры для этого уже не были нужны. Гаврилов настаивал, чтобы Ефремов продолжал работу в экспедиции, но сам Иван Антонович, несмотря на всякие блага и поощрения, желал вернуться в ПИН, понимая, что вместе с окончанием его работы в ЭОН снимается бронь. Вместе с Д. В. Обручевым он разрабатывает проекты тематики по низшим позвоночным. Если Ефремова мобилизуют, Дмитрий Владимирович останется единственным в институте специалистом по низшим позвоночным.
Гаврилов требовал не только составления отчётов, но и объезда объектов вместе с представителем Наркомата обороны. Это могло занять гораздо больше времени, чем рассчитывал Ефремов, — весь остаток марта и апрель.
До этого события закручивались тугой пружиной. Отправив каргалинцев в Алма-Ату, Ефремов словно открыл замбк, который удерживал пружину в напряжении, мобилизуя все психические силы организма. Теперь пружина распрямилась, и сверхнапряжение прорвалось в болезнь.
В конце марта Иван Антонович свалился с высокой температурой. Сначала он, определив у себя сыпной тиф, пластом лежал в каморке у Вольдемара Самуиловича Бишофа, старшего лаборанта ПИНа, затем его увезли в больницу. Врачи поставили иной диагноз: крупозное воспаление лёгких. Однако на пневмонию болезнь тоже была не вполне похожа.
Мечась в лихорадочном жару, не спадавшем сутками, в часы облегчения ощущая сильное головокружение, Ефремов впервые остро осознавал своё сильное тело связанным земными путами. Он командовал себе подняться — и был не в силах это сделать. Он не мог ехать, видеть и осязать окружающий мир, но отчётливо видел внутренним взором пройденные им пути, осознавал дерзновенность и величие человеческого подвига.
На западе, в тающих снегах России, среди раскисших дорог и разлившихся рек, затаились в окопах две силы, противостоящие друг другу. На востоке, на Урале, в Сибири, колоссальным напряжением всего народа ковалась будущая победа Красной армии. В госпиталях стонали раненые, не гас свет в операционных, подростки стояли у станков, а женщины впрягались в плуги вместо тракторов и лошадей.
Душа Ефремова, поднимаясь над временным, видела непреходящее — стремление к любви и доброте, стремление принести людям свет и мир. Почти осязаемые, вставали перед очами картины великой матери-природы — всё увиденное во время службы на Тихом океане, в сибирских экспедициях, в путешествиях по Средней Азии. И над всем этим возвышалась фигура человека — борца, мыслителя, победителя.
В сознании, раскрепощённом болезнью, возникали удивительные сюжеты, которые, смыкаясь с действительностью, прорастая в неё, давали необычные, нигде ранее не читанные истории. Рассказы сами просились на бумагу.
Как только Иван Антонович смог писать, он сразу начал набрасывать в записной книжке названия и сюжеты будущих рассказов. Война не вечна, победа будет за нами, а после неё вновь настанет время научного подвига, напряжения чувств и мыслей — во имя лучшего будущего человечества. И мысль об этом времени должна освещать души простых людей.
26 апреля он вышел из больницы, слабый, но с новым светом в глазах. В Каргалинских степях распускались ирисы и дикие тюльпаны, качались под ветром тёмно-малиновые точёные венчики рябчиков — кукушкиных слёзок, пчёлы жужжали над коврами низкого дикого миндаля, сплошь покрытого мелкими розовыми цветами.
30 июня Ефремову наконец удалось приехать в Чкаловск, чтобы перегнать, как он и планировал, в Свердловск машину с зимним снаряжением и ликвидировать там дела с Гавриловым — сдать машину и получить расчёт.
Даже в трудных условиях военного времени азарт охотника за ископаемыми не оставлял любимого ученика Сушкина. Прежде чем попасть в Свердловск, Ефремов едет в Бугуруслан, где геолог Чепиков нашёл «зверя» — кости какого-то ящера: надо выкопать его и отправить в Алма-Ату и только затем в Свердловске рассчитаться с ЭОН…
В 1956 году в посёлке Мозжинка на берегу тихой Москвы-реки Иван Антонович будет писать роман «Туманность Андромеды». Тогда он вспомнит свою работу в ЭОН, длинные штреки Каргалы, гигантские выработки Соликамска, и взглянет на затею Наркомата обороны глазами археологов будущего — Веды Конг и её помощницы Миико Эйгоро. Открытая ими легендарная пещера Ден-Оф-Куль, что на исчезнувшем языке означало «Убежище культуры», содержала отнюдь не сокровища духовной культуры: в ней находились машины, механизмы, двигатели, чертежи, карты. Самый дальний конец пещеры уходил во тьму и глубину, и отважные разведчицы упёрлись в стальную дверь. По предположениям Веды, за ней могло находиться секретное оружие ушедшего времени. Проверить предположение не удалось: через два дня масса горы осела, похоронив под собой тайну прошлого.
Приговор Веды ушедшему — по сути нашему, сегодняшнему — времени однозначен: создавшие тайник ошибались, «путая культуру с цивилизацией, не понимая непреложной обязанности воспитания и развития эмоций человека». И нелепой казалась Веде и Миико, прекрасным женщинам Эры Великого Кольца, важность древнего оружия…
ПИН в эвакуации: Алма-Ата
Сухой и свежий ветер, пахнущий полынью, обвевал лицо Ефремова. Он стоял у открытого окна поезда, вглядываясь в ночную степь. В душе пробуждались дорогие сердцу воспоминания: 13 лет назад, в 1929 году, он впервые ощутил, как тонок покров человеческого присутствия на древнем пространстве великой равнины.
Далеко на западе, по донским степям, шла в наступление фашистская орда. Слушая сводки Информбюро, путешественник переносился мыслями туда, где бились с врагами советские солдаты. Сердце сжималось от осознания потерь.
Только к концу поездки Иван Антонович внутренне немного смягчился, стал внимательнее смотреть на окружающий мир.
И вот прохладный ветер, стекающий с белоснежных вершин Тянь-Шаня, напомнил ему о безмятежных годах ищущей юности.
Поезд прибыл во Фрунзе. Город за прошедшие 13 лет сильно изменился. В центре появилось много новых зданий, глинобитные и сырцово-саманные домики отодвинулись на окраины, где вставали корпуса эвакуированных предприятий.
Иван Антонович нашёл квартиру Алексея Алексеевича Борисяка, находившуюся довольно далеко от центра. Академик, готовящийся отпраздновать своё семидесятилетие, долго беседовал с Ефремовым, расспрашивая о делах ЭОН. Обсуждали и перспективы жизни во Фрунзе и Алма- А те. Руководство академии не желало, чтобы Борисяк как единственный находящийся во Фрунзе член бюро биоотделения переезжал в Алма-Ату, где жили сотрудники Палеонтологического института. А помещения для перевода ПИНа во Фрунзе, несмотря на хлопоты, пока не находилось. Говорили о том, что сотрудникам, конечно, важно собраться вместе, чтобы иметь возможность полноценно работать и в препараторской, и с коллекциями, и с библиотекой.
За несколько дней Ефремов трезво оценил ситуацию во Фрунзе, о чём написал в письме Д. В. Обручеву: «Постарайтесь (без особых внешних обстоятельств) не приезжать сюда совсем — это самое лучшее, что Вы можете сделать. Тут такой кабак и безобразие, что нет слов для цензурного, а тем более поздравительного письма».[154]
Вволю наевшись чудесных, только что поспевших яблок, Иван Антонович вновь сел в поезд: в Алма-Ату надо было добираться три-четыре дня с пересадкой на станции Луговая. Он мечтал окунуться в любимый мир палеонтологии, посвятить себя долгожданной работе, и даже дневная жара не мешала ему обдумывать положения будущей книги.
Бывший русский город Верный, купеческий и казачий, с ровными длинными улицами, уходящими в степь, был уставлен основательными губернскими зданиями конца XIX — начала XX века, казачьими домиками с резными наличниками из алатауского дуба. Если бы не азиатское узорочье Вознесенского собора, не пирамидальные тополя на улицах и шумный Кок-Базар, можно было бы подумать, что оказался внезапно в российской глубинке. Только парящие над городом ледяные вершины Заилийского Алатау, несущие прохладу измученному городу, возвращали к действительности. Да ещё огромное, особенно в сравнении с 1929 годом, количество народу на улицах.
Большой радостью для Ефремова была встреча с женой и сыном. Мальчишки не было дома, когда он приехал, и Иван Антонович пошёл его искать.
За городом, в степи, тянулись ряды колючей проволоки — зона. Территория возле зоны охранялась автоматчиками. Но там валялись щепки, которые так нужны были для растопки — летом не требовалось отапливать помещения, но еду ведь тоже готовили на печках-буржуйках. Если в пространстве перед зоной появлялись взрослые, то часовые обязаны были открыть огонь. Но в мальчишек они не стреляли, и те тайком от родителей ходили к зоне собирать щепки.
Аллан Иванович хорошо помнит момент, как он после долгой разлуки увидел отца — высокого худого дядьку, заросшего щетиной и от этого показавшегося сначала чужим.
В Алма- А те Ефремов попал в кипящий котёл страстей, отнюдь не связанных с наукой.
Сотрудники ПИНа, приехавшие в переполненную эвакуированными Алма-Ату, едва сумели найти себе жильё. Только Елена Дометьевна смогла снять комнату в 20 квадратных метров благодаря наилучшей денежной обеспеченности. Вскоре к ней из Ленинграда приехала родная сестра с годовалым ребёнком, чрезвычайно ослабленные блокадой. В одной комнате — пятеро.
Семья Б. Б. Родендорфа — пять человек — едва сняла комнату в десять метров, спали на полу, лишь двухлетний малыш — на кроватке. Д. В. Обручев ютился с женой и дочкой в проходной кухне. Ю. А. Орлов с сыном спали на столах в служебном помещении, а его жена с другими детьми едва умещались в малюсенькой комнатушке. Многим семьям удалось снять жильё лишь с условием доделки за свой счёт — а на доделку требовались материалы (доски, гвозди, олифа, краска), достать которые было практически невозможно.
В конце июля среди алма-атинского начальства стремительно распространились слухи о переводе ПИНа во Фрунзе. Сотрудникам начали отказывать в рабочих помещениях и снабжении, выгоняли даже из недостроенных домов. Многие оказались в критической ситуации. Из Фрунзе в Алма-Ату понеслись телеграммы, где Борисяк заверял местное начальство, что пиновцы обладают всеми льготами сотрудников Академии наук. Но, гибкий по отношению к слухам, чиновничий аппарат оказался неповоротлив на реальные действия, и пиновцы ощутили полную потерю почвы под ногами. Усталость от бессмысленных хлопот, недоедание и невозможность работать вызвали раздражение, готовое вылиться в ссорах.
В конце концов было решено, что часть сотрудников переедет во Фрунзе, но большая часть всё же останется пока в Алма- А те.
6 августа, уже в присутствии Ефремова, алма-атинская группа собралась на совещание. Говорили о том, что переезжать пока некуда, обсуждали дороговизну будущего жилья во Фрунзе. Борисяк требовал, чтобы сотрудники выполняли научный план, но фактически писать новые статьи и обрабатывать находки было почти невозможно.
Ефремов рассказал о своей встрече с Борисяком и о намерении писать монографию. Для неё требовались коллекции, которые надо было где-то хранить. Кроме того, чтобы работать над коллекциями, надо иметь помещения, а они требовали достройки.
Вырица в начале XX века
Антип Харитонович Ефремов с сыновьями Иваном и Василием
Варвара Александровна Ефремова с детьми
Иван Ефремов — гимназист
Беспризорник начала 20-х
Ефремов в Ленкорани. 1925 г.
Удостоверение об окончании школы. 1924 г.
Студент Ленинградского университета. 1926 г.
Д. А. Лухманов
П. П. Сушкин
Инсценировка «малины». 1927 г.
Ефремов в Верхне-Чарской экспедиции. 1934 г.
Грозные охотники И. А. Ефремов и Б. К. Пискарёв. Тургайская экспедиция. 1926 г.
Академик А. А. Борисяк
Первое здание Палеонтологического института
Ю. А. Орлов
М. Ф. Лукьянова
Е. Д. Конжукова
А. П. Быстров
Ефремов с женой и сыном Алланом
Шуточные рисунки А. П. Быстрова, адресованные Ефремову и его сыну
Картина Г. И. Чорос-Гуркина «Озеро горных духов»
Гольды рода Самар посёлка Кондон. Фото И. Л. Ефремова
Нижнеамурская геологическая экспедиция. 1931 г.
Д. Уотсон, И. А. Ефремов, Е. Д. Конжукова, К. К. Флеров, Д. В. Обручев в Палеонтологическом музее. 1940 г.
Ефремов в Монгольской экспедиции. 1948 г.
Начальник экспедиции прокладывает курс
Участники экспедиции
Переправа через реку
Ефремов в Палеонтологическом музее
Наконец, во Фрунзе в конце августа ПИНу выделили помещение на плодоовощной базе, в четырёх километрах от города. Это была пустая 100-метровая зала, не разделённая никакими перегородками. Семьи переехавших во Фрунзе пиновцев (Ю. А. Орлова и Р. Ф. Геккера) были вынуждены поселиться в ней, отделив себе углы занавесками.
Однако даже во Фрунзе наладить работу не удавалось: ящики ПИНа вместе с ящиками, в которых находились личные вещи сотрудников, несколько недель ждали отправки на станции в Алма- А те. Силы уходили на борьбу с массой формальных препятствий.
В Алма- А те был оставлен минимум ящиков с коллекциями.
В сентябре закончился полевой сезон. В город из экспедиции по Тянь-Шаню, длившейся почти два с половиной месяца, вернулись Ольга Михайловна Мартынова и Ян Мартынович Эглон, увлечённые своими открытиями и находками. Радостный настрой учёных не омрачало даже то обстоятельство, что у них совершенно не осталось носильных вещей. Купить еду на базаре оказалось невозможно — местные жители деньги не брали, соглашались только на обмен. У вернувшейся Ольги Михайловны под синим рабочим халатом не было платья — всю одежду пришлось обменять на продукты. В горах в изобилии росли дикий барбарис и чёрная смородина, и путешественникам удалось избавиться от проявлений цинги, которые возникли после полуголодной зимы.
М. Ф. Лукьянова вспоминала такую историю: «В Алма- А те Ефремовы жили отдельно. А я жила в одной комнате с Мартыновой Ольгой Михайловной и её сыном. Летом она уехала в экспедицию, а у Коли ночью живот схватило. Болит и болит. Я керосинку зажгла, нагрела воды и сделала ему горячий компресс. Он вроде заснул, но температура высокая. Забоялась я, побежала ночью к Ивану Антоновичу, они недалеко жили. Он сразу пришёл, осмотрел Колю и поставил диагноз: аппендицит, немедленно в больницу! Сам его на руках вынес, еле машину нашли. Врач сказал, что мы как раз вовремя успели, да… теперь этот Коля — доктор наук, хорошим человеком стал».[155]
6 сентября 1942 года Ефремов пишет письмо А. А. Борисяку:
«Хочу резюмировать Вам некоторые данные о положении алма-атинской группы ПИН, накопившиеся за последние дни. Положение в общем — печальное. В результате переговоров с «Комаровым» — то есть Шпаро, Черновым выяснилось, что все они крайне удивлены таким переездом ПИН, когда во Фрунзе отправляются четыре человека, а в Алма- А те остаются одиннадцать… За подписью Комарова к секретарю ЦК КП(б) Киргизии Вагову будет послана телеграмма о решительном содействии приисканию нужных помещений во Фрунзе, для переброски туда полностью всего ПИН. Я уверен, что ничего из этого следовать не будет, кроме того, что во всяких достройках и стройматериалах здесь нам отказано. Также будут крайне затруднены снабжения топливом, керосином и вообще всякие экстра случаи с получением каких-либо материальных благ, так как разумеется нас будут систематически выключать из разных списков и заявок, и восстановление в них — это дни, затраченные на беготню, разговоры и просто попусту, а не на работу. Итак, пока что неудачно сформулированный переезд Института во Фрунзе является для алма-атинской группы настоящим бедствием. Мечты о настоящей, серьёзно организованной работе развеиваются, а беготня без дела, затрачивая основное время на благоустройство, так противна, что при одной мысли об этом тошнит. Легче расстаться с Академией…».[156]
Иван Антонович думает о том, как хорошо было бы всем сотрудникам разместиться где-нибудь в горах, подальше от скученности города, построить дома и спокойно работать, но понимает, что в таком случае институт будет практически отрезан от снабжения, что никакие приказы президиума здесь, в условиях эвакуации, не имеют фактической силы.
Борисяк не отвечает: он только что похоронил жену и тяжело переживает её смерть. Но время не терпит, близятся холода, и 19 сентября появляется коллективное письмо — «письмо десяти»:
«Глубокоуважаемый Алексей Алексеевич! Мы, группа Ваших сотрудников — так называемая «вторая очередь» переезда во Фрунзе, обращаемся к Вам с просьбой о принятии необходимых мер, без которых Ваш план переезда Института ставит всех нас в очень тягостное, недопустимое, тем более в общих трудных военных условиях, положение.
Оставляя здесь, по Вашему указанию, минимум миниморум материалов, мы неизбежно принуждены будем вести лишь подобие серьёзной научной работы, причём потребуется соответствующее изменение плана.
Заявление в официальных кругах об оставлении нас здесь, в Алма- А те, на полтора-два месяца повлечёт для нас лишение возможности получения топлива, керосина и другого снабжения, так как нас не захотят включить в списки, тем более что товарищ Сатпаев уже отказал нам в снабжении топливом.
Опыт с ремонтом плодоовощной станции во Фрунзе убедительно доказывает, что срок нашего переезда может затянуться, и перед нами встаёт перспектива зимовки в крайне тягостных условиях работы и быта. Проживая, как Вам известно, в недостроенных помещениях и отказываясь, в связи со скорым отъездом, от их утепления и окончания начатого ремонта, — мы принуждены расторгнуть договора и немедленно освободить занимаемые помещения, то есть оставить ряд сотрудников, с их семьями, без крова…»
Далее авторы письма перечисляют, у кого нет стёкол, вторых рам или печки.
«В итоге положение остающихся почти невыносимое как в смысле пребывания здесь, с перспективой переживания второй неустроенной зимы, так и в смысле осуществления переезда при очень тяжёлом материальном положении сотрудников… Надеемся, что всё изложенное достаточно ясно обрисовывает Вам, глубокоуважаемый Алексей Алексеевич, положение, в которое попала так называемая «Алма-атинская группа» Ваших сотрудников. Из этого положения могут быть только два выхода — или принять самые героические меры к деловому обеспечению переезда всего ПИНа теперь же, или же разделить переезд на две части — оставив вторую часть с полным объёмом научных материалов, инструментов здесь при серьёзном обеспечении условий работы и быта до момента полной подготовленности Фрунзе и во всяком случае до весны».[157]
Подписи поставили И. А. Ефремов, Е. Д. Конжукова, Д. В. Обручев, Б. Б. Родендорф, H. Н. Костецкая, М. Ф. Лукьянова, Е. А. Иванова, Е. И. Беляева, О. М. Мартынова, Я. М. Эглон.
А. А. Борисяк принял решение оставить «вторую очередь» до весны.
Большинство сотрудников «второй очереди» входили в отдел низших позвоночных, которым руководил Ефремов. Из Алма- А ты Ефремов часто пишет руководителю института, надеясь на понимание и поддержку.
19 сентября, вместе с «письмом десяти», он отправляет ещё одно письмо:
«Я в большом затруднении по поводу организации научной работы отдела в связи с этаким переездом во Фрунзе… Моя работа по большой монографии такова, что я должен иметь при себе в момент описания большой материал… Оставить здесь нужные мне 28 ящиков плюс книги плюс рукописи я не рискую, за отсутствием помещения для работы, которого теперь ни в коем случае не будет (только место — вернее, толкучка, одна для всех на 241 квартале, дом 12, поскольку от Тищенко придётся выселиться за неокончание ремонта, а ничего другого нет), и не только для работы, но и для самого примитивного хранения…
Как видите, в смысле организации серьёзной работы, я стою теперь перед очень большими затруднениями. Между тем, я считал и считаю, что в оставшиеся месяцы 42 года нужно сделать как можно больше — как и из-за общей обстановки, так и из-за постоянной опасности моей мобилизации… Работать я могу много и давать много тематики для других, но к сожалению — только в сносных условиях (под которыми я подразумеваю отсутствие тесноты и толчеи). Без этих условий мне лучше за работу не браться — будет только провождение времени и неврастения.
Изложенное объясняет, почему в предыдущих письмах я предлагал Вам организовать мой отдел, хотя бы в весьма удалённом от Фрунзе месте, лишь бы иметь достаточное помещение и не бегать километрами в столовую и другие подобные учреждения, теряя целые рабочие дни».[158]
Через три дня, 22 сентября, Иван Антонович, испытывая всё большее напряжение, пишет: «Моё единственное желание — это работать как можно скорее и как можно больше — очень много важного и интересного накопилось за годы работы в ПИН. Однако я не могу работать в кабацких условиях — это мой дефект, я знаю, но ничего не могу поделать. В плохих условиях я не наработаю на медный грош и меня надо либо гнать, либо давать хорошие условия — может быть лучше, чем другим. Тогда коэффициент полезного действия моей мозговой машины будет высок. Иначе ничего не выйдет и лучше уже и не стараться…
Здесь сейчас особые условия — никакой помощи не достать абсолютно, всякая прописка прекращена, частная площадь нещадно изымается. Таким образом, нет никакой возможности организовать здесь что-нибудь после того, как дом Тищенко от нас ушёл, ни о каких достройках не может быть и речи…»
В начале октября Ефремов вновь отправился во Фрунзе — на сей раз на платформе, в качестве сопровождающего имущество ПИНа. Ночью в холодном чистом воздухе над степью ярко горели звёзды, искрящаяся пыль Млечного Пути опоясывала небосвод. Чеканным серебром светилась луна, похожая на ломоть вытянутой чарджуйской дыни.
Иван Антонович, специалист по ископаемым существам, миллионы лет пролежавшим в недрах Земли, всматривался в небо:
«Вон там, низко над горизонтом, светит красный Антарес, а правее едва обозначается тусклый Стрелец. Там лежит центр чудовищного звёздного колеса галактики — центральное «солнце» нашей Вселенной. Мы никогда не увидим его — гигантская завеса звёздного вещества скрывает ось галактики. В этих бесчисленных мирах, наверное, тоже существует жизнь, чужая, многообразная. И там обитают подобные нам существа, владеющие могуществом мысли, там, в недоступной дали… И я здесь, ничего не подозревая, смотрю на эти миры, тоскуя, взволнованный смутным предчувствием грядущей великой судьбы человеческого рода. Великой, да, когда удастся справиться с тёмными звериными силами, ещё властвующими на земле, тупо, по-скотски разрушающими, уничтожающими драгоценные завоевания человеческой мысли и мечты».[159]
В середине октября вагоны с ящиками прибыли во Фрунзе, но больше месяца они пролежали на платформе — не было транспорта, чтобы перевезти их на склад.
Вернувшись из поездки, Ефремов свалился с приступом лихорадки, которая так безжалостно скрутила его весной.
Как заклинание, вспоминал он любимые строки Блока:
Как мало в этой жизни надо Нам, детям, — и тебе и мне. Ведь сердце радоваться радо И самой малой новизне. Случайно на ноже карманном Найди пылинку дальних стран — И мир опять предстанет странным, Закутанным в цветной туман!Он снова ощущал себя ребёнком, потрясённым многообразием и величием мира. Тысячи людей живут серой, безынтересной жизнью, не видя ничего, кроме малого клочка земли, не умея свободно и широко мыслить. Если бы они знали, сколько радости даёт познание мира, возможность мыслить и дарить свои открытия человечеству! Но ведь в твоих силах — показать людям пути к радости, раскрыть высокий подвиг мысли, соединённый с мужеством и волей.
Сознание, на время освобождённое от строгой требовательности науки с её необходимостью экспериментальных доказательств, дало волю воображению. Герои рассказов, задуманных во время первой болезни, обретали плоть. Ядром рассказов станет фантастическая идея — «пылинка на ноже карманном», которая преобразит обыденное, позволит заглянуть за грань возможного. Пусть вместо детективного сюжета в основу ляжет ход мысли учёного — люди должны понять, что наука даёт пищу не только уму, но и чувствам, и воображению. На грани логики и воображения рождается интуиция.
Обдуманные сюжеты обретали литературную плоть, но ещё более Ефремов желал написать выношенную монографию о тафономии.
Борясь с болезнью, он осознавал, что его ослабленный организм может не выдержать сильного напряжения. Итогом его размышлений стало глубокое понимание своей миссии, выраженное в письме А. А. Борисяку от 21 октября 1942 года:
«Я, имея незаконченной большую и важную работу, являясь единственным в составе Академии (и всего 2 в Союзе сейчас) специалистом по древнейшим тетраподам, получая от правительства броню и специальные указания на устройство быта учёных — должен серьёзно и продуктивно работать. Поскольку я нахожусь в системе Вашего Института, я… прошу обеспечить меня рабочим местом и условиями работы… Научная работа есть моя прямая и единственная обязанность в ПИН — только это меня теперь и интересует. Я не могу больше тратить силы (и без того сильно убывшие) на нецелесообразную и непонятную мне «организацию».[160]
Оставшийся в Алма- А те маленький коллектив прилагал дружные усилия к тому, чтобы обеспечить нормальные условия для работы и жизни. Удалось наладить вопрос с отоплением помещений, Елена Дометьевна сумела добыть керосин для ламп. Однако сосредоточиться на монографии у Ивана Антоновича не выходит: геологи, работающие в Казахстане, постоянно обращаются к палеонтологам для консультаций по стратиграфии, и Ефремов много времени тратит на изучение «стратиграфических посланий» и ответы на них.
Зимние ночи — холодные. Дров сотрудники ПИНа не получили, и по ночам Иван Антонович вынужден был тайком ходить на бульвар — рубить тополя. Наблюдая за бытом эвакуированных, он видел, что многим живётся гораздо хуже. Однако люди мужественно переносили невзгоды, всем сердцем принимая главный лозунг страны: «Всё для фронта, всё для победы!» Переживали за Сталинград — битва на Волге стала главным событием зимы 1942/43 года.
Зимой пиновцы, как никогда, чувствовали себя сплочёнными и дружными. Каждые две недели они проводили заседания научного кружка, который посещали и сотрудники других институтов. Например, 9 января 1943 года, в разгар Сталинградской битвы, Е. Д. Конжукова выступала с темой «Изменчивость тихоокеанских брахиопод».
Обыватели возмущались: дескать, люди кровь проливают, а они какими-то брахиоподами занимаются!
Ефремов ответил на эти возражения в рассказе «Обсерватория Нур-и-Дешт». В нём фронтовик, направленный после ранения в санаторий, решает вместо отдыха ехать на раскопки древней обсерватории. С сотрудницей экспедиции Таней у него происходит такой диалог:
«— Вам не кажется смешным после фронта, после этого, — она легонько притронулась к моей руке, висевшей на перевязи, — что люди занимаются сейчас такими делами? — Она смущённо взглянула на меня.
— Нет, Таня, — возразил я. — Я бывший геолог и верю в высокое значение науки. А ещё: значит, мы с товарищами хорошо защищаем нашу страну, раз вы имеете возможность заниматься своим делом, далёким от войны…
— Вот как вы думаете! — улыбнулась Таня и замолчала, погрузившись в задумчивость».
В конце декабря прошла научная конференция Казахского филиала АН СССР с докладами по геологии, почвоведению, биологии, истории и археологии. Доклады помогли пиновцам яснее понять, чем они ещё могут помочь учёным Казахстана, выявить районы, в первую очередь нуждающиеся в палеонтологическом обследовании.
Возможно, именно эти доклады помогли Ефремову создать образы, ставшие основой рассказов «Обсерватория Нур-и-Дешт» и «Белый рог».
Пиновцы окончательно перебрались во Фрунзе во второй половине апреля. До этого времени Иван Антонович практически не имел возможности в полную силу работать над монографией. И тогда он направил всю энергию на создание рассказов, которые в истории советской литературы останутся как «Рассказы о необыкновенном».
Рождение писателя
В книге итальянца Джованни Боккаччо «Декамерон» десять благородных юношей и дам во время эпидемии чумы собираются на загородной вилле недалеко от Флоренции, чтобы спастись от заразы. Десять дней каждый из них рассказывает по одной истории — получается 100 историй, посвящённых главным образом теме любви. Такую рамочную композицию со вставными новеллами, не связанными друг с другом по содержанию, использовали после Боккаччо многие писатели.
В трагических сорок втором и сорок третьем годах флорентийский сюжет повторился, только теперь чумой — коричневой чумой фашизма — было охвачено пол мира. И так же, как на вилле Пальмьери ведёт беседы цвет культурного общества XIV века, в солнечной Алма- А те спасаются от беды учёные, поэты, актёры, художники.
Культура и искусство соединяют убежавших от флорентийской чумы.
Культура, искусство и наука объединяют живущих в эвакуации, откуда они своими стихами, картинами, музыкой, фильмами и открытиями помогают народу противостоять фашизму.
По вечерам во Фрунзе, в небольшой комнате, где жили четверо: Ефремов, Елена Дометьевна, Аллан и Мария Фёдоровна Лукьянова, — при свете керосиновой лампы Ефремов читал свои первые рассказы. Женщины не были благодарными слушательницами: отмахав в день по 20 километров — по пять в один конец на работу и в столовую, они, измученные, быстро засыпали. В тишине Иван Антонович, словно наяву, слышал, как гудит мотор провалившегося под землю, в пещеру, танка. «Сумасшедший танк» — так должен был называться первый, неопубликованный рассказ Ефремова.
Иван Антонович задумал сразу цикл рассказов, рамкой для которых должен был стать образ картушки компаса, разделённой на 32 румба. Друзья, среди которых моряки, геолог, горный инженер, несколько учёных разных специальностей, рассказывают истории из своей практики.
Пусть для начала этих историй будет семь. Семь румбов — хорошо звучит! Заставить читателя, измученного тяготами войны, обратить своё внимание на удивительные, ещё не разгаданные тайны природы, которыми полна наша земля, проявить неравнодушие — и мир потеряет серые краски обыденности, оденется в «цветной туман» загадки.
Первым румбом стал рассказ «Встреча над Тускаророй». Его ядро — открытие капитана Джессельтона, посвятившего жизнь исследованию океанских впадин. Советский пароход «Коминтерн» в Тихом океане, над Тускарорской впадиной, попадает в неожиданное происшествие: корпус корабля врезается в необычный объект, который оказывается старинным судном «Святая Анна», погибшим 130 лет назад, но не затонувшим благодаря грузу пробки. Старпом, от имени которого ведётся рассказ, надев водолазный костюм, находит в каюте капитана ящик с оловянной банкой, в которой чудом сохранились тетради капитана «Святой Анны». Капитан Джессельтон положил свою жизнь на то, чтобы исследовать океанские впадины. По его убеждению, вода, добытая с самой глубины, должна отличаться от поверхностных вод океана. Джессельтону удалось добыть такую воду — и она оказалась способной залечивать раны. Живая вода — в океанской глубине! Но капитан не успел сообщить о своём открытии людям: судно его потерпело крушение. В Кейптауне, в одном из приморских кабачков, старпом встретил девушку по имени Энн Джессельтон, которая пела песню о живой воде и пропавшем капитане. Но Энн отказалась раскрыть свою тайну русскому моряку. В Ленинграде все, даже профессор геохимии Вересков, отнеслись к этой истории как к сказке.
Если воспринимать произведение линейно, то на этом можно завершить краткий пересказ. Однако в ткани текста зашиты два символа, на которые нельзя не обратить внимание. Пароход «Коминтерн» теряет управление, врезаясь в парусник «Святая Анна». «Коммунистический интернационал» не может двигаться вперёд, ибо ему мешает судно, которого не видно на поверхности воды, но которое тем не менее ещё не затонуло. Святая Анна, в христианстве мать Марии, бабушка Иисуса Христа, может считаться символом терпения, ожидания, но более всего — жизни по законам Ветхого Завета. Спустя семь десятилетий после создания рассказа мы можем говорить, что символика Ефремова оказалась верной: высокая идея коммунистического интернационала наткнулась на непотопляемый остов «ветхозаветных» взглядов и традиций, не изжитых в обществе, и увязла в них. Что может освободить идею? Осознание произошедшего и героическая работа по освобождению корабля, невидимая внешнему глазу, но от этого не теряющая значимости.
Вторая символическая нить: чтобы излечить раны современности, необходимо добыть воду из океанических впадин, понимаемую как первоначала жизни. Океан в психоаналитической традиции символизирует человеческое подсознание. Значит, стремясь познать тайны души, сокрытые в таинственнейших глубинах психики, мы обретём — не вечное блаженство, нет, но инструмент эволюции.
«Чем невероятнее и чудеснее встреченная в жизни случайность, тем труднее убедительно рассказать о ней…» — размышляет Евгений Николаевич, старпом «Коминтерна».
Что же поможет читателям поверить в существование загадки, побудить желание разгадать её? Надо оправить фантастическую идею в рамку подлинных фактов, логически обосновать размышления героев, побудительные мотивы их действий.
После погружения в морские пучины — погрузиться в ещё не познанные пучины человеческого сознания, постичь таинственные проявления работы мозга. В рассказе «Эллинский секрет» профессор Израиль Абрамович Файнциммер, изучающий физиологию мозга, столкнулся с явлением, которое назвал «памятью поколений, или генной памятью». Но обстоятельства открытия были столь удивительны, что их невозможно было доверить научной статье или докладу.
Героем его истории стал получивший тяжёлое ранение в правую руку лейтенант Леонтьев, скульптор, который мечтал изваять из слоновой кости статую своей любимой. Теперь, с неработающей рукой, он страдал от невозможности воплотить красоту своей Ирины. «Мысль его металась в поисках выхода, беспокойство всё дальше проникало в глубину души, и росло нервное напряжение. Недели шли, и психическое возбуждение всё развивалось, что-то поднималось со дна души, заставляя мозг напрягаться, и билось в поисках выхода, неосознанное, большое».
Леонтьеву стали сниться сны о древней Элладе. Во сне он увидел мастерскую скульптора и запомнил буквы отрывка, записанного на листе меди. Этот текст оказался древнегреческим рецептом размягчения слоновой кости, и с его помощью мечта изваять прекрасную девушку становилась реальной.
Какой высоты должен достичь дух человека, чтобы пронзить тысячелетия, совершить духовный подвиг ради воплощения идеала красоты!
И не меньшей высоты должен достичь человеческий дух, чтобы с риском для жизни запечатлеть красоту природы… Зерном третьего румба стала картина Григория Ивановича Чорос-Гуркина «Озеро горных духов» — её именем был назван рассказ. Иван Антонович хорошо запомнил беседы со старым художником — осенью 1925 года в Геологическом музее Ленинграда. «Озеро горных духов» было написано как раз с таким риском. Ефремов любил эту картину, где острая белоснежная вершина, как страж, возвышается над неподвижным горным озером.
Рассказ свой Иван Антонович тоже писал на грани жизни и смерти: в 1937 году Чорос-Гуркин был расстрелян как «враг народа», и написать о нём рассказ было серьёзным вызовом власти.
В середине 1930-х годов Елена Дометьевна участвовала в палеонтологической экспедиции на Алтай. Её описания произвели огромное впечатление на мужа. Иван Антонович изучил геологию великой горной страны в сердце Азии. Как в первом рассказе он описывал Кейптаун, ни разу там не побывав, так же он смог описать Алтай — точно и живо, с полным эффектом присутствия.
Зерно — произведение искусства, а содержание — безупречная логика научного поиска, сопрягающая данные разных наук для раскрытия тайны красных огней, светящихся по берегам озера в хорошую погоду. Результат — находка богатейшего месторождения ртути. Художественная изюминка рассказа — великолепная светопись. Иван Антонович описывает множество оттенков цветов, которыми играет картина художника, озеро и пластинка шлифа под микроскопом.
Возвращаясь мыслями к морю, Ефремов пишет рассказ «Катти Сарк» — о чайном клипере, являвшем собой величайшее произведение искусства кораблестроения. Повествование ведётся от имени капитана Лихтанова, в котором легко узнать образ Дмитрия Афанасьевича Лухманова, моряка «летучей рыбы» и прославленного русского капитана.
На момент написания Ефремов знал историю клипера лишь в общих чертах и придумал в заключение, что знаменитый парусник ставят в специально построенный для него музей. Позже, в 1952 году, благодаря публикации рассказа Ефремова в Англии образовалось общество сохранения «Катти Сарк», и корабль был реставрирован и поставлен на сухую стоянку, где его до сих пор посещает множество туристов.
В рассказе «Путями старых горняков» отразились месяцы, посвящённые автором изучению Каргалинских рудников. Необыкновенными здесь стали потрясающая способность старого штейгера Корнила Хренова ориентироваться в гигантских системах подземных выработок и его поразительная память, которая помогла девяностолетнему старику и молодому горному инженеру найти путь наверх после обвала в шахте. И не менее поразительными стали женская любовь и мужская дружба горняков, память о которых не тускнеет, несмотря на прошедшие десятилетия.
Рассказ «Олгой-хорхой» отмечен знаком горькой утраты. На нашей Земле ещё много неизведанного, и часто встреча с этим неизведанным бывает опасна для человека. Два участника экспедиции в великую пустыню Монголии поддались желанию поймать неизвестных гигантских червяков, которые убили людей то ли ядом, то ли разрядом тока высокого напряжения. За простой историей, рассказанной картографом, скрывается мудрое предупреждение: тайны природы нельзя схватить голыми руками, к их разгадке надо подходить во всеоружии научных знаний и опыта.
«Атолл Факаофо» («Телевизор капитана Ганешина») вновь возвращает нас к мысли, что наша Земля ещё мало исследована, что в недоступных людям морских пучинах могут скрываться неизвестные пока ещё существа. Капитан Ткачёв доложил учёным о морском чудовище, увиденном им во время сражения в Баренцевом море, и этот доклад оставил впечатление «схваченной, но ускользнувшей тайны моря».
Выступление знаменитого океанографа, призывавшего расширять знания о море, вдохновило капитана Ганешина на создание прибора, способного видеть на больших глубинах. Мечта познать морские пучины стала реальностью. Уже в мирное время с помощью этого «телевизора» советским морякам с глубины три тысячи метров удалось спасти батисферу с двумя американскими учёными.
Ефремов пишет о том, что мечта приподнимает и соединяет самых разных людей. «А мечта умного и сильного человека — это уже очень много…»
Эвакуация: Фрунзе
Апрельский Фрунзе встретил пиновцев цветением плодовых деревьев и начинающейся жарой. После ликвидации Сталинградского котла и наступления советских войск некоторые эвакуированные учреждения начали собираться назад, в столицу. Но Алексей Алексеевич Борисяк не спешил с возвращением руководимого им института в Москву: на лето были запланированы полевые работы в Казахстане и Киргизии, обещавшие дать интересные результаты.
Борисяк испытывал редкое воодушевление: в марте ему за многолетние заслуги перед наукой присудили Сталинскую премию — 100 тысяч рублей. Воспринимая премию как подтверждение правильности выбранного советской палеонтологией пути, Борисяк все средства передал в особый фонд Верховного главнокомандования Красной армии, как говорилось в телеграмме, «на строительство вооружения». В ответ он получил приветственную телеграмму Сталина с благодарностью за заботу о вооружённых силах.
Иван Антонович, Елена Дометьевна и Аллан сняли жильё в частном доме, который охранял пёс Степан. Однажды этот довольно мирный пёс яростно накинулся на Ефремова, разорвал штанину, прокусил ему ногу. Оказалось, собака взбесилась. Пришлось колоть Ивану Антоновичу уколы — и опять постель. И тут работа над рассказами вновь стала подлинным спасением от марева бездеятельности.
Жизнь между тем шла своим чередом. Сотрудникам выделили участки под огороды, и все активно начали высаживать что возможно: лук, чеснок, картошку, разрезанную на несколько частей, фасоль…
К июню ПИН разместили в здании Киргизского пединститута, в котором для палеонтологов выделили просторный (200 квадратных метров) гимнастический зал. Его перегородили ящиками, создав некие подобия кабинетов.
Ефремов устроил себе кабинет в тамбуре между дверями — в узком пространстве он создал себе необходимое для спокойного хода мыслей уединение.
Наконец у Ивана Антоновича под рукой были нужные коллекции и библиотека. Работа над рукописью монографии пошла полным ходом. Всё прочее было отодвинуто в сторону. Правда, оказалось, что для учёных не нашлось обычных канцелярских принадлежностей. Иван Антонович вышел из положения: тонкой проволокой прикрутил к карандашу настоящее птичье перо, макал в чернила и писал.
Елене Дометьевне удалось раздобыть банку густой коричневатой патоки. Благодаря содержащейся в ней глюкозе она хорошо подкрепляла силы. Иван Антонович разводил патоку водой — получался сладкий сироп — и прихлёбывал его в духоте своего кабинетика. Мысль его устремлялась к бескрайней степи с огромными грядами перемытых древними морями динозавровых костей.
В это время в другой степи, на возвышенности, где берут начало Ока и Сейм, тугим луком изогнулась линия фронта. Там грохотали орудия, лязгали гусеницы танков и тысячи людей шли в атаку, чтобы завоевать право быть хозяевами истоков русских рек. Чтобы завоевать право любить и познавать свою землю.
Ефремов писал так, словно он защищал право советской науки быть на переднем крае человеческой мысли. Писал азартно, не считаясь с рабочими часами. Так была создана книга «Тафономия и геологическая летопись».
Положения её казались в то время во многом еретическими.
В новой отрасли палеонтологии — тафономии — Ефремов соединял собственно палеонтологию и геологию, говорил об их одинаковой важности для формирования захоронений. В это же время А. А. Борисяк, настоявший на вхождении ПИНа в биоотделение АН СССР, мечтал о том, чтобы переименовать Палеонтологический институт в Палеозоологический, дабы отвадить геологов.
Позже Ефремов написал популярную статью «Что такое тафономия?».[161]
Такое же название дал одной из глав профессор П. К. Чудинов в своей книге «Иван Антонович Ефремов». Пётр Константинович подробно рассказывает о формировании палеонтологического и геологического аспектов тафономии, прослеживает научную мысль своего учителя.
Палеонтологам необходимо исследовать не только добытые ископаемые остатки, но и подробно изучать, где и как они захоронены, в каких слоях. Это поможет ответить на многочисленные вопросы: почему в данных слоях оказались захороненными именно эти остатки, откуда они были принесены водными потоками, подвергались ли размыву. Только так можно будет восстановить полную картину ушедших от нас миров, представить их обитателей, образ жизни древнейших существ в ландшафте, восстановить климатические особенности. Тафономия, исследуя местонахождения ископаемых животных, может и должна помогать поискам и разработке полезных ископаемых.
Летом на семинаре ПИНа Ефремов сделал первый доклад о методике тафономических исследований. Он продолжил свои наблюдения и мысли 1929 года над осадочными толщами Казахстана и Киргизии, в которых встречаются лишь разрозненные фрагменты костей динозавров, и пришёл к выводу, что Монгольская Гоби должна дать более полную картину истории динозавровых фаун Центральной Азии. Появилась и статья в «Известиях АН СССР». Так был проложен ещё один мостик к осуществлению будущей Монгольской экспедиции.
Из Москвы, куда уже уехал Ю. А. Орлов, пришли радостные вести о защите Д. В. Обручевым докторской диссертации по палеонтологии. Это означало, что научная работа в ПИНе, несмотря на военные условия, не заглохла. Успешная защита товарища сняла обычное напряжение московской жизни.
Академия выделила на ПИН несколько мест для аспирантов и докторантов. Так, сразу по окончании института был принят в аспирантуру «на позвоночных» Анатолий Константинович Рождественский, которому суждено будет стать учеником Ефремова.
К августу из столицы начали писать о необходимости скорейшего возвращения: опасались, что другие учреждения, оставшиеся без крова из-за бомбёжек, займут пустующие помещения. Так же обстояло дело и с квартирами сотрудников: пустые квартиры занимали жители, чьи дома были разбиты бомбами; при возвращении хозяев их переселяли в другие пустые квартиры. Ясно было, что тот, кто вернётся последним, будет иметь право на свою квартиру, но жить ему будет негде.
Москвичи волновались, узнав от Обручева, что сахар, масло и другие продукты во Фрунзе дешевле в два, три, а то и в четыре раза. Во Фрунзе масло стоило 300 рублей, а в Москве его можно было достать только из-под полы — уже за 1200 рублей.
Приезжающие рассказывали, что если близ Аральского моря купить соль (за 20–25 рублей ведро), то в районе между Волгой и Рязанью её можно обменять на масло и яйца. За четыре килограмма соли дают килограмм масла! Баснословная выгода!
Москвичи стали с оказией передавать во Фрунзе деньги и тару.
В начале августа А. А. Борисяк, узнав, что на 20 сентября намечена сессия Академии наук, решил срочно возвращаться. Все пиновцы были в поле, во Фрунзе оставались лишь Ефремов и больной Родендорф. Ефремов был назначен уполномоченным по укладке вещей и организации переезда.
13 августа произошло важное событие — открытие Киргизского филиала Академии наук, ставшее итогом двухлетнего пребывания сотрудников академии в эвакуации. Столичные учёные за годы эвакуации существенно двинули вперёд науку среднеазиатских республик.
25 августа закончилась научная работа в учреждениях Академии наук. К 1 сентября всё имущество институтов было в ящиках. Похудевшие научные работники возвращались из экспедиций.
Сотрудники собирали урожай на личных огородах, укладывались, готовясь к дальней дороге. Иван Антонович перечитывал и правил готовую «Тафономию», в свободное время обдумывая сюжеты новых рассказов.
Тревожным звоночком в письмах пиновцев из Москвы прозвучал рассказ о книге Т. Д. Лысенко «Наследственность и её изменчивость». На семидесяти трёх страницах автор догматически высказывает одни и те же положения, несколько раз полемически перефразирует их, но не доказывает. Написанная неряшливо, порой даже безграмотно, без чётких формулировок, эта книга принадлежала перу академика, директора Института генетики!
ПИН теперь относился не к геологическому, а к биоотделению Академии наук, и если подобные книги поднимаются на щит, надо быть начеку…
В начале сентября А. А. Борисяк и ещё несколько академиков и членов-корреспондентов с семьями выехали в Москву в отдельном вагоне. К 18 сентября они уже были в Москве, где, казалось, ничего не изменилось: те же стенографистки, те же аппаратчики, та же «холодноватая», официозная атмосфера.
Оставшимся во Фрунзе пиновцам удалось выехать в одном поезде только в начале октября. Поезд вёз на фронт бойцов, выздоровевших в далёких госпиталях. До Аральского моря ехали весело — питались в вагоне-ресторане, пели, рассказывали истории, ели дыни.
По мере приближения к Аралу путешественников охватывало волнение. Выходили из вагонов, тревожно осматриваясь по сторонам. И вот на одной из станций к поезду подъехали телеги, наполненные крупной коричневой солью. Многие, схватив вёдра и сумки, кинулись покупать соль. Брали, сколько могли унести, чтобы обменять потом на масло и яйца. Паровоз давал гудки, но толпа возле телег была так велика, что отправление пришлось надолго задержать.
Иван Антонович кипел возмущением. Нельзя же задерживать отправление поезда, везущего на фронт бойцов, ради наживы! Он не пустил Елену Дометьевну покупать соль, а вернувшимся коллегам, только что пережившим «соляную лихорадку», резко и категорично высказал своё неприятие.
Он недоедал так же, как все, он понимал желание обеспечить пропитание себе и семье, но импульсы жадности и наживы, в которые переросло это желание, были ему отвратительны.
Все чувствовали справедливость слов Ефремова, но, как часто бывает, стыдясь собственной слабости, долго не могли простить этого тому, кто оказался её лишён.
Ехали 16 дней. В Москву, где было уже восстановлено вечернее освещение, вернулись в середине октября. Однако не все приехали здоровыми — некоторые заболели желтухой и малярией.
Первый успех
Квартира Ефремовых во всём доме оказалась единственной, где остались целыми окна: перед отъездом Иван Антонович открыл шпингалеты, и при близком падении бомбы рамы распахнуло взрывной волной, но стёкла не вылетели.
Отопление на работало, и на время пришлось вновь вспомнить о буржуйке.
С радостным узнаванием перебирали знакомые книги и вещи. Иван Антонович смотрел с особым чувством на бронзовую, с жёлтым абажуром, люстру, которая досталась ему от отца. Она висела в той петроградской квартире, куда он вернулся после Гражданской войны. Сейчас она согревает его теплом памяти здесь, в Москве.
Елена Дометьевна новым взглядом посмотрела на шторы, висевшие на высоких окнах. На каждом окне — по много метров крепкой ткани! Из них можно пошить одежду — в эвакуации совсем поизносились.
Аллан, по-детски полузабывший Москву, принялся заново знакомиться с мальчишками из окрестных домов.
Ефремовым пришлось потесниться: у них временно поселилась Мария Фёдоровна Лукьянова: её комната после реэвакуации оказалась занята, и жить ей было негде.
Оформив прописку и получив хлебные карточки, Иван Антонович и Елена Дометьевна вернулись к работе в Палеонтологическом институте.
Однако Иван Антонович проработал недолго: на него вновь напала неведомая болезнь. Три недели температура держалась под сорок и никакие лекарства не помогали. Мария Фёдоровна прозвала эту болезнь «докторской» — болел ею один лишь доктор наук Ефремов.
Полная интоксикация сильно ослабила Ивана Антоновича. Необходимо было хорошо питаться, но скудные продукты можно было получить только по карточкам. На рынке цены были непомерно высокими. Тогда Лукьянова, которую в ПИНе выбрали в бытовой сектор профкома, через снабженца ухитрилась достать два килограмма гречневой крупы. «И вот я всю крупу принесла домой, — рассказывала Мария Фёдоровна. — На другой день возвращаюсь с работы, а Елена Дометьевна встречает с папироской в зубах и радостно сообщает, что наварила из всей крупы каши и что теперь Иван Антонович быстро поправится. Я чуть не расплакалась. Она ведь все два килограмма сразу сварила! Кто же так больному варит, сколько он за раз съест? Надо же каждый день варить помалу… — Мария Фёдоровна говорила с таким неподдельным огорчением, как будто только вчера была загублена драгоценная гречка. — Мы ведь очень мало получали. У меня оклад был 250 рублей, да ещё у геологов по вечерам прирабатывала. Надо было Ивану Антоновичу козье молоко покупать, а где денег столько взять? Маленький Аллан говорил, что, когда вырастет, не будет жениться, а купит козу».[162]
Сотрудники, остававшиеся в Москве, сделали всё возможное, чтобы подготовиться к приезду товарищей: отмыли помещения от двухлетней пыли, привели в порядок полученную корреспонденцию и библиотеку. Предстояло встретить вагоны с коллекциями, разгрузить их и начать восстановление музея.
Осенью 1925 года, после празднования двухсотлетия Академии наук, Пётр Петрович Сушкин телеграммой вызвал Ивана из Ленкорани: открылась вакансия препаратора. Так юбилейный для академии год стал началом научной работы Ефремова. Осенью 1943 года 35-летнему Ефремову присвоили звание профессора.
Летом 1945 года академия собралась праздновать 220-летнюю годовщину. Для Ивана Антоновича это была круглая дата: 20 лет в науке.
Ефремову поручили руководить подготовкой экспозиции. До юбилея оставалось чуть больше года, но надобно ещё учесть отпуска сотрудников и летние полевые работы. Между институтскими делами Иван Антонович не забыл о своих рассказах. Он отыскал машинистку, которая перепечатала «Семь румбов», и послал рукопись в редакцию издательства «Молодая гвардия». В ответ — молчание.
Только через пару месяцев, когда Ефремов уже решил забрать из редакции рукопись, к нему на квартиру пришёл посыльный с таким письмом:
«2 XII 1943 г.
Многоуважаемый Иван Антонович.
«Семь румбов» прочитаны несколькими работниками нашего издательства, и у всех сложилось самое благоприятное впечатление о Ваших рассказах. Мы хотим их издать, — правда, при условии некоторой редакционной работы над ними.
Необходимо спешно повидаться с Вами и поговорить. Если Вы больны и не сможете сами зайти в изд-во, сообщите, — можно ли зайти к Вам. Было бы хорошо, если бы Вы могли позвонить об этом мне по телефону К-1.25.57, — лучше всего в утренние часы — часов в 10, 11.
Привет.
Зав. отделом, художеств, литературы Б. Евгеньев»[163].В редакции предложили до выхода сборника напечатать рассказы по отдельности в журналах: это должно было познакомить читателей с новым автором и, в свою очередь, помочь при продаже авторского сборника.
В начале января Иван Антонович с радостью написал об этом своему другу Алексею Петровичу Быстрову: переписка с ним возобновилась, как только Ефремов оказался в Москве и узнал, что Быстров находится в Кирове.
В январе 1944 года Ефремов неожиданно получил извещение о посылке. Оказалось, из Кирова, старинной Вятки, где жил в эвакуации Алексей Петрович. Что же мог прислать задушевный друг? Посылка небольшая и довольно лёгкая. Ивану Антоновичу хотелось распечатать её прямо на почте, но он дотерпел до дома. Уже в прихожей легко разорвал шпагат, сковырнул коричневый сургуч, снял обёрточную бумагу. Елена Дометьевна стояла за спиной мужа, по-детски вставая на цыпочки, пыталась заглянуть через плечо. Развернув газету, Иван Антонович обнаружил толстые пуховые перчатки — прекрасный подарок! И очень своевременный. Ему трудно было найти в продаже перчатки большого размера, и друг позаботился об этом. Радость и умиление охватили сердце Ивана Антоновича. Трогательное внимание Алексея Петровича и Тильды Юрьевны (наверняка это она высмотрела перчатки на рынке) отозвалось в душе Ефремова дружеской нежностью.
Надевая подарок, он обнаружил в одной из перчаток сложенный листок. Развернув бумагу, Иван Антонович пробегал глазами короткие строчки, написанные отчётливым бисерным почерком. Что там? Что такое? — любопытствовала Елена Дометьевна, и он, сглотнув подкативший к горлу комок, торжественно начал читать вслух:
Письмо Профессору И. А. Ефремову[164]
Мой друг! Тебе из дальней Вятки Подарок я послать могу, Поверь, совсем не в виде взятки — Я в чувствах, право, редко лгу. Из Вятки… Это как с Камчатки — Ведь здесь полгода снег и лёд, А потому тебе перчатки Твой старый друг купил и шлёт. Перчатки шлёт, а не перчатку! — Ведь я дуэли не хочу, И драться мне за опечатку С тобой совсем не по плечу. Хоть прежде мы дрались от скуки, Но лучше жить, не ссорясь впредь. Поверь, твои большие руки Мне просто хочется согреть. Они ведь сделали немало В былое время мне добра, А что дрались с тобой, бывало, О том забыть давно пора. Прими же, друг, перчатки эти. Носи на счастье. Будь здоров. Живи сто лет на этом свете. Привет жене. Пиши. Быстров.Быстров искренне желал Ивану Антоновичу удачи на новом для него поприще, ждал публикации рассказов. Они ещё должны были пройти цензуру, и цензору показался подозрительным «Эллинский секрет» — он звучал слишком неправдоподобно, даже принимая во внимание особенности фантастического жанра. Сборник решено было назвать «Пять румбов», исключив из него ещё один рассказ.
Успех воодушевил Ефремова. Он уже обдумывал новые сюжеты. Однако случилось событие, которого никто не ожидал и которое на время отвлекло его от литературного творчества.
В конце января 1944 года простудился Алексей Алексеевич Борисяк. Осенью и зимой он редко появлялся в ПИНе: из-за болезни позвоночника он не мог сам добираться до института, а свободные машины у академии теперь, во время войны, были не всегда. Болезнь затянулась, и через месяц, 25 февраля 1944 года, Борисяк умер.
Живой, работоспособный коллектив института оказался в сложном положении. По уставу академии директором её научного института мог стать только академик. Однако академиков, специализирующихся в палеонтологии, в составе АН СССР не было. Значит, директор будет назначен, так сказать, со стороны, и он одинаково может как воссоздать, так и уничтожить всё.
Большое облегчение ощутили сотрудники, когда узнали, что на это место назначается Александр Григорьевич Вологдин, член-корреспондент АН СССР. Он уже осенью 1943 года начал работать в ПИНе и, будучи геологом, понял специфику института. Однако мера эта была временной.
Ведущие сотрудники Палеонтологического музея, в числе которых был Ефремов, обратились с письмом к академику-секретарю ОБН АН СССР Л. А. Орбели: место директора ПИНа может занять только человек, хорошо знающий специфику палеонтологии. Таким человеком является доктор наук Ю. А. Орлов, много лет бывший заместителем Борисяка. Письмо было поддержано ходатайствами академиков В. А. Обручева и А. Е. Ферсмана. В 1945 году Юрий Александрович Орлов (в виде исключения) был назначен директором ПИНа, а А. Г. Вологдин стал заведовать лабораторией древних организмов.
В марте 1944 года Иван Антонович вновь перенёс тяжёлую болезнь. Он мечтал быстрее «прочухаться», чтобы вновь приняться за работу, ещё не зная, что непонятная болезнь с этих пор будет преследовать его до конца жизни.
Точных сведений о том, что делал Ефремов весной и летом 1944 года, нет. С конца марта регулярная переписка его с Быстровым прерывается почти на пять месяцев. По рассказам, в это время Ефремов был откомандирован в Якутию на поиски месторождений золота, где открыл одно чрезвычайно богатое месторождение.[165]
В статье А. Измайлова со слов Аркадия Стругацкого передаётся такая история: «1944 год. И. А. Ефремов откомандирован с экспедицией в Якутию на поиски новых месторождений золота. Была война, и золото нужно было позарез! У него под командованием состояло несколько уголовников. Экспедиция вышла на очень богатое месторождение, они взяли столько, сколько смогли взять, и отправились обратно, причём Иван Антонович не спускал руки с кобуры маузера. Как только добрались до Транссибирской магистрали, на первой же станции связались с компетентными органами. Был прислан вагон, и уже под охраной экспедицию повезли в Москву. По прибытии с уголовниками сразу расплатились или посадили их обратно, вот уж не знаю. А Ивана Антоновича сопроводили не то в институт, от которого собиралась экспедиция, не то в министерство геологии. Там прямо в кабинете у начальства он сдал папку с кроками и всё золото. При нём и папку, и золото начальство запихало в сейф, поблагодарило и предложило отдыхать.
На следующий день за Ефремовым приезжает машина из компетентных органов и везёт его обратно, в тот самый кабинет. Оказывается, за ночь сейф был вскрыт, золото и кроки исчезли…»
Документальных подтверждений этого факта пока нет. Однако известно, что Иван Антонович собирался написать рассказ об открытии богатейшего месторождения золота — рассказ автобиографический.
Переписка Ефремова с Быстровым возобновляется в конце августа. Они живо обсуждают научные вопросы, делятся планами, Ефремов предлагает другу принять участие в сборнике памяти Борисяка. Обоих волнует судьба материалов, собранных в ленинградской лаборатории Гартман-Вейнберг. Ефремов считает, что Быстрову после войны надо вернуться в палеонтологию и взяться за их обработку.
Между тем рассказы за подписью «Иван Ефремов» появляются в журнале «Новый мир», затем в «Технике — молодёжи», в военном журнале «Краснофлотец» (Ленинград). Чуть позже в «Молодой гвардии» — крупнейшем издательстве страны — тиражом 25 тысяч экземпляров выходит авторский сборник «Пять румбов: рассказы о необыкновенном» («Встреча над Тускаророй», «Озеро горных духов», «Путями старых горняков», «Аллергорхой-хорхой»,[166] «Голец Подлунный»).
Одновременно авторский сборник выходит в Военмориз-дате. Он толще молодогвардейского, и в нём повторяются два рассказа: «Встреча над Тускаророй» и «Озеро горных духов». Добавлены те, в которых звучит морская тематика: «Атолл Фа-каофо», «Бухта радужных струй» и «Последний марсель».
Некоторые рассказы оказались напечатанными за год по три, а то и четыре раза!
При этом «Голец Подлунный», «Обсерватория Нур-и-Дешт», «Бухта радужных струй» и «Последний марсель» были и закончены, и опубликованы в 1944 году.
Для рассказа «Голец Подлунный» Ефремову практически не пришлось ничего сочинять: он максимально точно изложил историю Чарской экспедиции, которая сама по себе является примером подвига ради науки. Единственное отступление от фактуры, которое сделал рассказчик, и есть собственно фантастический поход к пещере с древними рисунками африканских животных и громадными бивнями слонов. Разве это не чудо — встретить Африку «в сердце скованных стужей Сибирских гор»!
Этот рассказ написан не только ради удивительной находки, но и ради вывода: один факт может заставить «по-новому пересмотреть прежние взгляды». Поэтому нельзя отмахиваться от фактов, какими бы невероятными они ни казались.
По крупицам собирает факты из разных областей науки майор Лебедев в рассказе «Обсерватория Нур-и-Дешт». Раненый артиллерист, бывший до войны геологом, вместо санатория решил поехать на раскопки древней обсерватории в долине реки Или. Изучая арабские надписи, сопоставляя данные геологии, истории, археологии, он обнаружил древний рудник, где добывали урановые руды, использовавшиеся для изготовления светящихся красок. В составе руд присутствовал радий, который создавал вокруг обсерватории поле слабого радиоактивного излучения в дозировке, наиболее благоприятной для человеческого организма.
Название обсерватории Нур-и-Дешт переводится как «Свет пустыни». Безупречная красота юности, глубокие знания, светлая любовь, стремление к творчеству и познанию Вселенной сливаются в этом рассказе в гармонический аккорд, торжествующий над силами разрушения и зла.
Зло середины XX века воплощено в фашизме, захватившем полмира. Против фашистских бомбардировщиков сражаются моряки транспорта «Котлас», идущего в составе каравана из Америки в СССР Северным морским путём. Выдержав несколько атак вражеских самолётов, разбитый «Котлас» начал тонуть. Корабль охранения, взяв на борт раненых, ушёл. Шесть моряков, оставшиеся на гибнущем судне, долго боролись за жизнь корабля, а когда надежды не осталось, перешли на спасательные плоты.
Так начинается рассказ «Последний марсель».
В нём нет фантастических гипотез и научных поисков, но дальнейшее развитие событий кажется невероятным и читается как захватывающий приключенческий рассказ.
Советских моряков приносит ветром к побережью Норвегии, где они находят приют на старинном паруснике. Рыбаки-норвежцы тайком от оккупировавших страну фашистов снабжают моряков продуктами и помогают поставить паруса, чтобы выйти в море. И происходит событие, которое в глазах норвежцев и англичан выглядит подлинным чудом: шестеро русских «паровых» моряков благодаря знаниям старпома Ильина сумели справиться со сложным парусным вооружением бригантины и выдержать натиск многодневного шторма, порвавшего перепревшие паруса. Отважных моряков спас английский крейсер.
Рассказ завершает история вековой давности, которую рассказывает английский офицер Кеттеринг. Он же подводит итог спору, какую из наций можно назвать морской нацией.
«Как же может быть, чтобы континентальный народ оказался способным к морскому искусству?» — удивляется один из собеседников.
Кеттеринг отвечает так:
«Мне кажется, тут дело в особых свойствах русского народа. Из всех европейских наций русская сформировалась на самой обширной территории, притом с суровым климатом. Этот выносливый народ получил от судьбы награду — способности, сила которых, мне кажется, в том, что русские всегда стремятся найти корень вещей, добраться до основных причин всякого явления. Можно сказать, что они видят природу глубже нас. Так и с морским искусством: русский очень скоро понимает язык моря и ветра и справляется даже там, где пасует вековой опыт».
В рассказе «Бухта радужных струй» с фашистскими самолётами сражается и морской лётчик Борис Андреевич Сергиевский, выполняющий перелёт из СССР в Америку над Атлантическим океаном. После атаки истребителей он сумел посадить самолёт, потерявший почти все приборы, у побережья Флориды, в небольшой бухте, окаймлённой необычными пальмами. Самолёт сломал пальмы, от них вода окрасилась в чистые краски золота, сини и пурпура, начала опалесцировать. Сергиевскому удалось захватить с собой несколько кусочков волшебного дерева в Москву, где он встретил профессора Кондрашова, изучающего свойства древнейших растений Земли. Так был вновь открыт «коатль» ацтеков, или «древо жизни» средневековых учёных, обладающее способностью излечивать многие болезни.
«Древо жизни» из «Бухты радужных струй», вода глубоководных впадин из «Встречи над Тускаророй», древний рудник красок с целительными эманациями радия из «Обсерватории Нур-и-Дешт» — явления, больше похожие на сказку, чем на действительность, но обоснованные так глубоко и всесторонне, что читатели невольно верят в чудо, воспринимая его уже не как необыкновенное, но как редкий научный факт.
Соединение науки со сказочной мечтой не могло не увлечь читателей.
Ошеломляющий успех начинающего писателя казался необычайным. Ефремову он дал сознание важности начатого дела. Существенную поддержку семье оказала приличная сумма гонорара.
Алексей Петрович Быстров писал из Кирова своему лучшему другу:
«Я думаю, что в Вас нет никаких оснований утверждать, что я ничего не понимаю в литературе, а потому моё мнение о Ваших рассказах Вы должны признать достаточно авторитетным. Я не буду кривить душой и скажу прямо: Ваши рассказы нельзя признать хорошими, ибо их следует признать блестящими.
Что же в них хорошо?
Во-первых, изумительно-литературный русский язык; огромный словарь, т. е., вероятно, много тысяч слов, которыми автор активно пользуется. Это вообще редко встречается. <…>
Во-вторых, слог прекрасный. Автор нигде не делает ни одной ошибки. <…> К стилистике нельзя придраться — она безукоризненна. Словом, автор не только владеет словарём, но и умеет им пользоваться так, что русская речь его просто блестящая.
Эти две причины создают третью положительную сторону рассказов.
В-третьих, описания природы, которыми так богаты рассказы, читаются как захватывающие страницы интересных бесед умных героев. Таких бесед в рассказах мало, почти нет. Но от описаний природы трудно оторваться. Этого, пожалуй, редко кто достигал. И это, несомненно, одна из изумительных особенностей «Румбов». <…>
В-четвёртых, хороши типы сибирских инородцев, их отношение к опасности; философски-спокойное, сократовское отношение к смерти. <…>
В-пятых. Вы знаете, что все литературные произведения имеют свой «запах». От Ваших рассказов пахнет чем-то здоровым, приятным, свежим… Словом, после их чтения на душе становится хорошо. Это непередаваемое большое достоинство «Румбов». И я вполне разделяю высокую оценку их в литературных кругах. <…>
В-шестых. Я не могу указать недостатков Ваших «Румбов», так как не вижу их. Рассказы очень хороши».[167]
В декабре 1944 года Ефремова пригласили в кремлёвскую больницу. Там лежал Алексей Николаевич Толстой, корифей русской и советской литературы, академик, депутат Верховного Совета СССР, председатель Союза писателей СССР. Его романы «Аэлита» и «Гиперболоид инженера Гарина», написанные в двадцатых годах XX века, стали классикой научной фантастики.
Тяжелобольной, Толстой продолжал следить за движением советской литературы. Стремительное появление нового автора не могло пройти мимо его внимания.
Появление в палате Ефремова Толстой встретил вопросом:
— Рассказывайте, когда вы сумели выработать такой изящный и холодный стиль?
Главное в рассказах молодого автора было, по словам Толстого, «правдоподобие необычайного». Чем больше логики в необыкновенном, тем более верным и подлинным кажется это необыкновенное.
Через два месяца в стране будет объявлен государственный траур: Алексей Николаевич Толстой уйдёт из жизни. Короткая аудиенция в кремлёвской больнице станет для Ефремова в писательском мире поддержкой на многие годы.
Тогда же, в декабре 1944 года, сразу после визита к Толстому, произошло событие, неожиданное для Ивана Антоновича: его приняли в Союз писателей СССР. Обычно в эту организацию, обладавшую в Советском Союзе веским словом, принимали по заявлению желающего, который должен был предоставить, кроме публикаций, рекомендации двух членов союза.
Ефремова зачислили в Союз писателей без заявления и даже без его присутствия на заседании, поставив перед фактом. Случай из ряда вон выходящий. Видимо, какой-то высокий партийный чиновник пожурил секретаря: дескать, плохо работаете с кадрами, у человека столько публикаций, а он не член союза!
Подполковник медицинской службы Быстров шутил: «Подполковничиха прочитала где-то Вашу «Обсерваторию» и пришла в восторг, говорит, что это, по её мнению, самый интересный Ваш рассказ. Я его ещё не читал. Но Вы печатаетесь теперь повсюду, и за Вами не угонишься. Скоро, пожалуй, ваши рассказы появятся в «Большевике» или в «Спутнике агитатора»…»[168]
В 1945 году публикуются написанные в 1944 году «Алмазная труба» и «Белый рог» («Ак-Мюнгуз»). Тёпленьким идёт в печать рассказ «Тень Минувшего».[169]
«Алмазная труба» спустя шесть десятилетий совершенно не воспринимается как рассказ о необыкновенном. Создаётся впечатление, что перед нами подлинная история открытия алмазов в Сибири. Однако первая кимберлитовая трубка в Якутии была открыта геологом Ларисой Анатольевной Попугаевой в 1954 году, рассказ же написан и опубликован за девять лет до этого события. Сила и точность ефремовского предвидения была такова, что геологи, отправлявшиеся на исследование сибирской тайги, носили в своих рюкзаках журналы с рассказом Ефремова «Алмазная труба».
Прекрасно знающий Сибирь, Ефремов увидел сходство в строении Южной Африки и Сибири. Научная гипотеза в рассказе оказалась закамуфлированной под фантастическое предположение. Ефремов знал: «Только огромные неисследованные, малодоступные пространства стоят между теоретическим заключением и реальным доказательством». Его герои геологи Чурилин и Султанов совершают научный подвиг: отпустив отряд на базу, рискуя жизнью, они продолжают исследования до наступления таёжной осени, понимая, что при неудаче экспедицию на следующий год могут свернуть.
В «Алмазную трубу», как и в «Голец Подлунный», Иван Антонович вложил самые сокровенные воспоминания о своих экспедициях начала 1930-х годов, поэтому, оттеняя фактическую точность и выверенность описаний, в них звучит особая лирическая интонация.
Главный герой «Белого рога» — тоже геолог, Олег Сергеевич Усольцев, «неутомимый и стойкий исследователь Тянь-Шаня». Чтобы разгадать тайну строения местности, геологи должны получить образцы породы с вершины горы под названием Ак-Мюнгуз, что в переводе с уйгурского означает «Белый Рог». Отвесные скалы неприступны, и в попытке подняться Усольцев терпит поражение. Женщина, которую он хочет считать своей подругой, говорит ему о восхищении восходителями Эвереста. У каждого должен быть собственный Эверест, к которому стремится душа человека.
И Усольцев, подобно богатырю из уйгурских преданий, совершает восхождение на Ак-Мюнгуз. Там он находит древний меч, оставленный на узкой скальной полочке древним батуром. Постепенное внутреннее восхождение, которое проделывает Усольцев, штурмуя белое зеркало скалы, есть «борьба человека за то, чтобы стать выше самого себя». Вера Борисовна оценила его поступок по достоинству.[170]
Психология творчества — загадочная, всё ещё недостаточно исследованная область. В художественных произведениях неизбежно проявляются важнейшие мысли и образы, которые волнуют автора, иногда поднимаясь на уровень сознания, иногда словно бы неожиданно всплывая из океана подсознания.
Два рассказа Ефремова — «Обсерватория Нур-и-Дешт» и «Белый рог» — имеют общее место действия — Семиречье, местность к югу от озера Балхаш, долина и предгорья Тянь-Шаня и Кетменского хребта. Здесь Иван Антонович путешествовал в 1929 году, в 1942–1943 годах прожил трудные месяцы эвакуации в Алма- А те. Сюжеты обоих рассказов не взяты почти целиком из жизни, как у «Гольца Подлунного» или «Путями старых горняков», а рождены воображением автора. Важнейшие символы мысли Ефремова отразились в них.
Остро чувствуя жизнь во всех её гранях, Иван Антонович стремился осознать феномен отношений мужчины и женщины. Издревле символом женского начала была чаша (в различных её вариациях — от ступы до изысканных сосудов), мужского — клинок (в вариантах от меча до песта). Мужчина, познавая сущность своей души — Психеи, стремится постичь женщину, женщина пытается осознать себя и мир через мужчину.
В «Обсерватории Нур-и-Дешт» герои на холме Светящейся чаши находят удивительную по красоте вазу и читают: в месяце Ковус (по-арабски Стрелец) «в память великого дела была сделана эта надпись и замурована древняя ваза с описанием постройки». Рассказ пронизан символами: главный герой его — майор-артиллерист (по сути, тот, кто стреляет, стрелец) Лебедев встречает девушку со светлой душой, вместе они ведут раскопки и находят древнюю вазу — тайну и женственность — и в конце вместе смотрят на созвездие Лебедя: «В высоте над нами, прорезывая световые облака Млечного Пути, сиял распростёртый Лебедь, вытянув длинную шею в вечном полёте к грядущему».
В уйгурской легенде из «Белого рога» воин на белом верблюде несколько лет странствует в поисках пропавшей невесты, находит её женой степного хана и матерью его сыновей и, чтобы получить свою возлюбленную, возносит на скалу меч хана. Меч здесь — символ мужской силы. Хан мечтал пронести своё потомство через тысячелетие. Но по пророчеству этого добьётся тот, кто сам положит меч на вершину горы — своими, а не чужими руками. Совершив подвиг, воин из чужой страны убил возлюбленную. Сосредоточенность на мече, на пути воина, на мести препятствует познанию Психеи внутри себя.
Геолог Усольцев, поднявшийся на Белый рог, — тоже образ мужественности, заострённый, подобно клинку, находит там древний меч. Его дерзкий подъём связан с желанием восстановить в себе ту внутреннюю силу, которая была сломлена гордостью и неприступностью женщины, преодолеть душевную слабость, приносившую ему много страданий. Он обретает меч — искомую силу, и гордая геологиня меняет к нему отношение.
Чаша и клинок — не случайные образы. Эта пара проявится ещё в двух рассказах — «Бухта радужных струй» и «Эллинский секрет».
Первый из них начинается повествованием о «дереве жизни», дающем долголетие. Тайной его владели иезуиты. Вспоминаются опыты Бойля с чашей из почечного дерева: вода в ней приобретала голубое свечение. Заканчивается рассказ символической сценой: профессор подаёт лётчику, благодаря которому были найдены деревья эйзенгартии, небольшой бокал из древесины этого растения, наливает чистую воду, которая превращается в волшебный напиток жизни: «Вода в тёмном бокале казалась зеркальцем глубочайшей синевы. Сергиевский, смущённо улыбаясь, принял бокал из рук профессора и, не колеблясь, осушил до дна».
В «Эллинском секрете» клинок трансформируется в образ клыка, знаменитой слоновой кости, которую скульптор должен преобразить, создав статую, не используя режущих инструментов, а вылепляя нужные формы. Из глубин подсознания художнику удаётся извлечь древний рецепт размягчения дорогого материала, словно воду жизни из океанской впадины. Родилась возможность размягчать твёрдое и создавать из него необходимое.
Тема чаши и клинка, раз возникнув, уже не исчезнет в произведениях Ефремова. Как подземные воды, она будет питать его творчество, порой пробиваясь на поверхность чистыми родниками. Образ женщины станет ключевым для понимания путей мира.
В рассказе «Тень Минувшего» прекрасная геологиня Мириам, исследовательница пустынь Средней Азии, вдохновляет героя на научный подвиг. Ефремов говорит нам: раньше мужчины ради любви женщины сражались на турнирах, теперь им тоже приходится сражаться, но не друг с другом, а с мраком нашего незнания. Воинские подвиги должны уступить место подвигам научным! А женщина будет способна оценить такой подвиг и достойно вознаградить героя.
«Тень Минувшего» — увлекательное повествование о работе палеонтолога Никитина, имеющее огромное образовательное значение. Ефремов в деталях описывает среднеазиатские местонахождения, обработку костей в полевых условиях, трудности, с которыми сталкиваются даже хорошо организованные экспедиции, и даже монтировку готовых скелетов в залах музея.
На орбиту научной фантастики этот рассказ выводит дерзкая идея, в своей обоснованности звучащая как научная гипотеза: слои горных пород, образованных в древнейшие времена, могут хранить в себе отпечатки прошлого, подобные фотографическим изображениям, возникшим в определённых условиях.
Первая встреча с видёнием гигантского динозавра потрясла людей, разрушила «все установленные образованием и жизненным опытом представления». Учёные к докладу палеонтолога о необычайном явлении отнеслись скептически, и тогда Никитин начал собственные исследования, привлекая данные самых разных наук.
В этом было одно из самых ценных обобщений Ефремова, продолжающее максиму Вернадского «построение исследования не по наукам, а по проблемам»: важнейшие открытия современности делаются на стыке научных дисциплин.
Несколько лет Никитин посвящает решению задачи, тратя на неё все силы. К этому подталкивал его и образ Мириам. «Человеческий ум не мог опустить свои мощные крылья перед непостижимым!» И вот разгадка удивительного найдена.
В финале рассказа звучит тема долга учёного перед народом: «Вереница знакомых лиц прошла перед мысленным взором учёного. Вот они, горняки, рабочие каменоломен, колхозники, охотники. Все они доверчиво и бескорыстно, не спрашивая о конечной цели, уважая в нём известного учёного, помогли ему найти и схватить тень минувшего.
Значит, он работал и пользовался их помощью в долг… Да, и теперь этот долг уплачен — вот откуда громадное облегчение!»
Рассказы «Голец Подлунный» и «Алмазная труба» читаются как увлекательные учебники по геологии и природе Сибири.
Рассказы Ефремова, посвящённые труду геологов и палеонтологов, сыграют огромную роль в формировании интереса молодых людей к этим специальностям. На несколько десятилетий геология станет самой популярной у молодёжи специальностью.
Дилогия «На краю Ойкумены»
После успеха рассказов Ефремов уже не сомневался, что отныне ему придётся служить двум музам: науке и литературе. Отныне самым ценным в жизни учёного и писателя становится время: он дорожит каждой минутой, мгновенно выделяя в потоке событий всё существенное, по мере возможности оставляя в стороне мелкое, мимоходное.
Великая боевая мощь Советского Союза, самопожертвование народа ради победы изменили в обществе удручающее настроение, вызванное репрессиями 1930-х годов, заразили всех ожиданием больших и хороших перемен. Общий подъём выразился в страстном желании работать, дабы восстановить разрушенное фашистами, сделать нашу страну богаче и краше, чем прежде.
Ефремов переживал могучий творческий подъём. Долгожданная победа и флаг над рейхстагом не расслабляли, но устремляли мысль в новое русло.
В марте 1945 года Алексей Петрович Быстров был награждён орденом Боевого Красного Знамени за заслуги в подготовке военных медиков. Чуть позже Ефремова и Орлова наградили орденами Трудового Красного Знамени за заслуги в палеонтологии. Ефремов отнёсся к награждению довольно скептически — по его мнению, орден был дан не за его любимую науку, а «за трудовые услуги», — и даже подумывал отказаться от него. Но Быстров однозначно ответил другу, что не брать таких вещей нельзя…
В мае наука страны пережила крупную потерю: умер академик Ферсман. Для Ефремова Александр Евгеньевич был не просто выдающимся геологом и минералогом: они были знакомы 20 лет, он был другом Петра Петровича Сушкина. В 1925 году именно Ферсман подписал юноше командировку в Талышские горы, а в 1941-м стал начальником Экспедиции особого назначения. Такие утраты невосполнимы…
Порадовала Ивана Антоновича новая служба старого друга: Быстров после возвращения из эвакуации возглавил лабораторию палеонтологии в Ленинградском университете, в здании на 16-й линии Васильевского острова.
Вскоре друзьям и коллегам — Ефремову и Быстрову — была присуждена премия имени А. А. Борисяка за их совместный труд «Benthosuchus sushkini Efr. — лабиринтодонт из эотриаса р. Шарженги».
По отзывам на свои рассказы отслеживая огромный интерес читателей к географии, Ефремов задумался о необходимости в СССР журнала, подобного «National Geographie». Это издание было органом Американского географического общества, Иван Антонович был членом общества и неизменным подписчиком журнала.
Он обратился за поддержкой к патриарху российской науки академику Владимиру Афанасьевичу Обручеву, автору научно-фантастических романов «Плутония» и «Земля Санникова». Инициатива Ефремова и Обручева была поддержана в верхах, и в конце 1945 года в издательстве «Молодая гвардия» был воссоздан журнал «Вокруг света», закрытый в начале войны.
В Палеонтологическом музее полным ходом шла подготовка к празднованию 220-летия Академии наук СССР. Страна-победитель приглашала в Москву крупнейших учёных всего мира. Академия издавала юбилейную литературу, выпустила специальный значок. 15 июня началась юбилейная сессия. Гость из Великобритании, профессор Дэвид Уотсон оставил высокий отзыв о работе коллектива музея, особо отметив деятельность профессора Ефремова.
6 августа весь мир был потрясён страшным известием: атомная бомба, сброшенная с американского бомбардировщика, стёрла с лица земли японский город Хиросиму, 9 августа такая же бомба уничтожила Нагасаки.
Советское правительство приняло свои меры, изменив отношение к науке в целом. Отныне атомная физика была на коне.
Что можно противопоставить массовому уничтожению людей? Только одно будет по-настоящему действенно: надо проращивать в сознании народов представление о ценности каждой личности. Ефремов мысленно обращался к светлому образу Древней Греции, к временам, когда понятие личности только зарождалось. Показать духовную красоту человека — с этого стоит начать…
Рабочий день Ефремов проводил в ПИНе. Его удручало, что помимо подлинного творчества в науке постоянно возникала различная срочная работа, «которая облепляет каждого учёного и не имеет прямого отношения к его исследованиям»:[171] чтение и подготовка отзывов на диссертации, корректура собственных статей и написание рецензий на чужие, участие в различных заседаниях, совещаниях и пр.
Вдохновляло же радостное внимание со стороны институтской молодёжи, аспирантов, которых он так любовно опишет в «Звёздных кораблях». С 1946 года аспирантом стала Вера Васильевна Щеглова, открытая, светлая девушка двадцати четырёх лет. В 1944 году, в эвакуации, она окончила геолого-почвенно-географический факультет Среднеазиатского университета (Ташкент), в ПИНе ей предложили изучать большеротого оленя.
«…Солнечное весеннее утро. Молоденькая аспирантка Верочка в белой шляпке и пальто стоит у стола директора института. Вдруг позади раздаётся рокочущий голос. У дверного косяка — здоровенный мужчина в клетчатой рубашке и поношенных старых брюках. Дядька отпустил какую-то шутку в адрес молоденькой аспирантки и, смачно рогоча, удалился. Позже Вера Васильевна узнала, что этот мужчина в грязных сапожищах — знаменитый профессор Ефремов, о котором в ту пору уже ходили легенды.
Потом не раз в тех же институтских коридорах она встречала Ефремова в совсем другом виде — в дорогущем белом чесучовом костюме. А он, словно решив до смерти засмущать пугливую аспирантку, театрально кланялся ей в пояс. Стоит ли говорить, что, когда она увидела Ефремова председательствующим в приёмной комиссии, все знания «залипли», словно мухи в конфитюре…
— Время было послевоенное. Голодное, но весёлое. Мы были молодыми, неугомонными. Вспоминается вечер в ноябре. В просторном кабинете директора нас много. Все читают стихи. Я тоже осмелилась прочесть. А потом несколько часов подряд, словно зачарованные, слушаем отрывки из ещё не опубликованной ефремовской повести «На краю Ойкумены». Иван Антонович заикался, поэтому читал кто-то из аспирантов.
Так и тянулись привычные учебные дни. Вера училась сутками — ведь надо было выучить два иностранных языка, био-логизироваться (по первому образованию она — геолог), а потом многие часы и дни изучала сохранившиеся останки вымершего большерогого оленя. После блестящей защиты диссертации по этому зверю её на долгие годы прозвали «оленьей госпожой». По институту ходили слухи о том, что Ефремов собирает новую экспедицию — в пустыню Гоби. Потом она станет самой знаменитой его экспедицией. Совершенно неожиданно он предлагает Щегловой принять в ней участие:
— Хотите поехать в Монголию? — спрашивает у робеющей аспирантки. — Я возьму вас из аспирантуры, переведу в научные сотрудники. Будет другая тема диссертации…
Обалдевшая от напора и неожиданности Вера робко кивает. Ефремов зычно смеётся и уходит. На следующий день Вера наводит справки — неужели Ефремову взять в экспедицию некого? Коллега-аспирантка раздражённо бросает:
— С ним пол-института просится. А он отказывает — единиц нет…».[172]
Иван Антонович яростно боролся за финансирование экспедиции, за каждую штатную единицу. Однако взять Веру в Монголию он не смог: ожидаемые «единицы» всё же урезали. Влюблённая девушка ужасно переживала: она считала, что причиной отказа стал тот факт, что её отец был сельским священником.
Ефремов готовился к Монгольской экспедиции, Вера должна была остаться в Москве. Как Тесса оставалась на острове в ожидании своего Пандиона.
Однажды, когда повесть «На краю Ойкумены» вышла отдельной книгой, Верочку остановила в коридоре Ольга Михайловна Мартынова, коллега и соседка Ефремова. Она повернула её лицо к свету и долго рассматривала, тихо, словно бы про себя, сказала:
— Да-да! Синие. И волосы — чёрные! А брови к вискам переламываются…
«Завитки её блестящих чёрных волос трепетали вокруг гладкого лба, узкие брови приподнимались к вискам, переламываясь чуть заметно, и это придавало большим синим глазам едва уловимое выражение насмешливой гордости». Это портрет Тессы — такой, каким её увидел Пандион ранним утром в сосновой роще. Портрет Веры Щегловой.
В 1954 году молодая палеонтологиня уехала по направлению в Минск, чтобы стать у истоков палеонтологии Белоруссии…
Энергичным шагом — от автобусной остановки до дома. Пешие прогулки необходимы: освежали мысли, давали возможность стряхнуть с себя липкую паутину мелких дел, вызвать в сознании мужественные образы героев.
Дома Иван Антонович садился за любимый, широкий и основательный рабочий стол — и писал, часто до глубокой ночи.
В 1945 году Ефремовым лишь дорабатываются написанные в прошедшем году рассказы. Пишется всего один — «Тень Минувшего». Неужели иссяк запас сюжетов?
Время Ивана Антоновича посвящено теперь другой теме: Ефремов обдумывает и пишет историческую дилогию «На краю Ойкумены» («Великая Дуга»), состоящую из двух повестей: «Путешествие Баурджеда» и «На краю Ойкумены».
Повести «Великой Дуги» объединены общим местом действия (Египет), некоторыми историческими событиями и артефактом — драгоценным голубым камнем. Но увидели свет повести порознь: сначала, в 1949 году, в Детгизе была опубликована вторая, более поздняя по времени часть — «На краю Ойкумены». В те годы историческая повесть только начинала развиваться в нашей стране, и дилогия стала ярким образцом этого жанра.
Только в 1953 году, в год смерти Сталина, повести вышли под одной обложкой.
В 1956 году в книгу «Великая Дуга» вновь вошли обе повести и несколько рассказов. Предисловие написал Валентин Дмитриевич Иванов, научно-фантастический роман которого «Энергия подвластна нам» был издан за пять лет до этого, а повесть «В карстовых пещерах» перекликалась с сюжетом ефремовского рассказа «Путями старых горняков». Предисловие положило начало дружбе писателей, продлившейся до конца жизни (Иванов пережил Ефремова всего на три года).
В предисловии Валентин Дмитриевич, кроме краткого биографического очерка, сумел отразить нечто весьма существенное для понимания творчества Ефремова:
«Наука — талант рисунка точных линий. Они, точно намечая известное, доказанное бесспорно, должны оборваться там, где вступают в ещё неизвестное.
Искусство — талант красок. С их помощью осуществляется вторжение в неизвестное, так как это неизвестное уже ощущается, уже воплощается в образах, живёт в самом художнике, который смеет вместе с Баурджедом уйти на край света, понять социальный террор пирамид и сразу встать рядом с живым ископаемым ящером, чтобы, вернувшись назад на 70 миллионов лет, затем заглянуть в далёкое будущее человечества.
С одной стороны — известное, с другой — возможное.
Не будь учёного, не было бы, вероятно, такого писателя. Не будь в учёном художника, возможно, не было бы и учёного. Делать обеими руками сразу одно, в сущности, дело. Или два дела, слитых в одно, — сила таланта».[173]
Что же стало препятствием для быстрой публикации «Путешествия Баурджеда»?
Начнём читать с первой страницы — сцену охоты вестников Великого Дома за корабельным плотником Антефом — и в памяти сразу возникнут рассказы о сталинских репрессиях. Антефа ловят, словно идёт погоня за антилопой, а гости в соседнем доме сидят как ни в чём не бывало, словно ничего не слышат. Толпа на улице объединилась в жадном преследовании. Лишь неожиданные действия кормчего Уахенеба и его сильных сыновей прервали погоню. Толпа в ожидании развязки сразу потеряла обретённое в погоне единство.
Даже несмотря на антураж Древнего Египта, сцена вызывала у современников неоднозначные ассоциации. Потребовалось восемь лет, прежде чем повесть увидела свет.
За две с половиной тысячи лет до новой эры, во времена четвёртой династии Древнего царства, фараон Джедефра по совету жреца Мен-Кау-Тота посылает морскую экспедицию. Задача её начальника, казначея Баурджеда — найти загадочную страну Пунт, проплыв по Великой Дуге — океану, окружающему Ойкумену. Кормчий Уахенеб и корабельный плотник Антеф становятся участниками экспедиции.
Семь лет длилось путешествие, многие погибли в тяжёлом плавании. Смельчаки достигли страны Пунт (территория Сомали), пешие отряды дошли до реки Замбези и озера Виктория.
Мир представлялся египтянам узкой долиной Нила. Оказалось, что пределы его невозможно познать и страна Та-Кем является лишь малой его частью. Изменяется представление о границах обитаемой земли — изменяется представление людей о самих себе, о своих возможностях, о подлинном месте фараона в мире. Сознание казначея Баурджеда медленно раскрывается, впуская в себя новые знания и чувства. Он открывает огромный мир за пределами сжатой пустынями Та-Кем. Приходит к пониманию незначительности своей земли в огромном разнообразном мире.
Пока длилось плавание, коварный Хафра, брат Джедефры, убил брата и стал фараоном. Силы страны были направлены на постройку новой великой пирамиды — символа закрытости страны в себе, закапсулированности. Рассказ Баурджеда вызвал у нового фараона упрёк: казначей вернулся с малой добычей, потерял много рабов и умелых воинов и ничем не возвеличил имя царей Кемт в далёких странах. «Надменная самовлюблённость владыки» вызвала негодование у казначея, только что пережившего вновь всё величие широкого мира. Тоска по свободе и простору лет, проведённых в путешествии, уже не даст Баурджеду жить, как прежде.
Так же чувствовали себя в 1945 году солдаты, прошедшие с боями пол-Европы, в окопах, под вражеским огнём ощущавшие свободу и яростную радость жизни.
Баурджед любит родину, но страдает от бессмысленных претензий фараона на абсолютную власть. Тот, кто носит в сердце необъятность мира, — автоматически становится опасен для всякого деспота. Позже эта тема будет развита в «Часе Быка». Как Хафра, сжав челюсти, решил, что никто не поведает народу о Великой Дуге, так Сталин после окончания войны усилил репрессии, чтобы люди, познавшие свободу, не смогли передать её ощущение остальным. Множество вернувшихся с войны и из плена тут же оказались в лагерях.
Баурджед становится по возвращении изгоем на своей родине, и единственное, где он может найти отдушину — в общении со жрецом Тота. Сведения о дальних странах, добытые казначеем, были запечатлены на каменных плитах тайного храма. Там его воспоминания по крайней мере будут сохранены — для неведомых будущих поколений.
Отважные путешественники, преодолевшие невиданные препятствия, были посланы в цепях на строительство пирамиды. Уахенеб сделал попытку освободить друзей, которая вылилась в восстание рабов. Судьба бунтовщиков была предрешена.
Целостный смысл жизни Баурджеда исчерпывается после того, как он отказался возглавить восстание против ненавистной диктатуры Хафры. Он сам вышел на обочину дороги смыслов, не сделав, может быть, главного выбора своей жизни. Не будучи сам до конца внутренне освободившимся от мертвящих фараонов собственной души. Но его заслуги велики, и путь он прошёл немалый. Будем благодарны ему за это!
«Ойкумена…» — второе обращение Ефремова к Древней Греции, первым был рассказ «Эллинский секрет», написанный в годы войны, но сразу не опубликованный из-за «мистической» идеи памяти поколений. Он был напечатан лишь в 1966 году, после развития идеи памяти поколений в «Лезвии бритвы». Вероятно, одновременно с «Ойкуменой» был написан рассказ «Каллиройя», увидевший свет лишь в 2007 году.
Действие повести «На краю Ойкумены» переносит читателей на полторы с лишним тысячи лет вперёд, в эпоху ранней Эллады, предшествующую её расцвету.
Пандион, молодой художник с берегов Коринфского залива, отправляется на Крит — понять красоту. Там его захватывают разбойники, он бежит и попадает на корабль финикийцев. Вынужденный прыгнуть в море, Пандион оказался на берегу Египта, где попал в рабство. После долгой борьбы несколько пленников смогли стать свободными, но вынуждены были добираться на родину через непознанные дебри Центральной Африки.
Мощная новизна идеи туго разводила пространство воображения, закручивая густые разноцветные сюжеты, полные напряжения и надежды. Глубокая древность бесконечно далека от нас — это понимал писатель, выводя своих героев. Но едины радость открытия, восхищение творца, восторг победы. Едины узы товарищества. С первобытных времён, бесконечно отстоящих от нас, только в единстве человек познавал свою силу и доблесть. Из череды поколений выкристаллизовывались идеалы дружбы и альтруизма. Иначе человек был обречён — и неизбежно погибал. Природа не знает черновиков.
Две повести, объединённые сюжетной искоркой. Древние египтяне третьего тысячелетия до нашей эры и люди спустя более полутора тысяч лет. Полсотни поколений отделяют их друг от друга, но Великая Дуга — Африка — остаётся непознанной и неразгаданной. Ни мыслью, ни путешествием охватить её полностью ещё невозможно. Ефремов понимал, что в этой принципиальной разомкнутости рождаются характеры тех героев будущего, что через тысячелетия двинутся осваивать безграничный космос. Но сила разума сведёт воедино упорство творящей мысли и огонь устремлённого чувства, и Великая Дуга преобразится в Великое Кольцо. Образы Ефремова многозначны. Будет получен сущностный ответ на извечный запрос к миру: где я в мире, где моё зеркало, через что мне познать самого себя? Зеркалом для человека являются верные товарищи, произведение искусства как воплощение животворящего образа. Только в другом человек может подлинно увидеть и понять себя. Человек как представитель народа осознаёт себя глубже только при соприкосновении с людьми иных этносов. В будущем станет возможна рефлексия всего человечества, отражённая от инопланетных сообществ. Последовательно, неуклонно и многообразно разрушение матрицы Я-центризма, способности вобрать в себя, эмпатически пережить чувство товарища, послание, закодированное в произведении искусства, взгляд иного разума, поднявшегося над волнами косной материи в безмерно далёкой части вселенной…
Антитоталитарная направленность «Путешествия Баурджеда» была столь явственна, а отсылки к советской действительности так очевидны, что повесть не могли опубликовать до смерти Сталина. Жестокий Хафра, обеспокоенный только собственным величием и напрягающий изнемогающие силы страны ради постройки чудовищной пирамиды, не мог не вызвать прямых ассоциаций у цензоров. Немногим отличается и Египет Позднего царства в «Ойкумене». Накоплена гигантская, отяжеляющая разум и чувства культура. Жестокая сакральность уступила место не менее жестокой жажде обогащения. Положение угнетённых фактически не изменилось. Замкнутая система вырождается, но аппарат насилия работает всё так же изощрённо.
Позже, в романе «Тайс Афинская», возвращаясь к теме Египта, Ефремов говорит о том, что изначально Ta-Кем — страна открытая и это противоречие, если отбросить историческую перспективу. Однако Египет, стиснутый убийственными пустынями, был не всегда таким. Долгие тысячелетия египтяне существовали в окружении полных жизни саванн тогда ещё не высохшей Сахары, выстраивали свою судьбу по иным меркам. Об этих отголосках и будет упоминать автор.
Ефремов был убеждён, что при Сталине в стране произошла контрреволюция, и относился к его режиму соответственно. Он показывал муравьиный коллективизм в древности, противопоставляя ему коллективизм подлинно человеческий, полный внутреннего многообразия. Что может быть более невероятным, нежели объединение эллина, негра и этруска или союз египетского сановника с рабами и бедняками? Тем не менее их единство выдержало испытание не просто временем, но и суровой судьбой, не раз ставившей их на грань жизни и смерти. Ефремов неуклонно подчёркивал: только в ситуациях предельно обострённых, связанных с риском и мобилизацией всех сил, возможно ясно увидеть себя и другого, познать настоящую цену отношениям.
Объединённые товариществом главные герои обеих повестей собирают вокруг себя других людей и проходят путь, который невозможно было бы совершить в одиночку. И судьба улыбается им за верность себе и друг другу, за устремлённость к поставленной цели.
Подвиги не всегда будут безвестны. Связь времён замкнётся в кольце. Но пока это только Великая Дуга времени. Молодые люди в современном музее, остановившиеся перед поразившей их геммой, ничего не узнали о её происхождении, но впереди океан будущего, и надежда остаётся. То, что гемму нашли на территории Украины, на реке Рось, в антском погребении VII века, говорит о её приключениях после того, как Пандион подарил берилл Баурджеда другу-этруску. От Энниады Пандиона до реки Рось — ещё полторы тысячи лет, и сопоставимый период отделяет двадцатый век от седьмого.
Можно парадоксально заметить, что вся дилогия «Великая Дуга» — лишь первые две главы из повести о судьбе минерала. В конце концов, сам Ферсман полагал: возможно, минералы живые существа, только живущие много медленнее человека.
Пандион изучает искусство Крита, Египта, работает в храмах и развалинах древних городов, становится мастером, которого признаёт главный скульптор фараона. Ефремов исследует пути развития различных культур, осознавая культуру как зеркало этноса.
Искусство — вторая реальность, она вырастает из судьбы всего этноса, его исторических путей. Статичное, надменное искусство Египта, самоскрытое за железным занавесом, противостоит открытой всем ветрам раскованной безмятежности Крита. Погружённость в мир естества рождает чувство формы и инстинктивную мудрость гармонии, явленную в сосуществовании природы и человека, выявляет живописную подвижность искусства африканских племён. Кидого увлечённо и сметливо творил образы животных, но недаром в нём не рождалось стремления запечатлеть человека. Особенно — конкретного человека.
Пандион смог создать скульптурный портрет вождя повелителей слонов. И доходчиво объяснил, почему это непросто. Интересно, что вождь пожелал особо выделить глаза — средоточие личности.
Проникновение в мир индивидуальной психологии — удел куда более позднего времени. Ефремов сам признавал, что осовременил характеры героев, превратил конкретное время действия повестей в художественную условность. Пандион является у него выразителем духа эллинства, впервые в истории поставившего вопрос индивидуальности и превратившего архаических звериных богов в образы прекрасных людей.
Тема полноты жизни и доблести кратко резюмируется после охоты на слонов: Пандион задаётся вопросом о цене, которую повелители умных животных платят за своё могущество. Стоит ли это человеческих жизней? Ответ очевиден для Ефремова, понимающего диалектику развития. Без испытаний не вырастут ни человек, ни общество. Умение проходить через жестокие потрясения и извлекать из них бесценный опыт, переводить его в копилку мудрости — в этом достоинство и одновременно условие могущества человеческого рода.
Лучезарный юноша становится зрелым мужем, исполненным самообладания, точности и внутренней насыщенности каждого жеста. Он проходит через испытания, в числе которых — тяжелейшая контузия после удара носорога. Здесь Ефремов автобиографичен. Его самого после злоключений в Приамурской тайге лечили нанайские женщины, возвращая древними гендерными ритуалами необходимую для физического выздоровления жажду жить. Красавица Ирума невольно начинает олицетворять для Пандиона радость и обновление. Внутренний конфликт едва не завершился трагически. Личное счастье здесь и сейчас вступило в резкую конфронтацию с интересами всех его товарищей. И с подлинными интересами самого Пандиона, который никогда бы не смог всю жизнь провести на чужой земле. Сумел бы молодой эллин сам по себе разрешить ситуацию? Мы видим, что даже непреклонная воля Кави едва смогла помешать непоправимому. Поучительная история для современности, целиком и полностью построенной по законам индивидуализма и мимолётного «хочу», не признающего никаких границ и никаких условностей, хотя бы и связанных с состоянием другого человека.
Героям удаётся вернуться на родину благодаря стечению ряда обстоятельств. Позже Ефремов напишет о законе предварительного преодоления препятствий — постройки модели устремления, столь схожей по красочности с реальностью, что она ведёт человека к победе в совершенно невероятных условиях.
«Люди моря», вернувшие Пандиона и Кави на родину, — скорее всего, жители Южной Испании из основанного финикийцами Кадиса. Среди греков и самих финикийцев бытовала поговорка: «Дальше Кадиса пути нет», эти места считали находящимися на краю света. Тем не менее мореплаватели из Кадиса путешествовали не только во внутренние моря и вполне могли оказаться в какие-то периоды своего развития в Гвинейском заливе, на землях племени Кидого. Особое мировосприятие должно было сформироваться у этого небольшого народа, находящегося на самом кончике цивилизованного мира и вообще — твёрдой земли.
Ситуация «никогда» — главная проблема, стоящая перед человеком. Ефремов прослеживает способы её решения на протяжении почти семи тысячелетий. Оковы мира падают одни за другими, но лишь полная победа над пространством, временем и смертью окончательно выведет людей за пределы инферно. Пока же хочется верить, что 20 лет спустя Пандион и Тесса с выросшими детьми отправятся в невероятное путешествие за край света к мудрому вождю приморского племени Кидого, дабы презреть человеческой волей и не остывающей энергией братского единения холодный океан пространства и времени.
«Звёздные корабли»
«Звёздные корабли» в собрании сочинений Ефремова обычно помещают среди рассказов. Однако это произведение, написанное на мощной волне победного торжества, поднимается до высот эпоса. По плотности текста, насыщенности мыслями его можно считать романом.
В нём встречаются почти все музы Древней Греции. Каллиопа вдохновляет героев на научный подвиг, Клио погружает читателей в миллионнолетние глубины истории Земли, помогает учёным найти свой жизненный путь. Мельпомена повествует о трагедии, разыгравшейся 70 миллионов лет назад на берегу водного потока, а Талия улыбается изредка, освещая нас лучами доброго юмора. Полигимния поёт священный гимн труду, упорству и мужеству человека. Царит же над сёстрами Урания — муза звёздного неба, устремляющая взор в недоступные человеческому глазу глубины космоса, олицетворяющая принцип познания как священной тяги ко всему высокому и прекрасному.
Ефремов ощущает, что читателю, живо откликнувшемуся на темы его рассказов, можно довериться вполне, и разворачивает свою мысль во всю силу.
Толчком для рождения сюжета послужил хранящийся в Палеонтологическом музее череп бизона, жившего на территории Якутии примерно 40 тысяч лет назад. Геологи нашли его на правом берегу Вилюя в 1925 году. На лобной кости обнаружилась аккуратная круглая впадинка. Отверстие не было сквозным, костная ткань вокруг повреждения отчасти заросла.
Это означало, что бизон выжил.[174] Но кто или что могло оставить подобное отверстие? А что, если представить, будто это след от мощного выстрела? Однако кто мог стрелять в бизона, когда до изобретения огнестрельного оружия человеком было необычайно далеко? Быть может, космические пришельцы? В фантастическом произведении можно перенести подобное событие на 70 миллионов лет назад, и тогда пришелец будет стрелять не в бизона, а в хищного динозавра…
В мае 1945 года в письмах Быстрову Ефремов рассказывает о своей новой задумке и, как всегда, получает от друга полную поддержку. Быстров отвечает: «Вы, конечно, понимаете, что человеческая фантазия не может создать ничего нового, ибо она спекулирует на старых представлениях. Она их просто комбинирует, и в фантастических вещах фантастична только комбинация, а не составные части. Части — дело старое. Это следует иметь в виду и относительно автора, и относительно читателя. Но… зато какой изумительный колорит приобретёт рассказ, если автору удастся вырваться из цепей комбинаторной фантастики и создать нечто потрясающе невероятно новое и, кроме того, заставить читателя это принять — и понять, и поверить».[175]
Ефремов действительно вырывается из цепей комбинаторной фантастики, рождая невероятный сюжет, обоснованный настолько безупречно и всесторонне, что читатель безусловно верит: да, 70 миллионов лет назад нашу планету посетили разумные существа, оставившие на ней следы, доступные для изучения.
Быстров по просьбе коллеги составляет вероятный, с точки зрения эволюционной физиологии, портрет ископаемого «уранита», и Ефремов принимается за работу.
Он создаёт «палеонтологический детектив»: 70 миллионов лет назад кто-то стрелял в динозавров, и два следователя с разными характерами вступают в борьбу со временем, чтобы разгадать тайну Сикана.
В центре повествования — два друга, профессора Давыдов и Шатров.
Советское массовое кино 1930–1940-х годов пыталось создать образы учёных, но они имели либо ярко выраженный комический, либо чрезмерно пафосный характер. Словно в противовес представлениям, транслируемым через фильмы.
Иван Антонович решил быть максимально конкретным, рисуя своих героев, чтобы учёные воспринимались не как ходячие схемы, а как живые, страстные, жадные до жизни люди.
Действие и покой, напористое движение и напряжённая статика, скрывающая неукротимый напор мысли, — герои воплощают в себе крайние проявления гения, создавая поле, в котором рождается великое открытие.
Данные палеонтологии, астрономии, геологии, химии сливаются воедино, получая мощное подкрепление в виде производительных сил страны. Мы наблюдаем не бесстрастное, как в научных статьях, изложение хода мысли учёного. Мы видим, как, в каких обстоятельствах, при сцеплении каких, казалось бы, случайностей возникают озарения, инсайты, из которых вырастает спираль открытия. Творческое, не скованное границами условностей взаимодействие учёных — Шатрова и Давыдова — залог подлинного познания.
Ефремов раскрывает перед нами лабораторию мысли, показывая не только победные пути, но и ловушки, которые поджидают людей, всецело посвятивших себя науке. В одной из таких ловушек оказывается в начале повествования Шатров: «Он давно уже чувствовал вялость. Паутина однообразных ежедневных занятий плелась годами, цепко опутывая мозг. Мысль не взлетала более, далеко простирая свои могучие крылья. Подобно лошади под тяжким грузом, она ступала уверенно, медленно и понуро. Шатров понимал, что его состояние вызвано накопившейся усталостью». Он расплачивается «за своё длительное самоограничение, за нарочитое сужение круга интересов, расплачивается отсутствием силы и смелости мысли. Самоограничение, давая возможность большей концентрации мысли, в то же время как бы запирало его наглухо в тёмную комнату, отделяя от многообразного и широкого мира».
Из этой ловушки Шатрову удаётся вырваться, когда научная задача, вставшая перед ним на стыке палеонтологии и астрономии, оказывается настолько потрясающей, что учёному требуется стать выше самого себя не только для того, чтобы её решить, но и даже для того, чтобы в полной мере осознать масштаб проблемы.
Профессор Давыдов, в противоположность Шатрову, жадно впитывает разнообразные впечатления жизни, и это даёт ему возможность предвидеть пути развития науки, выходить за пределы сегодняшних знаний. Отвечая на вопрос аспирантов о выборе научного пути, он произносит подлинный гимн самоотдаче учёного: «Только тогда, когда ваш ум будет требовать знания, ловить его, как задыхающийся ловит воздух, тогда вы будете подлинными творцами науки, не щадящими сил в своём движении вперёд, сливающими свою личность с наукой».
Заметим: не с отдельной отраслью науки, а с наукой в целом. Сам Ефремов любил говорить, что он «доктор наук», поэтому должен знать все отдельные дисциплины.
Отстаивая высокое значение палеонтологии, автор утверждает: «Её «завтрашний день» дальше, чем у других отраслей знания, она сделается необходимой позже других, но сделается, когда мы сможем вплотную взяться за человека». Чтобы во всей полноте понять биологию человека, надо познать закономерности эволюционной лестницы.
Важнейший вопрос, вставший перед философией середины XX века, — вопрос о соотношении развития науки и требований современности. Ефремов даёт на него чеканный ответ: «Наука имеет свои законы развития, не всегда совпадающие с практическими требованиями сегодняшнего дня. И учёный не может быть врагом современности, но и не может быть только в современности. Он должен быть впереди, иначе он будет лишь чиновником. Без современности — фантазёр, без будущего — тупица».
Ещё одна генеральная мысль Ефремова, которую учёные XXI века называют законом техно-гуманитарного баланса,[176] высказана так же чётко: там, где культура сильно отстаёт от развития техники, «люди приобретают всё большую власть над природой, забывая о необходимости воспитания и переделки самого человека, часто далеко ушедшего от своих предков по уровню общественного сознания». Варварство, вооружённое последним словом техники, — страшный враг человечества, и необходимо вооружить себя высоким уровнем общей культуры, чтобы бороться с этим врагом.
Залогом успеха в этой борьбе служат гуманизм, стремление широких народных масс к взаимопомощи, жажда знаний. Три эпизода бескорыстного труда людей составляют невидимый стержень произведения. В начале повести группа сапёров помогает Шатрову добыть драгоценную тетрадь из разбитого танка, прокладывая тропку через заросшее, заминированное поле. Советские моряки с «Витима», потрясённые зрелищем разбитого цунами города, дружно отправляются на помощь пострадавшим. Кульминацией в этой цепочке становится эпизод, когда на раскопки местонахождения — неурочно, в воскресный день — обещают выйти 900 человек: «Рабочие здесь так заинтересовались находками рогатых «крокодилов», как они их зовут, что сами предложили мне помочь «развалять соответствующе» это место».
Мир Земли, населённой людьми, необычайно хрупок. Это доказывают картины великого танкового сражения, потрясшие Шатрова, и разрушительного цунами, которое наблюдает Давыдов, находясь в Тихом океане, на палубе парохода «Витим». Час назад моряки любовались красивым городком, но чудовищная волна разрушила его. Эти эпизоды, на первый взгляд не относящиеся непосредственно к проблеме небесных пришельцев, напрямую связаны с раздумьями Шатрова о хрупкости жизни, о непостижимых пространствах космоса, которые он рассматривал в телескоп.
Автор, продолжая традицию великих учёных и поэтов, вслед за Ломоносовым и Тютчевым размышляет о том, чем для бесконечной, холодной Вселенной является ум Человека. Жизнь скоротечна и хрупка, космос не знает предела. Однако «грозная враждебность космических сил не может помешать жизни, которая, в свою очередь, рождает мысль, анализирующую законы природы и с их же помощью побеждающую её силы».
Ефремов, не колеблясь, утверждает множественность обитаемых миров:
«У нас на Земле и там, в глубинах пространства, расцветает жизнь — могучий источник мысли и воли, который впоследствии превратится в поток, широко разлившийся во вселенной. Поток, который соединит отдельные ручейки в могучий океан мысли».
Великое братство по духу и мысли будет залогом того, что «обитатели различных «звёздных кораблей» поймут друг друга, когда будет побеждено разделяющее миры пространство, когда состоится наконец встреча мысли, разбросанной на далёких планетных островках во Вселенной».
Ефремов понимал, что для великого расширения мира нужны ещё тысячелетия познания. Пионеры в этом познании — учёные сегодняшнего дня, значение работы которых понимает каждый простой житель страны.
Произведение о космических пришельцах необычайно населено тружениками Земли — людьми самого разного рода занятий. Мы знакомимся с опытными и молодыми учёными — палеонтологами, астрономами, с аспирантами, с военными — танкистами и сапёрами, с моряками и шофёрами, строителями и раскопщиками. Они не безлики: многих, несмотря на малый объём произведения, автор наделяет характерными размышлениями, жестами, манерой речи.
События происходят не в абстрактном пространстве: перед читателем встают яркие, объёмно выписанные картины русского поля — места великой танковой битвы, заросшего высокой травой и окаймлённого берёзами, тропический остров в Тихом океане, пейзажи горных отрогов Тянь-Шаня, покрытые пустынным загаром «поля смерти» динозавров в Средней Азии. Мы видим интерьеры квартир и кабинеты Шатрова и Давыдова, оборудование обсерватории и корабля, отчётливо представляем себе схему раскопок на месте будущей гидроэлектростанции.
Действие рассказа идёт по нарастающей, спусковой пружиной для очередного этапа развития становится выход мысли на новый горизонт.
Кульминация состоит из серии моментов, которые соответствуют триаде тезис — анализ — синтез.
Тезисом становится момент, когда профессор Давыдов обнаруживает: кость, только что добытая из земли, не панцирь черепахи:
«Крик, который вырвался из широкой груди Давыдова, заставил вздрогнуть стеснившихся около него сотрудников.
— Череп, череп! — завопил профессор, уверенно расчищая породу. <…>
— Попался, небесный зверь или человек! — с бесконечным удовлетворением сказал профессор, с усилием разгибаясь и потирая виски».
Находка черепа — первый кульминационный взрыв. По детонации — второй взрыв. Его можно сравнить с глубинным: примчавшийся по зову коллеги из Ленинграда в Москву Шатров, сгорающий от нетерпения, отказывается сию же минуту увидеть череп пришельца. Он хочет сначала поделиться с Давыдовым своими выводами о строении неведомого мыслящего существа, говоря: «Очень интересная проверка: может ли наш ум предвидеть далеко, верен ли путь аналогий, исходящий из законов нашей планеты, для других миров?»
Шатров анализирует условия образования и развития жизни, эволюцию на Земле и в космосе. Вывод: «всякое другое мыслящее существо должно обладать многими чертами строения, сходными с человеческими, особенно в черепе. Да, череп, безусловно, должен быть человекоподобен».
Шатров ликует: его анализ верен. Он получает от друга право первым изучить череп и опубликовать его описание. В науке нет монополий — она принадлежит всем, это мощно и уверенно утверждает Давыдов.
Но это ещё не финал. Впереди синтез. Шатров берёт в руки таинственный диск, и действие получает новое развитие. Разглядывая диск в ярком свете специальной лампы, он замечает глаза, «взглянувшие ему прямо в лицо». Терпеливая полировка диска — «и оба профессора невольно содрогнулись. Из глубины совершенно прозрачного слоя, увеличенное неведомым оптическим ухищрением до своих естественных размеров, на них взглянуло странное, но несомненно человеческое лицо».
Взгляд громадных выпуклых глаз, исполненных «безмерного мужества разума, сознающего беспощадные законы Вселенной», не поверг земных учёных в смущение. Радостное торжество пронизало Шатрова и Давыдова: «Мысль, пусть разбросанная на недоступно далёких друг от друга мирах, не погибла без следа во времени и пространстве. Нет, само существование жизни было залогом конечной победы мысли над вселенной, залогом того, что в разных уголках мирового пространства идёт великий процесс эволюции, становления высшей формы материи и творческая работа познания…»
Человеческая мысль — дар Прометея, огненный мост, который соединит обитателей далёких планет, «звёздных кораблей» Вселенной. Лёд экзистенциального одиночества расплавляется перед ощущением множественности обитаемых миров.
В феврале 1947 года, после почти полугодовой Монгольской экспедиции, Ефремов сообщает Быстрову, что «соорудил последний рассказ о Вас и мне». «Рассказ вышел целой небольшой повестью, но ещё нужно его немного подработать, прежде чем выпускать в печать. Но до этой подработки мне хотелось бы, чтобы этот рассказ Вы прочли. И сделали к нему свои замечания».[177]
Уже в июле 1947 года повесть «Звёздные корабли» начинает публиковаться в широко известном научно-популярном журнале «Знание — сила», заняв немалую часть книжек с седьмого по десятый номера. В следующем, 1948 году она выходит отдельным изданием.
Если смотреть на «Звёздные корабли» вне рамок фантастического сюжета, то сразу замечаешь: повесть действительно «о Вас и мне». В образе Шатрова автор рисует детальный, живой портрет своего друга Быстрова, рисует без лакировки, со всеми особенностями его характера. В образе Давыдова, энциклопедиста и атлета, вдохновенно выступающего перед аспирантами, яростно ругающего корректоров или отмеривающего шагами площадь раскопок, предстаёт перед нами сам Ефремов — так же живо, во всём многообразии отношений и взаимодействий.
Ярко и весело описана встреча друзей — первая за многие годы. Мы отчётливо видим Быстрова, впервые после пяти лет разлуки входящего в кабинет Ефремова — «по обыкновению быстро, слегка согнувшись и блестя исподлобья глазами». И как искренне звучит в устах Давыдова-Ефремова приветствие: «Сколько лет, дорогой друже!»
«Звёздные корабли» — единственное произведение, где Ефремов точно рисует портрет друга и автопортрет:
«Сухой, среднего роста Шатров казался совсем небольшим рядом с громоздкой фигурой Давыдова. Друзья во многом были противоположны. Огромного роста и атлетического сложения, Давыдов казался более медлительным и добродушным, в отличие от нервного, быстрого и угрюмого приятеля. Лицо Давыдова, с резким, неправильным носом, с покатым лбом под шапкой густых волос, ничем не походило на лицо Шатрова. И только глаза обоих друзей, светлые, ясные и проницательные, были сходны в чём-то не сразу уловимом, скорее всего — в одинаковом выражении напряжённой мысли и воли, исходившем из них».
Ключевая фраза взаимодействия двух учёных вложена в уста Давыдова. Сделано невиданное открытие — найден череп небесного пришельца, и требуется его изучить и описать. И право сделать это Давыдов предоставляет изумлённому научной щедростью Шатрову, говоря: «Поверьте, старый друг, я совершенно искренен. Разве мы не делились за всю нашу совместную работу интересными материалами? Позже вы поймёте, что и тут произошёл такой же раздел. Я не хочу забирать себе всего. Мы одинаково смотрим на науку, и для нас обоих важнее всего её движение вперёд…»
Эта тема позже будет актуальной в реальном взаимодействии двух учёных — Быстрова и Ефремова.
В «Звёздных кораблях» мы встречаем и других узнаваемых персонажей. В одном из эпизодов появляется профессор Кольцов, заместитель директора института, срисованный с Юрия Александровича Орлова: «На лице Кольцова, обрамлённом короткой бородкой, блуждала язвительная усмешка, а тёмные глаза печально смотрели из-под длинных, загнутых, как у женщины, ресниц».
В аспиранте Михаиле с густыми рыжеватыми волосами, оживлённо беседующем с девушкой Женей, запечатлён портрет Анатолия Константиновича Рождественского, который во время написания повести как раз был аспирантом Ефремова.
В Средней Азии ведёт раскопки палеонтолог Старожилов, в котором мы узнаём товарища Ефремова по Чарской экспедиции Нестора Ивановича Новожилова: «Скуластое лицо наумного сотрудника заросло до глаз густейшей щетиной, серый рабочий костюм весь пропитался жёлтой пылью. Голубые глаза его радостно сияли.
— Начальник (когда-то Старожилов, ещё студентом, много ездил с Давыдовым и с тех пор упорно называл его начальником, как бы отстаивая своё право на походную дружбу), а я вас, пожалуй, обрадую! Долго ждал — и дождался! Отдохните, покушайте, и поедем. Это крайний южный котлован, с километр отсюда…»
Именно этот котлован подарит удивительную находку — череп «небесной бестии».
Узнавали себя в персонажах повести и другие люди.
Видимо, сочетание дерзкого фантастического сюжета с живостью и ощущением правды изображаемого и привело к успеху повести. Уже в 1950 году она была переведена на шесть языков, а позже их число приблизилось к двадцати. Среди них — английский, французский, итальянский, китайский, корейский, японский, хинди и бенгали.
Спустя десять лет повесть имела неожиданное, но яркое следствие: молодой физик Юрий Денисюк был поражён эпизодом, в котором два профессора вглядываются в трёхмерное изображение лица небесного пришельца. «Неведомое оптическое ухищрение» не давало физику покоя: «У меня возникла дерзкая мысль: нельзя ли создать такую фотографию средствами современной оптики? Или, если быть более точным, нельзя ли создать фотографии, воспроизводящие полную иллюзию реальности зарегистрированных на них сцен?
Первые шаги в решении этой задачи были достаточно просты. Было очевидно, что полностью обмануть зрительный аппарат человека и создать у него иллюзию того, что он наблюдает истинный предмет, можно, если бы удалось воспроизвести волновое поле света, рассеянного этим объектом. Было также понятно, что задача воспроизведения волнового поля могла бы быть решена, если бы удалось найти метод регистрации и воспроизведения распределения фаз этого поля».[178]
В 1968 году, после длительной упорной работы, Ю. Н. Денисюк получил высококачественные голограммы на основе собственной схемы записи. Схема Денисюка отличается от других предельной простотой и эффективностью. Так фантастика дала толчок крупному открытию XX века.
Глава седьмая ПОСВЯЩЕНИЕ ПАЛЕОНТОЛОГИИ (1946–1955)
…Я сам по себе шёл в науке, никогда не опасаясь — отдать.
И. А. Ефремов[179]Первая Монгольская экспедиция
Двадцать с лишним лет находки, сделанные американцами в Монголии, дразнили советских палеонтологов.
Первооткрывателем древнейшей фауны этой страны стал В. А. Обручев. В далёком 1892 году во впадине Кульджин-гоби он отыскал зуб носорога. Эта, казалось бы, небольшая находка коренным образом изменила тогдашнее представление о Гоби: оказывается, эта территория была не морем, а сушей! Но какой?
А. А. Борисяк на основе изучения местонахождений Средней Азии опубликовал предположение, что в Монголии так же, как и в Казахстане, в прошлые геологические периоды обитало огромное количество животных. Именно они дали начало животному миру всей Евразии и отчасти Африки!
В 1922 году, когда молодой Стране Советов было не до экспедиций, Американский музей естественной истории выделил значительные средства для исследования Южной Гоби и районов Внутренней Монголии. За несколько лет мобильная, технически оснащённая и большая по составу экспедиция обследовала значительные площади, открыла местонахождения пресмыкающихся и млекопитающих. Сенсацией стали находки меловых млекопитающих и целых кладок динозавровых яиц.
Ефремов детально изучил всё, что было издано американцами. Результаты были опубликованы в массивном томе, с которым Ефремов познакомился ещё в 1930-х годах.
Как же выглядела Гоби 70 миллионов лет назад? Поиски в пустыне, где отсутствует растительный покров и геологическая летопись широко раскрыта для вдумчивого исследователя, сулили значительные открытия. Однако организация дорогостоящей экспедиции в первый послевоенный год была делом государственного уровня. Не последнюю роль здесь сыграли соображения политического характера.
Понадобилось специальное постановление правительства, чтобы разрешить разведочные работы 1946 года. Руководителем был назначен Ефремов, «научную силу» составляли директор ПИНа Ю. А. Орлов и профессор Геологического института В. А. Громов — специалист по позднейшим млекопитающим и четвертичной геологии. Итого — три профессора: внушительно!
Начальником раскопочного отряда стал Я. М. Эглон. Искусным специалистом по обработке костей была М. Ф. Лукьянова — единственная женщина в экспедиции.
Для Ефремова Монголия была лакмусовой бумажкой. Удастся ли в действительности учесть все процессы, которые влияют на формирование больших скоплений окаменелых костей, и предсказать, в каких именно местах стоит искать кладбища доисторических животных? Удастся ли уточнить выводы американцев?
Постановление об экспедиции запоздало, и пришлось работать в авральном режиме, чтобы успеть организовать разведку до наступления морозов.
Пиновцы поездом выехали в Монголию в августе, руководители долетели на самолёте. Обосновавшись в Улан-Баторе, спешно оборудовали склад, завозили горючее, изготавливали железные печки для палаток, доставали деревянные бочки для воды, кошмы, продукты. Оформляли документы на трёх шофёров, повара и пятерых рабочих. В состав экспедиции вошёл также молодой геолог Лубсан Данзан, прикомандированный от Монгольского комитета наук. Он же выполнял роль переводчика. Ко всем сотрудникам Ефремов обращался на «вы». Исключение составлял Ян Мартынович Эглон, ветеран ПИНа: «ты» подчёркивало высшую степень дружеской близости.
Геологи Монголии к тому времени ещё не изучили южную, граничащую с Китаем часть страны, и сотрудники Комитета наук собирали в архивах старые записи, отчёты путешественников и свидетельства очевидцев, встречавшихся с «костями дракона».
Ефремов настоял, чтобы филологи провели для членов экспедиции своеобразный ликбез. Нуждаясь в помощи населения и понимая, как важно в стране с совершенно иной культурой правильно обратиться к каждому человеку, сотрудники изучали сложные ритуалы монгольской вежливости, основы языка, пословицы: «Нас, новичков в Монголии, восхитила романтическая красочность монгольского языка. Комитет наук, по-монгольски «Шинжлех Ухааны Хурэлэн», в точном переводе назывался «Круг Мудрых Изучающих». Учёный секретарь (нарин бичгийн дарга) переводился как «начальник тонкого письма». Даже моя, весьма сухая, должность в Академии наук, где я заведовал отделом древних позвоночных Палеонтологического института, после перевода на монгольский язык звучала как «луны я с хэлтэс дарга» — «начальник отдела драконовых костей»!»
От успеха 1946 года будет зависеть, состоятся ли последующие экспедиции, будет ли организовано масштабное изучение палеонтологических богатств Монголии. Предстояло выбрать район поисков. Многие советовали отправиться на восток страны: он более доступен и изучен, в последние годы там часто находили останки ископаемых.
В Восточной Гоби экспедицию ждал «верный успех средней руки»,[180] но он-то как раз и не устраивал Ефремова. Нужен был успех — крупный, трофеи — богатейшие. И учёные рискнули проложить дорогу в Южную Гоби: «Там, в неизученных районах, были огромные массивы красных пород — отложений древней Центральноазиатской суши. В больших впадинах между недавно поднявшимися хребтами мы надеялись открыть богатые местонахождения остатков ископаемых животных». Aut сит scutOy aut in scuto![181]
В начале сентября передовой отряд в составе Орлова, Громова и Эглона на одной полуторке отправился в Гоби для устройства базы. До прибытия основной силы они успели сделать два коротких разведочных маршрута.
В середине сентября выехал в Южную Гоби основной отряд: трёхосная трёхтонка и вторая полуторка — под предводительством самого Ефремова.
540 километров дороги отделяют от Улан-Батора Далан-Дзадагад — посёлок, являющийся административным центром Южной Гоби. Ефремов жадно вглядывался в открывающееся за лобовым стеклом пространство, стараясь запечатлеть в памяти каждую деталь. Вот она, страна, которая вставала перед ним в детстве со страниц путевых заметок Пржевальского. Голубая дорога среди золотистых полей высохшего дериса… Тася, статная чернобровая Тася Нуромская ждала путешественника из первой экспедиции. В знак верности она отрезала и отдала ему свою косу. Но не дождалась — внезапно умерла от солнечного удара. Пржевальский на всю жизнь остался одиноким…
На базе, организованной в Далан-Дзадагаде, Ефремов встретился с Орловым, Громовым и Эглоном, которые успели обнаружить два интересных местонахождения. Одно из них именовалось Баин-Дзак — это как раз то место, где американцы нашли кладки динозавровых яиц. Наши исследователи тоже обнаружили там яйца динозавров.
Воодушевление учёных передалось другим членам экспедиции. Монгол-проводник сказал, что самое большое богатство костей лежит на юго-запад от аймака, за хребтом Гурбан-Сайхан, где на сотни километров можно не встретить ни одной юрты. Там встаёт хребет Нэмэгэту — «Защищающий от ветра». До Ноян-сомона есть автомобильный накат, но никто ещё не пытался пробиться на машинах сквозь безводные пески и скалы.
За Ноян-сомоном удалось найти проводника, знакомого с котловиной и хребтом Нэмэгэту. Он вывел экспедицию к огромным размывам красных пород, по виду подобных красно-цветам, которые слагали берега родного Оредежа и в раннем детстве очаровали Ваню Ефремова. Однако пятиметровые берега Оредежа не шли ни в какое сравнение с гигантскими обрывами Нэмэгэту.
Исследователи открыли богатейшее кладбище динозавров. Как оказалось, оно занимало только западный участок Нэмэгэту, и без проводника экспедиция не смогла бы отыскать местонахождение. Ансалмоо, проводник, отказался от платы, которую предложили ему сверх условленной. Он хотел тут же отправиться домой. Однако Ефремову удалось уговорить его заночевать, выспросить, в чём он нуждался, и сделать ему хороший подарок.
Первичное исследование красных и жёлтых обрывов дало находки черепов и костей различных ящеров, среди которых были хищные динозавры, утконосые травоядные зауролофы, гигантские зауроподы. Рабочие, шофёры и даже повар — все сотрудники экспедиции заразились желанием найти диковинных зверей и соревновались в этом друг с другом. Стало ясно, что именно Нэмэгэту будет главнейшим кандидатом на организацию основательных раскопок в будущем.
Наступил октябрь, всё холоднее становились ночи, а нужно было обследовать ещё множество точек. Экспедиция добралась до безжизненной межгорной впадины Ширэгин-Гашун с останцем Цундж. Географы сообщали о находках здесь значительного количества костей. Исследование котловины подтвердило: кости есть, но Нэмэгэту несравнимо богаче.
Без дороги, через пухлые глины и сыпучие барханные пески котловин, через острые хребты и высохшие русла автомашины пробились к Ноян-сомону и по накату вернулись на базу, в Далан-Дзадагад.
Приведя в порядок дневники и карты, путешественники отправились за гору Арца-Богдо, во впадину Оши, открытую американцами. Но добраться туда не довелось: тяжёлая поломка машины на бездорожье заставила повернуть назад. Зато удалось доехать до Баин-Дзака, где уже побывали Орлов, Эглон и Громов. Местонахождение обследовали более основательно, сделали несколько интересных находок, среди которых вновь оказались яйца динозавров.
До ноября, когда в Гоби приходят устойчивые морозы, оставалось около десяти дней. Рабочие и шофёры узнали, что 400 километров от Далан-Дзадагада до Нэмэгэту были только разминкой: предстояло ещё проехать целых 800 километров — поперёк всей Гоби на восток, до аймачного центра Сайн-Шанды. На восток старый тракт тянулся только на 250 километров, а дальше ориентиром могли служить лишь редкие столбы заброшенной телеграфной линии. Проводника на такое расстояние не нашлось, и Ефремов взял его роль на себя.
Если стоят столбы, значит, они были когда-то поставлены! Следовательно, их должны были привезти на машинах или верблюдах. Старый накат терялся в размывах высохших русел, пропадал в глинистой почве, пересекал насквозь острый хребет. Заброшенные буддийские монастыри отмечали путь. Миссия была выполнена, и 23 октября экспедиция добралась до Сайн-Шанды. В домике на краю посёлка разместилась новая база.
Выезд был назначен на 25 октября, но буря, нёсшая снег пополам с песком и пылью, заставила отложить старт.
Тронулись на следующий день. Осмотрели горы Тушилге и Чойлингин, затем двинулись на юг. Значительной находкой был одиннадцатиметровый ствол окаменелого дерева в метр диаметром, разбитый на шесть кусков, каждый из которых весил больше тонны. Ефремов мечтал взять этот ствол для музея Академии наук — сделать это удалось в последующие годы.
Осмотрев горный массив Хамарин-хурал, экспедиция через день добралась до огромной впадины Халдзан-Шубуту, на краю которой находился обрыв Баин-Ширэ. Вокруг — ни юрт, ни скота. Только жестокий ветер бушует среди круч, образованных размывами ярких красных глин. Ниже рыхлый песок, покрытый корявой порослью саксаула, был прорезан множеством извилистых сухих русел. Спускаться туда на машинах было нельзя: гружёные, они просто не выбрались бы из бугристых песков. Лагерь поставили на обрыве, прикрыв его от ветра машинами, как прикрывали свои лагеря повозками американские переселенцы.
Первый же осмотр показал: плиты переполнены костями динозавров. Местонахождение заслуживало подробного изучения. Остатки динозавров и черепах-триониксов померкли перед находкой в конце работ огромного скелета, судя по сохранившимся шипам и копытам — панцирного динозавра.
Ефремов, конечно, надеялся вернуться в Баин-Ширэ в будущем, но сказать это с абсолютной уверенностью он не мог. Надо попытаться извлечь скелет сейчас же! «Учёный должен помнить, что самые лучшие планы изменяются неучтёнными обстоятельствами».
Орлов с Эглоном остались для выемки скелета, а Ефремов с Громовым отправились на разведку в горы Хара-Хутул, где нашли множество ископаемых растений, кости и огромную глыбу с черепом. Подогнав машину, погрузили глыбу в кузов. Очевидно, миллионы лет назад в Центральной Азии была богатейшая растительная жизнь.
Выяснив характер местонахождения, вернулись в базовый лагерь.
Ефремов крайне огорчился, узнав, что извлечение скелета панцирного динозавра оказалось задачей невыполнимой. По крайней мере для этого года. Сильнейшая ночная буря подтвердила наступление зимы. Скелет пришлось законсервировать — так, чтобы «любой исследователь мог отыскать его на случай, если ни мне, ни другому участнику нашей экспедиции не удалось бы вернуться сюда. Отыскать через любое время!»
В Южной и Восточной Гоби были найдены выдающиеся местонахождения, и профессора Орлов и Громов могли с чистой совестью возвращаться в Москву — читать лекции и вести научную работу. Что они и сделали вскоре после того, как три экспедиционные машины добрались до столицы Монголии.
Каким же было знакомство с Гоби, если выразить его в километрах? 400 километров на запад от Далан-Дзадагада, затем 800 километров на восток до Сайн-Шанды, где было совершено несколько разведочных выездов, сопровождавшихся глазомерной съёмкой. Всё это практически по бездорожью, вдоль южных границ Монголии с Китаем, в местах, на которые не существовало подробных карт, где ещё не бывали европейские геологи. Кто скажет, что эта экспедиция имела только палеонтологическое значение?
Ефремов, Эглон и Лукьянова остались в Монголии до конца декабря.
Писатель Спартак Ахметов спрашивал у М. Ф. Лукьяновой, ругал ли Ефремов провинившихся: в экспедиции ведь всякое бывает. Лукьянова отвечала так: «Если за дело, то Иван Антонович рабочих ругал, и даже сильно ругал. Бывало, уходили от него — плакали. Вот Василий Иванович, например, который на «Драконе» ездил. Видишь, Спартак, ведь они его очень любили. Он отругает за дело, а потом ему жалко станет человека, закурит с ним, помирится. Я считаю, что это по-людски. Один раз меня отругал — ужас! Я самовольничала, хотела быстрее скелет отмыть. И водой его! А на позвонках номера были проставлены, они от воды-то и отошли. Вот досталось мне тогда! Я вроде Маши моей — спряталась в уголке, поплакала. В препараторской все притихли, а он ходит из угла в угол. Потом я вернулась зарёванная, а ему уже жалко стало меня. Говорит: «Ну, что поделаешь, ну, ладно… Вы домой идёте? Давайте помогу одеться». Зимой дело было. Снимает с вешалки пальто, надевает…»[182]
В Монголии Иван Антонович как руководитель экспедиции нёс на себе всю тяжесть администрирования. Он с грустью писал: «Следовало спешно рассчитать рабочих и сотрудников, подведя итоги полевому питанию и всем прочим расходам, приготовить финансовый отчёт, написать предварительный научный отчёт, вычислить километраж и расход горючего по автотранспорту — словом, целая гора обязательных и срочных дел, одолевающих путешественников при чересчур строгой отчётности, принятой у нас в Академии наук. Для Министерства финансов не существует никакой разницы между отчётностью предприятия, обладающего аппаратом финансовых работников, и отчётностью экспедиций с их во многом непредвиденными и мелкими расходами».
Самыми сложными оказались дела бензинные и автомобильные. Частые и тяжёлые поломки машин крайне затрудняли движение экспедиции. Устранять их приходилось подручными материалами, идя порой на серьёзный риск. Трудно было предвидеть необходимый запас и расход бензина: нельзя было перегрузить машины, но нельзя было оказаться без топлива в труднодоступных районах, без всяких средств связи. Даже вывоз коллекций на железнодорожную станцию по хорошей дороге — и тот имел свои сложности, ибо при постоянной температуре ниже минус тридцати и машины, и водители подвергались немалой опасности.
Закончив с отчётностью, Ефремов взялся за главную работу, заставлявшую его оставаться в Монголии, — за организацию палеонтологического отдела Государственного музея МНР.[183] Ефремов писал тексты, этикетки, составлял таблицы геологической истории и геохронологии. В выстуженных залах музея делать что-либо было невозможно, в отгороженной тёплой каморке Эглон и Лукьянова препарировали, реставрировали, готовили металлические каркасы для скелетов, склеивали старые музейные экспонаты.
Если Эглон был единственным человеком в экспедиции, к которому Ефремов обращался на «ты», то Лукьянова была единственной, которую начальник в глаза по-дружески называл Енотом. Такое прозвище он дал Марии Фёдоровне за то, что она при любом удобном случае затевала в лагере постирушку. Воду в пустыне экономили, и Иван Антонович ворчал, что этот Енот изведёт всю воду.
Именно Марии Фёдоровне однажды ночью он долго рассказывал о своих планах на дальнейшую жизнь. Ей очень хотелось спать, но она старалась не смыкать глаз и внимательно слушала друга. Запомнилось, как он сетовал, что ему не хватает дочери. Сын в сторону смотрит, а дочка всегда дома — позаботится, выслушает…
Именно Мария Фёдоровна отважно отправилась с ним на барса. Дело было так: однажды поздно вечером пришёл Нестор Иванович Новожилов и сказал, что видел барса. Ивану Антоновичу по-мальчишески загорелось этого барса найти — посмотреть, а может, и подстрелить. Согнувшись, крадучись шёл грозный начальник экспедиции, огибая камни, за ним двигалась верный Енот. Вдруг резко закричала сова — Мария Фёдоровна села от неожиданности. Иван Антонович зашептал:
— Не бойтесь, это сова, сова!
Барса, конечно, не увидели. Но остались ощущение причастности к тайне ночи и азарт авантюриста…
В новогоднюю ночь машины наконец отправились в последний рейс. Андросов, водитель «Дракона», был тяжело болен, и машину до самой границы вёл сам Иван Антонович — при сорокаградусном морозе, через крутые перевалы севера Монголии, около 350 километров без отдыха. Остановка была бы смертельной: моторы в такую стужу моментально застывали.
В Москве вновь предстояло засучить рукава: вслед за подготовкой научного отчёта требовалось срочно извлечь из породы самые интересные кости: они должны стать наглядным итогом разведочной экспедиции и доказать необходимость организации больших раскопочных работ.
Сорок седьмой год
«…Холодный, пасмурный свет быстро мерк в свинцовом небе. Сквозь двойные рамы виднелась чёрная обледенелая крыша с большими пятнами снега. Выходивший из трубы дым срывало резкими порывами ветра».[184]
Иван Антонович оторвался от отчёта, выпрямился в кресле. Перед его взором возникла иная зима: вверху исключительно ясное небо, сияющее солнце — а внизу быстро испаряющийся снег открывает взору голую землю и щебень. И безжалостный сорокаградусный мороз.
После сухого мороза Монголии организм тяжело привыкал к снежной московской зиме с её оттепелями и туманами.
Наблюдения над геологическим строением местонахождений Монголии дали мощный толчок мысли учёного. Подтвердились положения, которые он высказал в «Тафономии». Ефремов решил на время расстаться с литературой, чтобы нажать на науку, суммировать достижения. Среди коллег, радостно встретивших вернувшихся членов экспедиции, не находилось людей, которые могли бы его понять в полной мере. Как хорошо было бы увидеть Быстрова! Именно он сумел бы не просто понять размышления друга об эволюции и закономерностях развития мыслящего существа, но и помочь в развитии идей.
Спешить было нельзя: наскоком взять переработку целой монографии невозможно. Нужна размеренная, методичная работа.
Но как раз на такую работу времени могло и не оказаться. Ибо успех первого года привёл к активному обсуждению необходимости уже не разведочной, а полномасштабной экспедиции.
Постановление правительства готовилось довольно долго и вышло только 24 июня. Президиум Академии наук требовал, чтобы вторая Монгольская экспедиция начала работу.
И Орлов, ставший директором института, и Ефремов бешено «отбрыкивались» от бессмысленного немедленного выезда, прекрасно понимая, что это будут зря потраченные силы и деньги. Невероятная чиновничья волокита в академии, необходимость доставки из Москвы в Улан-Батор продуктов и бензина, оформление документов и более того — оформление для всего состава экспедиции пропуска в погранполосу на границу Монголии и Китая — всё это займёт не меньше трёх месяцев. Тогда для собственно полевой работы в 1947 году останется всего один месяц. Что можно сделать за последний осенний месяц в Южной Гоби? Только доехать туда и найти исследованные в прошлом году места. Поставить серьёзные раскопки не удастся. Непозволительная трата времени и ресурсов.
В письме, обращённом к президенту Академии наук СССР С. И. Вавилову, Орлов и Ефремов предложили, затратив осенние месяцы на подготовку документов, отправить экспедицию в конце 1947 года в полном составе автомашин и снаряжения и с большей частью людей. Тогда до марта следующего года будут созданы базы, заготовлен бензин для раскопок и рекогносцировочных исследований, в начале весны экспедиция развернётся в полную силу и будет иметь восьмимесячный полевой сезон.
Доводы учёных произвели необходимое действие, и 20 июля Иван Антонович отправился в долгожданный отпуск. На дачу они поехали вдвоём с сыном: Елена Дометьевна собиралась в объезд пермских местонахождений в Татарии, Башкирии и Чкаловской (ныне Оренбургской) области и должна была привезти в институт новые важные данные.
Солнце, зацепившись на мгновение за копьё далёкой ели, опустилось за чёрный лес. Заря охватила полнеба. Иван Антонович долго вглядывался в поле, поднимающееся по скату пологого холма. Колосья мягкие, но уже тяжёлые от наливающегося зерна. Тянуло запахом овина. Августовская тишь царила над миром, и далёкий перестук поезда только оттенял её умиротворённость.
Поезд шёл на север, в сторону Загорска — так теперь назывался Сергиев Посад, прежде духовный центр Руси. Более шести веков назад монах Сергий основал среди дремучих лесов малую обитель, превратившуюся в Троице-Сергиеву лавру. В нескольких километрах на юг от Абрамцева — село Радонеж, где жил отрок Варфоломей, ставший позже преподобным Сергием.
Тёмная облачная полоса перечеркнула зарю, и сразу повеяло тревогой. Казалось, что вот-вот над полем во всём своём величии встанут три васнецовских богатыря — Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович. Возможно, именно это поле выписал великий художник на своём прославленном полотне.
Иван Антонович вздохнул и вернулся на дорогу. За деревьями прятались усадебные постройки Абрамцева — усадьбы, которую в 1870 году приобрёл у семьи Аксаковых молодой удачливый купец Савва Иванович Мамонтов. Здесь он создал подлинный феномен, который ныне именуется Абрамцевским художественным кружком. Его ядром стали Виктор Васнецов, Валентин Серов, Илья Репин и Василий Поленов — художники, которые по приглашению Саввы Ивановича подолгу жили в его усадьбе. Здесь были созданы мировые шедевры. Может быть, на вот этом самом берегу Вори подсмотрел Васнецов задумчивую Алёнушку, а на дальних, уходящих к Радонежу холмах явилось Нестерову видёние: отрок Варфоломей встречается с неведомым схимником.
Главное же было вот в чём: великие художники, незаурядные люди не просто жили друг с другом мирно, но и вместе творили!
В сознание обывателей издавна внедряется инфантильная идея, что талантливые люди, яркие личности трудно уживаются с окружающими и тем более — друг с другом. Что талант эгоистичен и сконцентрирован на себе. Что неординарный человек обязательно тянет одеяло на себя.
Опыт, проведённый Саввой Мамонтовым, говорит об ином: энергия чистого, бескорыстного творчества зажигает сердца и чувства художников, побуждает их в напряжении творческого соперничества создавать подлинные шедевры. Соединённые усилия мастеров запечатлены в храме Спаса Нерукотворного. В одно слились монументальная строгость псковских храмов, благородный очерк белокаменного владимирского зодчества, причудливые элементы неорусского стиля.
Опыт, который станет образцом для будущего человечества: совместное творчество на благо людей — без эгоизма и мелочного тщеславия.
Глубокая вертикальная морщина прорезала лоб Ефремова: он вспомнил о недавней размолвке с лучшим другом. В одном из писем Быстрову Иван Антонович хвалил очередную статью Алексея Петровича, но сетовал, что необыкновенные знания и сила выдающегося морфолога должны быть употреблены не только на создание отдельных статей, но и на написание крупной научной работы мирового уровня. Быстров удивился — и обиделся. Он счёл пожелание Ефремова палкой, которой друг, превратившийся в сурового, беспощадного воспитателя, пытается его подгонять. Ответил, что уже не ждёт похвал от человека, называвшего себя другом. Что этот человек способен только браниться…
Как жаль, что тонкий, глубоко чувствующий Быстров вдруг отказался понимать главное: только при глубоком уважении, любви и абсолютном доверии человек может открыто передавать все свои впечатления! Внешняя похвала с затаённой критикой недостойна подлинной дружбы.
В своих пожеланиях Иван Антонович исходил из того, что он — руководитель лаборатории низших позвоночных Академии наук СССР и по должности должен опекать свою отрасль науки, со всеми её материалами, заботиться об их накоплении и своевременной обработке. Быстров, безусловно, не был у него в непосредственном подчинении, Иван Антонович мог только дать ему совет. Как жаль, что попытка координации работы была воспринята другом и коллегой как принуждение, что наука не освобождает от мелкого самолюбия…
Постепенно удалось восстановить понимание, вернулся и дружеский тон. Ефремов звал друга погостить в абрамцевские окрестности, в деревеньку Быково, где он снял дачу, — «собирать грибы и понемногу толковать о разных вещах нашего интересного мира».[185] Но неожиданная душевная рана ныла. Проявления индивидуализма — даже у самых культурных людей своего времени…
Одиннадцатилетний Аллан уже спал, когда задумавшийся Иван Антонович вернулся. Завтра сбудется давнее желание сына…
Кратко объяснив, как управлять грузовиком, Иван Антонович уселся на место пассажира. Аллан взгромоздился на водительское сиденье «студебеккера», ноги его едва доставали до педалей. Рядом с ним сел Андросов, опытный шофёр Монгольской экспедиции, и завёл мотор. Аллан тронул машину с места. Сердце билось, азарт и страх одновременно охватывали душу подростка. Андросов командовал, когда переключать скорость. Аллан вырулил на ровную полевую дорогу. Восторг и напряжение слились воедино: еду! Сам еду!
Прохладное, из погреба, молоко, молодая картошка, посыпанная крупной солью, несколько кусков ржаного хлеба… После обеда Иван Антонович уселся за «Тафономию». Ему пришлось практически написать книгу заново: четыре года, прошедшие с фрунзенской эвакуации, добавили много ценного в копилку палеонтологических наблюдений. Монографию вскоре предполагалось сдать в печать. Если же учесть, что с осени всё время будет поглощено подготовкой экспедиции, то медлить было нельзя.
Однако думать всё время об одном и том же невозможно. Мысли начинают ходить по кругу, и перестаёшь отчётливо различать контуры идеи. Чтобы переключить внимание, Иван Антонович с наслаждением погружался в чтение. Ему удалось раздобыть полтора-два десятка фантастических романов западноевропейских и американских писателей. Стремительность сюжетов захватывала, но взгляд учёного был трезв и строг: практически все романы были проникнуты «мотивами гибели человечества в результате опустошительной борьбы миров или идеями защиты капитализма, охватившего будто бы всю Галактику на сотни тысяч лет».[186] Герои, нарисованные разными авторами, казались на одно лицо — уход в чистую сюжетику вёл к обезличиванию художественного произведения, к превращению чтения в бездумное развлекательство.
Откладывая в сторону очередной том, Ефремов уже знал, что он хочет написать новый роман: необходимо «дать свою концепцию, своё художественное изображение будущего, противоположное трактовке этих книг, философски и социологически несостоятельных».[187] Несомненно, контакт между различными цивилизациями может быть только дружеским. Так родилась и стала вызревать тема «Великого Кольца».
Фантастика должна быть научной. Для этого нужны смелые гипотезы, основанные на точных данных физики, химии, медицины, астрономии и других наук. Вскоре, продолжая размышлять над новым замыслом, Иван Антонович завёл блокнот, куда начал заносить мысли, факты, литературные идеи. Таких блокнотов накопилось довольно много — они именовались «Премудрыми тетрадями». Пройдёт восемь лет, прежде чем Ефремов приступит к исполнению своего замысла.
В сентябре, после Абрамцева, Иван Антонович съездил в Ленинград. Свидание с родными местами, пусть и разбавленное множеством дел, всё же служило для Ефремова хорошим зарядом бодрости. Несколько тёплых, откровенных вечеров, проведённых в квартире Быстрова, дали Ивану Антоновичу столь необходимое ощущение понимания. Ефремов просил друга беречь себя: предупреждение уже было.
В Москве Ефремов оказался буквально зажатым в тиски между двумя неотложными делами: снаряжением экспедиции и подготовкой к печати «Тафономии». Гранки приходилось вычитывать по ночам, а дни уходили на решение такой кучи вопросов, что подготовка к прошлой экспедиции показалась сущим пустяком:
«Чудовищный бюрократизм, абсолютное чиновничье бездушие буквально в каждом деле создают совершенно непредвиденные препятствия, на которые уходят все силы и всё время. И тем досаднее тратить их не на борьбу с реальными препятствиями, с пустынями, с природой, а на гнусную бумажную волокиту, из-за которой большое дело чуть не срывалось уже несколько раз. Стоило только опустить руки — конец. Как бы там ни было, это не деятельность для учёного, особенно когда впереди так много ещё нужно сделать настоящего, письменного…».[188]
Одна встреча в череде осенних забот принесла Ефремову подлинную радость: оренбургский геолог В. Л. Малютин рекомендовал ему саратовца Бориса Вьюшкова, только что окончившего геологический факультет, как способного палеонтолога. Вьюшков сдал экзамены и был зачислен в аспирантуру к Ивану Антоновичу. Увидев в ученике подлинную страсть к науке, Ефремов указал ему на позднепермскую фауну позвоночных, только что открытую геологами на севере Оренбуржья, у села Пронькино. Но прежде чем эту фауну изучить, её надо ещё раскопать!
На полевые сезоны 1948 и 1949 годов Борис Павлович становится начальником Приуральской экспедиции ПИНа — и основным её работником. За этот участок работы Ефремов мог быть спокоен.
Нервозную обстановку создавали в ПИНе разговоры о переезде института… в Ленинград. Орлов был в санатории «Узкое», и в последние недели перед отправлением вся тяжесть организационной работы легла на плечи Ивана Антоновича.
…В новогодний день 1948 года через Красную площадь пронеслась «эмка» — прославленный автомобиль ГАЗ-М-1. Личный шофёр директора Палеонтологического института, аккуратно разворачиваясь на узких перекрёстках, доставил Ефремова в аэропорт Внуково, где уже ждал самолёт на Улан-Батор.
Вторая Монгольская
Ефремов был ещё в Москве, когда пришло неожиданное известие: с 14 декабря проводилась денежная реформа, деньги обменивались в соотношении десять рублей старого образца на один рубль нового образца. При этом обменять деньги требовалось в течение недели начиная с 16 декабря! Одновременно правительство отменяло продовольственные карточки, введённые в годы войны.
Слухи о предстоящей реформе ходили давно, и народ, боясь обесценивания денег, скупал в магазинах предметы длительного пользования. По новому постановлению деньги, хранившиеся в сберкассах, подвергались частичной конфискации. На экспедиционные средства надо было оформлять сложную документацию. На пограничной с Монголией станции Наушки, где в это время сотрудники ПИНа Рождественский и Пресняков с семью тысячами рублями на руках ждали рабочих, обмен оказался невозможен, и деньги пропали.
Иван Антонович убеждал себя: неурядицы пройдут, надо только всё подготовить и дождаться выезда в поле, где путь освещает чистая радость исследования. Однако два с половиной месяца, проведённых в зимнем Улан-Баторе, привели Ефремова в «кислое настроение».
Экспедиции предоставили старинный двухэтажный дом маньчжурского чиновника с загнутыми вверх углами крыш. Дом не протапливали, наверное, лет тридцать, и на первом, каменном, этаже царил лютый холод. Потребовалось довольно большое время и изрядный запас каменного угля, чтобы наконец в доме можно было нормально жить. На втором этаже, в большом холодном зале, устроили склад.
Иван Антонович тревожился за сына: Аллан заболел скарлатиной. Елена Дометьевна храбрилась, слала из Москвы телеграммы, сообщала, что Аллан пошёл на поправку. Однако Ефремов понимал, что скарлатина чревата непредсказуемыми осложнениями, что надо дождаться полного выздоровления. Вдобавок заболела сама Елена Дометьевна. Да, нельзя так надолго оставлять семью…
Иван Антонович надеялся, что с началом полевого сезона жена как научный сотрудник ПИНа вместе с сыном приедет в Монголию. Болезнь жены заставила волноваться за возможность приезда. А затем пришло известие, что, оказывается, выпускать за границу одновременно всех членов одной семьи запрещено.
В Монголию Ефремов поехал с больной правой рукой: воспаление нерва не давало спать, заставляло его постоянно пить пирамидон, чтобы хоть ненадолго снять боль. С горечью думал Иван Антонович, что такая невралгия лечится добрым словом, но как раз этого-то у него и не было. Боль не утихала, мешая делать самые обычные бытовые дела. Свои письма он печатал на недавно купленной машинке левой рукой.
Горькая ирония звучит в его письме Быстрову:
«Я сижу в своём кабинете, залитом ярким монгольским солнцем. Перед окном — вид на помойную яму, но дальше из-за забора видна высокая белая башня монастыря Гандан, за ней округлые невысокие горы, а над всем — чистое, чистое небо, в таком прозрачном воздухе, какой бывает только высоко в горах…
Первый этап экспедиции закончен. Самое трудное — отрыв от родной земли и элементарное устройство на новом месте. Затем перевозка всего огромного снаряжения на центральную базу, в морозы, при нехватке шофёров и постоянных поломках машин.
Теперь нам нужно перевезти лес, перебрать всё снаряжение, отремонтировать машины. Тогда можно будет двигаться на юг, в Гоби. Не дождёшься этого момента, уж очень надоели кляузные организационные дела и сидение в городе. <…> Сижу здесь как хомяк в норе, оторванный от всего… Кстати, тут хомяков очень много — так и прут в квартиру, грызут всё напропалую и разносят злокачественный лептоспироз. Я их стреляю из малопульки».[189]
Письмо до Москвы из Улан-Батора идёт в среднем две недели, учитывая время на обязательную цензуру. Это значит, что ответа можно ждать лишь через месяц. Оторванность, невозможность получать новые журналы, следить за событиями в научном мире чрезвычайно огорчали Ефремова. Не получал он своевременных ответов на срочные запросы и от Орлова, директора ПИНа, не в силах понять причин его молчания, чувствовал себя капитаном корабля, который должен выйти в море, не зная, сколько угля у него на судне: «Если и в дальнейшем связь с институтом будет находиться в том же положении, то придётся попросту отказаться от столь экзотических предприятий. <…>
Если бы такое дело пришлось на середину сезона — чёрт с ним и трижды чёрт, но ведь сейчас я должен знать всё, чтобы не оказаться в дураках и не спланировать невозможных задач. Например, как кредиты — уменьшены или нет, есть ли разрешение на бензин этого года, как дела с контингентом, каков план финансирования. Сейчас денег осталось всего пять тысяч — продолжать ли заготовку всего нужного или, если деньги задержатся, всё приостановить?»[190]
Огорчало учёного и ещё одно известие: рукопись «Тафономии», с таким трудом сданная им перед отъездом в экспедицию, ещё не была готова к печати: у редактора не находилось времени.
Ефремов предполагал, что пробудет в Монголии пять-шесть месяцев, поставит экспедицию на колёса, наладит раскопочные работы и передаст бразды правления Орлову. Новая по сравнению с прошлой экспедицией научная сила в лице Малеева и Новожилова впала в жесточайшую депрессию: их угнетал длительный срок экспедиции. Рождественский, аспирант Ефремова, показал себя перспективным работником, и Ефремов решил готовить его в заместители.
Командовать Ефремову пришлось довольно внушительным отрядом: шесть машин и шесть шофёров, семь научных сотрудников с препараторами, два переводчика, два десятка рабочих — молодые алтанбулакцы, могучие иркутяне и несколько монголов.
Всё кончается, и холодная зима 1948 года тоже кончилась. Как только потеплело, Ефремов стал собираться в Восточную Гоби, в Саин-Шанды, где в прошлом экспедиционном году были сделаны богатые находки. Часть сотрудников под руководством Н. А. Шкилева, заведующего административно-хозяйственной частью, должна была создать базу в Далан-Дзада-гаде, чтобы оттуда двинуться на Нэмэгэту. Неожиданно обстоятельство заставило по-военному быстро изменить план: Шкилева с температурой сорок и подозрением на воспаление лёгких отвезли в больницу.
Решив не терять ни одного дня, Ефремов усилил саин-шандинский отряд и двинулся туда, чтобы наладить раскопки, вернуться с первой добычей и самому заняться организацией базы в Далан-Дзадагаде.
Гоби встретила путешественников неласково: на голой земле — ни травинки, холодные пасмурные дни, частые броски температуры, песчаные бури с громадными смерчами. Особенно тяжелы были душные вечера, когда всё кругом электризовалось. Все чувствовали себя плохо, даже молодые рабочие. Есть не хотелось — за время первого выезда съели лишь четверть рассчитанных продуктов.
Несмотря на это, результаты были значительными. Сделано множество новых находок, удалось выкопать разведанный в прошлом году скелет на Баин-Ширэ.
Ефремов решил отыскать Ардын-обо, где копали американцы. Название этого места на монгольском звучало несколько иначе — Эргиль-обо. Иван Антонович узнал место по гнезду орла, памятному по фотографии в книге. В гигантском по площади местонахождении костеносные участки залегали редкими скоплениями, но учёным удалось отыскать и раскопать их.
Спустя три с лишним недели экспедиция с несколькими тоннами груза вернулась в Улан-Батор.
По возвращении Иван Антонович просит Орлова срочно, самолётом, выслать запчасти, фотоаппараты, лекарства. Затем пишет Орлову обстоятельное письмо, где кроме текущих дел размышляет о стратегических задачах экспедиции: «…совершенно очевидно, что неиспользование в максимальной степени предоставленных нам правительством трёх лет будет навеки преступлением перед советской наукой и грядущими поколениями (извините за высокопарные выражения). Мы должны за три года вырвать отсюда тонны полтораста превосходных материалов, и тогда это будет такой взнос в нашу науку, который сам по себе оправдает существование кучки позвоночников. Однако мы должны быстро препарировать эти материалы, любой ценой, иначе они лягут под спуд, успеха не будет и для музея тоже. Для всего этого нужны кадры…».[191]
Быстров упрекал друга, увлёкшегося динозаврами, говоря, что умнее было бы те же средства бросить на раскопки в Ишееве. Однако Ефремов должен был смотреть на положение дел не только как узкий специалист, но и как популяризатор. Он понимал, что финансирование дальнейших работ зависит от людей, не слишком разбирающихся в тонкостях палеонтологии. В том же письме он говорит: «…как начальник экспедиции я всё же меньшее внимание и время уделю меловым млекопитающим, чем тоннам громадных динозавров. Ибо при помощи этих ящеров, подобно тяжёлому тарану, мы надеемся прошибить вообще прежнее отношение к палеонтологическим раскопкам, и отнюдь не исключена возможность, что те же динозавры обеспечат устойчивое поступление средств на наши пермские раскопки, если повезёт и куча динозавров грозно встанет в нашем музее…»
Время показало, что Ефремов был прав.
Ивану Антоновичу пришлось пробыть в Улан-Баторе до конца апреля, решая хозяйственные вопросы и отправляя караваны гружённых снаряжением и досками машин в Далан-Дзадагад. Наконец, «маньчжурский дворец» был сдан Комитету наук и экспедиция перешла на летнее положение.
«Научились ли вы радоваться препятствиям?» — эту фразу, написанную на одном из высочайших перевалов мира, Ефремов взял эпиграфом к главе, посвящённой штурму Нэмэгэту. Ибо работа здесь по тяжелейшим условиям и трудностям, которые пришлось преодолевать, действительно была подобна затяжному штурму.
Подробно обо всех превратностях и удачах Нэмэгэту Иван Антонович рассказал в «Дороге ветров» — во второй её части под названием «Память земли». Поиски сносной дороги и колодца, сражение с ветрами и пыльными бурями, с песком, который постоянно скрипел на зубах. Змеи, фаланги и скорпионы, обилие которых буквально деморализовывало людей. Скелеты древних ящеров, которые приходилось добывать из обрывов отвесных круч, ежеминутно рискуя сорваться.
Людям, несколько недель живущим в лабиринте сухих ущелий, в полной изоляции, приходилось постоянно решать морально-этические вопросы, иначе плодотворное взаимодействие друг с другом стало бы невозможным. Сложнейший вопрос пришлось решать бригадиру шофёров Пронину. В одной из разведочных поездок он забрался особенно глубоко в массив Алтан-улы. Уже собравшись назад, Пронин обнаружил вдруг множество гигантских костей, торчавших из уступа песчаника. Бригадир шофёров представил, как трудно будет проложить дорогу к этой «Могиле дракона», каких неимоверных усилий потребуют добыча и вывоз монолитов. Шофёр хотел утаить находку. Однако сознание научной ценности открытия пересилило остальные соображения. Ефремову же срочно пришлось пересматривать план работы экспедиции с учётом крупной находки.
Размышляя о том, как образовалось столь крупное местонахождение, решая множество научных задач, Иван Антонович не переставал заботиться о людях, об их удобстве и устройстве, став примером дальновидного и мудрого руководителя. Так, в письмах Орлову он напоминает, как важно от института обеспечить комнатой Марию Фёдоровну Лукьянову, работа которой в экспедиции безупречна. Неужели она вернётся после такой тяжёлой работы на съёмную квартиру?
Когда заблудившиеся товарищи поздно возвращались в лагерь, начальник экспедиции посылал им навстречу рабочих с фляжками воды. Отыскав вдалеке от лагеря родник с целебной водой и доставив оттуда два вьючных верблюжьих бака, Ефремов запретил её пить всем рабочим, кроме шофёра Александрова, страдавшего застарелой язвой желудка. К концу экспедиции Александров выздоровел.
Месяц пробыл Ефремов в Нэмэгэту. Наладив раскопки, он двумя машинами собирался в разведочный маршрут на запад Монголии, в Заалтайскую Гоби, в малоисследованные области высокогорья. Кроме шофёров, в путь отправились Рождественский и переводчик. Первоначально планировалось, что на маршрут они отправятся вместе с Орловым, который к тому времени должен был прилететь из Москвы. Однако Орлов известил телеграммой, что прилететь он может только 14 июля. Откладывать великий западный маршрут было нельзя, но и подвергать профессора, не прошедшего акклиматизацию, трудностям пути по пустынному бездорожью было невозможно. Думая о бездорожье и многочисленных поломках машин, взвешивая все «за» и «против», Ефремов сократил маршрут до полутора тысяч километров. Но даже сокращённый, этот путь без проводников и дорог был подвигом.
Вместе с известием о позднем приезде Орлова пришло сообщение, что он не сможет сменить товарища на посту руководителя экспедиции. Стало ясно, что Ефремову придётся тащить эту работу на себе до конца.
Немало прекрасных страниц в «Дороге ветров» уделено чудесам нового пути. Удивительные пейзажи, глины, пески и скалы, хрупкая природа Гоби, евфратские тополя и тамариски, дзерены и куланы, чистейшие краски рассветов и закатов — глубокая любовь внимательного человека стоит за каждой описанной картиной.
Ефремов старается не просто запечатлевать увиденное, но и объяснять, почему и как могло возникнуть подобное явление. Он пытается понять, почему араты-скотоводы не выработали особой культуры отношения к воде, которая есть у арабов. Почему дзеренам надо обязательно пересечь дорогу едущей машине. Как образовались в гранитном массиве необычайные формы выветривания — воронки, арки и широкие троны.
Путешественники стремились достичь высокого хребта Ачжи-Богдоин-нуру, вершины которого были покрыты снегом. Он уже был виден на горизонте, когда гигантское сухое русло пересекло путь, и в нём исчезли все следы старой караванной тропы. С ограниченным запасом бензина, имея серьёзную поломку одной из машин, нельзя было рисковать людьми и техникой.
Пришлось повернуть назад. Наблюдая за геологическим строением гор, изучая особенности местности, Ефремов научился без проводника, самостоятельно выбирать дорогу, по которой могут проехать машины. Юрты встречались крайне редко. В стороне от дороги, как рассказали араты, стояла юрта старика, который знает всю Гоби. «Худой и ветхий, но удивительно милый и приветливый человек» более тридцати лет водил чайные караваны из Внутренней Монголии в Синьцзян. Старик спросил Ефремова, где он родился, и был удивлён: как же вы ходите по Гоби без проводников. А затем убеждённо сказал: «Потому и ходишь, что любишь страну!»
Действительно, только человек, знающий и любящий страну, мог написать такие слова: «Передать основное ощущение Гоби можно двумя словами: ветер и блеск. Ветер, дёргающий, треплющий и раскачивающий, несущийся по горам и котловинам с шелестом, свистом или гулом… Блеск могучего солнца на неисчислимых чёрных камнях, полированных ветром и зноем, горящие отражённым светом обрывы белых, красных и чёрных пород, сверкание кристалликов гипса и соли, фантастические огни рассветов и закатов, зеркально-серебряный лунный свет, блестящий на щебне или гладких «озерках» твёрдой глины…»
Сын старика, сам уже пожилой, согласился стать проводником. Он вывел машины на старую тропу, ведущую из Китая к золотым рудникам через котловину Нэмэгэту. К 6 июля отряды воссоединились.
22 июля экспедиция, разделившись на два отряда, покинула Нэмэгэтинскую котловину. Дальнейшие работы велись на местонахождениях в предгорьях Хангая.
К сентябрю Орлов вернулся в Москву, затем уехал Эглон. Собирался домой и Новожилов, но его пришлось задержать: жестоко заболел Рождественский, ставший заместителем начальника экспедиции, и на плечи Ефремова легла двойная нагрузка.
Ефремов хлопочет о вагонах, о таможенном досмотре и погрузке — добыто более 50 тонн находок, в Москве их надо содержать в отапливаемом помещении, а институт не может предоставить пока никакого помещения.
Вновь финансовые и научные отчёты, выступление перед монгольскими учёными с сообщениями о результатах работы…
Одиннадцатый месяц работы экспедиции. К ноябрю разъехались «научная сила», рабочие и шофёры.
Как капитан, Ефремов последним покинул законсервированную базу, где, укрытая брезентом, стояла доблестная автоколонна.
Снова в Монголии
В Москву Иван Антонович возвращался в тревожном напряжении всех психических сил.
Хорошо возвращаться в свою страну, когда знаешь, что тебя встретят радостно и дружески. Когда понимаешь, в какой обстановке ты окажешься.
Иван Антонович возвращался не в полную, но — в неизвестность. Нет, институт пока оставался на месте, музей с отремонтированной крышей тоже никуда не делся из Нескучного сада. Но вот что стало с людьми?
Орлов уже после возвращения из Монголии скупо писал Ефремову: «Много хлопот с перестройкой плана работы института и вообще всяких хлопот в связи с решениями Президиума о перестройке работы Биоотделения».[192]
Чем была вызвана эта перестройка, Иван Антонович знал из газет. В августе прошла спешно организованная сессия ВАСХНИЛ — Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. Ленина. Инициировал внеочередную сессию её президент Трофим Денисович Лысенко. Его доклад «О положении в сельскохозяйственной науке» вызвал возмущение учёных, но Сталин поддержал Лысенко. Генетики — последователи Николая Ивановича Вавилова — были переведены в разряд «вредителей». Раздавались призывы изгнать из науки всех представителей лженауки — генетики. Под косу попадали все несогласные с «народным академиком».
После сессии ВАСХНИЛ последовало расширенное заседание президиума Академии наук, где обсуждалась работа биоотделения. Неожиданные изменения должны были коснуться и ПИНа. Президиум постановил: институтам ОБН пересмотреть направления научно-исследовательской работы, исключить из планов все «антинаучные» темы. Многие лаборатории и даже целые институты закрывались, сотрудники попадали под репрессии или просто оставались без работы.
Ефремов представлял, что должны переживать работники ПИНа. Орлов не мог написать коллеге деталей: в письме обо всём не напишешь. Вернее, не обо всём напишешь…
«Экспедиция моя возвратилась с победой, — писал он в ноябре Быстрову, — более 50 тонн первоклассных находок уже лежат в институте и на складе, но должен признаться, у меня нет совсем настроения победителя. Более того, нахожусь в какой-то глубокой печали, жаль как-то всех моих друзей, и нет энергии на развязывание завязавшихся за время моего отсутствия узелков…
Тому причиной, я думаю, обычная встреча с цивилизацией и со всеми её оборотными сторонами после великого простора и покоя безлюдных пустынь, после долгой борьбы с природой, с ясными целями и очень определёнными задачами… Кроме того, пожалуй, усталость и некоторое разочарование в дальнейшем научном пути, неизбежное после того, как посмотрел своими глазами реальную обстановку».[193]
В «Дороге ветров» он рисует картину эволюции жизни на Земле и, имея в виду опыты Лысенко, пишет: «Убогими и наивными кажутся перед этой величественной картиной религиозные легенды о мгновенном сотворении человека и животных. Однако не менее наивны и предположения современных «учёных»-метафизиков о быстром, внезапном появлении разных видов, возникающих по мановению ока из совершенно других организмов».
Ивана Антоновича продолжают тревожить боли в сердце и невралгия правой руки. Пока он был в Монголии, умерла Варвара Александровна, его мать. Уход родного человека заставлял думать о том, насколько краток срок, отпущенный людям на Земле.
Он занимается отчётами, пишет научные статьи, разбирает материалы — и практически сразу начинает подготовку к новой экспедиции. Решение о ней затягивается, но Ефремову не к кому обратиться за поддержкой: в президиуме Академии наук всё новые лица, им неизвестна предыстория вопроса, практических шансов на поддержку нет. К тому же вышло распоряжение Совмина о запрещении увеличения научных штатов в 1949 году, значит, новых сотрудников в экспедицию пригласить не получится.
1 декабря 1948 года Президиум АН СССР заслушал вопрос о научной деятельности, состоянии и подготовке кадров ПИНа. В постановлении отмечался основной недостаток его деятельности — низкий уровень теоретических работ, связанный с терпимостью по отношению к теоретическим разработкам западных палеонтологов, и отсутствие борьбы за развитие советского дарвинизма. (Реплика насчёт западных палеонтологов напрямую относилась к Ефремову, который ещё с довоенных времён вёл переписку с зарубежными учёными.) Пересмотреть теоретическую направленность работ и годовые планы! Перекроить распределение сотрудников между отделами и лабораториями!
31 марта 1949 года был арестован А. Г. Вологдин, недолгое время бывший директором ПИНа, а потом заведовавший лабораторией древних организмов. Даже звание члена-корреспондента Академии наук не спасло. Осуждён на 25 лет лагерей, отправлен на Колыму.
Положение дел в институте при проверках, подкручивании гаек и выискивании антинаучных тем было таково, что Иван Антонович не знал, каким он застанет ПИН по возвращении из новой экспедиции. Да, ощущение полной неустойчивости не способствует целеустремлённости в полевой работе. Только долг перед наукой — тот самый долг — заставлял его во многом автоматически вести уже отлаженный механизм подготовки к экспедиции.
Его не утешало даже то, что вот-вот должна была выйти из типографии долгожданная «Тафономия»: слишком неприятными были воспоминания о волоките с редактурой, слишком затянутым оказался процесс издания.
Мысли возвращались к дому. С наступлением лета Елена Дометьевна, взяв с собой Аллана и несколько сотрудников ПИНа, должна была отправиться в экспедицию по местам, где Иван Антонович путешествовал 22 года назад. Кажется, не два десятилетия, а два столетия миновало с тех пор! Шарженьга, Анданга, Ветлуга. Деревни Вахнево, Зубовское, Большая Слудка — знакомые местонахождения. Иван Антонович подробно описал жене, как найти обнажения, наказал найти дома, где он останавливался, передать привет хозяевам, сфотографировать, как выглядят эти места сейчас. Как далеко он сейчас от Русского Севера!
Воздух над майским Улан-Батором был наполнен запахом свежей полыни. Гоби звала в дорогу, но Ефремов, отправив вперёд отряд Рождественского, был вынужден задержаться. При перелёте из жаркой Москвы через холодную Сибирь пришлось приземляться для дозаправки, и разница температур сказалась прострелом в пояснице.
Состав научных сотрудников и рабочих в основном был тот же самый: люди, несмотря на труднейшие условия, хотели работать под руководством Ефремова.
Новым человеком в экспедиции был кинооператор Н. Л. Прозоровский, который снимал фильм о работе палеонтологов.
21 июня отряд из трёх машин под предводительством Ивана Антоновича выступил на запад. Экспедиция должна была дойти до озёр Хиргиснур и Хара-усу, что на самом западе Монголии, попутно исследуя местность и проверяя данные геологов. Выяснив самое перспективное местонахождение, исследовать его более детально.
За два предыдущих года экспедиции ещё не приходилось проезжать по северным склонам Хангайских гор, и внимание Ефремова обострено. Свежим взглядом он смотрит на природу, характер местности, растительность и животных. Делая записи, он постоянно отмечает, как переводятся на русский язык монгольские названия, и они очаровывают, как свежая мелодия: «Белый брод», «Вихревая Гоби», «Эфедровая котловина», «Милостивый Богатырь»… Не раз приходят ему на память картины Рериха с их ясными линиями, чистотой и силой красок.
В 1948 году в предгорьях Хангая начала работу советская археологическая экспедиция в Монголии. В 1949 году работы продолжились. Велись раскопки средневековой столицы Каракорума и Хар-Балгаса — древней столицы Уйгурского каганата. Руководил археологами Сергей Владимирович Киселёв — энергичный и лёгкий на подъём человек, на три года старше Ивана Антоновича. Его неизменным помощником и заместителем была Лидия Алексеевна Евтюхова.
Ефремов не раз встречался в Улан-Баторе с этой выдающейся парой. В группе было несколько молодых учёных, среди которых выделялся Николай Яковлевич Мерперт. Общение с археологами обогащало, заставляло быть внимательным к артефактам вроде древних скребков, обломков каменных топоров или заготовкам для стрел, которые время от времени попадались палеонтологам.
Впитывая настоящее, сознание проникает через толщу времени в глубину земной истории. Ефремов размышлял, когда и при каких условиях образовывались такие громадные местонахождения, как Алтан-Тээли.
Алтан-Тээли было открыто Рождественским, который должен был организовать работы раньше, в Шаргаин-Гоби. Отряд Рождественского, узнав о большом количестве «каменных костей» в Дзергенской котловине, «устремился туда и попросту бросил работу в Шаргаин-Гоби. Он спасся от ответственности только тем, что ему в действительности удалось найти крупное местонахождение. Но Шаргаин-Гоби осталась неисследованной и ждёт учёных».
По пути на новое место молодой учёный, не сложивший по обыкновению каменную пирамидку — обо — у места, где он свернул с основной дороги, заставил сильно переживать отряд Ефремова. Небрежность обернулась напрасным 600-километровым пробегом машин, что в условиях острого дефицита бензина было крайне опасно. Это был один из редких случаев, когда начальник экспедиции устроил своему подчинённому, выражаясь морским языком, «раздрай».
В «Дороге ветров» рассказано, что в лагере Рождественского Ефремов застал множество «инвалидов»: «У повара воспалились обожжённые сковородкой пальцы, Рождественский хромал, а препаратор Пресняков, прозванный рабочими за любовь покрикивать «комендантом», скрючился от прострела. Один из рабочих, Александр Осипов, бывший гвардеец и снайпер с лихими усами, работая полуголым, сжёг кожу на спине и теперь уныло сидел в палатке. Другой рабочий, необычайно могучего сложения, прозывавшийся Толя-Слоник, лежал в жару, без всяких симптомов. К «инвалидам» в последний момент присоединился Новожилов, который стал ссылаться на боли в почках».
Далее Ефремов коротко пишет: «К счастью, в экспедиции больные быстро выздоравливают. Не прошло и трёх дней, как все «инвалиды» поправились, за исключением повара…»
И далее идёт подробное, сдержанное и от этого особенно комичное описание того, как «несокрушимый Эглон» едва не погиб от… кислого молока! Бидон этого освежающего питья, поставленный в нагревшуюся палатку, взорвался молочной струёй, которая залепила Эглону глаза и очки. «Через минуту все уже весело хохотали вместе с пострадавшим» — и больше ни слова о выздоровлении «инвалидов».
Мы знаем, что в экстремальных ситуациях организм человека мобилизует все силы, все способности сопротивляться недугам. Когда экстремальная ситуация становится не экстремальной, а обычной рабочей, человек втягивается, привыкает к ней, но приходит момент, когда наступает утомление, выражающееся в унынии и заболеваниях. И в подобной ситуации человек может открыть ещё неведомые ему резервы организма, но для этого нужно осознанное усилие или мощная энергия другого человека, способная стать катализатором, разбудить спящие и неведомые самому больному силы. Мы можем только предполагать, что именно делал Ефремов, чтобы помочь «инвалидам», но его влияние, требующее огромных затрат энергии духа, несомненно. И нескрываемой гордостью звучит обоснованный научный вывод: «Алтан-Тээли оказалось самым богатым из всех местонахождений ископаемых млекопитающих в Монгольской Народной Республике».
Три года руководить крупнейшей экспедицией в сложнейших природно-климатических условиях, при этом сберечь всех людей и сохранить на ходу весь транспорт — это достижение, показавшее Ефремова как великолепного организатора.
В поездке по дальнему западу Монголии были найдены нижнепермские отложения. Эта находка поставила перед геологами неожиданный вопрос, заставила предположить, что «экватор пермского времени стоял «вертикально», как наш современный меридиан. Следовательно, ось нашей Земли лежала в плоскости эклиптики, в плоскости вращения планет вокруг Солнца…».
На Хангае лили дожди, и многочисленные реки широко разлились, затрудняя обратную дорогу. Подготовленные машины преодолели все препятствия, и караван, гружённый носорожьими черепами, костями гиппарионов, жирафов и гиен, вернулся в Улан-Батор.
Часть запланированной работы оставалась позади. Впереди же было трудоёмкое сражение с «Могилой дракона», обнаруженной в прошлом году в лабиринтах Нэмэгэту, на Красной гряде, шофёром Прониным. К этой схватке подготовились основательно: две лебёдки, тали и длинные тросы для подъёма тяжёлых плит из ущелья, горные клинья, ломы и молоты для разламывания песчаника, толстые доски и брусья для упаковки плит с костями и для настила дороги по песчаному склону на выходе из ущелья, специально выкованные стальные скобы и накладки, заёршенные костыли для скрепления брусьев, двутавровая стальная балка для подвески талей и походный горн — только с таким тяжёлым вооружением можно было взяться за добычу скелетов из крепчайшего песчаника.
14 августа экспедиция выступила в Далан-Дзадагад. Машины шли по знакомой дороге, водители уже не удивлялись ни страшной жаре, ни дымке, висевшей над горами, и только шофёр академика, археолога Алексея Павловича Окладникова, присоединившегося на время к экспедиции, благословлял случай, позволивший ему отправиться в страшную Гоби в сопровождении опытных людей.
К «Могиле дракона» не могла подойти ни одна машина, и было решено для подвозки воды к месту работы и вывозки лёгкой «добычи» нанять верблюдов. Всё было готово к решительной битве.
В Ноян-сомоне, последнем посёлке перед безлюдной Нэмэгэту, Иван Антонович пережил тревожную ночь. Под завывание ветра его одолевали беспокойные мысли. В «Дороге ветров» он пишет:
«Я вышел из юрты, стараясь не разбудить хозяев. Было самое глухое время — «час быка» (два часа ночи) — власти злых духов и чёрного (злого) шаманства, по старинным монгольским суевериям. Странные ноянсомонские горы громоздили вокруг свои гребнистые спины. В глубочайшей темноте, затоплявшей ущелье, звонко шелестел по траве и невидимым камням ветер. Сквозь скалистую расселину на юге горела большая красная звезда — Антарес, и звёздный Скорпион вздымал свои сверкающие огоньками клешни. Высоко под звёздами мчались длинные полупрозрачные облака. Угрюмая местность не испугала, а даже как-то приободрила меня. Впервые я отчётливо понял, что успел полюбить эту страну и теперь душа останется привязанной к ней. Теперь всегда дороги Гоби будут стоять перед моим мысленным взором…»
Так впервые в творчестве Ефремова возникло словосочетание «час быка», позднее давшее название фантастическому роману, соединившему в себе черты утопии и антиутопии. И сразу же эта тема совместилась с темами звёздного неба и любви. В космической тишине Гоби рождались замыслы будущих литературных произведений.
Основательная подготовка работ на «Могиле дракона» и опыт, накопленный всеми участниками экспедиции — от научных сотрудников до шофёров и рабочих, — позволили не только успешно провести эти раскопки, но и подробно исследовать все близлежащие местонахождения. Теперь Ефремову и его верному товарищу Новожилову стало ясно геологическое строение «Красной гряды». В чередовании разноцветных глин и песков, в распределении останков животных учёные увидели мощные водные потоки, приносившие в котловину из влажных лесов останки различных животных. Уникальные находки позволили установить, что в начале кайнозойской эры жизнь здесь, в сердце Азии, была, в общем, такой же, как на удалённом американском материке.
«В пустынной Гоби широко раскрыта книга геологической летописи как бы в дар человеку за суровость и бесплодие природы. У нас на зелёном, богатом водою Севере листы этой книги плотно сомкнуты — закрыты лесами, болотами, зелёными коврами равнин. Здесь, в Гоби, как нигде, чувствуешь, насколько насыщена Земля памятью своего прошлого. В самых верхних её слоях — орудия, черепки сосудов и другие предметы человеческого обихода. Глубже — стволы древних растений, кости вымерших животных. А ещё ниже, в пока недоступной нам глубине, таятся древние химические элементы — огарки звёздного вещества…»
18 сентября тяжело гружённые машины тронулись в последний путь из Нэмэгэту…
Машины не остались на законсервированной базе, как в прошлом году, но колонной ушли в Советский Союз. Ефремов мысленно планировал работу следующего года — неисследованными оставались восточные области Монголии, обширные области на западе страны…
Лишь в ноябре, завершив в Улан-Баторе все дела, Ефремову удалось вернуться в Москву.
Палеонтологическая поэма
Долгожданная встреча с женой, с сыном — уже тринадцатилетним подростком. Проявка фотографий, рассказы о путешествии по Сухоне, о городке Тотьме, о знакомых местонахождениях на реках Шарженьге и Ветлуге, о новых находках у деревни Притыкино и на Стриженской горе… Встреча с коллегами и учениками. Но жизнь, которую так любит Иван Антонович, почему-то не радует его. Вялость и апатия охватывают душу, всё время хочется спать. Пульс замедлен, давление снижено. Три года качелей — акклиматизации и реакклиматизации — сделали своё дело: организм устал от постоянной необходимости приспосабливаться к совершенно иной среде.
Наконец вышла «Тафономия» — автор хлопотал о том, чтобы разослать её друзьям и коллегам. Тираж был типичен для научных работ, но настолько мал, что не давал возможности широко распространить добытые знания, необходимые не только палеонтологам, но и геологам-практикам.
Член-корреспондент Академии наук, крупнейший советский специалист по угольным бассейнам Ю. А. Жемчужников писал Ефремову: «Я ещё летом с большим интересом прочёл Вашу книгу «Тафономия» как произведение широкого значения, захватывающее многие струны».[194] «Увлекательный роман, остановившийся на самом интересном месте» — так характеризовал «Тафономию» Юрий Аполлонович.
Радостной вестью стало издание «На краю Ойкумены» — правда, без «Путешествия Баурджеда». Редакторы перестраховались — уж больно жестокие египетские фараоны напоминали Иосифа Виссарионовича. Читатели с упоением погружались в столь необычное для того времени повествование, но Ефремов мыслями был уже далеко от своих героев… Грустные чувства вызывает положение в институте: «работает комиссия по обследованию его работы, и в составе её Давиташвили[195] неистовствует, мешая всё с грязью и разводя беспардонную демагогию, а как-то получилось, что некому ему дать отпор».[196]
Положение с будущей экспедицией представляется шатким. Ефремов, постоянно чувствующий себя нездоровым, продолжает готовить очередной полевой сезон, обещанный правительством. Составлены маршруты, списки снаряжения, в конце концов, отправлены в Монголию машины… К началу лета вопрос ещё не решён: возникают новые неожиданные препоны и рогатки. И лишь в первой декаде июня выясняется, что экспедиция пришла к бесславному концу: её просто не разрешили.
На полном ходу остановилась отлаженная машина. Инерция движения была велика…
В конце июня в ПИНе собирались провести перевыборы директора (согласно уставу Академии наук, они проводились раз в пять лет). Кроме Орлова на этот пост выдвигался лысенковец Давиташвили, которого Ефремов называет в письмах «Недобитошваль». Пост остался за Орловым.
1 ноября Иван Антонович отпраздновал юбилей своей работы в науке — четверть века прошло с тех пор, как дерзкий юноша стал препаратором Геологического музея Академии наук СССР. Сколько учёных дарили ему своё внимание и знания! Сколько рабочих самоотверженно трудились на раскопках, чтобы откопать ценности, непонятные для них, но безусловные для науки. Отдать долги! Уплатить по векселям… Вот что теперь стало главным стремлением Ефремова.
Это означало: подготовить к печати монографию о каргалинской фауне, довести до публикации стратиграфический каталог местонахождений по СССР, помочь ученикам в подготовке научных работ к защите. (Уже осенью Б. П. Вьюшков защитил диссертацию по пронькинским тетраподам.)
И постепенно, как только будет появляться время, подобно Пржевальскому и Обручеву, оформить путевые заметки в книгу о раскопках в Монголии.
Книга «Дорога ветров» состоит из двух частей. Первая — «Кости дракона» — посвящена разведочному 1946 году и была завершена вскоре после окончания всех поездок в Монголию. Иван Антонович думал сначала издать её отдельной книгой, отправил в издательство и давал её читать своим друзьям и коллегам, в частности, академику И. М. Майскому. Этот свод записей и воспоминаний буквально проникнут восторгом перед открывшейся автору природой Монголии.
Однако что-то не заладилось в издательстве, и Ефремов продолжил обработку записей двух следующих годов, чтобы читатели могли представить себе деятельность экспедиции максимально полно. Писал он долго, урывками, сетовал, что пора бы уже закончить, но никак не может выписаться — так много ещё хочется сказать, так глубоко вошла в душу многоликая Гоби. Вторая часть была названа «Память земли». Эпиграфом к ней стали стихи Максимилиана Волошина, на тот момент ещё не опубликованные — Ефремов читал их в рукописи:
Будь прост, как ветр, неистощим, как море, И памятью насыщен, как земля!В 1956 году «Дорога ветров» была наконец опубликована учебно-педагогическим издательством «Трудрезервиздат». Подзаголовок гласил: «Гобийские заметки». Жанр путевых заметок, как правило, использовался путешественниками в научных целях. Ефремов ведёт записи как учёный, но в то же время «Дорога ветров» является безусловно художественным произведением. В чём же секрет этой книги? Она, как драгоценная мозаика, сложена из фрагментов разных оттенков и размеров, которые вместе составляют прекрасный узор. В этой мозаике легко выделить фрагменты, рассказывающие собственно об организации экспедиции: о количестве машин и рабочих, о закупке и заброске необходимого снаряжения, о километраже и конкретных задачах текущего дня. Они необходимы, чтобы представить общий рисунок экспедиции.
Ефремов постоянно размышляет над спецификой деятельности геолога и палеонтолога в поле, отмечая, как лучше организовать работу в сложных, порой непредсказуемо меняющихся условиях. Он делает заметки и выводы, имея в виду не столько даже себя, сколько тех учёных, которые пойдут следом за ним: оптимальные решения часто рождаются из тяжёлых ошибок, и задача учёного — не повторить ошибок предшественника, взяв на вооружение из его опыта работы всё лучшее. Помня об этом, автор подробно описывает, как проходят по пустыне автомобильные дороги-накаты, как лучше обустроить лагерь в условиях Гоби, как составить план неразработанного местонахождения и сохранить его для будущих исследователей. «Научные ценности» — это выражение часто встречается в тексте и говорит о постоянной устремлённости мысли.
Читателя, для которого интересны проявления человеческого характера, сразу привлекут живые зарисовки быта экспедиции, включающие яркие характеристики людей, часто похожие на анекдоты, например, сцена с «поцелуем грифа», нашествие ежей или шипение Данзана, изображающего дождь в Гоби. Эти сценки сопровождаются мягким, добрым юмором: в необычных ситуациях, возникающих в пути, ярко проявляются характеры участников. Ефремов описывает их без разъедающей иронии, принимая людей как они есть, но давая им доброжелательную, ясную и трезвую оценку.
Смех словно оттеняет неприятные эпизоды, связанные с проявлением негативных черт человеческого характера, помогая принять жизнь в диалектическом сочетании трагического и комического.
В «Костях дракона» есть такой эпизод. Две машины в начале ноября возвращались в Улан-Батор. Головная, где ехал Ефремов, вынуждена остановиться в ожидании отставшей — «Смерча». «Смерч» не догоняет, и приходится повернуть назад, чтобы выяснить, в чём дело. Оказывается, машина проехала всего 40 километров и встала с замкнутым накоротко аккумулятором и сгоревшим прерывателем. Вся экспедиция расплачивалась за небрежность водителя в уходе за своей машиной. В голой степи, без топлива для костра, при секущем ледяном ветре рабочие несколько часов пытались завести машину. «Жестокий мороз совершенно скрючил тех, кому пришлось быть только зрителями наших усилий». В этом эпизоде — единственном во всей книге — Ефремов пишет о своих эмоциях: он находился «в состоянии тихого бешенства».
Когда поставили палатку, развели в ней костёр из разбитых ящиков и напились чаю, Иван Антонович «немного отошёл» и принялся рассказывать, как нанимали повара в Алтан-Булаке. Комичный эпизод развеселил всех, дал пищу для фантазии: «Кругом меня были молодые смеющиеся лица. Быстрая «отходчивость» от невзгод — чудесное свойство молодёжи и составляет, пожалуй, самую приятную сторону работы с молодыми сотрудниками». Но сам Ефремов как начальник экспедиции, человек, отвечавший в случившейся ситуации не столько за своевременную доставку научных ценностей, но главным образом за жизнь и здоровье людей, не мог быть легко отходчивым: он принимал в своё сердце груз чужой небрежности, обернувшейся напрасным пробегом машин, потраченным днём и холодной ночёвкой, и делал выводы.
Значительная доля энергии требовалась на то, чтобы организовать именно научную работу. Исследователи, составлявшие коллектив экспедиции, были подлинными учёными-энтузиастами, но они обладали различными недостатками, дорого обходящимися Ефремову.
Во время промежуточного этапа экспедиции 1948 года основная часть отряда с богатой добычей возвращалась в Улан-Батор, но двое учёных, Эглон и Рождественский, оставались на месте раскопок: «Мы никак не хотели мириться с мыслью, что найденные и лежащие тут же на поверхности научные ценности могут остаться невзятыми». Участники экспедиции предполагали, что увидятся не скоро, но ошиблись: «Оба спорщика быстро пришли к согласию в отношении прекращения раскопок и явились в Улан-Батор буквально на следующий день. За это отсутствие исследовательской терпеливости и стремление носиться с места на место в надежде на крупную удачу мне не раз приходилось упрекать Рождественского, в остальном крайне упрямого и настойчивого, со вкусом настоящего учёного. Рождественский оказался дальновидным, хорошим организатором и сделался впоследствии заместителем начальника экспедиции».
В другой раз проводилось исследование «Красной гряды»: «Орлов направился с Эглоном, чтобы проверить место находки и определить возможность раскопок. Исследователи вернулись через день с заключением о нецелесообразности раскопок или задержки для дальнейших поисков. Я послушался их, не поехал на место сам, и это было моей ошибкой. На следующий, 1949 год мы провели исследование «Красной гряды», в результате чего были открыты интереснейшие, совершенно новые для Азии древнейшие млекопитающие, выкопаны целые черепа, части скелетов и, кроме того, неизвестные ранее черепахи и рыбы».
В горьких словах «это было моей ошибкой» мы слышим глубокое понимание человеческого несовершенства и ощущение — нет, не собственной непогрешимости, но собственной ответственности за успешность и подлинную научность экспедиции. Добросовестность учёного для Ефремова немыслима без человеческой порядочности и обстоятельности, которая может показаться дотошностью и даже занудством, но на деле является необходимым атрибутом научного поиска. Отсутствие такой дотошности, «полёт научной мысли» без детального фактического обеспечения приводят к падению и даже к потере уже достигнутого. Такое происшествие случилось в экспедиции в 1948 году:
«В задачу отряда входило капитальное обследование Улан-Ош, открытого Орловым, Громовым и Эглоном в 1946 году. К сожалению, проводника, водившего их, не было в аймаке. Приходилось положиться только на записи и рассказы самих открывателей. Можете представить мой ужас, когда оказалось, что никаких записей путешественники в своё время не сделали, не потрудившись даже записать расстояние по спидометру машин. Не лучше обстояло дело и с рассказами о пути по памяти: ничего внятного «открыватели» так и не сказали. Очевидно, всецело положившись на проводника, они продремали в машине до самого места. Разыскать это отсутствовавшее на картах урочище нам не удалось».
Неослабевающее внимание на протяжении долгих экспедиционных месяцев, ощущение деятельной ответственности за работу всех членов отряда требовали от Ефремова предельных психических нагрузок.
Наблюдения за жизнью населения Монголии, за особенностями хозяйствования, за поведением животных, разнообразием растений служили для Ефремова отдыхом. Эти заметки представляют собой особый жанр в мозаике «Дороги ветров».
Читатель чувствует непрекращающуюся работу ума, который постоянно и неуклонно движется от частных наблюдений к широким обобщениям. Приведём несколько примеров.
Две машины экспедиции подъезжают к аймаку: «Мы долго уже находились в Гоби, и даже одноэтажные домики казались нам внушительными. Здесь же высились двухэтажные великаны!.. Право, мы въехали в величественную столицу! Про эту относительность масштабов и оценок, целиком зависящую от бытовых условий, никогда не следует забывать историку, этнографу, писателю…»
Экспедиция взяла проводника-монгола, чтобы проехать в незнакомое место: «Мы проехали по дороге на восток около пяти километров, и тут проводник сознался, что он не знает, куда ехать, и дальше вести нас не может. Впрочем, винить Ку-хо было бы несправедливо. Быстрота автомобильной езды не давала монголу возможности разыскивать мелкие приметы пути и раздумывать о дороге в однообразных равнинных областях Гоби.
Не раз уже я замечал, что проводники, уверенно ориентировавшиеся в горах или холмистой местности, начинали путаться, теряться и сбиваться в равнинах, где при быстроте езды от них требовалось мгновенное решение, в корне отличное от неспешного раздумья во время медленного передвижения на верблюде или коне.
Опять, как много раз до этого, техника требовала от человека новой психологии, иной реакции на внешний мир, не оставляя времени на глубокое, во всех деталях законченное знакомство…»
Глубокое погружение в жизнь и быт иного народа, необходимость работать вместе заставляют не только узнавать об особенностях и привычках монголов, но и искать причины этих привычек, понимать этические и этнические принципы.
Однажды на стоянке, когда машины были готовы к продолжению пути, Ефремов дважды — по обыкновению — выстрелил в воздух, чтобы разбредшиеся было сотрудники услышали. Оказывается, проводник (тот самый Кухо, что не нашёл дороги) дремал в пяти шагах, укрывшись от ветра за большим камнем, и страшно перепугался спросонок: он решил, что начальник экспедиции хочет его убить. «Мы посмеялись над воображаемыми злоключениями Кухо, но этот пример лишний раз показал нам, насколько осторожным нужно быть в чужой стране, чтобы случайным словом или неправильно понятым жестом не нанести обиды…»
Пустыня вырабатывает у участников экспедиции особое отношение к воде: однажды в лагере не оставалось чистой и пришлось пить техническую воду. Ефремов с особой пристрастностью наблюдает за устройством и содержанием колодцев в Гоби: «Дорогой я думал о том, как неприятно выехать к какому-нибудь колодцу из чистой просторной пустыни. Вокруг колодца всё затоптано, выбито, загажено скотом. От удушливого зноя ещё противнее становится запах мочи и жужжанье назойливых мух. Гобийские араты совсем не умеют бережно обращаться с водой и колодцами. Если сопоставить с этим необычайно строгие законы о содержании воды и колодцев в чистоте у арабов, которые уже свыше четырёх тысяч лет являются обитателями Аравийской, а позднее и Северо-Африканской пустынь, то станет понятным, что монгольский народ, по существу — недавний обитатель пустынной местности. По всей вероятности, он формировался в основном в степной или лесостепной местности типа Хангая или нагорий южной части Внутренней Монголии…»
Находясь в самом сердце Гоби, Ефремов делает такую запись: «Луна поднялась высоко над сухим руслом. Ветер стих. Абсолютная тишина царила кругом — ничего живого, как и за сотни километров пройденного сегодня пути, не было слышно или видно. Резкие, искривлённые тени высокого саксаула извивались на стальном песке. Я посмотрел на юг. Беспредельный простор огромной равнины плавно погружался вниз, туда, где на горизонте лежала, уже в пределах Китая, какая-то большая впадина. Повсюду, насколько хватало глаз, неподвижно торчали исполинской щёткой призрачные в лунном свете серые стволы — море зарослей саксаула. Прямо передо мной, отливая серебром на кручах каменных глыб, в расстоянии десятка километров высился массив Хатун-Суудал. В океане призрачного единообразия, безжизненности и молчания массив казался единственной надеждой путника, местом, где можно было встретить каких-то неведомых обитателей этой равнины, широко раскинувшейся под молчаливым небом в свете звёзд и луны».
Великолепное, пластичное и точное описание! Но Ефремову недостаточно просто описания: он хочет понять закономерность формирования личностных впечатлений, которые слагают этническое самосознание: «Я долго стоял, стараясь сообразить, как окружающая обстановка, отражаясь в мозгу человека, вызывает в нём строго определённые представления. Впрочем, проверить свои ощущения на ком-либо другом не было возможности — мои товарищи давно спали».
Замечательными по своей выразительности являются описания. Ефремов подробно рисует картины различных частей Гоби, описывает заросли корявого саксаула и цветение весенних ирисов, закаты и рассветы. Здесь автор проявляет себя подлинным лириком.
Вот, к примеру, описание утренней Гоби: «Иней лёг на дерис, каждый сухой стебель и жёсткий лист покрылись тысячами блёсток. Груда сверкающей алмазной пыли отливала розовым в лучах утреннего солнца. Чистота и яркость красок, щедрость, с которой они были, так сказать, «отпущены» ландшафту, были поистине изумительны и, пожалуй, нигде, кроме Гоби, не повторимы».
Автор пытается точно запечатлеть богатство красок и полутонов: «Высоко в небе висел узкий, почти горизонтальный серп луны. Пепельный, нежный свет лился на склоны западных холмов, а восточные резко, черно и угрюмо вырисовывались на розовеющем горизонте».
С особенной тщательностью и любовью стремится Ефремов найти нужные слова, используя всё богатство русского языка: «Я вышел из палатки, щурясь от яркого солнца, и остановился в восхищении. Конусы и купола красных глин внизу обрыва неистово рдели в солнечном свете, приняв необыкновенно яркий пурпурный цвет не то что тёплого, а совсем горячего тона».
Пейзаж динамичен, природа находится в постоянном движении: «Солнце скрылось за ближними холмами. Вечерние облака, как пластины литого золота, повисли над огненным озером дали. Чеканный чёрный силуэт лошади вырисовался на холме. Повернув голову, животное всматривалось в приближающуюся машину. Затем огненное озеро померкло, в него как бы перелились краски облаков, которые сделались серо-фиолетовыми. Подбежало ещё несколько коней, и их силуэты стали ещё чернее…»
Как геолог Ефремов постоянно наблюдает за горными породами, слагающими различные участки Гоби, делает предположения об особенностях горообразования. Одно из новшеств Ефремова-писателя в том, что он создаёт особый вид описания — геологический пейзаж, в котором сугубо научные наблюдения становятся предметом эстетики, а названия горных пород и морфологических особенностей строения местности приобретают поэтическое звучание. Ефремов вообще широко вводит в свои произведения научные термины; в «Дороге ветров» они звучат абсолютно естественно, придавая пейзажам высокую степень достоверности и художественности.
Автор ищет подходящие эпитеты, сравнения, метафоры, чтобы максимально точно описать увиденное: «Ущелье опять сузилось, отвесные обрывы, острые как ножи, скалистые рёбра, узкие щели проходили мимо идущих машин. Тёмно-серые, почти чёрные и коричнево-шоколадные породы представляли собой древнепалеозойскую метаморфическую толщу, возможно, девонского или силурийского возраста. Разнокалиберные жилы кварца змеились белыми молниями на тёмных кручах. Расслоённые и перемятые сланцы рассыпались в мелкую крошку, струившуюся по дну бесчисленных крутых долинок, избороздивших горные утёсы по триста — четыреста метров высотой».
Неисследованная, таинственная земля постепенно открывает пытливому взору свои тайны. Ефремов видит вулканические конусы, висячие долины, гряды старых округлых гор, зубчатые, пильчатые гребни молодых поднятий. Земля в Монголии словно выставляет напоказ свои недра.
Необычайные формы рельефа бросают вызов художнику: сможешь ли ты словами нарисовать то, что видит глаз? И писатель принимает вызов. Из глаголов, прилагательных и причастий он, словно ваятель, лепит эти формы: «Необыкновенно величественной показалась мне гора с юга — мрачная и тяжёлая, почти кубическая глыба из исполинских пластов, которые наваливались, плющились, громоздились друг на друга и, казалось, лезли к небу в слепом старании подняться выше. Рядом стояли ещё две такие же глыбы какой-то очень грубой титанической формы, словно обрубленные топором. Эти горы назывались «Три чиновника». Удивительно чистое после снега голубое небо бросало яркий свет на обнажённые остро-рёбрые скалы, покрытые блестящей чёрной коркой пустынного загара, как будто облитые свежей смолой и отблёскивавшие в лучах солнца тысячами чёрных зеркал».
Особую ценность имеют фрагменты мозаики, которые можно было бы назвать популярным изложением знаний о геологии и палеонтологии. Это краткие очерки, выводы из наблюдений или фрагменты лекций, которые Ефремов читает рабочим экспедиции, чтобы они выполняли свои задачи не механически, но с пониманием и охотой.
В пространство одного из таких очерков читатель попадает неожиданно. Автор описывает хребет Хана-Хере, в котором обнаружились зеркала скольжения — гладкие поверхности горных пород, возникающие обычно при тектонических движениях. Мы словно вместе с автором смотрим на отражение в горном зеркале: «Несколько минут я стоял забывшись перед призрачной дверью внутрь скал, поддаваясь странной тяге к таинственному коридору. Он вёл, казалось, не только в глубину каменных масс земной коры, но и в бездны прошедших времён невообразимой длительности. Затаив дыхание, будто заглянув в запретное, я представил себе изменение лика Земли в её геологической истории, записанной в слоях горных пород…»
Автор образно описывает сменяющие друг друга геологические эпохи, подавая сложные научные проблемы как интереснейшие, увлекательные сюжеты.
Постоянное стремление объяснить рабочим смысл их действий заставляет его подробно отвечать на вопрос: «Каким образом мы, учёные, распознаём погребённых в толщах горных пород зверей, если эти звери вымерли, когда ещё на Земле не было человека?» И Ефремов обстоятельно рассказывает это читателям, видя в них людей, которым важно не только стремление к лихо закрученному быстрому сюжету, но и к вдумчивому осмыслению. Подробно раскрывает он и загадку «Красной гряды», над которой они вместе с Новожиловым немало поломали голову. Смело пишет он о четырёх костеносных горизонтах, о восьми этапах образования, определяемых по смене пород, веря, что читатель сможет горячо заинтересоваться проблемами палеонтологии, увидеть в изысканиях палеонтолога историческую необходимость.
Различные по характеру и насыщенности фрагменты мозаики скрепляются не только нитью хронологии, но — главное — философско-материалистической концепцией о единстве природы и человека, о роли человека как высшего порождения природы, призванного познать создавшую его Вселенную, о значении жизни прошлого для понимания будущего.
Заключая книгу очерком перспектив исследования Гоби и соседних районов, Ефремов верил: палеонтологи ещё вернутся в эти места, чтобы составить полную картину развития жизни в этом районе Земли. Он оказался прав. Спустя десятилетия в Монголии работало множество экспедиций: советско-монгольские, монгольские, польско-монгольские и др.
Сама же экспедиция под руководством Ефремова стала непревзойдённым образцом проведения полевых работ.
Время собирать камни
Без летней экспедиции зима 1952 года тянулась особенно долго. Наконец мартовское солнце залило Москву, в кустах акаций зашумели воробьи, вороны устраивали драки за гнёзда. Вечерами над затухающим закатом мерцал бледный Юпитер. Ефремов подолгу смотрел на звёзды — их свет манил и успокаивал. Засидевшись, под утро мучительно ждал восхода Венеры, но она всегда опаздывала — писатель тревожно засыпал.
В институте Иван Антонович чувствовал, как пространство вокруг него клубится недоброжелательством и завистью. Всё чаще он старался, не задерживаясь в коридорах, поскорее пройти в рабочий кабинет. В ПИНе появилось много новых сотрудников, которые потеснили старую гвардию. Те, кто хотел власти, могли легко ими манипулировать. Институтским дамам, что разносили сплетни по институту, стоило лишь напомнить: он называет вас «бабье-маше»! Этого было достаточно, чтобы вызвать справедливое негодование.
Уже не раз, «по скверне характера» прямо и открыто отвечая на подковёрную борьбу, он думал, что пора уходить из института.
Он несколько лет не писал новых книг. Коллеги относились к его литературному творчеству несколько свысока — мол, зачем тратить время, в палеонтологии вы, Иван Антонович, сделаете больше. Но Ефремов оставил литературу — на время — вовсе не поэтому: со стены его кабинета на ученика строго и даже слегка ехидно смотрели глаза Петра Петровича Сушкина. Он словно говорил: и монографию нелишне было бы закончить, батенька.
Обработка монгольских сборов шла полным ходом, одна за другой выходили научные статьи Ефремова и его коллег. В 1951 году было опубликовано «Руководство для поисков останков позвоночных в палеозойских континентальных толщах Сибири». Уточнялись стратиграфические схемы, необходимые для геологов.
Рассказы и повести Ефремова продолжали переиздаваться, переводились на другие языки и приносили автору приличные гонорары. Все знали, что он пишет «Дорогу ветров», предполагали, что это будет научно-популярная книга. И она тоже принесёт гонорар! А не тратит ли он на художественную литературу рабочее время?
Однажды на доске объявлений появился лист, где крупными буквами сообщалось, что 15 марта состоится собрание партбюро: будет рассматриваться дело беспартийного Ефремова. Ему вменялось в вину, что он пишет литературные произведения в рабочее время.
Мария Фёдоровна Лукьянова называла имена людей — «недобитых белогвардейцев», которые, словно банда интриганов, обосновались тогда в институте: заместитель директора П. Г Данильченко, Т. Г Сарычева, В. Е. Руженцев.[197]
— Ништо! — отвечал Ефремов на тревожные взгляды близких. Это сибирское словечко словно придавало ему сил для победы над жизненными обстоятельствами. Но сейчас он явственно ощущал гниловатый душок, несовместимый со свежим воздухом подлинной науки.
15 марта приближалось. Иван Антонович решил, что на партбюро он не пойдёт — и пусть болтают что хотят. А выносить косые взгляды ему не впервой.
13 марта объявление о партбюро волшебным образом исчезло, а на стене появился плакат, поспешно написанный красной тушью: «Поздравляем лауреата Сталинской премии тов. Ефремова!» В тот день советские газеты опубликовали списки деятелей науки и искусства, награждённых высшей премией страны. Радио, которое в то время слушали все, сообщило, что премия второй степени (100 тысяч рублей) в области науки, конкретно геолого-географической, присуждалась Ефремову Ивану Антоновичу, профессору, завлабораторией ПИНа, за научный труд «Тафономия и геологическая летопись (захоронение наземных фаун в палеозое)», вышедший в 1950 году.
Никто из палеонтологов, кроме академика Борисяка, не получал персональной Сталинской премии.
Несколько дней Ефремов отвечал на поздравления, писал благодарственные письма. Академику В. А. Обручеву, академику О. Ю. Шмидту, научному редактору журнала «Природа»; члену-корреспонденту Академии наук Л. В. Пустовалову, ученику Ферсмана…
На торжественном собрании ему вручили удостоверение — красную шевровую книжечку с оттиснутыми на ней буквами сусального золота — и медаль: лавровая ветвь и тяжёлый профиль Иосифа Виссарионовича. И документ на право получения 100 тысяч рублей.
Что делать с этими деньгами? Купить машину, дачу?
Взыграло ретивое, широко размахнулась русская натура: устрою пир на весь мир!
На банкет, устроенный в Доме учёных, Иван Антонович пригласил не только коллег — учёных и препараторов. Он встретился с каждым из тех, кого называли словом «техперсонал»: с уборщицами, шофёрами, механиками — и каждому передал своё приглашение, чтобы они не смущались и обязательно приходили на праздник.
В просторном зале стоял радостный гул. За обильно накрытыми столами встретились все сотрудники института и музея. Тосты, поднимавшиеся за Ивана Антоновича, очень быстро перешли в тосты за науку, некоторое напряжение первых минут исчезло. Простые водители и уборщицы сидели рядом с профессорами, вспоминали дружную работу в экспедициях, и все чувствовали себя членами одной большой семьи, товарищами, вместе делающими общее дело.
Провозглашали тосты за продолжение исследовательских работ в Монголии. Ежегодно институт выходил с предложениями о продолжении работ; разрешения пока не было, но надежда оставалась. Награждение Ефремова воспринималось как понимание важности палеонтологии.
Себе Иван Антонович приготовил особый подарок. Он давно мечтал увидеть летописные города Древней Руси, которые вдохновляли Рериха и давно манили самого Ефремова. Тем более что друзья-археологи приглашали Ефремова съездить вместе, на их машине.
Сергей Владимирович Киселёв и Лидия Алексеевна Евтюхова были теми самыми археологами, которые раскапывали древние города Монголии в 1948–1949 годах. В 1950 году Киселёву тоже вручили Сталинскую премию, он купил автомобиль.
Взяв на майские праздники по одному дню отпуска и приплюсовав их к праздничным дням, Иван Антонович, Елена Дометьевна и Аллан устроились вместе с хозяевами на мягких сиденьях «победы». За рулём — Елена Алексеевна. Шутили: одна «победа» целых двух лауреатов везёт — непорядок. Надо бы каждому по «победе»!
Семья археологов станет прототипом семьи Андреевых в романе «Лезвие бритвы», герои лишь поменяют профессии. Иван Антонович живо описал эту чету:
«Гирину очень нравилась жена Андреева, Екатерина Алексеевна — совершенная противоположность мужу. Крепкий, невысокий, очень живой геолог и крупная, дородная, как боярыня, жена составляли отличную пару. Спокойная, чисто русская красота Екатерины Алексеевны, чуть медлительные, уверенные её движения, пристальный и проницательный взгляд её светлых глаз, грудной глубокий голос — Гирин, шутя сам с собой, думал, что он влюбился бы в жену приятеля, не будь она так величественна. Он любил редкие посещения их заставленной книгами квартиры, уют и покой этого приспособленного для работы и отдыха дома. Стремительная, резкая речь Андреева выравнивалась неторопливым, едва заметно окающим говорком жены (родом из древнего Ростова Великого), когда она, с вечно дымящейся папиросой в тонких пальцах, успокаивала и смягчала юмором суровые или грубоватые слова геолога. Всегда мало евший Гирин уходил от четы Андреевых едва дыша — уму непостижимо, когда успевала очень занятая Екатерина Алексеевна (она была известной художницей) готовить столь вкусные яства и в таком невероятном количестве».
Киселёв хохотал, рассказывая, что в среде молодых археологов и геологов имя Ефремова прославлено не столько книгами или научными работами, сколько двумя фирменными экспедиционными напитками Ивана Антоновича — «ефремовкой» и «божемойкой». В основе их — 75-процентный спирт.
В Москве уже сквозили зеленью берёзы. Дорога бежала на север. Когда машина начала взбираться на горки, окружающие Переславль-Залесский, листики исчезли, словно спрятались в почки. С высокого холма, увенчанного Горицким монастырём, распахнулась синь Плещеева озера. Оправленное в светлую раму сухих тростников, оно казалось необычайно крупным сапфиром. Со стороны города к воде не подойти — топко. Словно кристалл, возвышается на территории древнего Городища Спасо-Преображенский собор XII века, видевший младенца Александра, позже прозванного Невским.
Осмотрев музейные церкви, помнящие и летописных князей, и кипучую энергию Петра I, поехали в Ростов Великий. Храмы мерянской столицы были видны издалека — над плоской затопленной равниной, где сверкали бесчисленные золотники калужниц, они возвышались как сказочный город князя Гвидона.
В Ростове задержались на день — не спеша бродили по кремлю, слушая рассказы Лидии Алексеевны. С 1930 года она работала вместе с Сергеем Владимировичем в Саяно-Алтайской археологической экспедиции, но ещё в 1920-х годах молодая археологиня успела основательно изучить курганы центра России. С 1924 года она проводила самостоятельные раскопки славянских курганов у села Иславского под Звенигородом и близ города Плёса на Волге, изучала городища Московской и Горьковской (ныне Нижегородской) областей. Именно она разработала периодизацию дьяковской культуры. Лидия Алексеевна — тёмные волосы, прямой пробор, круглое русское лицо, живые, мудрые глаза. Четверть века она отработала сотрудником ГИМа — Государственного исторического музея, знатоком русской истории и культуры. Не отставал от неё и Сергей Владимирович. Они словно соревновались друг с другом в мастерстве рассказа, и древняя история оживала перед глазами путешественников.
Подробности ушедшей жизни глубоко волновали Ивана Антоновича; в Ростове он будто переселился в XVII век с его противоположностями — аскезой и праздничностью, выраженной даже в архитектурном убранстве храмов. На звоннице именитым гостям позволили прикоснуться к колоколам — лучшим по тону колоколам Руси: «Сысой — две тысячи пудов, звучит в до-бемоль; Полиелейный — тысяча пудов, ми; Лебедь — пятьсот пудов, фа-диез, и так далее. Не понимаю, как можно сделать так, чтобы такая махина давала определённую ноту — этого я сообразить не могу — мрак безыменный в скудоумной голове моей».[198]
Хотелось бы, конечно, ударить в колокол, но чтобы раскачать язык Сысоя, весящий две с половиной тонны, нужны три-четыре звонаря. Поэтому путешественники с разрешения смотрителей лишь постучали по краям этих удивительных созданий обломками кирпичей, слушая, как тихо отзываются массивные тела колоколов.
Залезая на высокую колокольню, Иван Антонович с грустью ощутил, как огрузнело тело. В 1950 году он по совету врачей бросил курить; сердце сбоило, это не давало вести, как прежде, достаточно активный образ жизни.
Друзья любовались небольшим прудом в центре архиерейского двора — в нём отражались затейливые башенки стен и густо уваженные куполами храмы.
Особое чувство возникало на площадке между высокой и низкой стенами, обращёнными к озеру Неро, между которыми росли старые яблони митрополичьего сада. Здесь поднимал свои купола суровый храм Григория Богослова. Здесь с 1214 года размещался Григорьевский затвор — первое учебное заведение в Северо-Восточной Руси. В училище были обширная библиотека, мастерская по переписке рукописей, здесь изучали греческий, латынь и другие языки, вели летописание. Из стен затвора отправился молодой монах Стефан в пермские земли, чтобы создать зырянскую азбуку и перевести на язык коми-зырян Библию. От Стефана Пермского тянется ниточка к Сергию Радонежскому — они были друзьями и, как говорится в житии, чувствовали друг друга на расстоянии. В Григорьевском затворе получил образование и другой великий книжник XIV века — Епифаний Премудрый. Ему было суждено написать жития святого Сергия и Стефана Пермского.
Ясный свет знания пробивался сквозь напластования веков.
В Ярославле Иван Антонович, как с родным человеком, встретился с Волгой, которую полюбил в годы ишеевских раскопок. Вглядываясь в обратную перспективу росписи храма Ильи-пророка, Ефремов пытался ощутить образ мыслей человека XVII века, для которого такой образ вйдения был естественным.
От Ярославля повернули вверх по Волге, заехали в Борисоглебск,[199] где жили мастера, из поколения в поколение хранившие старинные секреты колокольного литья. Волга здесь текла быстро, стиснутая крутыми высокими берегами. На узкой полоске пляжа легко можно было найти белемниты — «чёртовы пальцы».
В полях под Борисоглебском затерялась деревня Большое Масленниково — и никто в те годы не мог даже предположить, что девочка Валя Терешкова, родившаяся здесь в старой деревянной избе, через 11 лет торжествующе крикнет на старте: «Эй! Небо, сними шляпу!»
Из Борисоглебска добрались до Углича, известного гибелью царевича Димитрия. Если в Борисоглебске ощущались приволье и простор, то в Угличе, над кирпичным кружевом Димитриевых палат, даже спустя сотни лет словно витал запах крови.
Иван Антонович воочию видел картины жизни Древней Руси. Стрелы его мысли летели к Киеву — матери городов русских, перед глазами вставали трагические сцены Батыева нашествия. Он решил: книга будет называться «Дети росы»…
Весной 1952 года Иван Антонович с коллегами отпраздновал небольшую, но такую важную победу: в музее выставили гигантский скелет утконосого динозавра — зауролофа. Фотография его украсила майский номер журнала «Советский Союз». Монтировался ещё один впечатляющий скелет — гигантский хищник грозно стоит на двух мощных лапах.
Петра Чудинова, своего нового аспиранта, Ефремов снаряжает в поездку по Приуралью. Среди других местонахождений надо заехать в городок Очёр Пермской области — на предварительное исследование останков ящеров. Именно там был добыт необычный череп, который несколько лет не давал молодому геологу покоя и наконец летом 1951 года привёл его в кабинет Ефремова.
Чудинов выехал на палеонтологическую разведку. Позже на помощь Петру Константиновичу в качестве рабочего поехал Аллан — он ещё школьник, но уже бывал в экспедициях с Еленой Дометьевной и полевая жизнь ему знакома.
К 1 июля, к началу отпуска, Ефремов собирался сдать в печать рукопись «Фауны наземных позвоночных в пермских медистых песчаниках Западного Приуралья». Труд полутора десятков лет (начиная с 1929 года, с первой экспедиции в Каргалу) превратился в фундаментальный трактат в 40 авторских листов. Пришлось отложить всякие помыслы о свободном времени.
Внезапно бюро отделения геолого-географических наук академии постановило добиваться перевода Палеонтологического института из биологического отделения в геологию. События разворачивались с головокружительной быстротой, сплошным потоком пошли всяческие заседания и комиссии, отнимавшие массу времени и сил, и Ивану Антоновичу вновь пришлось работать над рукописью ночами.
Вопрос был отложен до осени, и Иван Антонович с облегчением уехал на Карельский перешеек, в санаторий. Пять раз за зиму и весну он болел гриппом, и болезни дали серьёзные осложнения на сердце.
Из Комарова Ефремов вернулся 10 августа.
Осенью вопрос о судьбе Палеонтологического института вновь начал подниматься на заседаниях Академии наук. Геологи первейшей задачей палеонтологии считали разработку проблем стратиграфии. Ефремов полагал, что палеонтология должна развиваться именно как биологическая наука: она имеет дело с жизнью прошлого, а не с символами или знаками этой жизни. Восстановить ход развития органического мира в связи с условиями существования, выяснить причины образования и вымирания фаун — это под силу только биологии.
Другое дело, что установленная последовательность развития форм и фаун должна служить практическим задачам геологической стратиграфии, определяя последовательность отложений. Для геологии имеет значение не сам мир прошлого, а показатели геологического времени и среды. Выполнение практических задач зависит от успешности длительных и трудоёмких биологических исследований.
Ефремов предложил создать отдельный институт биостратиграфии, который бы входил в геолого-географическое отделение. Такой институт не был создан, но лаборатории стратиграфии работали.
5 марта 1953 года страну потрясла новость, многим показавшаяся катастрофой: умер Сталин.
Некому стало защищать Трофима Денисовича Лысенко, и через некоторое время в печати начали появляться критические статьи о научных работах академика и его последователей.
Неожиданно для Ефремова была опубликована отдельным изданием повесть «Путешествие Баурджеда», входящая в дилогию «На краю Ойкумены». Образ египетского фараона, пришедшего к власти через труп брата, стал не так опасен.
Во Франции была переведена и издана ефремовская «Тафономия».
Летом в Академии наук собирались проводить выборы новых академиков, причём на палеонтологию не было выделено ни одной вакансии. Директором академического института по уставу должен быть только академик, но с 1944 года, со смерти Борисяка, это правило было нарушено.
Ефремов, исполнявший в ту пору обязанности директора ПИНа, понимал: если палеонтология не будет представлена в академии хотя бы одним академиком, некому будет представлять интересы этой науки в верхах и развитие её серьёзно задержится. В августе 1953 года он обратился к академику А. И. Опарину, опекавшему биоотделение, с ходатайством о выделении вакансий на палеонтологию. В результате было выделено несколько дополнительных вакансий на биологию, в том числе две на палеонтологию.
В октябре должны были состояться выборы членов-корреспондентов Академии наук. Кандидатуру Ефремова выдвинули без него. Он не очень стремился числиться членкором, но на этом настаивала Елена Дометьевна. В поддержку его пришли письма из различных научных учреждений.
Наступил август 1953 года. Аллан, весной окончивший девятый класс, к этому времени успел вернуться из экспедиции по северным рекам, где они под руководством Чудинова занимались исследованием пермских отложений.
На новой собственной «победе» семья отправилась в Коктебель. В позапрошлом, 1951 году доехать на машине до Чёрного моря не удалось: купленный с рук «мерседес» сломался под Тулой, нужных запчастей не нашлось. Пришлось возвращаться в Москву, срочно, за полцены, продавать автомобиль. Ефремов шутил: «тапочки» оказались дырявыми. До Крыма всё же доехали: в те годы до Симферополя из Москвы ходило пятиместное маршрутное такси — ЗИС-110, легковой автомобиль представительского класса, которым пользовались обычно члены правительства. Иван Антонович выкупил все пять мест, и семья всё же добралась до Чёрного моря.
В 1952 году «победу» так же купить не удалось, как не удалось отыскать подходящий гараж.
Ефремов, с ранней юности влюблённый в автомобили, давно мечтал о собственной машине. Быстров посвятил этой страсти друга шуточное стихотворение:
Блондин. Одет всегда по моде, Всегда изысканный поклон. К особой северной породе Себя готов причислить он. И галстук модный, серебристый Всегда с утра надет на нём, Всегда он выбритый и чистый, Его глаза блестят огнём. Всегда он полон обаянья. Он снится женщинам во сне, И древних греков изваянья Напоминает часто мне. В своей душе он иностранец, Он не Иван, он сэр Джон Биль, Он любит джаз и модный танец, Его мечта — автомобиль! Он хочет, чтобы в грозном вое Автомобиль в две тыщи сил, Как что-то страшное, живое, Его по городу носил, И чтоб машина камни рвала, Как дикий зверь, из мостовой, И чтоб всегда везде бывала Она и грозной, и живой. И чтоб в порыве злобы жгучей Тряслась от ярости она, И чтоб мотор её могучий Дрожа ревел, как сатана; И чтобы всем казались фары Глазами дьявола у ней, Чтоб все боялись этой пары Зловещих матовых огней, Чтоб он летел вперёд во мраке, Как смерч у тропиков в грозу, И чтобы сам он был во фраке, И чтоб… монокль блестел в глазу!Итак, Иван Антонович, Елена Дометьевна и Аллан поехали на своей машине в Крым. По пути завернули в родной для Елены Дометьевны Павлоград. В итоге, проехав по побережью, остановились в Планерском — Коктебеле, в доме отдыха писателей. В этот приезд Ефремовы особенно сблизились с Марией Степановной, вдовой поэта Максимилиана Волошина.
Здесь было особенно хорошо размышлять «на идиллические темы», как писал Ефремов: «О красоте, уходящей из мира, например… И её пришествии в мир — на следующем изгибе спирали! О Крите и Мохенджо Даро, о гигантских пралюдях, о вертикальной (меридиональной) миграции человечества в его постепенном размножении и последовавшей затем великой широтной миграции средиземного пояса, что и отражено в старых легендах как смена Лемуров на Атлантиков. О эволюции общего идеала красоты человеческого тела в связи с общим развитием и сменой культур…»[200]
В сентябре Елена Дометьевна и Аллан уехали в Москву — начался учебный год. Елена Дометьевна настаивала, чтобы муж тоже вернулся в столицу: он должен присутствовать на выборах в члены-корреспонденты. Одним своим присутствием он мог повлиять на решение академиков. Однако Ефремов делает иной выбор: он остаётся в Крыму…
На обратном пути Ефремов вызвал сына — один он боялся вести машину на такое большое расстояние, сердце могло подвести. Заехали в Бердянск, где на набережной до сих пор стояла та самая пушка, из которой когда-то выстрелил Ваня, перепугав всё население города.
В Москве в это время проходили выборы, которые превратились в яростное противоборство сторонников и противников Лысенко. Его ставленником был Л. Ш. Давиташвили — тот самый «Недобитошваль». Экспертная комиссия высказалась за избрание его и Орлова, но в итоге Давиташвили всё же был отодвинут и вторым членкором после Орлова избрали А. Н. Криштофовича.
Иван Антонович узнал об этом из рассказов Орлова и был очень доволен, что не присутствовал. Однако резкое ухудшение работы сердца заставило его в декабре, после традиционной осенней командировки в Ленинград, отправиться в дом отдыха. В январе 1954 года он вернулся в Москву, но тут же слёг в постель с приступом стенокардии. Молодая женщина Таисия Иосифовна Юхневская взяла на себя обязанности его секретаря.
Вероятнее всего, именно в это время Иван Антонович работал над новым произведением. Перед его внутренним взором возникали картины, которые он стремился запечатлеть в слове. Рождалась повесть «Тамралипта и Тиллоттама».
Размышляя о работе в институте, Ефремов всё чаще чувствовал раздражение. Он не был скептиком и даже говорил иронично: мол, скептиков ему так жаль, что их стоит удавить в детстве, чтобы они не мучились в этой жизни. Однако стать скептиком у него самого были все основания.
«Медистые песчаники», сданные в издательство летом 1952 года, ещё не были даже прочитаны корректором.
«Каталог местонахождений пермских и триасовых наземных позвоночных на территории СССР», огромную сводную работу, выполненную в соавторстве с Вьюшковым, по всей вероятности, ожидала такая же участь.
«Дорога ветров», первая часть которой задумывалась как самостоятельная книга и была закончена тоже в 1952-м, не была даже поставлена в план будущего года. В издательствах после смерти Сталина боялись не угадать «направление ветра», медлили и тормозили всю работу.
Чудинов разведал в Очёре местонахождение, которое должно было дать совершенно новую пермскую фауну. Для этого надо только срыть бульдозером породу, под которой залегал костеносный слой. Ефремов с Чудиновым подали заявку, но денег на раскопки, которые должны были стать сенсационными, не выделяли.
Не давали разрешения и на продолжение работ в Монголии, не говоря уже о Китае. Но Ефремов не мог остановить работу своей мысли, он мечтал о масштабных исследованиях без политических границ, разрабатывал планы палеонтологических разведывательных работ в Индии, Бирме, Афганистане.
Каждое достижение давалось напряжением сил.
В то же время Иван Антонович получил подтверждение, что литература может изменять реальность. Осенью 1953 года Д. М. С. Уотсон, английский коллега, прислал Ефремову вырезки из газеты «Таймс»: англичане под влиянием рассказа Ефремова решили отремонтировать выдающийся клипер «Катти Сарк» и поставить его на сухую стоянку.
От Ефремова (после долгих согласований с Иностранным отделом АН СССР) англичанин получил оттиски трёх статей Ивана Антоновича и «Тафономию». Через Уотсона отрасль науки, созданная Ефремовым, начала активно осваиваться и развиваться.
В августе 1954 года произошло грандиозное открытие, изменившее жизнь огромного региона: советские геологи открыли в Якутии кимберлитовые трубки. Символично, что открывателем первой трубки, названной «Зарница», стала женщина — Лариса Попугаева.
Был опубликован рассказ «Адское пламя», посвящённый проблеме ядерных испытаний на тихоокеанских атоллах.
Может, действительно пора вернуться в литературу? Но больное сердце уже не позволит, как прежде, дни посвящать палеонтологии, а писать по ночам. Надо делать выбор.
1954 год в жизни Ефремова оказался результативным.
Учёный выступил на Всесоюзном палеонтологическом совещании с докладом о необходимости расширения и уточнения стратиграфических схем.
В журнале «Природа» вышла статья «Что такое тафономия?» — единственное популярное авторское изложение учения о «закономерностях захоронения вымерших животных и растений».
В «Трудах Монгольской комиссии» опубликованы статья Ефремова «Палеонтологические исследования в Монгольской Народной Республике (предварительные результаты экспедиций в 1946, 1948 и 1949 гг.)» и статья Н. И. Новожилова «Местонахождения млекопитающих нижнего эоцена и верхнего палеоцена Монголии».
Научные исследования Елены Дометьевны тоже увидели свет: это была итоговая работа «Нижнепермская фауна Северного Приуралья (бассейн р. Инты)».
Радуют успехи учеников. Б. П. Вьюшков закончил огромную статью «Тероцефалы Советского Союза», а летом впервые в СССР провёл успешные бульдозерные раскопки триасовых лабиринтодонтов и дицинодонтов в местонахождении Донгуз в Оренбуржье. Ещё до войны Ефремов лично описал скелет дицинодонта, найденный в этом месте. Напечатана книга А. К. Рождественского «На поиски динозавров в Гоби». П. К. Чудинов работает над диссертацией.
Рождественский и Чудинов — оба рыжие, оба Константиновичи, оба сыновья бухгалтеров — были диаметрально противоположными по характеру. Иван Антонович шутил, что у него два ученика — первый как сядет в машину, так и едет до самого горизонта, а второй как начнёт копать, так и копает до центра Земли.
В издательстве АН СССР наконец вышла долгожданная «Фауна медистых песчаников…». В тексте книги были 92 рисунка и 33 таблицы.
Ефремов выявил значение фауны медистых песчаников для истории пермских позвоночных, показав её уникальность, и промежуточное положение между нижнепермской фауной Северной Америки и верхнепермской фауной Южной Африки. Охват материала был по-ефремовски широк: проанализированы условия захоронения позвоночных, проведена полная ревизия фауны, детально рассмотрены морфология, систематика, филогения, изучены типы морфологических адаптаций наземных позвоночных и условия существования фауны.
Ефремов описал три новых рода — фреатозух, фреатозавр, фреатофазма; учёный считал их наиболее архаическими формами в фауне медистых песчаников. В общем составе фауны учёный называет 18 родов и 22 вида.
Детальнейший анализ биологических особенностей позволил Ефремову сделать вывод о разнообразии условий существования медистых песчаников в целом. Главная особенность этого времени — влажный климат, обилие водоёмов и болотистых лесов.
С высоких, ещё не разрушенных Уральских гор быстрые реки стекали в долины, населённые разнообразными позвоночными. Реки несли их трупы на влажные низменности, где остатки быстро погребались под слоем наносов, медные руды замещали костную ткань, скелеты и черепа хорошо сохранялись.
Монография имела большое значение для геологической практики: фауна медистых песчаников стала основным звеном для разработки детальной стратиграфии континентальных пермских отложений.
П. К. Чудинов пишет: «В сравнении с другими палеонтологическими работами монография И. А. Ефремова очень индивидуальна. Уже в стиле изложения и глубине исторического обзора видна «рука» и подход Ефремова-историка, геолога, писателя. Обзор воспринимается специалистами как живое свидетельство, словно писал его очевидец-исследователь Приуралья. Ефремов знал время действия и закрытия каждого рудника, место и время каждой находки. По объёму и глубине собранных редких или уже утраченных сведений и архивных материалов книга И. А. Ефремова, ставшая библиографической редкостью, выходит далеко за пределы названия. Это своеобразная энциклопедия, своего рода памятник ушедшей в далёкое прошлое эпохе горнопромышленного освоения, труду энтузиастов-исследователей и горняков Западного Приуралья. Сегодня, спустя десятилетия после публикации, его монография остаётся в отечественной палеонтологии, изучении геологической пермской системы одной из немногих ярких и поистине поэтических страниц».[201]
«Каталог местонахождений пермских и триасовых наземных позвоночных СССР» был поставлен в план издания на 1955 год. Ещё в 1940 году Ефремов составил картотеку местонахождений, составившую потом основу реестра. В реестре не только систематизировались данные о захоронениях остатков на всей территории СССР, но и давалась оценка стратиграфическому значению остатков позвоночных. Б. П. Вьюшков уточнил необходимые данные.
Описание местонахождений унифицировано: местоположение, разрез, видовой состав, условия захоронения, стратиграфический горизонт, литература. Эта схема послужила основой для составления каталогов по местонахождениям других возрастов и групп ископаемых организмов.
Профессор Э. К. Олсон с некоторыми сокращениями перевёл каталог на английский язык, и работа послужила прототипом для классификации пермских местонахождений Северной Америки.
Практическое значение «Каталога» увеличила инструкция для поисков наземных позвоночных в континентальных отложениях: как и где искать, как производить раскопки, какие наблюдения за тафономией местонахождения особенно важны.
В 1954 году с научного Олимпа подул ветер перемен. В письме И. И. Пузанову, своему одесскому коллеге и доброму старшему другу, Ефремов пишет: «У нас в биологии назревает команда «к расчёту стройся». Наверху стали кое-что понимать, хотя и вряд ли осознали до конца, в какую бездну впихнули нашу биологию научные проходимцы и титулованные проститутки из АН. Пока будут срочные перевыборы Бюро отделения и разбор физиологических дел. К чему всё это приведёт — неясно, во всяком случае, сразу крутого перелома не будет, но всё же есть сдвиги, и на том хоть спасибо».[202]
Перевыборы бюро биоотделения состоялись, но переломить тенденцию последних полутора десятков лет было не так просто. Продолжаются разговоры о переводе ПИНа в геоотделение, и Ефремов продолжает отстаивать биологическую сущность палеонтологии.
Из цепких московских буден Иван Антонович стремился туда, где последние годы чувствовал себя так легко и свободно. Сухая, напоённая солнцем земля Крыма была так похожа на его любимую Грецию. Но врачи в этом году не только запретили ему водить машину, но и настоятельно не рекомендовали менять климат, уезжать из средней полосы.
Весной, в мае, в Коктебель смогла съездить только Елена Дометьевна, и то не просто ради отдыха, а ради выздоровления после сильнейшего бронхита. Лето она собиралась пробыть в Москве: Аллан оканчивал школу и должен был держать конкурс в МГУ, на геологический факультет.
Отпуск Ивану Антоновичу пришлось провести на Карельском перешейке. Досаждали комары и дожди. Но была возможность часто ездить в Ленинград, встречаться со старыми друзьями.
Алексей Петрович Быстров обычно пребывал в тяжёлом настроении. Его природная угрюмость была усилена развивающейся базедовой болезнью. У Ивана Антоновича сейчас энергии на то, чтобы без конца убеждать друга в его важности для науки, оставалось не так уж и много. Их дружба по-прежнему была крепка, однако она окрасилась в лирические тона.
С большим удовольствием он приезжал на Геслеровский (ныне Чкаловский) проспект. Там, в двухэтажном кооперативном особнячке, окружённом небольшим садом и деревянным забором, проживала Ирина Владимировна Вальтер, та самая художница, которая своими норвежскими рисунками подарила ему идею рассказа «Последний марсель». Её мужем был Юрий Петрович Маслаковец, доктор физико-математических наук и сотрудник Института Иоффе. В этом же доме, похожем на старинную городскую усадьбу, жила ещё одна семья — Алла Петровна Маслаковец, сестра Юрия Петровича, пианистка, преподаватель консерватории, и её муж Василий Васильевич Григорьев, инженер Ленгипротранса.
В этом весёлом, жизнелюбивом семействе мужчины были страстными охотниками и держали собак. Постоянное сочетание искусств — живописи и музыки — и точных наук насыщало атмосферу радостью познания. Иван Антонович казался особенно массивным, когда он усаживался в столовой на низком диванчике. Его окружали весёлый смех и добрые шутки, которые он так любил.
1955 год приносит Ефремову резкое обострение болезни сердца. Врачи говорили, что виной всему странный вирус, подхваченный палеонтологом в одной из экспедиций. Один старый врач распознал средиземноморскую лихорадку — периодическую болезнь, которая носит ещё название еврейской или армянской лихорадки и встречается крайне редко. Приступы на протяжении всей жизни бывают внезапными и чрезвычайно болезненными. Сначала непродолжительные, потом они становятся чаще и длительнее.
Тася, о которой речь впереди, почти не отходила от Ивана Антоновича, будучи не только его секретарём, но и няней, и медсестрой.
После прохождения Ефремовым медицинской комиссии — неизбежный уход на временную инвалидность. Это не уход из палеонтологии, не прощание с институтом и музеем, которым отдано так много лет жизни. Это просто передышка… Он вспоминал болезнь, которая сразила его весной 1942 года в Свердловске. Тогда он начал писать. Литература стала его спасительницей.
…Над жёлтыми холмами Коктебеля, над лазурным морем стояло мягкое сентябрьское солнце. С виноградников доносился терпкий, отчётливый запах спелых гроздьев. Волны не спеша накатывали на излучину берега, заставляя блестеть подсыхающие камешки, среди которых Иван Антонович выискивал прозрачные халцедоны (такие же, как в Гоби) и апельсиновые сердолики (как в Средней Азии, он описал их в рассказе «Обсерватория Нур-и-Дешт»). Вечерами солнце опускалось за причудливые выступы Кара-Дага, и скалы на фоне заката становились густо-синими, а затем чеканно чернели и растворялись в наступавшей темноте.
В доме, что у самого берега моря, его ждали милая Тася и заботливая, добрая Мария Степановна. Золотой сентябрь и внимание близких делали своё благое дело. Целительное воздействие оказывали и рукописи поэта — Мария Степановна разрешала читать неопубликованные стихи и прозу Волошина. Ефремов верил: они непременно станут доступны читателям, за десятилетия забвения не потеряют своей свежести и ясности. Таким «стихам, как драгоценным винам, настанет свой черёд». Так говорила любимая Волошиным Цветаева, не зная ещё, что пишет не только о себе.
Из газет Ефремов узнал, что в академии произведена замена руководства биоотделения и академиком-секретарём избран академик В. А. Энгельгардт, человек знающий, порядочный и смелый.
По возвращении в Москву Орлов рассказал, что поставил подпись под письмом, направленным в Президиум ЦК КПСС — в историю это обращение вошло как «письмо трёхсот». Должны же наверху когда-нибудь понять, к чему привела деятельность Лысенко на посту президента ВАСХНИЛ!
Следы сталинского правления были ещё явственны в обществе. Одновременно усиливались новые тенденции. Наука всё больше погружалась в бюрократию. Заседания, отчёты, документы на подпись, масса второстепенных вопросов — всё это связывало научное творчество паутиной непонятных долженствований, отвлекало от смысла научной работы. Орлов, как ответственный руководитель, оказался во многом заложником ситуации. В чём-то он, вероятно, не проявил той принципиальности, которой был столь славен Ефремов. Итогом стало очень резкое письмо, написанное Ефремовым в январе 1962 года, где он упрекает бывшего близкого соратника в противодействии его возвращению в ПИН после длительной болезни. В числе прочего там пишется: «Моя ценность как учёного и сделанное в науке уже не зависят ни от каких отзывов, будь то авторитетное высказывание директора или пустозвонная болтовня научного щелкопёра без году неделя в палеонтологии. С другой стороны, никак не могу поверить, чтобы такой принимающий науку всерьёз человек, как Вы, не смог бы понять, что нужно делать, чтобы при любых условиях сделать попытку вернуть в свой институт одного из лучших палеонтологов СССР (ради Бога, примите это как чисто деловую оценку и не используйте как пример пресловутой ефремовской похвальбы)… <…> Но посмотрите сами в себя — есть ли у Вас настоящая преданность науке сейчас (я не говорю о прошлом), действительно ли Вы ведёте науку или плывёте по течению, плюя на всё, кроме того, чтобы Вас не трогали и не занимали Вашего времени. Своей работы Вы давно не ведёте, в институте бываете совсем мало, а если и бываете, то для чисто бумажной возни или пустяковых мелочей, и то стараетесь переложить всё на Ваших помощников. В университете тоже Вы делаете очень мало, перекладывая всё на других, как то постоянно заявляют Ваши помощники там. Вам виднее — может быть, Вы решаете судьбы науки в более высоких инстанциях, став теперь академиком? В этом Вы должны быть сами себе судьёй, ибо если и там Вы ведёте ту же линию, то что же у Вас тогда, где то оно, главное в жизни?»
Ефремов стал неудобен в рамках новых взаимоотношений, и Орлов, отвечая ему, про это пишет. Ставки, вакансии, которые существовали в виде закреплённых штатных единиц, никак не учитывали присутствие в системе такой крупной фигуры, как Ефремов, с его, увы, ограниченной трудоспособностью.
«Не помню, говорил ли Вам, но многим другим всегда говорил, что если бы я мог — я охотно платил бы Вам полную ставку впредь пожизненно, без всякой работы с Вашей стороны, просто за то, что Вами сделано уже. Другое дело, что я бессилен платить так, что в моём распоряжении в настоящее время имеются лишь возможности, о которых я недавно наспех Вам писал. А высказанное Вами при нашем последнем свидании предположение об относительной доступности продления Вашей инвалидности на год — по Вашему положению в области литературы — привело меня тогда к представлению, что, вероятно, этим надо воспользоваться — пока; а дальше, может, установится же, наконец, штатное консультантство. Последнее время Вы, насколько я себе представляю, заняты целиком литературной работой, и в данный момент, пока Вам не до палеонтологии — в смысле повседневного интереса и занятия ею. <…> Заведование лабораториями стало сейчас повседневно много хлопотнее, чем было недавно; я себе не представляю, как при Вашем объёме литературной работы Вам себе это заведование брать. Если бы Вы видели, как мы сейчас мучимся, когда уже не учёный совет, и не директор, и не Биоотделение, и не президент, а какая-то «секция Госкомитета» над нами начальство, когда со всем этим приходится «париться» целые дни и дирекции, и «завам», — Вы бы меня поняли…»
Правда была у обоих. У Ефремова — правда духа науки. У Орлова — правда существующей формы научной организации. Эти правды оказались несовместимы.
Но это будет через несколько лет.
…Осенью 1955 года палеонтолог Е. А. Малеев, обрабатывавший монгольские сборы, описал нового хищного динозавра, позвонки и череп которого были добыты в Нэмэгэту. Евгений Александрович назвал ящера тарбозавром. Рассматривая отпрепарированный череп, Ефремов сказал, посмеиваясь:
— Смотрите, какие зубы! С такими зубами ни один социализм не страшен!
Последовало сразу несколько доносов — в партбюро института. Секретарь партбюро Ирина Васильевна Хворова дальнейшего хода делу не дала, только выговорила Ивану Антоновичу:
— Ну как вы могли!
Итак, временная инвалидность. Палеонтология всегда будет рядом, возможно, к ней ещё удастся вернуться. А теперь пора отправиться в иное плавание, ориентируясь на иной альмукантарат.[203]
«Краса Ненаглядная»
В 1935 году, когда Иван Антонович возвратился с Чары, ему попалась книга Константина Паустовского «Романтики». Молодой Паустовский, прозрачный и призрачный язык которого завораживал, а образы были близки чарующим образам Грина, словно компенсировал своим исполненным чувства мировйдением формирующуюся научную точность высказываний Ефремова. Иван Антонович успел купить книгу, тираж которой был весьма невелик, и удачно — переизданий больше не было.[204]
Роман стал одной из любимых книг Ефремова. Паустовский, вкладывая в «Романтиков» свой глубинный личный опыт, вдохновенно говорил о мечте и гении, о полярностях жизни и смерти, о женской любви и её преломлении в судьбе мужчины.
Молодой писатель Максимов любит двух прекрасных девушек: светлую, с ясной душой Хатидже и страстную, порывистую Наташу. Максимов чувствует, что Наташа требует себе всего мужчину без остатка. Он любит её — подсознательно, тоскует по её тёмной страстности, но жизнь в повседневности вместе с ней невозможна. Хатидже знает об отношениях своего любимого и Наташи. Когда на Чатырдаге, в хижине для туристов, она знакомится с Наташей, то долго разговаривает с ней — и затем говорит Максимову такие слова: «Я полюбила тебя давно, очень давно… <…> и вот ты стал мне самым близким, самым нужным человеком. Вне тебя я не живу. Ты знаешь, я упрямая и ничего не делаю наполовину. Я полна забот и тревог о каждом твоём дне, я часто делаю хорошее людям только потому, что они любят тебя. Мне легче не жить, чем увидеть, как ты мучаешься. <…> Я поняла, что у тебя в жизни будет много падений и подъёмов, ты будешь ещё много любить, мучиться: каждая любовь — это новое рождение себя, — но я всегда буду близка тебе, потому что у нас одна цель — твоё творчество. Оно принадлежит всем. Всё, что ты написал и напишешь, выше той боли, что ты доставляешь мне. <…> Но если ты бросишь писать, бросишь думать и расти как человек, я откажусь от тебя».
Наташа — женщина-богиня, апсара, которая вовлекает мужчину в мощный поток своей жизни, подчиняет своим законам. Её страстная натура движется с высокой амплитудой, и творчество мужчины внутри этого потока часто становится невозможным.
Хатидже, словно фея, оберегает мужчину, сглаживая острые углы, создавая ощущение спокойной надёжности.
Ивана Антоновича потрясли мудрость и высшая правда Хатидже, поднявшейся в любви к мужчине над обывательскими взглядами и привычками, сделавшей творчество главной целью жизни.
Елена Дометьевна была богиней. Гордая, сильная, самостоятельная в решениях, желающая оставаться независимой во всём — и в науке, и в жизни. В романе «Лезвие бритвы», описывая причину расставания Гирина с женой, Иван Антонович сформулировал особенность своих поздних отношений с Еленой Дометьевной: «Слишком велика оказалась их разность, вначале пленявшая обоих».
В гобийских пустынях, когда белые звёзды стояли над головой и тонко звенел под ветром дерис, Иван Антонович думал о женщине, о её роли в жизни мужчины. Они с женой постепенно всё больше отдалялись друг от друга, и не частые экспедиции, не расстояния были этому причиной. Растаяло бывшее когда-то цельным общее понимание пути. Елена Дометьевна считала, что заслуги мужа недооценивают, свои честолюбивые стремления она невольно переносила на Ивана Антоновича. Он давно понял, что звания и чины — лишь оболочка, в которую многие стремятся обернуть свою пустоту и бесцельность существования. Для Елены Дометьевны положение мужа в социуме было личностно значимым.
Любовь дарует радость жизни. Вернувшись из последней Монгольской экспедиции, Иван Антонович ощущал усталость и пустоту, словно из него ушла душа радости, как из его героя Пандиона, оказавшегося в неизведанных глубинах Африки. Психическое состояние совпадало с физическим: весь организм словно пришёл к безвременному концу. Апатия, вялость, тело, словно обёрнутое в вату.
Женщины всегда выделяли Ивана Антоновича, и он ценил их прелесть и красоту, полную загадки. Общество, подчинённое постулатам морали, соглашалось закрывать глаза на связи, которые не афишировались. Проявления страсти, исполненные жизненной силы, должны были оставаться за обочиной торной дороги. Это лишало целостности мироощущения, и большинство людей, встречаясь с сильным чувством вне контуров морали, страдали от раздвоенности и душевного разлада, но покорялись.
1 мая 1950 года, на демонстрации, куда Иван Антонович пришёл с Алланом, он увидел девушку, от взгляда на которую почувствовал давно не испытанную радость. Таисия Юхневская недавно начала работать в ПИНе машинисткой. Пока колонна работников Академии наук строилась на Болотной площади, возле кинотеатра «Ударник», ожидая своей очереди для прохождения по Красной площади, начался весенний дождь. Иван Антонович прикрыл невысокую Тасю своим плащом. Однако дождь был неожиданно сильным, и девушка всё равно вымокла.
Выяснилось, что в Палеонтологический институт на работу она устроилась совсем недавно, в апреле. Ефремов отчётливо ощущал, как «физическая красота девушки сливалась с её душевной сущностью».[205]
Хотелось узнать, кто она, как оказалась в ПИНе, как складывалась её жизнь…
Тася — так звали девушку, любившую Николая Михайловича Пржевальского. Если бы она не умерла внезапно, от солнечного удара, он бы после первой своей экспедиции женился на ней — и кто знает, совершил бы тогда великий путешественник свои открытия, прошёл бы всеми предназначенными ему дорогами?
Он, Ефремов, уже вернулся из своей последней крупной экспедиции, совершив фундаментальные научные открытия. И — словно в награду ему — Тася. С длинными пышными волосами, лёгкая, маленькая и изящная…
Он не может просто так расстаться с этой девушкой. Иван Антонович назначил ей встречу на Воробьёвском шоссе. Здесь, за излучиной Москвы-реки, в долине Сетуни, есть прекрасная липовая аллея. Девушка обещала прийти.
В назначенный день Ефремов долго прождал Тасю — её не было. Назавтра при встрече в коридоре института он шутливо погрозил ей пальцем:
— Профессора обманывать нехорошо.
Тася остановилась, взволнованная:
— Я вас ждала!
Оказалось, они, торопясь, не совсем точно условились о месте и не нашли друг друга.
Солнце просвечивало сквозь свежие листочки лип. Зяблики скакали по земле, выискивая корм, стрекотали дрозды, устраивая гнёзда. На Воробьёвском проезде было пустынно. Ефремов и Тася долго бродили по аллее; девушка просто и сдержанно рассказала ему историю своей жизни.
Таисия родилась в Москве в 1926 году, была пятым ребёнком в семье. Ей было пять с половиной лет, когда в одночасье умерли её родители.[206] Две старшие сестры были уже достаточно взрослыми. Тасю и семилетнего брата Витю разлучили: её отдали в детский дом для дошкольников, что в Нижних Котлах, а его — в детдом для школьников. Брату там было плохо, он несколько раз сбегал — в итоге оказался в детском доме на Урале. Больше Тасе но довелось встретиться с братом. 11 мая 1944 года Виктор Юхневский погиб в последний день штурма Севастополя.
За Мытищами, на дороге в Сергиев Посад, есть платформа Правда. Там, возле Старого Ярославского шоссе, находился детский дом, в котором оказалась подросшая Тася — пришло время идти в школу. Учителя жили при детском доме семьями. Это были образованные, исключительно культурные люди, ставшие фактически родителями для сирот. Навсегда запомнила Тася учительницу Любовь Сергеевну Туркину, ставшую детям второй матерью. Любимцем детей был пасечник, все его звали «дедушка Медок».
Хозяйство у детского дома большое — коровник, крольчатник, огород, пасека, мастерские — для девочек швейная, для мальчиков столярная. Не хуже, чем у Макаренко. Девочки учились подрубать простыни, шить, вышивать. Детский дом сам обеспечивал себя продуктами — дети сажали и пололи овощи, окучивали картошку, собирали урожай.
В войну работа на огороде превратилась из трудового воспитания в необходимость для выживания. Агроном распределял воспитанников по грядкам — надо было окучивать картошку — а грядка шла через всё поле, до далёкого леса.
В октябре 1941 года детей перевезли в Москву. 7 ноября детдомовцев повели в баню — и воспитанники видели части, идущие прямо с парада, с Красной площади, на фронт. Девочки, словно прозревая, тихо плакали.
Зимой 1942/43 года школьников отправляли на разбор засек — лесных завалов, сделанных в период наступления фашистов на всех основных направлениях. Девочки и мальчики таскали чурки по два метра длиной, ставили их на попа и так переваливали к общей куче. Тяжёлая работа на морозе так выматывала, что Тася засыпала, как только голова её касалась подушки.
Весной 1943 года Таисия Юхневская окончила восемь классов. Конечно, хотелось бы окончить десятилетку, но директор детского дома был вынужден выпустить их — поступило очень много новых детей, оставшихся сиротами. Шестнадцатилетняя девушка отправилась к родственникам в Черновцы, где пыталась окончить школу, затем медучилище, где нужно было заниматься на украинском языке. Позже приехала в Москву, где у неё пополам с сестрой Марией была маленькая комнатка. Она поступила в медицинское училище, но отучилась лишь один год: у сестры родилась дочка Славочка, Станислава, и надо было искать работу, чтобы помочь ей.
Сначала Таисия работала дворником, затем сестра устроилась в фирму «Заря» — организацию, которая занималась хозяйственными работами по найму. Тася ей помогала. Девушек направляли мыть полы в различных учреждениях, отмывать школы после ремонта, мыть окна. Школы довоенной постройки — высокие здания в три-четыре этажа, вода только холодная и, как правило, на первом этаже. Тяжёлые вёдра приходилось таскать по высоким лестницам, руки стыли от ледяной воды. Труд оплачивался довольно низко. Сёстры мечтали о французской булочке со сладким чаем…
В детском доме, где была великолепная библиотека, воспитанникам дали хорошее образование, и Таисия хорошо знала русский язык, писала грамотно, без ошибок. Девушка пошла на курсы стенографии и машинописи.
Однажды Марию направили заклеивать окна в Палеонтологический институт, и Тася отправилась с ней, чтобы управиться побыстрее.
Учёный секретарь института Виктор Николаевич Шиманский, наблюдая, как крохотная девушка пытается дотянуться до края высокого окна, спросил у неё: почему она, такая молодая и красивая, занимается такой тяжёлой физической работой? Узнав, что девушка вскоре должна окончить курсы стенографии и машинописи, он пригласил её работать в институт и даже направил соответствующий запрос на курсы. ПИНу по штатному расписанию не положено было иметь машинисток, но они были необходимы. Приходилось выкручиваться: нужные кадры числились препараторами, но занимались стенографией и выполняли работу секретарей.
Так Тася оказалась по трудовой книжке препаратором Палеонтологического института, а на деле — машинисткой.
Да, жизнь этой девушки не была лёгкой, думал Иван Антонович. Чем он может помочь ей?
Весной 1951 года в комнату, где работали машинистки, вошла Елена Дометьевна. Она принесла Таисии картонную папку с только что отпечатанной рукописью «Костей дракона» — первой книги «Дороги ветров», и саму рукопись. Нужно было сверить рукопись и машинописный экземпляр, исправить опечатки.
— Иван Антонович почему-то просил, чтобы именно вы сделали эту работу, — отчуждённо, с лёгким вызовом произнесла жена профессора.
Не зная расценок, Таисия спросила у опытной машинистки, сколько стоит сверка. Она собиралась в качестве коллектора в палеоэнтомологическую экспедицию — в Кузбасс, под руководством опытной Елены Эрнестовны Беккер-Микдисовой, и подумала: как раз на сапоги и телогрейку хватит. Ивану Антоновичу она назвала цену, и тот удивлённо произнёс:
— Почему вы так мало себя цените?
Ефремов не зря заказал эту работу именно Таисии Юхневской: она уже зарекомендовала себя в институте как грамотная машинистка, а для него это была возможность дать ей подзаработать. К тому же он хотел ввести её в свой мир, хотел, чтобы она увидела его не как сухого учёного. Он подарил ей несколько своих — уже вышедших — книг, оставив на них дарственные надписи, и, беседуя с ней позже, убедился, что девушку очень заинтересовали его книги.
С наступлением лета Таисия отправилась в Новокузнецк совершенно новым для неё способом: в грузовике, закреплённом на открытой железнодорожной платформе. В машину загрузили бочку с бензином, продукты, палатки, прочее снаряжение. В качестве сопровождающих отправили добродушного пожилого шофёра Александра Матвеевича и Тасю. Стояла необычайная жара. Две недели они добирались до Новокузнецка — вагон то прикрепляли к составам, идущим на восток, то открепляли. Ни помыться, ни сойти с высокой платформы — даже на запасных путях: было неизвестно, когда подойдёт маневровый паровоз и начнёт толкать вагон на сортировочную горку. Груз в кузове машины сотрясался, когда платформа катилась с сортировочной горки и врезалась в новый состав. Бочка стала подтекать, к ней привалился мешок с мукой. Передвинуть груз в забитой под завязку машине не было возможности. Спасая муку, Тася часами сидела спиной к мешку, сдерживая его во время толчков, не давая прислоняться к бочке, которую она постоянно обтирала.
Красота Горной Шории, дружная работа экспедиции отодвинули все трудности пути.
Иван Антонович пришёл в ужас, узнав, что Тася сопровождала платформу с грузовиком. Если бы возникла экстремальная ситуация, как бы слабая девушка смогла защитить груз?
На будущий год Таисия вновь поехала в экспедицию, руководителем которой в 1952 году назначили Ольгу Михайловну Мартынову.
Осенью Иван Антонович снял для девушки просторную комнату. Постепенно их отношения становились всё более близкими. В эти годы с новой силой встаёт в творчестве Ефремова тема женской красоты, сопряжённая с образом Эллады.
В 1944 году в рассказе «Эллинский секрет» автор впервые обратился к Элладе, связав пленительный образ Древней Греции с темами генной памяти и воплощения в искусстве женской красоты. Скульптором стал и Пандион, герой второго произведения Ефремова, в котором Греция предстала ещё разрозненной, опасной для жизни простых людей страной, при этом хранящей глубокие традиции воспитания чувства красоты.
В 1946 году был создан рассказ «Каллиройя», который увидел свет только в 2007 году. Главный герой рассказа Антенор — тоже скульптор, пытающийся проникнуть в тайну женской красоты и её художественного воплощения. Антенор пытается понять женскую красоту не только в искусстве, но и в жизни — его горячей страсти покорились многие женщины Аттики и островов Эгейского моря. Образ скульптора объёмен — Ефремов проникает в сущность души своего героя: «томительная сила Эроса» порождает в сердце Антенора печаль. Ухватить, удержать мимолётные мгновения жизни, запечатлеть то, что безвозвратно ускользает, чтобы принять новый облик, — это желание превращается в борьбу с законами смерти и времени, и эта борьба, отбирая все силы, часто оказывается бесплодной.
Душа Эллады — красота женщины, чистая, гордая, нестеснённая. Антенор размышляет о прославленных скульпторах Греции, об их безупречных моделях.
История гетеры Фрины, с которой Пракситель лепил Афродиту Анадиомену, особенно волновала Ефремова. Необычайно привлекала его картина Генриха Семирадского «Фрина на празднике Посейдона в Элевсине», выставленная в Русском музее. Получив в 1945 году пополам с А. П. Быстровым премию имени А. А. Борисяка, он заказал копию центральной части картины в оригинальную величину. С тех пор Фрина словно поселилась в доме писателя.
Девушка, которую мечтает сделать своей моделью Антенор, носит имя Каллиройи — прекрасногранатной, прекрасногрудой. Она предлагает ему совершить древний обряд афинских земледельцев — обряд служения матери-земле на трижды вспаханном поле. Чисто и сильно описывает Ефремов эротический экстаз — живой огонь красоты бросал вызов равнодушной вечности.
Увы, ни в год создания, ни десятилетия спустя этот рассказ не мог быть опубликован.
Древняя Греция, так тщательно изучаемая Ефремовым, подарила ему историю, из которой стал выкристаллизовываться сюжет: афинская гетера Тайс, подруга Александра Македонского, сожгла Персеполис.
Его любимую тоже звали Тайс — по-русски Таисия.
В особой литературной тетради, которую Ефремов завёл в 1951 году, на первой странице в списке произведений, которые он задумал написать, стоит: «Легенда о Тайс». Пройдёт почти 20 лет, и страницы рассказа «Каллиройя», переплавившись в творческом тигле, станут первой главой романа «Тайс Афинская».
Сейчас его Тайс, Фаюта, как ласково называл он её, жила в атмосфере всеобщей нетерпимости, часто переходящей в ханжество. О чём думал он, доктор наук, учёный с мировым именем, полюбив 25-летнюю девушку?
Быть может, он вспоминал свою раннюю женитьбу на Ксении Свитальской. Теперь он понимал, что тогда не было ни глубины чувств, ни понимания красоты — и страсти настоящей не было. Надо было встретить Елену Дометьевну, оттачивая свой особенный почерк об острые грани её характера, окунаясь вместе с ней в изучение поэзии, музыки, культуры различных народов, прожить годы, воспитывая свои чувства, углубляя понимание Женщины, — и нечаянно встретить девушку, отозвавшуюся на те чувства, которые он взрастил в себе.
В небольшом коллективе Палеонтологического института избежать пересудов, досужих толков и вымыслов не было возможности. Открытое осуждение — чему?
Николай Заболоцкий свой лирический цикл «Последняя любовь» начал стихотворением «Чертополох» (1965). Поэт создаёт необычайный образ:
Принесли букет чертополоха И на стол поставили, и вот Предо мной пожар, и суматоха, И огней багровый хоровод. Эти звёзды с острыми концами, Эти брызги северной зари И гремят и стонут бубенцами, Фонарями вспыхнув изнутри. Это тоже образ мирозданья, Организм, сплетённый из лучей, Битвы неоконченной пыланье, Полыханье поднятых мечей, Это башня ярости и славы, Где к копью приставлено копьё, Где пучки цветов, кровавоглавы, Прямо в сердце врезаны моё.Образ Заболоцкого отчётливо жгуч: чертополох, благосклонно воспринимаемый за обочиной дороги, — страсть, которую принято оставлять за рамками общественной жизни, — внезапно вносится в комнату, в границы социума, ставится в вазу, превращается в букет. Принято, что в качестве букета на столе может стоять сирень, ромашки, тюльпаны, нарциссы — но никак не дикий, шокирующий своими иглами чертополох! Это не комильфо, это вообще переходит всякие границы!
Какой путь выбрать в обществе с его неумолимой моралью? Нравственно — быть рядом с той, которую любишь. Общепринятая мораль вещала иное. Свой ответ он выразил словами Эрга Ноора: «Я не отдам своего богатства чувств, как бы они ни заставляли меня страдать. Страдание, если оно не выше сил, ведёт к пониманию, понимание — к любви — так замыкается круг».[207]
Елене Дометьевне он был глубоко благодарен за годы, прожитые вместе, продолжал заботиться о ней. Жена тяжело переживала сложившееся положение, её гордая натура не могла смириться с тем, что она перестала быть любимой. Она ощущала правду отношений Ивана и Таси, но жестоко страдающее самолюбие не позволяло вместить в сердце картину, так явно выламывающуюся из всех рамок. Душевный бунт отнимал у неё силы, необходимые для поддержания здоровья и работоспособности.
Иван Антонович видел терзания жены, её попытки, порой трагические, гордо держать голову, но не мог позволить себе согнуться, отринуть мощную энергию жизни.
Как быть? «Только всесильная и нежная Афродита могла научить его, проведя через испытания, чтобы облагородить настоящее, смыть ложь…»[208]
Осенью 1953 года, когда Елена Дометьевна и Аллан уехали из Крыма в Москву, Иван Антонович настоял на приезде Таси на юг. Он встречает её решительным вопросом: уволилась ли она из ПИНа? Она доработала до отпуска, но пока не писала заявления: в отделе кадров ей предложили подумать до конца отпуска. Если решите окончательно, пришлёте телеграмму!
— Тогда идём отправлять телеграмму! — решительно сказал Иван Антонович.
Во-первых, Елене Дометьевне, знавшей о сути отношений мужа и Таисии Юхневской, было очень тяжело, и ежедневные встречи в институте, неизбежные пересуды наносили травмы обеим женщинам. Во-вторых, Иван Антонович хотел, чтобы Тася получила высшее образование. Для этого надо было сначала окончить школу, получить аттестат об окончании десятилетки.
Пока — сухой сентябрь Крыма, ветры, срывающиеся с крутых откосов к морю. Они свободно странствуют по насыщенному культурными памятниками полуострову, ощущая весёлую свободу от чинов и рангов.
Белые дороги Крыма ведут, казалось, в самое сердце истории. Величественные башни Судака — летописного Сурожа; Никитский ботанический сад с редкими породами деревьев и лестницей, обрамлённой цветами; безмятежная Ялта; зубцы Ай-Петри в небесной синеве; легендарный, опалённый пожаром недавней войны Севастополь; таинственный, спрятанный в ущелье Бахчисарай; каменные арки и подземелья Чуфут-Кале — города на плоской вершине горы, такого древнего, что следы тележных колёс глубокими колеями врезались в каменные плиты…
Дорога дарила ароматы можжевельника и сухих степных трав. Останавливаясь в понравившихся местах, наслаждались близостью, словно герои пылающего жизнью рассказа «Каллиройя».
Природа Крыма удивительно похожа на природу Греции. Такое же чистое, ласковое море, невысокие горы, белые скалы и дороги. Поездив по полуострову, Иван Антонович и Тася выбрали Уютное — маленький посёлок близ Судака, с запада от генуэзской крепости, в бухте с галечным пляжем, защищённой от сильных ветров скалистыми выступами. Там они сняли домик и провели несколько безмятежных дней. Особой радостью для Таси были наполнены походы по окрестным горам, где «на совершенно пустынном склоне берега рос её «персональный» сад — кем-то давно посаженный арчовый лес. От леска широкая поляна с правильно расставленными, действительно как в саду, кустами можжевельника бегала к крошечной бухточке с удивительно прозрачной водой, такой же зелёно-голубой, как в бухте у Нового Света». Иван Антонович называл это место «Фаютин сад» — в романе «Лезвие бритвы» он стал «персональным» садом Симы.
Однажды на берегу моря Тася бродила среди камней, ловила мидии и нашла что-то непонятное. Подоспевший Иван Антонович успел оттащить её, уже протянувшую руки, — это оказался спящий среди камней скат.
Отдохнув в Уютном, друзья вновь пустились в путь. Взобравшись по серпантину на Ай-Петри, они заночевали на самой вершине горы, обрывающейся серыми отвесами к Чёрному морю. Рассвет над морем дарил живительную радость близости с природой…
Ай-Петри также найдёт своё место в «Лезвии бритвы», в описании трёхдневного весеннего путешествия Гирина и Симы — мы узнаём в этой картине Воронцовский сад: «Первый день они провели на склонах Ай-Петри, в колоннаде сосен и цветущих ярко-лиловых кустарников, под мелодичный шум ветра и маленьких водопадов, как бы настраиваясь на тот музыкальный лад ощущений, какой получает каждый человек на земле Крыма, Греции, Средиземноморья, понимающий своё древнее родство с этими сухими скалистыми берегами тёплого моря».
Третий день герои романа провели в Никитском ботаническом саду — Сима читала Гирину наизусть стихи Цветаевой. И по сей день там, возле каскада маленьких прудов, растут исполинские платаны, ставшие ещё выше и толще, а вокруг, по крутым склонам, простирают «широкие пологи тёмных ветвей» кедры и деодары, священные гинкго и «южные длинно-иглые сосны».
Тася и Иван Антонович действительно отыскали в Никитском саду, на нижнем ярусе, дерево гинкго — загадочного потомка древних семенных папоротников, отпечатки листьев этого растения Ефремов не раз находил в Монголии.
Подобрали несколько недавно упавших семян, янтарножелтоватых, похожих на абрикосы, но пахнущих прогорклым маслом. В Москве, в комнате Таси, посадили семена в обычный цветочный горшок — и (о, чудо!) одно из них взошло. Древнейшая история Земли прорывалась в наше время, словно хотела сказать: я не исчезла, я здесь, стоит только всмотреться.
Некоторое время Иван Антонович и Тася наблюдали за редчайшим растением, а потом передали его в ботанический сад, несказанно удивив учёных столь необычным подарком и самим фактом того, что гинкго взошёл и вырос в домашних условиях. Несколько листьев сохранили, засушив между страницами книг.
Вдоволь надышавшись осенним Крымом, Ефремов телеграммой вызвал из Москвы Аллана: Иван Антонович не вполне доверял собственному сердцу, и лучше, если за рулём его сможет сменить сын. В столицу они ехали вместе, завернув по дороге в Бердянск — поздороваться с пушкой, выстрел из которой в 1916 году переполошил весь город…
После возвращения в Москву Таисия уже не ходила на службу в Палеонтологический институт, занималась самостоятельно, помогала Ивану Антоновичу в работе, перепечатывая рукописи.
Положение её в обществе было сложным: при господстве строгой, почти пуританской морали считаться подругой женатого мужчины, тем более крупного учёного, было психологически непросто. Несколько раз Тася решала уйти от Ивана Антоновича, но встречала грустный, полный благословляющей любви взгляд — и не могла расстаться.
Осенью 1954 года они вновь поехали в Крым — поездом, в дореволюционном вагоне международного класса, в купе, отделанном красным деревом. Обосновались в Гурзуфе. Посёлок и его окрестности настолько богаты достопримечательностями, что можно было часами бродить, наблюдая всё новые виды. Дом, в котором жил Пушкин, дача Чехова, дворцы русской знати, плавная дуга Аю-Дага — минералогического музея под открытым небом. Загорелые бесстрашные мальчишки ныряли в море с отвесных скал, на вершине которых можно было различить фундамент генуэзской крепости. На закате тёплым светом зажигались Адалары — скалы-близнецы, брошенные в море неведомой рукой. Их отражение дрожало на прозрачных синих волнах Эвксинского Понта.
Таисии особенно нравилось бродить по заброшенному старому парку, увенчанному кипарисами, прослеживать направление прекрасных аллей, отыскивать редкие растения и цветы. Тогда молодой женщине трудно было предположить, что впечатления тех поездок будут питать её душу всю жизнь…
В романе «Туманность Андромеды» Дар Ветер и Миико Эйгоро уплывают на одинокий пустынный островок, поднимаются на его верхушку, вдыхая терпкий запах кустов, торчавших из расщелины. В описании островка мы узнаём гурзуфские Адалары: «Грозный обрыв андезитовых скал навис над пловцами. Изломы каменных глыб были свежими — недавнее землетрясение обрушило выступавшую часть берега. Со стороны открытого моря шёл сильный накат. <…> Потревоженные чайки носились взад и вперёд, удары волн передавались через скалы, сотрясая массу андезита. Ничего, кроме голого камня и жёстких кустов, ни малейших следов зверя или человека».
Гигантская стрельчатая арка в тёмной скале, под которой ныряльщики находят статую золотого коня, тоже узнаваема: это Пушкинский грот возле скалы Шаляпина. Может быть, баснословные богатства генуэзцев, построивших крепость на неприступной высоте, подтолкнули писателя к мысли о золотом коне?
Энергия Гурзуфа, его пламенность и безмятежность отчётливо ощущаются в земных главах «Туманности».
Пожив в Гурзуфе, Иван Антонович и Тася сели на теплоход «Россия» и доплыли до Сухуми, где много гуляли по паркам.
В начале 1950-х годов у Ефремова возникает идея романа «Краса Ненаглядная», посвящённого красоте женщины и её воплощению в искусстве. Писателю роман представляется состоящим из трёх частей: древнегреческой, русской и индийской. Он погружается в изучение индийской культуры, ясно прорисовывается сюжет повести. Центральная Индия, Гималаи, побережье Шри-Ланки — всё будет сплавлено в этой новой повести. Тёмная, животная страсть — и высокое стремление к красоте, жестокость — нежность, жадность — самоотверженность, детская наивность — тысячелетняя мудрость. Мир соткан из полярностей, и в горячей природе Индии они проявляются особенно ярко. Эта часть будет называться «Там-ралипта и Тйллоттама».
Весна 1954 года запомнилась Таисии Иосифовне путешествиями в «Узкое». В этот академический санаторий путёвки были дороги, но богатая творческая атмосфера, уют и по-домашнему доброе отношение сотрудников привлекали работников академии. По Старому Калужскому шоссе надо было ехать в маленьком автобусе мимо подмосковных деревень, через просторные поля и перелески, а затем идти через поле к Небесным воротам: если смотреть от церкви, снизу, то ворота видны на фоне неба. Здесь, в усадебном доме Стрешневых, Голицыных и Трубецких, сохранялись мебель, картины и другие вещи, принадлежавшие бывшим владельцам. В санатории одновременно отдыхало около пятидесяти человек, все встречались в столовой, по вечерам в гостиной смотрели фильмы, вели оживлённые разговоры. Многие приезжали в «Узкое», чтобы работать.
Иван Антонович знал, что именно здесь, в усадьбе Трубецких, в 1900 году умер Владимир Сергеевич Соловьёв, загадавший миру загадку Софии — Души Мира, вечной женственности, объединяющей Бога с земным миром, создавший цикл статей «Смысл любви». Он писал: «Есть только одна сила, которая может изнутри, в корне, подорвать эгоизм, и действительно его подрывает — именно любовь, и главным образом любовь половая». Эта мысль Соловьёва стала наиважнейшей в новом романе Ефремова.
Иван Антонович отдавал Тасе исписанные быстрым почерком тетради. Дома она, дивясь и восхищаясь, перепечатывала[209] драматическую историю художника и танцовщицы.
Тиллоттама — апсара из древнейшего эпоса Индии Махабхарата. Имя героя эпоса носит и выдающийся гуру, к которому обращается за помощью скульптор Тамралипта. Имена эти в повести не случайны — Ефремов сосредоточенно читал переводы, сделанные выдающимся санскритологом Борисом Леонидовичем Смирновым, жившим тогда в Ашхабаде.
Борис Леонидович был одним из тех редких людей, к общению с которыми неуклонно стремился Иван Антонович. Смирнов, окончивший Военно-медицинскую академию в Петербурге, был известным нейрохирургом, знал множество языков, особое внимание уделяя санскриту. За четверть века работы над Махабхаратой сделал целую серию переводов. Из них в первую очередь были опубликованы два перевода Бхагават-гиты — литературный и буквальный, сопровождающийся подробными комментариями, в том числе сведениями о йоге с фотографиями позиций. Это была первая попытка познакомить советского человека с «чудесами Индии».
Ещё в 1920-х годах, живя в Киеве, Борис Леонидович читал лекции на тему передачи мысли на расстоянии с непосредственной демонстрацией опытов. Это стоило ему семи лет ссылки в Йошкар-Олу. Внимательный читатель повести Ефремова обратит внимание на эпизод, когда гуру Дхритараштра садится на верхушку крайней башни монастыря в Гималаях и сидит, словно окаменев. Тамралипта не понимает, почему так долго сидит йог. Он не знал, что в это же время «в далёком крутом ущелье на юго-запад от монастыря, на высоком уступе, поджав ноги, в такой же каменной неподвижности сидел молодой человек с длинными волосами, узлом завязанными на затылке». Сидящий повернул голову в сторону монастыря, где находился Дхритараштра, а затем бодро встал и стал спускаться в долину, чтобы выполнить поручение гуру.
Композиция повести подобна силовым линиям, натянутым между полюсами. Скульптор Тамралипта знакомится с Тиллоттамой, которую её возлюбленный предательски продал в храм, где она стала наложницей главного жреца. Прекрасная танцовщица страдает от внутреннего противоречия: тело её невольно отзывается на грубую и жадную страсть жреца, а душа тоскует по чистой любви.
Тамралипта, полюбивший девушку, также разрываем противоречиями: он хотел бы для неё светлой жизни, мечтал изваять по её образу статую совершенной красоты, но тёмная ревность разрывает его сердце. Он уходит в Гималаи, чтобы там найти покой, но встречает гуру, который хочет ему помочь вернуться в мир, чтобы творить.
Силовые линии Тамралипты и Тиллоттамы расходятся максимально, но в то же время зеркалят друг друга. Художник в кристально чистых Гималаях, девадаси — в грязных лапах жреца. Оба героя переживают заключение: скульптор соглашается пройти древний обряд очищения от земных мыслей и чувств в яйцеобразной камере в глубине горы; танцовщицу, сбежавшую из храма, ловит и приковывает в древней башне жрец Крамриш, чтобы подвергнуть её унизительному обряду публичного насилия. Невиданная подлость рождает в девушке сопротивление, она призывает на помощь Тамралипту, и он, добровольно заключённый вглубь горы, научившийся понимать чувства возлюбленной, улавливает её призыв. Дхритараштра снабжает ученика деньгами, верные друзья помогают освободить девушку и перебраться на остров, где их не смогут настичь преследователи.
Линии сходятся, но борение продолжается. Чтобы избавиться от терзающей его ревности, очистить чувства, Тамралипта предлагает любимой путь Тантры, в который его посвятил гуру.
Ефремов — возможно, с того дня, когда нанайские женщины на Амуре лечили его от истощения и простуды, — неизменно интересовался обрядами, корни которых уходили в глубокую древность. Тантрические обряды чрезвычайно привлекали мысль Ефремова: «Тантра — ты ведь знаешь санскрит — ткань. Ткань покрывала Майи, которую ткут от рождения до смерти все наши чувства в нашем уме, в памяти, в словах. Путь Тантры — расплести, пережить и прочувствовать все нити ощущений во всех оттенках и всех извилинах по сложным узорам покрывала Майи. Этот путь вовсе не лёгкий, он тяжёл и опасен…»
Самое важное: «Погрузившись в чувства, развивая их до крайних пределов остроты и глубины переживаний, наслаждений и ощущений, надо оставаться господином над ними».
Тантрический обряд оказывается только подготовкой к подлинному освобождению, которое приходит к Тамралипте через творчество, через служение своему народу. Вкладывая в работу всё мастерство и страсть, художник на грани нервного истощения завершает статую своей апсары.
Повесть, законченная весной 1954 года, увидела свет только в 2008 году. В начале 1960-х годов Ефремов включил эту часть, упростив и переработав её, в роман «Лезвие бритвы». Но между индийской частью романа и неопубликованной тогда повестью нельзя ставить знак равенства. «Тамралипта и Тиллоттама» — самостоятельное произведение, и некоторые вопросы, которых касается автор, больше не исследовались в его творчестве так тщательно. Среди них — вопрос мужской и женской ревности, в те годы особенно жгучий… Позже будет спокойная мудрая констатация, но сейчас у сердца — пылающее дыхание разных слоёв бессознательного. Для клинка страстей необходимы ножны тела и пояс мысли, отлитой, словно статуя, в слове.
Древнерусская часть «Красы Ненаглядной» — «Дети росы» — виделась Ивану Антоновичу как повесть о нашествии Батыя, в 1240 году разорившего стольный град Киев. Иван Антонович обсуждал сюжет с другом Валентином Дмитриевичем Ивановым, который в эти годы обдумывал свой первый исторический роман «Повести древних лет».
Византийство, припорошенное золотой пылью роскошного увядания, оказало на политическую и культурную судьбу Древней Руси поистине трагическое влияние: «отравленная междоусобицами, накопившая разрушительный опыт политических интриг, Византия передала своё наследие Древней Руси, что неизбежно ослабило её перед монгольским нашествием, распылив её национальный дух».[210] Позже Ефремов напишет об опасном наследии умерших цивилизаций, могущих отравить того, кто слепо принимает их мнимую мудрость.
Монголы взяли богатый полон; женщин и мужчин, как скот, погнали в степи, на родину завоевателей. Юноша-ремесленник, безмерно любивший свою невесту, теперь горькую полонянку, отправился на поиски девушки. Он искал свою мечту много лет, скитаясь по неимоверно опасным путям и горным тропам Азии. Увы, Ефремов не успел написать этой повести.
Один из мотивов «Детей росы» прозвучал в «Лезвии бритвы»: рассказ Анны о беге по росным травам — один из самых выразительных эпизодов романа.
Мелодия «Красы Ненаглядной» вплелась в роман Иванова «Русь Великая», в повествование о судьбе князя Ростислава, самовольно севшего в Тмутаракани. Любит Ростислав женщину, которую русские зовут Жар-птицею. Полюбил местный боярин Туголук найденную в древнем кургане статую, нагую, изваянную в незапамятные времена из белого мрамора в полный рост. Восклицает писатель:
«Эх ты, Краса Ненаглядная! И врагами до гроба ты можешь нас сделать, и друзьями навек свяжешь, дав тебе послужить. Как же ты велика, если в тебе вся наша жизнь может вместиться и жить без тебя нам нельзя! И вот ведь чудо-чудное: чем сильнее у человека душа, тем и власть твоя сильнее, Владычица. Над мелкими мала власть твоя, они довольствуются кусочками от ноготков твоих, которые ты безразлично теряешь. Ты же в людской океан мечешь крупноячеистые сети и добычу берёшь по себе. Почему так установлено? Не нам, видно, судить тебя.
Но замечать нам позволено: худо там, Владычица, где нет твоей власти, где, не зная тебя, поклоняются змеям, уродам, чудовищам с развёрстыми пастями. Там не жди добра. Там цены, меры, обычаи опасны и нам, и уродопоклонникам».
…В декабре 1954 года Иван Антонович уехал в дом отдыха в подмосковное Болшево. Таисия приезжала к нему, но Иван Антонович просил её оставаться дома: погода морозная, темнеет рано, а добираться от станции к дому отдыха довольно далеко. Тася слушалась своего любимого друга, но однажды что-то торкнуло в груди, заставило быстро одеться, помчаться на станцию. В доме отдыха она узнала, что Ефремову стало плохо с сердцем, он в изоляторе. Больного отправили на лечение в Москву.
И тогда Тася вошла в дом в Спасоглинищевском переулке — поучившись в медицинском училище, она обладала навыками ухода за больными, а Елена Дометьевна должна была ежедневно присутствовать в институте и ухаживать за мужем не могла. В часы, когда больному было лучше, он, обложившись дневниками, диктовал очаровательной машинистке вторую часть «Дороги ветров» и многочисленные письма. Посетителям Иван Антонович представлял Тасю своим секретарём. Спокойно и доброжелательно смотрели на гостей большие глаза молодой женщины; скромное обаяние, приветливость и умение легко и весело выполнять самую трудную работу сделали её необходимой в доме.
Лето 1955 года провели вместе, снимая дачу в Мозжинке у академика И. М. Майского. Врачи запретили Ефремову водить машину, но разрешили поездку в Крым.
Светлый сентябрь Коктебеля словно оживлял её больного друга. В бухте с драгоценным песком, над которой возвышается гора с могилой поэта, он отчётливо увидел свой путь — путь к принципиально новому фантастическому роману. Он назовёт его — «Туманность Андромеды». И опишет свои ощущения — тогда, в Коктебеле, после вынужденного (временного, как думал он тогда) расставания с Палеонтологическим институтом:
«Море, тёплое, прозрачное, едва колыхало свои поразительно яркие зелёно-голубые волны. Дар Ветер медленно вошёл по самую шею и широко раскинул руки — старался утвердиться на покатом дне. Глядя поверх пологих волн на сверкающую даль, он снова чувствовал себя растворяющимся в море и сам становился частью необъятной стихии. Сюда, в море, он принёс давно сдерживаемую печаль. Печаль разлуки с захватывающим величием космоса, с безграничным океаном познания и мысли. Теперь его существование было совсем другим. Возраставшая любовь к Веде скрашивала дни непривычной работы и грустную свободу размышлений отлично натренированного мозга. С энтузиазмом ученика он погрузился в исторические исследования. Река времени, отражённая в его мыслях, помогла совладать с переменой жизни. <…> Как в огромности моря, в величии земных работ собственные утраты мельчали. Дар Ветер примирялся с непоправимым, которое всегда наиболее трудно даётся смирению человека…»
После перенесённых вместе испытаний расставание стало немыслимым. Чтобы прекратить кривотолки, Иван Антонович решил, что Таисию он будет представлять посторонним как свою приёмную дочь. Он действительно во многом заботился о ней как о дочери, обеспечил возможность окончить десятилетку.
Позже Таисия хотела поступать в историко-архивный институт. Но при медицинском обследовании ей не дали нужной справки: врачи обнаружили у неё изменения глазного дна, которые неминуемо бы переросли в болезнь при работе в архивах.
Следует отчётливо понимать — вокруг Ивана Антоновича было немало женщин. Однако любить такого титана — особая судьба, не каждая женщина к этому расположена. Только одна оказалась готова к полному сплетению судеб, явив этим великое женское искусство хранительницы и вдохновительницы. Ефремов превосходно понимал уникальность ситуации и ценил подругу как великий дар судьбы.
…Мы пишем эти строки в 2012 году, через 40 лет после того, как Ефремов ушёл из этой жизни. Четыре десятилетия Таисия Иосифовна хранит память о своём муже, заботится об издании архива. Она посвятила свою жизнь Ивану Антоновичу, став для него и опорой, и путеводной звездой. Через неё доходит до нас свет растаявших лет.
Глава восьмая ЧЕРЕЗ ТУМАННОСТЬ ПО ЛЕЗВИЮ (1956–1962)
Познавая себя, человек познаёт Вселенную. То, что в одном веке считают мистикой, в другом становится научным знанием.
ПарацельсВпереди будут миллионы и миллиарды молний, которые заставят отступить бесконечную ночь и, сливаясь воедино, придадут мощь бессмертия череде познающих Вселенную поколений.
И. А. ЕфремовЗвёзды Мозжинки
Спелые жёлуди звонко падали в ночи на сухую землю, золотые бочонки катились по склону древнего славянского городища, замирали в ложбинках. Катились с сентябрьского неба спелые звёзды. Иван Антонович поднял бинокль, привычно разыскал на небосклоне туманность Андромеды.
Вот и осень — обняла землю, запеленала Москву-реку своими туманами, подсинила небо, высветила каждый колосок на полях, что окружают Мозжинку.
С весны Иван Антонович и Тася переехали жить в подмосковный Звенигород, в академический дачный посёлок Мозжинка. Нет, своей дачей Ефремов не обзавёлся. Он снял второй этаж у академика Ивана Михайловича Майского. Они общались уже много лет; Иван Михайлович, в 1920-х годах живший в Монголии, горячо интересовался экспедициями Ефремова, в рукописи читал «Кости дракона» — первую часть «Дороги ветров». Недавно Ефремов по его просьбе хлопотал о машинке для стрижки газонов (газонокосилки в СССР не производились). Майский, 11 лет бывший чрезвычайным и полномочным послом СССР в Великобритании, хотел устроить на своей даче английский газон.
Многое пришлось пережить Ивану Михайловичу, и казалось, что самые драматичные события его жизни уже позади. Кабинет посла ему приходилось менять не только на дипломатический вагон, но и на одиночную камеру: весной 1941 года он доставил в Москву пакет от Черчилля с поручением вручить лично Сталину. В пакете был план «Барбаросса». Добиваться встречи пришлось через Молотова, и это крайне не понравилось Берии. В итоге чрезвычайный и полномочный посол очутился за решёткой. Ничего личного, просто лёгкий шантаж. После начала войны, когда план «Барбаросса» начал действовать, Майского отпустили. Но за это пришлось заплатить обещанием — снимать для Лаврентия Павловича копии с важных документов.
Берия, который усердно пытался пошатнуть позиции Молотова, не мог оставить Майского в покое. В феврале 1953 года академик вновь был брошен в подвалы Лубянки. Допрашивал его Берия лично, вынуждал признаться в шпионаже в пользу Великобритании. Бывшему послу было почти 70 лет, и после побоев он признался в мнимых преступлениях. Ему инкриминировали статью 58 Уголовного кодекса РСФСР — «измена Родине».
Берию арестовали через четыре месяца после смерти Сталина, в июне 1953 года, и обвинили в шпионаже и заговоре с целью захвата власти. Ивана Михайловича как пострадавшего от его рук должны были отпустить, но у Лаврентия Павловича в сейфе нашли бумаги Майского и ещё два года ему пришлось провести в камере.
Агния Александровна, жена Майского, продолжала приезжать летом на дачу в Мозжинку. Соседи-академики при встречах отворачивались от неё — даже простая беседа с женой изменника родины могла быть опасной. Иван Антонович был одним из немногих, кто поддерживал с ней добрые отношения.
В 1955 году Майского выпустили и даже восстановили в партии. Иван Антонович сразу же возобновил отношения со своим старшим другом. Весной 1956 года, воспользовавшись любезным предложением хозяев, Ефремов снял у них дачу. Здесь он наконец смог погрузиться в работу над первым своим романом. В августе Майский уехал на лечение к Балтийскому морю, и дача совсем опустела. Дожди днём и ночью заливали древнюю Звенигородскую землю, сильные ветры ломали деревья, бурей повредило антенну радиоприёмника. Хозяйский пёс Пушок по ночам скулил и просился под крышу. Но в доме было тепло — грели батареи. Присутствие Таси создавало покой, столь необходимый Мастеру. Визитёры не добирались в Мозжинку, боясь плохой погоды, ничто не нарушало сосредоточенности. Когда хотелось отдохнуть, переключить внимание, Иван Антонович с Тасей ходили в клуб: там каждый вечер показывали кинофильмы, которые редко шли в массовом прокате. Особенно полюбил Иван Антонович фильм «Мост Ватерлоо» с трогательной, нежной и непреклонной Вивьен Ли.
Сосредоточенность не нарушило даже известие о смерти академика Владимира Афанасьевича Обручева, который был для Ефремова старшим другом и критиком, интересным корреспондентом и советчиком. Вот кто много успел на своём веку! Дай бог каждому прожить 92 года и оставить после себя столь богатое научное и литературное наследие.
Иван Антонович и Тася много гуляли — вдоль обрывистых берегов Москвы-реки, в полях и по лесным дорожкам, среди берёз и вековых дубов. Благодатная тишина разливалась над Звенигородской землёй. На границе XIV–XV веков в гордом городе на холмах княжил сын Дмитрия Донского Юрий Дмитриевич, князь Звенигородский и Галицкий, правил по чести, растил сыновей, построил храм, который расписывали Андрей Рублёв и Даниил Чёрный. Именно он по древнему праву и по завещанию отца должен был стать великим князем Московским в случае смерти своего старшего брата Василия. Однако митрополит Фотий пригласил его в Москву для присяги сыну Василия, и это заставило звенигородского князя начать борьбу за восстановление справедливости. Юрий Дмитриевич был умён, удачлив в сражениях, «не творил зла» жителям захваченных городов, завоёвывая их уважение. В 1433 году он первый раз занял Москву, в 1434 году пришёл в столицу во второй раз — как великий князь Московский. Здесь он и умер — скорее всего, от яда. Через века Россия пронесла наследство Юрия Дмитриевича: именно он начал чеканить монеты с изображением Георгия Победоносца, копьём пронзающего змея. Монета получила название «копейки» — от слов «копьё». Этот же символ украсил герб столицы.
Звенигородская земля, пропитанная трудом и радостью, рождала восхищение красотой природы, облагороженной человеческими руками. Может быть, потому так любил изображать Звенигород Николай Константинович Рерих, может быть, потому так хорошо работалось здесь Ефремову.
Как когда-то волей князя Юрия Звенигород соединился рублёвскими росписями с Троице-Сергиевой лаврой, так незримым мостом Мозжинка соединилась с Абрамцевом, где родился замысел новой повести, которая за лето выросла в роман «Туманность Андромеды». Почти десять лет Иван Антонович накапливал научные факты, записывал идеи, повороты будущего сюжета — «Премудрых тетрадей» становилось всё больше. Логика и проблематика повести проявились отчётливо, зримо. Сначала писатель думал озаглавить повесть «Великое Кольцо» — так он назвал союз цивилизаций разных планет, но затем центр тяжести изображения сместился: в фокусе должен оказаться человек будущего. Показать, каким он станет, — вот главная задача. Не затухание и обмельчание человечества, как в «Машине времени» Уэллса, а торжество человеческого духа в гармонии с наукой, эмоциональным богатством и физическим совершенством личности.
Фантасты, изображая будущее, вводили в свои произведения образы простака, пионера-первопроходца или чудака-профессора, неожиданно оказавшегося в новом мире. Таким образом, взгляд на общество будущего получался извне. Ефремов поставил себе задачу показать это общество изнутри, погрузить в него своего читателя, окружить реалиями коммунистического завтра. Эффект получился поразительным: не мы с наших узких позиций взираем на незнакомый мир, но свободно живут в нём герои, обращаясь мыслями к прошлому Земли в её развитии, анализируя ход истории, рассказывая об уроках инферно.
К весне 1956 года Ефремов почувствовал, что предварительная работа закончена, пора писать. В тишине весенней Мозжинки время словно придвинулось к очам, сгустилось вокруг писателя.
«…Но прежде чем на бумагу лягут первые слова, первые строчки, я должен до мельчайших подробностей зрительно представить себе ту картину, ту сцену, которую собираюсь описывать. Перед моими глазами как бы должна «ожить» воображаемая кинолента. Только когда на этой киноленте я увижу, словно воочию, все эпизоды будущей книги в определённой последовательности — кадр за кадром, — я могу запечатлеть их на бумаге. И подчас такой период эмоциональной подготовки, когда весь материал, казалось бы, уже собран, продуман, но всё никак не пишется, продолжается довольно долго. Особенно затяжным он был при создании «Туманности Андромеды».
Работа никак не спорилась, не двигалась с места. Я начал было отчаиваться: мой «экран» не вспыхивал внутренним светом, «не оживал». Однако подспудная работа воображения, видимо, продолжалась. Однажды я почти воочию «увидел» вдруг мёртвый, покинутый людьми звездолёт, эту маленькую земную песчинку, на чужой далёкой планете Тьмы, перед глазами проплыли зловещие силуэты медуз, на миг, как бы выхваченная из мрака, взметнулась крестообразная тень того Нечто, которое чуть было не погубило отважную астролётчицу Низу Крит… Фильм, таким образом, неожиданно для меня начался с середины, но эти первые, самые яркие кадры дали дальнейший толчок фантазии, работа сдвинулась с места».[211]
Иван Антонович настолько отчётливо видел астронавтов на планете Тьмы, что временами даже не успевал записывать. Стук пишущей машинки был слышен целый день, иногда выходило по восемь — десять страниц. Усталости не было — напротив, огромный приток свежих сил, удовлетворение и желание продолжать словно поднимали писателя на гребень волны. При этом детали окружающего мира, быта не исчезали из поля зрения, а продолжали оставаться отчётливыми, ясными. Ивану Михайловичу, отдыхающему на Балтике, Ефремов подробно писал о будке для собаки, о ремонте дорожки, о цементе и песке и завершал: «Дача вымыта, клубника срезана и выполота, огурцы прополоты — это то, что мне видно при прогулках. Отдыхайте и лечитесь спокойно».[212]
За три с небольшим месяца «Туманность Андромеды» была завершена. Прощаясь с осенней Мозжинкой, Ефремов написал письмо хозяевам дачи, благодаря их за приют и доброе отношение. Москва возвращала его к письмам, к палеонтологии и хлопотам о публикации новой книги. Уже с января 1957 года роман в сокращении начал печататься в журнале «Техника — молодёжи», причём тираж журнала сразу резко вырос. Мысль о межзвёздных полётах, о поразительных открытиях и гармоничных человеческих отношениях захватила сердца молодёжи, которая жила словно в предощущении чуда.
4 октября 1957 года это чудо свершилось: первый в мире советский спутник вышел на околоземную орбиту. Человек в космосе — фантастика, но вот эта фантастика приблизилась вплотную, и недолго уже оставалось до полёта Юрия Гагарина.
В 1960 году в Париже проходила ежегодная ярмарка советской книги. Переведённая на французский язык «Туманность…» по числу проданных экземпляров заняла первое место.
После «Туманности…», в 1958 году, на подъёме, на одном дыхании, Иван Антонович написал повесть о первом контакте с представителями иных планет — «Сердце Змеи». К мыслям о далёком космосе он вернётся спустя несколько лет в романе «Час Быка». Пока журналы полнятся критическими отзывами на «Туманность…», а письма читателей не умещаются в почтовый ящик — приходится ставить возле двери большущий деревянный ящик с замком, куда почтальон ежедневно приносит целые мешки писем.[213]
«Туманность Андромеды»
С древнейших времён люди задумывались об идеальном устройстве общества. Работу Платона «Государство» можно назвать первой сохранившейся утопией. Тогда это был политический трактат, во времена христианского Средневековья акцент сместился в религиозную сторону. Первую светскую утопию написал в XVI веке уникальный человек, коммунист, которого почитают в качестве святого и чей портрет висит в Ватикане, — англичанин Томас Мор.
Были другие опыты, но недостаточное понимание человеческой психологии делало их однобокими, существенно перекашивая в сторону подчинения человека обществу вплоть до полного его подавления. Некоторые примеры, как знаменитый «Четвёртый сон Веры Павловны» из романа Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать?», страдали излишней механистичностью.
Неудивительно, что глубина проблем роста цивилизации, усугублённых кровавыми войнами и угнетениями, породила явление антиутопии. После ужасов мировых войн говорить о светлом будущем стало почти неприлично. На этом фоне пророческая мощь и принципиальная новизна выстроенного Ефремовым здания особенно поражали. Ефремов сознательно полемизировал с мрачными прогнозами, утверждая творческую мощь человека и его способность выпутаться из грозных ловушек. Художник обязан показывать пути выхода из тупиков развития — таково было кредо учёного и писателя.
Французская газета «Трибюн де насьон» через два года после публикации «Туманности Андромеды» писала о романе: «Вероятно, впервые научная фантастика заинтересовалась самим человеком… «Туманность Андромеды» представляет и другой интерес. Из неё мы видим, какова цель человеческого существования после того, как исчезнут опасность войны и экономическая борьба. Это не химерические устои, а прозорливое провидение лучшего будущего».
О будущем до Ефремова писали многие, в том числе и с попытками детально описать жизнь людей совершенного общества. Например, Уэллс, Богданов или Обручев. Не говоря уже о невысокой научности таких попыток, связанной прежде всего с недостаточным уровнем науки того времени, все они обладали одной особенностью — описание производилось со стороны. Сам Ефремов вспоминал: «Я почувствовал, что могу уже что-то написать обо всём этом с определённой степенью реальности, то есть без ввода в действие простака, пионера или чудака-профессора, внезапно оказавшихся в обществе будущего. Мне хотелось взглянуть на мир будущего не извне, а изнутри».
Размышления о будущем обществе, о контакте с иными цивилизациями — внешне неожиданный скачок после «Рассказов о необыкновенном» и исторической дилогии «Великая Дуга». На самом деле всё закономерно. Ефремова интересовало прошлое, но не само по себе, а с точки зрения появления в нём ростков современного отношения к миру. В будущем же он надеялся увидеть эти ростки развившимися до своих предельных размеров. Братство людей, объединённых общим творческим поиском, преклонение перед красотой и героическая самоотверженность — вот что по крупицам искал писатель в прошлом, приветствовал в настоящем и провозвещал в будущем. Ручейки духа, сливающиеся в один могучий поток, — именно это занимало специалиста по мезозойской эре.
Это, конечно, не произвольная чудаческая филантропия учёного, уставшего от общения с пресмыкающимися. Закономерность обращения своего внимания к космосу Ефремов обосновал в статье «Космос и палеонтология», где наглядно показал глубокую связь этих, казалось бы, отдалённых друг от друга областей знания. Написание «Туманности Андромеды» стало результатом пытливой работы могучего интеллекта, сплавленного с напряжёнными духовными исканиями и хорошим практическим знанием людей и жизни.
Первое, с чем мы сталкиваемся в романе, — принципиально иные общественные отношения. Сейчас есть термин «ноосферный коммунизм», он, конечно, более точно отражает то, о чём писал Иван Антонович. Кто-то предпочитает просто говорить «высшая форма общества». Но будем помнить: слово «коммунизм» для писателя было определяющим. Недаром он даже под сильным нажимом не пошёл на то, чтобы упомянуть в книге о памятниках Марксу и Ленину. Так что дело не в конъюнктуре.
Итак, перед нами — общество будущего. Уже во второй главе мы можем узнать о нём достаточно развёрнуто из лекции Веды Конг для одной из планет Великого Кольца.
Достижения людей в технологической и научной сферах выглядят у Ефремова вторичными. Отношения между людьми — вот что интересовало писателя прежде всего. Речь его героев насыщена социологическими формулировками. Одно из главных оснований существования коммунистического общества — это отношение к труду.
«Люди поняли, что труд — счастье, так же как и непрестанная борьба с природой, преодоление препятствий, решение новых и новых задач развития науки и экономики. Труд в полную меру сил, только творческий, соответствующий врождённым способностям и вкусам, многообразный и время от времени переменяющийся — вот что нужно человеку».
При этом «в эпоху Великого Кольца считалось неполезным держать людей подолгу на одной и той же работе. Притуплялось самое драгоценное — творческое вдохновение, и только после большого перерыва можно было вернуться к старому занятию».
Веда Конг во время посещения школы рассказывает ученикам об устройстве общества, используя анатомические аналогии и подчёркивая этим единство форм на разных уровнях организации материи: «Разве это не напоминает вам человеческий мозг? Исследовательские и учётные центры — это центры чувств. Советы — ассоциативные центры. Вы знаете, что вся жизнь состоит из притяжения и отталкивания, ритма взрывов и накоплений, возбуждения и торможения. Главный центр торможения — Совет Экономики, переводящий всё на почву реальных возможностей общественного организма и его объективных законов. Это взаимодействие противоположных сил, сведённое в гармоническую работу, и есть наш мозг и наше общество — то и другое неуклонно движется вперёд».
Особое значение в будущем Ефремова придаётся молодёжи — о ней первая забота старших. Молодые люди отнюдь не предоставлены сами себе. Огромная энергия, исстари (по документам — ещё с Древнего Египта) порождающая конфликты «отцов и детей», должна быть направлена в позитивное русло. Возможно это только при полной занятости молодых людей общественно полезным трудом. Только в условиях единообразно получаемого природосообразного воспитания молодые люди не образуют агрессивные к чужакам закрытые субкультуры. Неформальные молодёжные течения всегда были формой протеста против мира взрослых, против системы самообманов, компромиссов и лицемерия. В обществе Ефремова такой протест бессмыслен, потому что условия жизни отвечают главнейшим потребностям человека и не могут нацело отвергаться психически здоровым индивидом.
(Для современного либерального сознания всякая целостная концепция, особенно идея универсальности человеческой природы, — суть тоталитаризм. Недаром один из видных идеологов либерализма Карл Поппер много времени посвятил разоблачению диалектики как методологии, основывающейся на структурной целостности мира, а Платона считал первым фашистом. В постмодерне даже минимальная причинная связь уже объявляется сковывающей свободу человека.)
Юноши и девушки помимо непосредственных наставников имеют ещё ментора — кого-либо из уважаемых взрослых, которые помогают определиться со своими предпочтениями и решить непростые вопросы самореализации.
Окончившие школу семнадцатилетние молодые люди не сразу начинают получать высшее образование — три года у них идёт пора испытаний, называемая подвигами Геркулеса. Часть подвигов назначается старшими, часть выбирается самостоятельно. Эти подвиги — серьёзная и ответственная работа, не лишённая риска, где есть возможность проявить смекалку и отвагу. (Инициация имеет огромное значение для становления личности, только в наше время личность рассыпана по времени, взрослый может демонстрировать поведение ребёнка, а ребёнок — имитировать взрослых. В итоге ничего не получается, нет полноты жизни — природа не терпит произвола. Отсутствуют объём переживаний, энергия поступка, совершённого вовремя…)
Подопечные Дар Ветра перечисляют свои первые шесть подвигов: расчистить и сделать удобным для посещения нижний ярус пещеры Кон-и-Гут в Средней Азии; провести дорогу к озеру Ментал сквозь острый гребень хребта; возобновить рощу старых хлебных деревьев в Аргентине; выяснить причины появления больших осьминогов у Тринидада и истребить их; собрать материалы по древним танцам острова Бали и восстановить эти танцы.
Взрослый человек — человек знающий, заинтересованный в плодах своей работы. Абсолютное физическое здоровье ведёт к повышенной энергии, в результате чего жизнь такого человека не может ограничиваться узкими рамками личного существования. Любой может выдвинуть какое-либо предложение, хотя бы и в масштабах всей планеты, и оно будет обсуждаться, если действительно хорошо продумано.
Умение руководить — самое насущное в таком обществе, потому что власть в нём основана не на страхе или слепой вере, но исключительно на компетентности и рациональном доверии к доказавшему свою состоятельность руководителю. Поэтому в ефремовском будущем нет убеждённых консерваторов или сторонников безоглядного прогресса. Сами принципы принятия решений здесь иные. Каждое конкретное предложение анализируется с точки зрения возрастания человеческого счастья и общего восхождения человечества. Как правило, выбираются более или менее усреднённые варианты решений. На Совете Звездоплавания Гром Орм произносит чеканную фразу: «Мудрость руководителя заключается в том, чтобы своевременно осознать высшую для настоящего момента ступень, остановиться и подождать или изменить путь».
Так и поступают. Сознательно задерживают развитие пара-психической сферы, потому что не до конца отточено психофизиологическое совершенство и опасен риск потери контроля над психикой. Отказываются от заселения планет с высшей мыслящей жизнью, пусть и не достигшей высокого уровня, потому что тогда неизбежны непонимание и насилие. Дар Ветер, олицетворяющий мудрость земного руководства, не даёт добро на проведение Тибетского опыта, ибо несколько десятилетий подготовки по меркам всего человечества не имеют значения. Но всё-таки героев этого опыта оправдывают и признают его огромное значение для науки. Отправляют поразительную по дерзости экспедицию к Ахернару — основывать первую колонию в глубоком космосе. Провозглашают романтику научного поиска душевной основой избыточной силы общества. Известный футуролог С. Б. Переслегин удачно назвал такое общество дао-ориентированным, подразумевая отсутствие невротической гонки современности за временем.
Каков же секрет достигнутого совершенства? Спросим об этом Дар Ветра — самого любимого ефремовского героя, того, с кем он иногда отождествлял себя сам: «Совершенная форма научного построения общества — это не просто количественное накопление производительных сил, а качественная ступень». Главной задачей такого общества «стало воспитание, физическое и духовное развитие человека».
Естественно, составлять такое общество могут только люди, которые готовы принимать выверенные, продуманные решения и воплощать их в жизнь, чутко реагируя на происходящее. Люди, обладающие максимально возможной широтой взглядов и тем избытком понимания и великодушия, который не позволяет игнорировать интересы других людей и всего социума, узко замыкаться на личных желаниях и неизбежно связанных с этим личных проблемах. Недаром «чуткая внимательность ко всему была характернейшей чертой людей эпохи Кольца».
С самого начала романа мы сталкиваемся с противоречивыми ситуациями, в которые попадают те или иные герои, и слышим лаконичные формулировки, характеризующие их самих и степень их уверенности в тех, от кого зависит их собственное благополучие.
«В незапамятные времена люди могли совершать небрежность или обманывать друг друга и себя. Но не теперь!» — так утверждает Эрг Hoop, выдающийся звёздный капитан. И у нас нет причин не доверять ему.
Доверие людей будущего друг к другу действительно велико. Это правило, а не случайная проницательность в мире заблуждений, капризов и поспешных решений. Поэтому уважается воля другого человека. Подразумевается само собой, что человек принял решение обдуманное и уговаривать его изменить это решение — проявить неуважение. Так Гром Орм уходит с ответственного поста.
Герои романа ведут напряжённую творческую жизнь, никто из них не прозябает в рутине. Писатель верен учёному в себе: он знает, что психология и физиология в человеке слиты воедино. «Забота о физической мощи за тысячелетия сделала то, что рядовой человек планеты стал подобен древним героям, ненасытным в подвиге, любви и познании».
Сейчас принято называть подвигом единовременное проявление героизма, поступок, часто вызванный отчаянием, в то время как изначальный смысл сокрыт в слове «подвижничество», то есть непрерывное, насыщенное духовным устремлением делание. Единство подвига, любви и познания есть понимание огненной слитности, сплавленности того, что для нецелостной земной жизни проще в разных случаях называть различно.
Психолог Эвда Наль напоминает, что психическая сила обязательно должна порождаться сильным здоровым телом, иначе неизбежно произойдёт перекос в развитии. Ефремов утверждает непреходящую ценность античных представлений о калокагатии — единстве физической, эмоциональной и нравственной сферы человека: «Когда-то наши предки в своих романах о будущем представляли нас полуживыми рахитиками с переразвитым черепом. <…> Теперь мы знаем, что сильная деятельность разума требует могучего тела, полного жизненной энергии, но это же тело порождает сильные эмоции».
Перед нами образец диалектического противоречия, толкающего человека к развитию и совершенствованию. Наиболее полное, ёмкое выражение глубокого понимания жизни всегда называлось мудростью. Герои Ефремова определяют мудрость как оптимальное сочетание знания и чувств.
Такое сочетание касается не всякого знания и не всякого чувства. Прочувствованное знание об истинной человеческой природе есть понимание необходимости тех или иных поступков. Люди Эры Великого Кольца (ЭВК) обладают знанием о своей природе, поэтому их альтруизм взвешен и естествен, являясь синтезом изначального биосоциального альтруизма как вынужденности и последующего торжества более древнего звериного эгоизма, нынче расцветшего наново.
Поразительно изобретение писателя — Академия Горя и Радости.
Исследование проблем горя и радости в нашем обществе натолкнулось бы на ряд противоречий. Всегда ли можно верить человеку, счастлив он или печален? Можно ли говорить о высшем и низшем счастье? Можно ли через трудности и печали пройти к счастью?
Если для человека горем будет исчезновение наркотиков и алкоголя, мыльных сериалов или эстрадной тусовки, то можно ли говорить об объективности? Прежде необходимо понять человеческую природу и радость в состоянии реализации этой природы.
Одно из центральных представлений романа — это отношение человека к труду. Невозможно планировать и осуществлять великие дела, нося в себе нелюбовь к труду и постоянное желание ускользнуть от работы. Учёт горя и радости также обязателен при принятии всех важных решений. Для этого необходимы единые критерии оценки, то есть понимание объективного характера положительных или отрицательных эмоций человека.
В конце книги, когда решается вопрос о посылке новых звёздных экспедиций, привлечённый к работе эксперт Академии Горя и Радости Эвда Наль говорит следующее: «Человеческая психика устроена так, что не приспособлена к длительному возбуждению и многократному повторению возбуждения, — это защита от быстрого износа нервной системы. Наши далёкие предки едва не погубили человечество, не считаясь с тем, что человек в своей физиологической основе требует частого отдыха. Но мы, напуганные этим, прежде слишком берегли психику, не понимая, что основным средством расключения и отдыха от впечатлений является труд. Необходима не только перемена рода занятий, но и регулярное чередование труда и отдыха. Чем тяжелее труд, тем длительнее отдых, и тогда чем труднее, тем радостнее, тем больше захвачен человек весь, полностью».
Очень важно слово «расключение». Это не «отключение», не «переключение», хотя логика повествования подсказывает родство этих понятий. В литературоведении есть термин «остранение», когда привычная ситуация описывается необычным образом, что вызывает необходимую автору задержку внимания, рождает дополнительные смыслы. Слово «расключение» взято из электромонтажной лексики и означает операцию, связывающую заказчика и потребителя через подключение определённых кабелей. Применительно к человеку это может означать глубокое понимание, осмысленность всякого усилия, диалогичности искомой истины. Счастье здесь становится процессом, а не вспышкой эйфории.
Эвда Наль говорит о научной организации труда. Мы можем с вами наблюдать в историческом развитии ещё одну диалектическую триаду: «потогонная система» на грани физического истощения в эпоху классического капитализма (до начала XX века) сменилась своим отрицанием: сильнейшей эксплуатацией интеллекта и эмоциональной сферы при минимально задействованной физической активности, что мы наблюдаем сейчас, в век информационных технологий и мгновенной связи. Грубый физический стресс сменился стрессом информационным. И тот и другой игнорируют природу человека, душевно истощают работника, попавшего в своеобразное беличье колесо.
Люди Ефремова действительно мудры, они руководствуются простой и доступной истиной о том, что человек — существо двойственное. Одна часть души устремлена в будущее, другая вечно сожалеет о прошедшем. Но… «никогда возвращение не достигает цели».
Сейчас нередки попытки отождествить духовность с церковностью. Отнюдь не в игровой форме возрождаются традиционные социальные формы со всеми устаревшими обычаями и требованиями к личности. Конечно, для подлинного развития общества это недопустимо. Большая ошибка — измерять нравственность безупречностью ритуального поведения. С другой стороны, футуристическое пренебрежение к прошлому в стиле модернизированного пролеткульта (что, например, демонстрирует трансгуманизм) — гарантия хаотического будущего.
Человек — явление в природе уникальное, стоящее над ней и вместе с тем погружённое в неё. Отсюда и его пресловутая двойственность. Он должен понимать и любить жизнь природы, только это может быть основой мечты о её переустройстве. Величие ефремовского человека — в понимании ценности истоков собственного существования. Перефразируя известную максиму Циолковского: «Земля — колыбель человечества, но нельзя же вечно жить в колыбели», можно констатировать: невозможно вечно быть подвластным истокам, но осмысленное прокладывание русла будущего без них невозможно.
Люди ЭВК живут в два-три раза дольше, чем мы. Это немногословные, чуткие люди, занятые напряжённым трудом, понимающие необходимость и важность творческой романтики. Это люди, насыщенные, словно электричеством, радостной готовностью к неожиданным испытаниям и впечатлениям. Их разговоры полны значения, они учатся понимать друг друга без слов, развивая экстрасенсорную — третью сигнальную — систему. Это люди, с детства обученные диалектической философии и потому глубоко чувствующие такое понятие, как мера. Поэтому они берегутся эйфорических восторгов и, напротив, эмоциональной зажатости, скованности тех или иных проявлений. Это дружелюбные, физически сильные и красивые люди, умеющие наслаждаться искусством и умеющие напряжённо работать.
Разумеется, основы отношений в обществе закладываются с раннего возраста. Школа в обществе Ефремова играет громадную роль для становления человека. Громадную ещё и от того, что семьи в современном смысле слова в этом обществе нет. Школы разбросаны небольшими городками по всей планете, и ученики со своими наставниками живут там постоянно. Роль учителя в такой ситуации повышается многократно: «Учитель — в его руках будущее ученика, ибо только его усилиями человек поднимается всё выше и делается всё могущественнее, выполняя самую трудную задачу преодоления самого себя, самолюбивой жадности и необузданных желаний».
Насыщенность романа педагогическими идеями чрезвычайно велика, недаром его высоко оценивал замечательный педагог Сухомлинский. Входя в ефремовскую школу, мы находим там такое же открытое нелинейное пространство, как и в остальных учреждениях. Это ярко выражается даже в мелких деталях: занятия, оказывается, происходят обыкновенно в саду под деревьями, а классы необычны хотя бы тем, что в них отсутствуют двери.
Обучение разделено на четыре цикла по четыре года, и каждый цикл школа переезжает в другое место для сохранения остроты и свежести восприятия, циклы учатся изолированно друг от друга, чтобы не раздражать детей столкновением слишком различных возрастов. Однако при этом у старших ребят обязательно есть младший подопечный для облегчения работы педагогов и формирования чувства ответственности.
Занятия в каждом цикле школы чередуются с уроками труда. Что это за уроки? Мы читаем о двух занятиях: это шлифовка оптических стёкол (представляете, каково участвовать в изготовлении телескопа!) и постройка деревянного корабля по старым технологиям с последующей экспедицией в Карфаген.
В 17 лет юноши и девушки оканчивают школу и вступают в трёхлетний период подвигов Геркулеса, выполняя работу уже среди взрослых. После подвигов окончательно определялись влечения и способности. Тогда следует двухлетнее высшее образование, дающее право на самостоятельную работу в избранной специальности. За долголетнюю жизнь человек в результате успевает пройти высшее образование по пяти-шести специальностям, меняя род работы.
Ефремов писал: «Школа всегда даёт ученикам самое новое, постоянно отбрасывая старое. Если новое поколение будет повторять устарелые понятия, то как мы обеспечим быстрое движение вперёд? И без того на передачу эстафеты знания детям уходит так бесконечно много времени. Десятки лет пройдут, пока ребёнок станет полноценно образованным, годным к исполнению гигантских дел. Эта пульсация поколений, где шаг вперёд и девять десятых — назад, пока растёт и обучается смена, — самый тяжёлый для человека биологический закон смерти и возрождения».
Точнее не скажешь. Единственное дополнение, вернее, напоминание: в ефремовском обществе можно быть уверенным, что отбрасывается действительно ненужное и устарелое, потому что основа такого общества — диалектическое отбрасывание крайностей при единстве провозглашаемого и исполняемого. У нас же, как мы хорошо знаем, устарелым называется то, что не соответствует быстроменяющейся идеологии.
Главным Ефремов полагает изучение истории — не как нашего школьного предмета, представляющего, по сути, перечисление разрозненных событий, а глобальной истории, изучение причинно-следственных связей, приведших к нынешнему положению вещей.
«Мы, человечество, прошли через величайшие испытания. — Голос учительницы звенел волнением. — И до сих пор главное в школьной истории — изучение исторических ошибок человечества и их последствий. Мы прошли через непосильное усложнение жизни и предметов быта, чтобы прийти к наибольшей упрощённости. Усложнение быта приводило к упрощению духовной культуры. Не должно быть никаких лишних вещей, связывающих человека, переживания и восприятия которого гораздо тоньше и сложнее в простой жизни. Всё, что относится к обслуживанию повседневной жизни, так же обдумывается лучшими умами, как и важнейшие проблемы науки. Мы последовали общему пути эволюции животного мира, которое было направлено на освобождение внимания путём автоматизации движений, развития рефлексов в работе нервной системы организма. Автоматизация производительных сил общества создала аналогичную рефлекторную систему управления в экономическом производстве и позволила множеству людей заниматься тем, что является основным делом человека, — научными исследованиями. Мы получили от природы большой исследовательский мозг, хотя вначале он был предназначен только для поисков пищи и исследования её съедобности».
Пройти через усложнение, чтобы прийти к упрощённости… Снова мы можем видеть в действии диалектическую логику. Мельчание переживаний и их искусственность затушёвывают в человеке проявления самого главного, того, чем он отличается от животного, — творческого духовного начала. Каждый человек может заняться самонаблюдением и увидеть, как мысли липнут к вещам.
Реа разговаривает с матерью — разговаривает свободно и открыто. В ней сформировано базовое доверие к миру. Мир её принимает, ей нечего бояться, она не знает, что такое тупое непонимание или нарочная обида. Ефремов, современник Выготского, Макаренко и Сухомлинского, предвосхищает развитие гуманной педагогики, утверждаемой выдающимся педагогом современности Ш. А. Амонашвили. (В наши дни многие родители убеждены, что надо готовить ребёнка к «реальной жизни», чтобы он чувствовал себя в ней как рыба в воде. Но когда жизнь извращена по отношению к лучшим проявлениям, приспособленный к ней человек оказывается таким же. И рано или поздно человечество, составленное из таких адаптированных личностей, погибнет.)
«Веда Конг думала о подвижном покое природы и о том, как удачно выбираются всегда места для постройки школ. Важнейшая сторона воспитания — это развитие острого восприятия природы и тонкого с ней общения. Притупление внимания к природе — это, собственно, остановка развития человека, так как, разучаясь наблюдать, человек теряет способность обобщать».
Ещё одна диалектическая формулировка мастера. Неудивительно, что в среде современной постмодернистской интеллигенции с её полностью порушенными связями с миром природы нередка фраза, ставшая слоганом и одновременно диагнозом: «Я, разумеется, ни в коем случае не претендую на обобщение»…
Давайте перенесёмся к заключительному выступлению психолога Эвды Наль перед выпускниками школы:
«Семнадцать лет — перелом жизни. Скоро вы произнесёте традиционные слова в собрании Ирландского округа: «Вы, старшие, позвавшие меня на путь труда, примите моё умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь, и я пойду за вами». В этой древней формуле между строк заключено очень многое, и сегодня мне следует сказать вам об этом. Вас с детства учат диалектической философии, когда-то в секретных книгах античной древности называвшейся «Тайной Двойного». Считалось, что её могуществом могут владеть лишь «посвящённые» — сильные, умственно и морально высокие люди. Теперь вы с юности понимаете мир через законы диалектики, и её могучая сила служит каждому. <…>
Воспитание нового человека — это тонкая работа с индивидуальным анализом и очень осторожным подходом. <…>
Но вам, ещё не освободившимся от возрастного эгоцентризма и переоценки своего «я», следует ясно представить, как много зависит от вас самих, насколько вы сами — творцы своей свободы и интереса своей жизни. Выбор путей у вас очень широк, но эта свобода выбора вместе с тем и полная ответственность за выбор. <…> Горе-философы, мечтавшие о возвращении назад, к первобытной природе, не понимали и не любили природу по-настоящему, иначе они знали бы её беспощадную жестокость и неизбежное уничтожение всего, не подчинившегося её законам.
Перед человеком нового общества встала неизбежная необходимость дисциплины желаний, воли и мысли. Этот путь воспитания ума и воли теперь так же обязателен для каждого из нас, как и воспитание тела. Изучение законов природы и общества, его экономики заменило личное желание на осмысленное знание. Когда мы говорим: «Хочу», — мы подразумеваем: «Знаю, что так можно».
Ещё тысячелетия тому назад древние эллины говорили: метрон — аристон, то есть самое высшее — это мера. И мы продолжаем говорить, что основа культуры — это понимание меры во всём.
С возрастанием уровня культуры ослабевало стремление к грубому счастью собственности, жадному количественному увеличению обладания, быстро притупляющемуся и оставляющему тёмную неудовлетворённость.
Когда-то люди называли мечтами стремление к познанию действительности мира. Вы будете так мечтать всю жизнь и будете радостны в познании, движении, в борьбе и труде. Не обращайте внимания на спады после взлётов души, потому что это такие же закономерные повороты спирали движения, как и во всей остальной материи. Действительность свободы сурова, но вы подготовлены к ней дисциплиной вашего воспитания и учения. Поэтому вам, сознающим ответственность, дозволены все те перемены деятельности, которые и составляют личное счастье. Мечты о тихой бездеятельности рая не оправдались историей, ибо они противны природе человека-борца. Были и остались свои трудности для каждой эпохи, но счастьем для всего человечества стало неуклонное и быстрое восхождение к всё большей высоте знания и чувств, науки и искусства.
Эвда Наль кончила лекцию и сошла вниз, к передним сиденьям, где её приветствовала Веда Конг, как Чару на празднике. И все присутствовавшие встали, повторяя этот жест, словно высказывая восхищение невиданным искусством».
Искусству в ефремовском будущем принадлежит огромная роль, и по мере развития сюжета герои приходят к выводу, что эта роль должна быть ещё больше. Понимание процессов восприятия позволяет находить вполне определённые критерии для оценки того или иного художественного приёма: «Развивать эмоциональную сторону человека стало важнейшим долгом искусства. Только оно владеет силой настройки человеческой психики, её подготовки к восприятию самых сложных впечатлений». Говоря о современном нам всем положении дел, автор краток: «Искусство стремилось к абстракции в подражание разуму, получившему явный примат над всем остальным. Но быть выраженным отвлечённо искусство не может, кроме музыки, занимающей особое место и также по-своему вполне конкретной. Это был ложный путь». «Целесообразность и есть красота, без которой я не вижу счастья и смысла жизни. Иначе искусство легко вырождается в прихотливые выдумки, особенно при недостаточном знании жизни и истории…» Сказано поистине исчерпывающе!
Ефремов пишет о разнице между ощущением и преодолением мира в искусстве. С чуткого восприятия всё только начинается. Но внести в мир человеческое содержание, осветить творческой мыслью, увидеть темы, важные человеку и процессам его становления, — в этом будет уже преодоление, потому что мир вокруг создан до человека и живёт по своим, природным законам.
Художник Карт Сан озабочен созданием образов прекрасного, соответствующих основным расовым типам. Его поиски ведут к глубочайшему исследованию антропологического и этнокультурного материала. По сути дела, он пытается воссоздать в чистом виде те вершины красоты, что были созданы в череде сотен поколений природной жизни в разных географических условиях планеты. В своей работе он такой же учёный, как Рен Боз, только область его творчества сложнее поддаётся вербализации, воздействуя непосредственно на органы чувств.
Заметьте, речь не идёт о частных вкусах и предпочтениях той или иной эпохи; красота — как высшая мера целесообразности — объективна, и познавать её законы нужно и дблжно. Но в каждой отдельно взятой системе есть свои промежуточные идеалы, которые, в свою очередь, сольются в будущем в сияющий венец высшей гармонии.
Знаменитая танцовщица Чара Нанди, вдохновившая Карт Сана на создание «Дочери Тетиса», демонстрирует на Празднике Пламенных Чаш выдающееся мастерство, далёкое от простого технического совершенства. Именно одухотворённость тела, «способного своими движениями, тончайшими изменениями прекрасных форм выразить самые глубокие оттенки чувств, фантазии, страсти, мольбы о радости», определяется в романе признаком действительно великого мастерства.
Целая глава носит название новой симфонии, в которой композитор Зиг Зор попытался раскрыть цветомузыкальный код процесса эволюции материи на Земле. Обратим внимание: не выдумать и представить слепое наитие в качестве открытия, но понять закономерность и сознательно перевести её на язык музыки. То есть суметь сочетать в себе великое вдохновение композитора и глубокое понимание подоплёки того или иного художественного приёма. Общую черту деятелей искусства будущего и их произведений можно обозначить как активное познание и творческое преображение вселенной.
Умение понять и оценить прекрасное по достоинству, постоянная готовность восхититься подлинным искусством — всё это объединено в героях чётким пониманием природы такого искусства. Интуиция, сопряжённая с ясной мыслью; сочетание знания и чувств — невольно мы возвращаемся к мудрости как основе гармоничной жизни и правильного к ней отношения.
Говоря о науке и технике ефремовского мира, мы должны учитывать время написания романа — заря информационных технологий, время, когда только появились самые первые вычислительные машины. Не существовало ещё самого слова «компьютер». Поэтому многие технические описания могут выглядеть с нашей точки зрения достаточно архаичными. Однако с научно-теоретической точки зрения роман представляет интерес и сейчас. Для писателя была важна продуманность каждого шага в освоении мира, поэтому в его книгах невозможна произвольность научных гипотез.
Написанное Ефремовым продумано глубоко и всесторонне — в этом можно быть уверенным всегда. Пытливый ум исследователя находится в поисках ответов на разнообразные вопросы, которые стремится разрешить через сюжетную линию произведения. Его интересуют условия жизни у других звёзд, причины «красного смещения» далёких галактик, принципиальная возможность сверхсветовых скоростей… И он разрешает эти вопросы, вплетая их в повседневную жизнь и заботу будущего, «создавая» такие науки, как мега-волновая механика, биполярная математика, флюктуативная психология.
Что касается развития электроники, то Ефремов, естественно, предвидел её распространение, но никогда не сомневался, что человек должен остаться самоценным посреди хитроумных приборов. Сила электронного устройства — в колоссальной памяти и быстроте перебора вариантов. Мозг человека работает по иному принципу, и образное мышление — функция правого полушария — остаётся его прерогативой.
Ефремов не стремился поразить воображение читателей масштабами космических завоеваний человечества. Каждая звёздная экспедиция — огромное событие. Нет никаких сказочных космопортов с сотнями космических кораблей, летающих к звёздам. Эрг Hoop признаётся с горечью: «Наши полёты в безмерные глубины пространства — это пока ещё топтание на крохотном пятнышке диаметром в полсотни световых лет! Как мало знали бы мы о мире, если бы не могущество Кольца!»
Следует вообразить масштабы такого «пятнышка». Представим, что расстояние от Солнца до Земли не 150 миллионов километров, а 1,5 миллиметра. Плутон тогда будет на расстоянии 5 сантиметров. До альфы Центавра будет 40 метров, до Ахернара — 650 метров, до Эпсилона Тукана — более 2,7 километра, до центра Галактики — около 250 километров, до туманности Андромеды — почти 25 тысяч километров…
Но закованность в предельную для эвклидова пространства скорость света оказывается не абсолютной. Открытие Рен Боза и Тибетский опыт дают надежду на выход за пределы закономерности, казавшейся непреодолимой. Конечно, Ефремов не мог математически описать процесс проникновения в тайны сверхсветовой скорости, он мог только дать такой возможности философское обоснование. Репагулярное исчисление — математическое исследование момента предельных значений и перехода в иное качество. Искомое «гиперпространство» не появляется непонятно откуда, автор старается максимально подробно восстановить логику мысли, хотя бы на чисто умозрительном уровне. В результате создаётся ощущение совершаемого на наших глазах открытия, логика Рен Боза доступна и увлекает своей подчинённостью простым и ясным законам диалектики.
Уровень научных исследований во многом зависит от соответствующих приборов. Об уровне науки косвенно можно судить по этим самым приборам. Памирский и Патагонский радиотелескопы у Ефремова имеют диаметр 400 километров. Современная система из двадцати семи крупных радиотелескопов в Нью-Мехико имеет величину диаметра 27 километров.
Ефремов наделяет своих героев длинной жизнью без отупляющей старости, и тут интересно поразмышлять над следствиями сосуществования шести-семи поколений.
Помимо новейшей космологии, физики и биологии, в ЭВК множество других достижений. Лик планеты полностью перестроен, изменён климат. Во время своей лекции по Кольцу Веда Конг подробно рассказывает о проделанном пути. Более того, в конце книги на всепланетное обсуждение выносится предложение Ивы Джан, касающееся ни много ни мало — выпрямления оси вращения Земли для улучшения климата планеты.
В последнее время резко критикуются многочисленные проекты недавнего прошлого по геоинженерии. В частности, знаменитый проект поворота сибирских рек в Среднюю Азию. Трудно сказать, следует ли нам стремиться к настолько преображённой биосфере. Можно попробовать вообразить впечатления жителя Древней Руси, узнающего о транспортной проблеме Москвы XXI века и необходимости финансирования дополнительных веток метро.
Быт героев романа нельзя назвать высокотехнологичным. С другой стороны, его простота и второстепенность по сравнению с общественной составляющей жизни не предполагают сложных технических приспособлений в личном пользовании. Транспорт общедоступен, но и здесь сказывается логика писателя: «Строение не может подниматься без конца». Скорость движения поездов по Спиральной Дороге ограничена 200 километрами в час, и в этом есть особый смысл: нервическое стремление поскорее достигнуть места назначения отсутствует, а на высокой скорости непросто любоваться окрестными пейзажами. Таким образом, Спиральная Дорога служит созерцательным медитациям людей, любящих природу и умеющих ею восхищаться, отвлекаясь от выполнения сложной и ответственной работы.
Уже 408 лет Земля участвует в общении с другими цивилизациями. Изначально Ефремов отодвигал время действия романа на две-три тысячи лет, но в хронологии, тщательно написанной в процессе создания «Часа Быка» и скоррелировавшей григорианский календарь, календарь Калачакры и его собственные Века и Эры, многие даты можно восстановить с точностью до года. Согласно этой хронологии, события романа происходят в 3233–3234 годах.
Великое Кольцо — мечта и провидение Ефремова. Нет больше авторов, которые с такой силой утвердили бы огромную важность космического братства разумных существ и столь законченно нарисовали бы его. Сам писатель хорошо понимал условность изображения Кольца, определяя себя как человека, делающего первый шаг в этом направлении. Но спустя несколько десятилетий некоторые астрономы, например, И. С. Шкловский, стали отрицать возможность существования разума во Вселенной помимо Земли, основываясь на отсутствии поступления из космоса упорядоченных радиосигналов. Подобная логика изумляет зацикленностью на техническом уровне настоящего времени. Идентичным образом Французская академия наук в XVIII веке отрицала возможность падения на Землю метеоритов на основании непреложного, как тогда казалось, факта, что камни с неба не падают. Если бы людей того времени занимала возможная обитаемость космоса, то логично было бы напомнить оптимистам, что на Землю не прилетали инопланетные почтовые голуби.
Вся эволюция совершается посредством качественных переходов, устраняющих недостатки предыдущего этапа, и, казалось бы, учёные должны первыми осознавать положение дел. Но этого не происходит. Сейчас тем не менее существует интереснейшая гипотеза галактического культурного поля, созданная физиком и эволюционистом А. Д. Пановым. Она напоминает объединение идей Великого Кольца и вселенской ноосферы. Интересно, что именно «Туманность Андромеды» в своё время вдохновила учёного на глубокий интерес к физике.
Ефремов хорошо понимал ограниченность современной ему науки, и высказывания его порой были нелицеприятны. Так, в одном из писем он говорит про написанное им предисловие к книге Артура Кларка «Космическая одиссея 2001 года»: «Даже если бы Келдыш узнал, что его наука убога и существует иная, настоящая,[214] то счёл бы автора [предисловия] за сумасшедшего или опасного маньяка».[215] Недаром про себя он говорил как про доктора науки, подразумевая под наукой свободное и внимательное исследование окружающего мира, а не ограниченные во времени парадигмы и методы конкретных дисциплин.
«Сообщения для разных планет всегда читали красивые женщины. Это даёт представление о чувстве прекрасного обитателей нашего мира, вообще говорит о многом» — в этом мы видим ещё одно преломление целостного ефремовского подхода. Обмениваться можно и технической информацией, Ефремов полагал, что в реальности так поначалу и будет; но эстетическое освоение инопланетного разума не менее важно.
Жизнь в космосе мыслится писателю преимущественно белковой, но меры предосторожности, необходимые для контакта, должны быть велики. Мы узнаём, что на Земле долго шла и лишь недавно завершилась подготовка к приёму гостей с ближайших населённых звёзд. Эпсилон Тукана — особый сюжет книги. Внезапный приём поразительного сообщения с далёкой планеты стал катализатором ряда процессов.
«Отблески лучей окаймляли контуры медных гор серебристо-розовой короной, отражавшейся широкой дорогой на медленных волнах фиолетового моря. Вода цвета густого аметиста казалась тяжёлой и вспыхивала изнутри красными огнями, как скоплениями живых маленьких глаз. Волны лизали массивное подножие исполинской статуи, стоявшей недалеко от берега в гордом одиночестве. Женщина, изваянная из тёмно-красного камня, запрокинула голову и, словно в экстазе, тянулась простёртыми руками к пламенной глубине неба. Она вполне могла бы быть дочерью Земли — полное сходство с нашими людьми потрясало не меньше, чем поразительная красота изваяния. В её теле, точно исполнившаяся мечта скульпторов Земли, сочеталась могучая сила и одухотворённость каждой линии лица и тела. Полированный красный камень статуи источал из себя пламя неведомой и оттого таинственной и влекущей жизни».
Наблюдение за прекрасной инопланетянкой рождает чеканную формулу: «Чем труднее и дольше был путь слепой животной эволюции до мыслящего существа, тем целесообразнее и разработаннее высшие формы жизни и, следовательно, тем прекраснее». Далее происходит короткий диалог, который можно назвать программным для понимания экзистенциальной драмы всей эпохи:
«— Неужели они ничего не знают о Великом Кольце? — почти простонала Веда Конг, склоняясь перед прекрасной сестрой из космоса.
— Теперь, наверное, знают, — отозвался Дар Ветер, — ведь то, что мы видим, произошло триста лет назад.
— Восемьдесят восемь парсек, — пророкотал низкий голос Мвена Маса. — восемьдесят восемь. Все, кого мы видели, давно уже мертвы.
И, словно подтверждая его слова, видение чудесного мира погасло, потух и зелёный указатель связи. Передача по Великому Кольцу окончилась».
Мвен Мае размышляет, что создание Великого Кольца — это победа над временем, но всеми своими поступками опровергает это. Это лишь демонстрация того, к чему надо стремиться. Победа над временем и пространством вырастает из Тибетского опыта, из первого прикосновения к нуль-пространству — не в информации, идущей сквозь тысячелетия, но в живом осязательном чувстве.
Включённость в Великое Кольцо открывает громадные перспективы для земного человечества, распахивает и оживляет пространство космоса. Но не случаен факт, что сверхцивилизации галактического ядра никак не проявляют себя, хотя уж им-то наверняка известны способы сверхсветового общения. Всему своё время и место, а история склонна повторяться. Каждый должен проходить свой путь развития, и если он плодотворен, то открытое вмешательство могущественного разума только нарушит естественный ход эволюции.
Любая система развивается, проходя череду столкновений противоположных сил, которые в обществе называются конфликтами. Стараться избежать их бессмысленно, необходимо направить эту энергию в плодотворное русло.
Такие конфликты происходят и в гармоничном обществе ефремовского будущего, но их спектр сдвинут. Основные противоречия перенесены на процессы овладения тайнами природы, а не самоутверждения перед другими людьми. Эрг Hoop много лет носит в себе мечту о прекрасных планетах Веги, Мвен Мае безоглядно устремлён в ещё более далёкий мир Эпсилона Тукана. Сама жизнь доказывает этим незаурядным людям незрелость их мечтаний.
Вторая сторона медали, искренняя устремлённость, порождённая творческим воображением, — самоценна. В истории с «Парусом» она оказалась чрезмерной, но это частный случай, в большинстве других ситуаций ведущий к победным открытиям. Дерзкая увлечённость и готовность к самопожертвованию — это и есть ярое преодоление апатии и унылого скепсиса — энтропии человеческих душ.
Примерна такова же психологическая проблема африканца. Обоих героев возвращает к радости жизни любовь. Прежде весь устремлённый в недоступную даль девяноста парсек, Мвен Мае понял, что в необъятном богатстве красоты земного человечества могут вырасти цветы, столь же прекрасные, как и бережно лелеемое им видение далёкой планеты.
Но стала ли от этого напрасной их романтическая тяга к дальним мирам? Может, как раз благодаря этой ещё юношеской тяге оба героя стали участниками серьёзных открытий, пусть их внутренняя жажда великого переворота жизни и осталась неисполненной. Безоглядная романтика ушла, но собрала свой урожай достижений. Энергия творческого поиска никогда не пропадает втуне, даже если изначально был выбран неверный путь. Главное, чтобы вовремя произошло осознание.
Серьёзная дилемма стоит перед всеми людьми эпохи. Центральный вопрос человеческого существования — продолжительность жизни. Люди живут более 150 лет, но понимают, что сами укорачивают жизнь нервными и эмоциональными перегрузками, неизбежно сопутствующими любой творческой работе. Однако их выбор осознан. «Смерть страшна и заставляет цепляться за жизнь лишь тогда, когда жизнь прошла в бесплодном и тоскливом ожидании непрожитых радостей, — задумчиво произнесла Эвда Наль, невольно подумав, что на острове Забвения люди живут, пожалуй, дольше».
Остров Забвения — ещё одно противоречие, своеобразный «клапан» описываемого общества. Люди живут там натуральным хозяйством как много веков назад, они отказались от энергичного и динамичного существования. Они живут дольше, но что стоит длительность их жизни в череде единообразных годовых циклов? Жизнь для себя бедна и узка.
Одна из периодически всплывающих проблем ефремовского общества — вопрос материнства. Дети после года воспитываются не в отгороженных от общества семьях, сковывая население планеты и его энергию, а в специальных группах, которые ведут профессиональные педагоги. Веда Конг говорит: «Одна из величайших задач человечества — это победа над слепым материнским инстинктом. Понимание, что только коллективное воспитание детей специально отобранными и обученными людьми может создать человека нашего общества. Теперь нет почти безумной, как в древности, материнской любви. Каждая мать знает, что весь мир ласков к её ребёнку. Вот и исчезла инстинктивная любовь волчицы, возникшая из животного страха за своё детище».
Остров одиноких матерей — для тех, кто, несмотря ни на что, решил воспитывать своего ребёнка самостоятельно. Такова обратная сторона общественной дисциплины и условий существования подавляющего большинства людей. Можно увидеть в двух этих островах место ссылки, очаги подавления свободы. Можно задуматься о том, что вся инфраструктура общества, включая детские учреждения и места работы, географически и транспортно несовместима с индивидуальной семейной жизнью или жизнью вне общества. За много столетий такое серьёзное социальное изменение могло произойти постепенно, без потрясений и борьбы — просто благодаря пониманию очевидного преимущества. На этом фоне восклицание: «Я не люблю ефремовское будущее, ведь там отнимают детей у родителей или отправляют их в ссылку!» — выглядит болезненным преувеличением.
Можно вспомнить высказывание Грома Орма: «Мне неясны многие обстоятельства, и я воздерживаюсь от суждения».
Люди будущего готовы анализировать собственные действия и давать им самую жёсткую оценку. Так, Мвен Мае, размышляя на острове Забвения о мотивах своего трагического поступка, задумывается, не является ли он «быком». Дальше идёт пояснение: «Бык» — это сильный и энергичный, но совершенно безжалостный к чужим страданиям и переживаниям человек, думающий только об удовлетворении своих потребностей».
Принимая ответственные решения по оценке того или иного действия другого человека, ефремовские люди отвергают поспешность суждений и высказывание этих суждений на фоне негативных эмоций.
«Прежде люди часто не умели взвесить реальную ценность своих дел и сопоставить её с вредной оборотной стороной, которой неизбежно обладает каждое действие, каждое мероприятие. Мы давно избавились от этого и можем говорить лишь о действительном значении поступков».
Ефремов подчёркивал отличие людей будущего от нас с вами. Их радости и горести не будут похожи на наши, — утверждал он. Теперь, когда история делает первые шаги к подлинному пониманию особенностей исторической психологии, мы можем с уверенностью сказать, что так оно и должно быть. Кардинальное отличие людей будущего от людей всех предыдущих эпох заключается в том, что они будут максимально приближены к подлинной реальности — в противовес изменчивым идеологиям и эстетикам прошлого. Ведь и сейчас, несмотря на резко возросшее за последние десятилетия техническое совершенство, информационно объединившее всю планету, мы погружены в мифы, что хорошо понимают создатели таких фильмов, как «Матрица», «Начало» или «Облачный атлас». Навязчивое стремление видеть в иной эпохе или культуре «неправильную» свою — огромная ошибка. Идеализация координатной сетки смыслов — лишь разновидность системного нарциссизма, ведущая к краху.
Многие истины просты и ясны, но они отвергаются или замалчиваются, ибо открытое признание всей хрупкости нашей жизни означало бы обязательную перестройку сознания. Такую перестройку, когда люди не будут скрывать свои истинные чувства, боясь насмешки. Напротив, дружеская помощь всегда будет наготове, потому что великая нервная чуткость на базе общей доброжелательности приведёт к способности мгновенного распознавания, а в жизни человека не останется минут слабовольной бездеятельности, апатии или истерической впечатлительности, разрушающей интересы дела.
Образец тонкого взаимодействия людей показывает такая сцена:
«Дар Ветер спохватился, нервная реакция сделала его многословным. Излишества речи в Эру Великого Кольца считались одним из самых позорных недостатков человека, и заведующий внешними станциями умолк, не закончив фразы.
— Да, да! — рассеянно отозвался Мвен Мае.
Юний Ант уловил нотку отрешённости в его голосе, замедленных движениях и насторожился. Веда Конг тихо провела пальцем по кисти Дар Ветра и кивнула на африканца.
«Может быть, он чересчур впечатлителен?» — мелькнуло в уме Дар Ветра, и он пристально посмотрел на своего преемника. Но Мвен Мае, почувствовав скрытое недоумение собеседников, выпрямился и стал прежним внимательным знатоком своего дела».
Понимание себя обязательно взаимосвязано с общей проницательностью. Мельчайшие нюансы поведения не остаются незамеченными. Но люди Ефремова не только проницательны, они ещё и тактичны.
Жизнь выстроена в соответствии с постоянно уточняющимися законами социального и психологического развития. Соответственны и отношения между людьми, созидающиеся на основе всеобщей уравновешенности, стремления к красоте и знанию. Нам, живущим в труднейшую эпоху, непросто встать на уровень таких людей. Но иметь перед внутренним взором пример чистоты и искренности отношений — значит приближать его торжество уже здесь и сейчас.
Дар Ветер полюбил молодую археологиню. Её собственный избранник в многолетней звёздной экспедиции, и неизвестно, вернётся ли из неё. Влюблённых разлучила не война или стихийное бедствие. Эрг Hoop улетел на много лет по своему выбору. Но Дар Ветер считает неуместным открыто выражать свои чувства, угнетая психику любимой женщины, тем более настойчиво добиваться взаимности. Узнав о возвращении Эрга Ноора, он принимает решение уехать.
Обратим внимание на поведение Рен Боза. Несмотря на всю свою гениальность, он, пожалуй, наименее гармоническая личность. Привыкший к абсолютным абстракциям сверхвысшей математики, которые непросто бывает выразить словом, он плохо понимает складывающиеся вокруг взаимоотношения. Он чувствует это, отсюда и его застенчивость и боязливость перед наиболее полным выразителем мира эмоций — Чарой Нанди. Недаром он сторонится её. Но в то же время, опасаясь упустить шанс быть приобщённым к этой неподвластной ему силе, хищно хватается за предложенную Эвдой руку, как за соломинку, — ведь Эвда Наль сочетает в себе абстрактное знание (и этим понятна Рену) с богатым миром эмоций. Он словно боится опоздать из-за постоянных сомнений относительно правильности того или иного поступка, которые более остальных должен продумывать.
Не будем забывать, что это актуально лишь по меркам таких людей, как главные герои книги — люди выдающиеся даже в своём времени. После Тибетского опыта Рен Боз легко мог сослаться на энергию нетерпения Мвена Маса, благо общественное мнение было к этому расположено. Он, однако, полностью оправдал Заведующего Внешними Станциями, обратив внимание людей на те моменты, которые могли быть понятны только большому учёному.
Дар Ветер оказывается в высшей степени благороден. Ему можно поставить в вину, что он переложил на любимую женщину бремя выбора, но этим же он проявил глубокое уважение к её способности принимать ответственные решения.
«Он проснулся с ощущением утраченной прелести мира. Веда далеко и будет далеко теперь, пока… Но ведь он должен ей помочь, а не запутывать положение!»
В этом «пока» скрыта вся надежда Дар Ветра. И он понимает, что если Веда поддастся его чувствам, то её выбор будет зависим. Женщина поймёт это, как поймёт и свою связанность в данной ситуации, а после тень вынужденности будет омрачать любое её решение.
Важно не только это. Позже мы узнаём, что любовь к Эргу Ноору у Веды прошла, будучи увлечением молодости, однако до возвращения экспедиции она считает себя не вправе отдаться новому чувству. Не проще ли было объясниться с Дар Ветром до прилёта Эрга Ноора, не мучиться самой и не мучить неизвестностью друга?
Точных ответов здесь быть не может. Возможно, Веда боялась опустошения чувства, на которое наложен запрет, и потому сохраняла видимость неясности. Или действительно была не уверена в том, как воспримет возвращение Эрга. Не забудем о реплике Эвды, где единственный раз во всей книге содержится упоминание о том, что Дар Ветер привлекает и её. Поэтому вопрос к Веде о её отношениях с Ветром — не праздное любопытство. Эвда не желает усложнять ситуацию появлением «четвёртого угла», тем более что её собственное чувство не определено столь чётко. Но решение далось Веде непросто.
Знаменитая артистка Чара Нанди обнаруживает немалую чуткость, когда прерывает пение, уловив переживания Веды, выходящие за рамки ожидаемого. Чара отнюдь не упоена славой и постоянным успехом. Доверчивая открытость к миру и внимательность к переживаниям других людей в ней, может быть, не меньше, чем в строгой и дисциплинированной Эвде Наль.
Сама Эвда, знаменитый психолог, вдруг потянулась к полудетской фигуре великого математика, признавшись Веде, что относится к нему не иначе как к ребёнку. Быть может, ей лишь Дар Ветер был бы под стать. Но Рен Боз — оригинальный и потому плодотворный выбор. Он всё-таки гений, человек выдающийся и неординарный.
Прочитаем важную сцену в Совете Звездоплавания:
«Гром Орм заметил красный огонь у сиденья Эвды Наль.
— Вниманию Совета! Эвда Наль хочет добавить к сообщению о Рен Бозе.
— Я прошу выступить вместо него.
— По каким мотивам?
— Я люблю его!
— Вы выскажетесь после Мвена Маса.
Эвда Наль погасила красный сигнал и села».
Как расценивать этот эпизод? У великой Эвды сдали нервы и она готова броситься бессвязно лепетать на Совете Звездоплавания о своих личных переживаниях? Нет — и это очень показательный момент. Её аргумент принимается во внимание прежде всего потому, что люди ефремовского будущего любят человека, а не выдуманный образ. Тогда любовь — наивысшая степень понимания и проникновения во внутренний мир избранника. Эмпатия, как говорят психологи. Заявляя о своей любви, Эвда Наль заявила о своей особой причастности к мотивам Рен Боза, на которые, кроме неё, никто пролить свет больше не сможет. Любовь Эвды Наль — достаточное основание для вывода, что мотивы эти были благородны. В своём выступлении Эвда объективна, у неё нет намерения выгородить своих друзей. «Платон мне друг, но истина дороже» — фраза известная, точнее высказаться сложно. Есть и ещё одна, менее распространённая, но, пожалуй, ещё более определённая и заострённая мировоззренчески: «Нет религии выше истины».
Соратник Рен Боза по Тибетскому опыту, Мвен Мае, по выражению той же Эвды, — «красивая комбинация холодного ума и архаичного неистовства желаний», недаром находит свою Чару. Они оба по-настоящему любят впервые и скрывать своё влечение не могут и не должны. Сомнения Чары связаны не с собственным чувством. Она опасается навредить любимому человеку, подвигнув того своей чувственной силой на недоступный для него в данный момент героический подъём. Ведь совершенно ясно, что любить Чару заслуженно может только герой. Ефремов блестяще показывает диалектику души человека будущего.
«— …Не судите его за то, что он не повидался с вами, что скрылся от вас. Поймите: каково человеку, такому же, как вы, прийти к вам, любимой, — это так, Чара! — жалким, побеждённым, подлежащим суду и изгнанию? К вам — одному из украшений Большого Мира!
— Я не о том, Эвда. Нужна ли я ему сейчас — усталому, надломленному?.. Я боюсь, у него может не хватить сил для большого душевного подъёма, на этот раз не разума, а чувств… для такого творчества любви, на какое, мне кажется, способны мы оба… Тогда к нему придёт вторая утрата веры в себя, а разлада с жизнью он не вынесет…
— Чара, вы правы, но лишь с одной стороны. Есть ещё одиночество и излишнее самоосуждение большого и страстного человека, у которого нет никакой опоры, раз он ушёл из нашего мира».
У них получилось, потому что жажда жизни и открытость всем её проявлениям была мощнее личностных недопониманий и горечи от тяжёлых ошибок. И «Мвен Мае рывком подплыл к Чаре, шепча её имя и читая горячий ответ в её ясных и отважных глазах. Их руки и губы соединились над хрустальной бездной».
А что же Эрг Hoop, знаменитый звездоплаватель? Прошло много лет, и жизненные пути определились: «Привыкшее к диаграммам вычислительных машин мышление Эрга Ноора представило себе крутую, взмывающую в небо дугу — его стремление — и парящий над планетой, погружающийся в глубину её прошлых веков путь жизни и творчества Веды. Обе линии широко расходились, отдаляясь друг от друга».
Люди будущего знают твёрдо: у серьёзных отношений должны быть глубокие основания. Любовь «вопреки» — сказка, в которой либо скрыто и не понято невежественными людьми могущественное «за», либо романтическая грёза, не приносящая ничего, кроме тяжких разочарований. Настоящим спутником жизни может быть только тот, кто готов проделать вместе путь жизни, будучи соратником, разделить душой все сложности и понять их умом. Настоящая любовь не тогда, когда двое смотрят друг на друга, а тогда, когда двое смотрят в одном направлении. Под этой мыслью мудрого Сент-Экзюпери Иван Ефремов мог бы подписаться без колебаний.
Новое чувство сначала не сулит Эргу Ноору ничего хорошего, и у него есть возможность избавиться от него. Но…
«Я не отдам своего богатства чувств, как бы они ни заставляли меня страдать. Страдание, если оно не выше сил, ведёт к пониманию, понимание — к любви — так замыкается круг».
Ефремов пишет о позитивной роли страдания. Этим он возвращает нас к закону спирального восхождения. И к отнюдь не линейному пониманию горя и радости.
Эрг Hoop и Дар Ветер… Неудивительно, что эти люди подружились друг с другом. Достоинство и свобода от мелкой обидчивости и ревности свели их вместе. Их взаимная симпатия обоснованна, потому что они — сильные великодушные люди, думающие прежде о других, нежели о себе.
Низа Крит — совсем ещё молодая девушка, но мудрая исследовательница Веда Конгтоже проникается к ней искренней симпатией. В этих отношениях торжествует главное — совместная устремлённость к познанию, а не реализация бесконтрольных страстей и тщательно лелеемых тайных желаний.
Завершить анализ романа хочется словами Веды: «Как все очень молодые, вы не понимаете, сталкиваясь с противоречиями жизни, что они — сама жизнь, что радость любви обязательно приносит тревоги, заботы и горе, тем более сильные, чем сильнее любовь. А вам кажется, что всё утратится при первом ударе жизни…»
Взгляд вечности
Поток, такой мощный и цельный на крутом склоне, в спокойном течении низины разбивается на несколько рукавов. Многолика, богата событиями жизнь Ефремова. Он ещё на временной инвалидности, официально на службу не ходит, но не оставляет мыслей о палеонтологии.
Главная цель зимы 1957 года — добиться ассигнований на раскопки пермской фауны у города Очёр. Не было сомнений, что экспедиция закончится выдающимися научными результатами. Деньги, спустя пять лет после первой заявки, наконец выдали. Пётр Константинович Чудинов, ученик Ефремова, приступил к организации раскопок. Ефремов обсуждает с ним детали, советует обращать внимание не только на кости, но и брать пробы пород, отслеживать залегание остатков, наносить на карту все находки — их положение относительно друг друга, глубину залегания. Кроме того, готовит собственные выступления, рецензирует диссертации и статьи.
Важной вехой стал доклад «О биологических основах палеозоологии». Ефремов редко выступал публично, но этот доклад прочёл дважды — в 1957 году в Москве и в 1958 году в Пекине, затем подготовил для публикации.[216] В работе указывается на исключительную, почти невероятную сложность животных организмов — этих точных и эффективных «биологических машин». Ефремов напоминает, что биологи сумели обнаружить удивительные адаптации в животном мире: ультразвуковую и электромагнитную локацию рыб, использование поляризованного света для «навигации» птиц и насекомых, сложнейшую гравитационную ориентировку, казалось бы, примитивных мечехвостов.
Каждый организм представляет собой отлаженную энергетическую систему, приспособленную к определённым условиям. Сложнейшие адаптации должны были возникать и в отдалённом прошлом. Но как их обнаружить? Можно ли познать биологию вымерших форм?
Для этого бесполезны геологические факторы. Порода, в которой сохранились остатки, не даёт ответа на вопросы взаимоотношения животного и среды обитания. Сами остатки слишком фрагментарны, чтобы только по ним судить о сложнейшем устройстве живого организма. Поможет биология. Находя аналогии между современными и ископаемыми животными, палеонтолог реконструирует не только образ жизни, но и среду обитания животного. Ефремов пишет: «В природе нет маловажного. Почти каждая особенность строения современных животных, которая будет расшифрована морфологическими и функционально-физиологическими исследованиями, означает для палеозоолога возможность проникновения в прошлое точными методами современной биологии».
В 1957 году в Москву после двадцатилетнего перерыва приехал Фредерик Хюне, с которым Ефремов ещё с довоенных времён переписывался на немецком языке. Палеонтологический музей для восьмидесятилетнего профессора — главная ценность. Именно Хюне во время фашистских авианалётов на Москву обратился к Гитлеру с просьбой не бомбить Палеонтологический музей. Патриарху науки хотелось самому прикоснуться к недавно добытым костям, и Ефремов предложил для обработки остатки ящеров-псевдозухий из Южного Приуралья.
Сотрудникам института непременно хотелось пообщаться с легендой мировой палеонтологии. Собирались после работы, за чаем, в Круглом зале музея. Высокий, худой, сутулый, с усами и клиновидной бородкой, Хюне казался молодым учёным «живым воплощением Дон Кихота».[217] Трудно было понять, как любовь к палеонтологии совмещалась у него с глубокой религиозностью. И эволюцию, и причину разнообразия органического мира он объяснял волей Творца. Общение с коллегами из-за рубежа давало новый импульс молодым палеонтологам.
В 1957 году профессор Э. К. Олсон перевёл на английский язык и издал «Каталог местонахождений пермских и триасовых наземных позвоночных на территории СССР» (с сокращениями). В этом же году Ефремову и Быстрову присудили почётный диплом Линнеевского общества (Англия) за написанную ещё до войны работу по триасовым лабиринтодонтам, найденным на реке Шарженьге. Так труды Ефремова завоёвывали мировое признание.
Иван Антонович вдвойне радовался за Быстрова: наконец Алексею Петровичу удалось добиться публикации задуманной ещё во время войны книги «Прошлое, настоящее и будущее человека».[218] Учёный мир особенно заинтересовала последняя глава, посвящённая гипотетическому скелету Homo sapientissimus. Быстров считал, что эволюция человека как биологического существа прекратилась. Антрополог Михаил Михайлович Герасимов оказался не согласен с этим мнением. Однако Алексей Петрович дал в книге тонкий и точный анализ того, каким станет человечество в будущем в связи с глобальным вмешательством в природную среду, верно очертил тенденции развития живых систем, так что книга остаётся актуальной и полвека спустя.
Летом 1957 года Ефремов ненадолго возвратился к своему старому рассказу о чайном клипере «Катти Сарк», редактировал его — в Англии корабль усилиями добровольцев был реставрирован, и это надо было отразить в рассказе. В сохранении британского парусника для потомков — немалая заслуга русского писателя.
Журнальная публикация «Туманности Андромеды» (с неизбежными сокращениями) требовала от автора постоянного внимания, шла напряжённая работа с редакторами и корректорами, вычитывание гранок. Накапливались неотвеченные письма, отложенные встречи. Сроки поджимали, и спешные дела представлялись Ивану Антоновичу морским валом, который вздымается всё выше, а пловец, увы, слабеет.
В июне Ефремов спешно заканчивает доработку «Туманности…».
Повзрослевший Аллан, переселившаяся к Ефремовым Тася — количество людей в квартире увеличилось. Отгородив шкафами небольшое пространство возле окна, Иван Антонович устроил себе кабинет, в котором едва уместились диван, массивное дубовое кресло и крошечное бюро. Кабинет походил на шкиперскую каюту на старинной бригантине. Барометр на стене словно напоминал о приближающихся бурях.
По мере публикации романа у читателей возрастал интерес к личности Ефремова, и журнал «Знание — сила» напечатал биографический очерк о нём.[219]
К середине июля срочные дела были наконец-то завершены, и Иван Антонович собрался в любимую Мозжинку. Правда, до этого он хотел нанести визит Н. Ф. Жирову, основателю атлантологии, но не успел: укладывая вещи для дачи, он поднял приёмник, чтобы погрузить его в машину, и — приступ стенокардии. Несколько дней — постельный режим, а затем, как только здоровье позволило, отъезд на дачу.
Болезнь не дала возможности полноценно пообщаться с дорогим сердцу человеком — Марией Степановной Волошиной, которая на две недели приехала из Коктебеля в Москву и остановилась у Ефремовых.
Осень принесла стране великую радость и воодушевление: советский спутник, первый в мире, совершил свой путь по орбите. Это явление заставило по-новому взглянуть на космическую тему в фантастике и придало ей необычайную популярность.
Первый спутник стартовал с космодрома Байконур, расположенного возле гор Улытау, где находятся истоки речки Джиланчик. Именно здесь в 1926 году в своей первой палеонтологической экспедиции Ефремов под руководством Баярунаса добывал кости мастодонтов-гомфотериев. Так неожиданно космос сомкнулся с палеонтологией.
Осенью в препараторскую ПИНа поступили первые монолиты с очёрской фауной. Когда Мария Фёдоровна Лукьянова, работавшая на раскопках и уже в поле очистившая первые образцы, своими умелыми руками вскрыла в монолите череп мелкого хищника, стало окончательно ясно, что перед учёными — новые, неизвестные ранее животные.
Из породы извлекли десятки костей, черепа, зубы — в основном мелких хищных ящеров. Чудинов приступил к их изучению и самого первого из исследованных ящеров назвал биармозухом — в честь легендарной страны Биармии, располагавшейся на севере Урала. Коллекция первого года составила 56 ящиков, каждый весом от 40 до 100 килограммов.
Учёные всего мира будут восхищаться уникальностью и масштабностью Очёрского местонахождения. Очёрская фауна слабо сопоставляется с другими — её в основном населяли эндемики, которые за пределами типового местонахождения не найдены.
Сотрудники ПИНа испытывали смешанные чувства по поводу превращения профессора Ефремова в прославленного писателя. Ему был выдан шуточный паспорт гражданина Великого Кольца. Детьми указаны динозавры и морфологи. В качестве прописки — главные места действия произведений. Документ, выданный «органами эволюционной безопасности», гарантировал свободу передвижения по Галактике. В стенгазете Палеонтологического института после выхода в свет «Туманности Андромеды» появилась заметка под названием «В помощь тов. Ефремову»: «В виду всё возрастающего количества имён людей будущего и неизбежно увеличивающихся трудностей по их подбору привносим посильную лепту в этот достойный удивления и преклонения труд уважаемого тов. Ефремова…»
В заметке предлагались такие говорящие имена: Лик Без — учёный, предложивший новую письменность, Вольф Рам — химик, Конт Ур — астрорадиопеленгатор, Ком Бат — военачальник, возглавивший оборону Земли от обитателей алмазной планеты, Блин Ком — его сын, неудачник, Нёс Вздор — писатель-романист, Рост Биф — повар звездолёта, Пусть Я к — важное действующее лицо… И просто имена — Вак Уум, Уж Полз, Кроха Бор.
Коллеги смеялись, но в потугах на юмор явственно слышались порой непонимание и зависть.
В декабре 1957 года Иван Антонович рассчитывал завершить окончательную подготовку рукописи «Туманности…» для отдельного издания. 16 декабря перенапряжение вновь привело к сердечному приступу, и до середины января Ефремов — на постельном режиме, после чего уехал в санаторий «Узкое». Врачей тревожило, что у больного часто повторяются ангиоспазмы. Ефремов грустно размышлял: это знак, какую-то из любимых муз надо покидать. Какую?
1958 год, надеялся Иван Антонович, станет годом его возвращения в Палеонтологический институт. Намечались продолжение раскопок в Очёре, научная поездка в Китай. Часть работы Ефремов мог легко делать дома, в своём кабинете, и написал заявление с просьбой разрешить ему свободное расписание. Орлов ответил, мол, эдак все захотят на свободное расписание. Тогда Ефремов написал свою просьбу в президиум Академии наук. Бумагу с разрешением свободного расписания президиум переслал в канцелярию института, но директор спрятал её под сукно. Иван Антонович узнал об этом много лет спустя. А пока он ждал…
Борис Павлович Вьюшков
Майские дни принесли трагедию: погиб любимый ученик Ефремова Борис Павлович Вьюшков, талантливый, влюблённый в науку исследователь, которого Иван Антонович называл «тафономом № 2» и считал главным восприемником ещё недостаточно понятой учёными тафономии.
Ученик нужен Учителю не меньше, чем Учитель — Ученику.
Ефремов вспоминал годы жизни Бориса Павловича в Москве, и горькое осознание бессилия неизмеримой тяжестью ложилось на плечи.
В его кабинете этот высокий, физически крепкий, спортивный юноша появился летом 1947 года с рекомендацией от старого товарища Ефремова, оренбургского геолога В. Л. Малютина. Он родился в 1926 году в Саратове, с детства увлекался палеонтологией, занимался в кружке юных натуралистов; этим летом окончил Саратовский университет, став геологом-нефтяником. Производственная практика позволила ему познакомиться с континентальными триасовыми толщами Оренбуржья и юга Башкирии и даже совершить первое открытие — обнаружить остатки среднетриасовых позвоночных.
Вьюшков не спеша, серьёзно рассказывал о себе, Иван Антонович внимательно изучал черты его лица, крупные, грубые, и такие же крупные кисти рук. Сильные очки — Вьюшков был демобилизован из армии по зрению. Характер, видимо, вспыльчивый, но отходчивый. Вчерашний студент стремится изучать позвоночных, но, как говаривал Орлов, «за позвоночных никто не платит». Однако разве может Ефремов, видя такое стремление к науке, отстранить от себя ученика?
Борис Павлович (именно так, по имени и отчеству, всегда называл своих учеников Ефремов) поступил в аспирантуру, через три года окончил её и, проведя несколько экспедиций, в конце 1950 года успешно защитил кандидатскую диссертацию о пронькинских тетраподах.
Став младшим научным сотрудником ПИНа, Вьюшков получил в своё распоряжение малюсенький кабинет на третьем этаже Палеонтологического музея, в комнате с низким потолком, под самой крышей. Здесь едва умещались рабочий стол, книжный шкаф и стеллажи. Он заполнил «личный листок по учёту кадров», где указал на необходимость жилья. Однако жилья ему не дали, у академии не нашлось места даже в общежитии. Шесть лет ему приходилось снимать углы, почти год он жил вовсе без прописки, ночевал на вокзалах, в собственном кабинете (что строго запрещалось) или у знакомых. Жизнь беспризорника, а не научного работника…
Ефремов хлопотал за него, но хлопоты не приносили результатов. Последнее время Борис Павлович жил в общежитии Академии наук, в комнате на десять человек. На человека с тонкой душевной организацией, нервного и впечатлительного, такая жизнь — без возможности создать семью, обрести покой после напряжённого рабочего дня — действовала губительно. (Такая же беда спустя 14 лет привела к гибели одного из самых народных лириков XX века — Николая Рубцова.)
Ефремов, по существу отлучённый от академии и ПИНа, мог только посоветовать обратиться с личным письмом к тогдашнему президенту АН СССР академику А. Н. Несмеянову. Письмо было написано в конце 1957 года. Несмеянов дал положительный ответ, но позже начали приходить отписки чиновников, бумажная волокита затягивалась до бесконечности. Сперва чиновники обещали жильё, затем формулировки становились всё более туманными, после чего последовал решительный отказ. Тогда Вьюшков ещё раз написал президенту о тщетности своих попыток решить жилищный вопрос. Он посвятил палеонтологии уже десять лет — нужен ли он науке, если о нём никто не заботится? Несмотря на его заслуги, он всё ещё оставался младшим научным сотрудником. Бездомным. Горечь и усталость прорывались даже в обычном разговоре. Когда его в марте 1958 года попросили написать автобиографию для служебных целей, он горько усмехнулся: он писал автобиографию уже 20 раз. Зачем повторяться? Кому это нужно?
Вьюшков неизменно оживлялся, когда речь заходила о палеонтологии. Он писал научные статьи и монографии, следил за всеми журнальными новостями и публикациями, писал популярные заметки, выступал с докладами в научных обществах, со всей страстью организовывал экспедиции, стремился попасть всюду, где геологи находили новые кости позвоночных. В экспедициях он словно унаследовал удачу Ефремова, добавив к ней редкую научную самоотверженность. Осенью 1953 года саратовский геолог В. А. Гаряинов нашёл на берегу реки Урал, в овраге у села Россыпное (место действия пушкинской «Капитанской дочки»), останки крупных ящеров. Захоронение находилось на самом краю оврага и могло быть смыто весенним паводком. Вьюшков узнал о находке в конце ноября, когда наступили уже зимние морозы, и рванулся раскапывать местонахождение. Ни глубокий снег, ни двухдневная метель не могли стать препятствием для молодого учёного. Ему удалось собрать уникальный материал, включая часть черепа псевдозухии — крупного хищного ящера. До железной дороги было полсотни километров, из-за снежных заносов на станцию не ходили даже трактора, и Вьюшкову с костями пришлось выбираться на санях.
На следующий год Вьюшков организовал первые в стране бульдозерные палеонтологические раскопки на реке Донгуз, притоке Урала, и у того же села Россыпное. На территории европейской части СССР, казалось, не было захоронения, которое бы он не посетил. Он уже готовил докторскую диссертацию о дицинодонтах триаса СССР, руководил курсовыми и дипломными работами студентов МГУ.
Последняя осенняя поездка Вьюшкова привела его на Большое Богдо — гору, с которой Ефремов начинал свой путь руководителя экспедиций. Вместе с аспирантом СГУ Виталием Георгиевичем Очевым и своим дипломником из МГУ Михаилом Александровичем Шишкиным 31-летний палеонтолог лазил по красным конусам и обрывам Богдо, вдыхал свежий воздух степи и на время забывал о превратностях московской жизни. Надежда на лучшее живёт в каждом человеческом сердце.
Но зима 1958 года разрушила надежду на возможное получение жилья, на спокойную жизнь, необходимую для диссертации.
М. А. Шишкин писал: «В начале мая 1958 г. я пришёл в Музей, чтобы, наконец, показать Борису Павловичу законченный текст моей дипломной работы. Дверь его кабинета оказалась опечатанной. На мой недоумённый вопрос кто-то из встретившихся мне ответил, что Б. П. Вьюшкова больше нет. Эти слова прозвучали как что-то нереальное, мой разум отказывался их воспринять.
Из того, что я в итоге узнал от сотрудников института, сохранились в памяти лишь обрывки. Накануне, вместе со своими знакомыми, Б. П. Вьюшков отмечал майские праздники в каком-то общественном месте (кажется, это было кафе). Среди других посетителей вспыхнул острый конфликт, который Б. П. Вьюшков попытался погасить. Кончилось тем, что была вызвана милиция, и она забрала всех участников происшествия, не разбираясь, кто прав, кто виноват. Нужно было знать взрывной характер Б. П. Вьюшкова, его нетерпимость ко всему, что он считал несправедливым, чтобы представить, как он должен был отреагировать. И чем это должно было для него кончиться. Согласно официальному сообщению из милиции, о котором я знаю только с чужих слов, Борис Павлович, будучи туда привезён, якобы бросился в пролёт лестницы (или из окна) и разбился насмерть. Из тех, с кем я общался, никто этому не верил.
…Через несколько дней вместе с коллективом института я участвовал в прощании с Борисом Павловичем. На его лицо страшно было смотреть, лежавший на нём грим ничего не мог скрыть. И, кажется, всё было понятно.
Насколько я знаю, никакого расследования обстоятельств гибели Б. П. Вьюшкова не было».[220]
Таисия Иосифовна Ефремова рассказывала, что Вьюшков как раз помог скрутить хулиганов, которых милиция потом отпустила.[221] Вьюшкова же, напротив, задержали. В отделении милиции, в отчаянии от мысли, что будет составлен протокол, который пошлют в институт, что устроят товарищеский суд, в те годы часто превращающийся в судилище (у него уже был один выговор с занесением в личное дело, полученный за нелепую историю в одной из экспедиций), бросился в пролёт лестницы и разбился. Он был ещё жив, когда его доставили в больницу, но спасти учёного не смогли.
Боль от осознания потери ученика, от её нелепости и одновременно неотвратимости была велика. Стрела Аримана разит лучших.
«Высокий перекрёсток»
Между тем начался второй год Очёрских раскопок. Ефремов в Очёр не выезжал — врачи разрешали удаляться только туда, где есть возможность скорейшего оказания медицинской помощи. В поле отправились два ученика — П. К. Чудинов и А. К. Рождественский, с ними были Е. Д. Конжукова и Л. П. Татаринов. В качестве рабочего взяли юного Геннадия Прашкевича, будущего писателя-фантаста.
1960 год станет третьим годом Очёрских раскопок — самых масштабных и удачных за всю предшествующую историю палеонтологии в России и СССР.
Китайцы пригласили Ефремова участвовать в организации палеонтологической экспедиции во Внутреннюю Монголию, надеясь, что он сможет быть её руководителем. Необходимость исследований в этом регионе была ясна уже в 1946 году. Болезнь помешала Ивану Антоновичу вернуться в любимую пустыню. В 1959 году руководителем экспедиции станет Рождественский. Чудинов тоже поедет на север Китая, в Южную Гоби.
Летом 1958 года Ефремов отправился в Малеевку, в Дом творчества писателей. Здесь, на берегах чистых прудов старинного Воронцовского парка, Иван Антонович подготовил прочитанный в Москве в 1957 году доклад «О биологических основах палеозоологии» для выступления в Пекине.
Писатели, отдыхавшие в Малеевке, обсуждали, помимо прочего, новый, только что вышедший роман с загадочным названием «Наследник из Калькутты». От его страниц веяло свежим ветром Буссенара, Хаггарда, Коллинза, но в то же время своеобычность книги была несомненна, её буквально расхватывали в магазинах.
Иван Антонович, слыша эти разговоры, загадочно улыбался: он из первых уст знал необычайную историю романа.
В 1954 году Роберт Александрович Штильмарк, отбывавший десятилетний срок в лагерях, ещё жил на поселении в Красноярском крае, когда его старшему сыну Феликсу чудом удалось вызволить из архивов ГУЛАГа три толстые, написанные каллиграфическим почерком тетради в обложках из синего шёлка.
Елена Робертовна Штильмарк-Володкевич, дочь писателя, рассказывала:
«Он попытался показать её [рукопись] старинной подруге своей покойной матери — известному литературоведу. Однако, увидев перед собой сына «врага народа», та в испуге захлопнула перед ним дверь… Уже весной 1954 года Феликс дал «Наследника» на прочтение своему учителю и другу, профессору университета биологу А. Н. Дружинину. И. А. Ефремов вспоминал, что однажды он позвонил Дружинину: «Александр Николаевич, дорогой, выручайте! Защищается мой аспирант, а оппонента нет и сразу не найти: поздно, учебный год кончается! Что угодно для вас сделаю!» — «Хорошо, Иван Антонович, буду оппонировать. Но я беру взятки борзыми щенками: прочитайте рукопись моего ученика». — «Присылайте, уж так и быть…» — без энтузиазма согласился Ефремов. Очень уж не хотелось писателю браться за рукопись: ему изрядно надоели «молодые таланты»… Рукопись какое-то время лежала без движения, а потом её прочёл сын Ефремова, а затем и его друзья-одноклассники. Вскоре Иван Антонович стал замечать, что лексикон мальчиков обогатился какими-то «пиратскими» словечками: «карамба», «абордаж», «одноглазый дьявол» и т. д. Затем и его жена включилась в мальчишечьи разговоры. Тогда Иван Антонович и сам взялся за чтение. Быстро «проглотил» первый том и стал с нетерпением ждать продолжения. А Феликс не торопился — Иван Антонович велел ему приходить не раньше чем через месяц. Наконец Феликс позвонил, и Ефремов набросился на него:
— Где продолжение?
Прочитав роман, Иван Антонович написал короткую, но очень добрую рецензию, послал её отцу в Сибирь, а три тома рукописи отнёс в Детгиз, в редакцию приключенческой литературы. Там рукопись приняли и отдали на рецензирование В. Д. Иванову, известному писателю, автору многих романов,[222] который написал даже не рецензию, а художественное произведение во славу «Наследника из Калькутты», страниц на семьдесят. Вторым рецензентом была критик В. С. Фраерман, жена писателя Р. И. Фраермана. Её отзыв, тоже положительный, включал и литературоведческий разбор романа».[223]
Аллан Иванович Ефремов рассказывал, что отец всегда тестировал новые рукописи на них, мальчишках — сыне и его приятеле Вале Сильвестрове по прозвищу Буйвол. Если им нравилось начало, тогда он читал приходившие ему на рецензию рукописи с вниманием. Мальчики не знали, что первая рукопись писалась на обрывках, разрезанных бумажных мешках из-под цемента на строительстве железной дороги Игарка — Дудинка — Норильск, известной сейчас как «Мёртвая дорога», что переписывал её зэк-бухгалтер, сидевший за подделку ассигнаций, а синим шёлком переплёта рукопись была обязана рубашке заключённого из Прибалтики, отобранной у него паханом.
В 1956 году автор рукописи Роберт Штильмарк был амнистирован и вернулся в Москву. Иван Антонович помогал ему пробивать публикацию рукописи, поддерживал материально — Штильмарк вернулся из Сибири с молодой женой, уволенной с работы за связь со ссыльным, и двумя маленькими детьми.
В гостеприимном — странноприимном — доме на Красной горке семья Ефремовых с изумлением и восторгом слушала рассказы Роберта Александровича. С изумлением, потому что невозможным представлялось, как в Заполярье, за колючей проволокой, на банном чердаке, а затем в избушке у склада горюче-смазочных материалов полуголодный человек по заказу уголовного авторитета сочинял феерический роман о XVIII веке, о приключениях, похищениях, сокровищах, пиратах и любви. С восторгом, потому как талант рассказчика был столь ярок, что зэки прозвали его «звонарём», по всей зоне он прославился как «батя-романист».
Однажды он с женой шёл по мосту на дачу в Купавну. Откуда ни возьмись возникли двое грабителей, стали отбирать вещи. Роберт Александрович что-то тихо сказал им, и они упали перед ним на колени с криком:
— Прости, батя!
Штильмарк пробудил дремавшее было в душе Ефремова желание написать что-то необычайное, авантюрное, азартное. Но мысль об этом пришлось пока отложить в долгий ящик: осенью ждала поездка в Китай.
В октябре 1958 года делегация советских учёных прилетела в Китай. Сильнейшее впечатление на Ивана Антоновича произвела аудитория в Пекинском университете, где он читал лекцию по палеонтологии. Огромный зал; за партами сидели студенты в абсолютно одинаковых костюмах, с одинаково причёсанными чёрными волосами и — как показалось Ефремову — одинаковыми лицами. Что-то безжалостное, почти механическое почудилось ему в этих рядах однородных людей. Именно посещение Китая сыграло важнейшую роль в создании образа планеты Торманс в будущем романе «Час Быка».
В «Лезвии бритвы» Китай проглянет своей романтической стороной — тысячи советских читателей впервые узнают из романа о существовании китайского цветочного чая «люй-ча» с ароматом жасмина, который утоляет жажду и подбодряет лучше кофе. Его пьют вместе главные герои романа — Иван Гирин и Сима.
С огромным интересом ехал Ефремов, с молодых лет увлекавшийся астрономией, на берега Янцзы, в Нанкин, где на Пурпурных горах возвышаются над городом купола обсерватории Цзыцзиньшань. Постройки обсерватории, сооружённой в 1928 году, выдержаны в стиле старинной китайской архитектуры.
На Пурпурных горах советским учёным показывали два довоенных зеркальных телескопа, сделанных в Германии. Внимание Ефремова больше привлекли старинные китайские книги и бронзовые приспособления для изучения астрономии: гномон династии Мин, альтазимут цинской эпохи и небесный глобус I века нашей эры. Небесный глобус поразил палеонтолога: на его бронзовую поверхность были нанесены узоры созвездий, которые можно увидеть исключительно из Южного полушария. Это могло означать только одно: восточные мореплаватели сумели проникнуть в южные моря за 14 столетий до Магеллана.
Получив столь мощный толчок, заработала фантазия писателя: Иван Антонович задумал рассказ «Высокий перекрёсток».[224] Писатель хотел соединить историю Китая и исследование механизмов памяти. Тема, заложенная в рассказе «Эллинский секрет», получала неожиданное развитие: мозг героя, прямого потомка отважных мореплавателей, хранит память об этом путешествии в виде едва уловимых, смутных воспоминаний. Сложным путём удаётся записать слабые импульсы наследственной памяти и расшифровать их, восстановив историческую загадку.
При написании романа «Лезвие бритвы» Ефремов вернётся к своей смелой идее, но на материале более древней истории.
Длительный перелёт, акклиматизация и реакклиматизация, множество переездов внутри Китая привели к обострению болезни. Сразу после возвращения из путешествия стенокардия разыгралась вовсю, и Ефремов выбыл из строя на долгий срок. Лишь после Нового года он встал с постели, чтобы на два месяца уехать в «Узкое».
Таисия Иосифовна в письме Дмитревским с грустью рассказывала: «Сегодня была у И. А. С 2 января он находится в санатории «Узкое». Он очень ослабел, лёжа почти 11/4 месяца в постели. Поэтому его пришлось нести на руках на второй этаж. Сейчас он уже ходит, можно сказать, ничего, но ещё с палкой и не спускается со второго этажа, а гуляет на балконе. Первые дни он очень грустил и был обеспокоен, что остался без домашнего присмотра, поэтому ездим к нему каждый день.
Со вчерашнего дня, как он сам сказал, наступил перелом в лучшую сторону. Сегодня он чувствовал себя бодрее, чем все эти дни. Очень на него жалко глядеть. Помнишь, Танюша, как мы ходили в Малеевке за грибами, делая почти по 15 км?
Ну сейчас (тьфу, тьфу, не сглазить) пока всё хорошо, я становлюсь суеверной. Вам он просил передать, что он Вас не забыл, а помнит и любит всё семейство. И обязательно, как крепче встанет на ноги, напишет обстоятельное письмо».[225]
Ефремов в ожидании ответа от президиума академии о свободном расписании не оставлял мысли вернуться в ПИН. Однако возникло неожиданное препятствие: оказалось, возвращаться Ефремову было вроде как некуда — место заведующего лабораторией занято! По традиции, существовавшей в Академии наук, заведующих лабораториями избирали на пять лет и нового руководителя нельзя было назначить — только выбрать. До выборов было ещё больше года, но на должности уже числился другой человек — 33-летний Леонид Петрович Татаринов.
Иван Антонович заявление об увольнении не писал. Ему не хотелось разбираться, как и почему это случилось, хотя ясно было, что Татаринов не мог стать заведующим без воли на то директора — Юрия Александровича Орлова.
Иван Антонович знает, куда направить свой путь. С 1959 года официально он больше не сотрудник ПИНа. Теперь главным делом его жизни станет литература. Огромный поток читательских откликов на «Туманность…» и публикация повести «Cor Serpentis (Сердце Змеи)» подтверждают правильность выбранного курса.
В 1959 году в Москву, в Палеонтологический музей, впервые приехал профессор Эверетт Клэр Олсон — он хочет встретиться именно с Ефремовым. В 1961 году Олсон второй раз приедет в СССР, и вновь их общение с Ефремовым будет плодотворным и тёплым. Двух палеонтологов свяжет не только интерес к науке, но и подлинная человеческая дружба.
В 1962 году профессор Олсон в своей сводке по пермским позвоночным составил тафономический обзор американских отложений. Благодаря этому обзору и переводу «Каталога…» тафономия стала известна среди американских палеонтологов.
«Дискуссия о колене» и её подоплёка
В середине 1950-х годов многолетние дружеские чувства Быстрова к Ефремову сменились холодом. Странная история, именуемая в дневниках Алексея Петровича «Дискуссией о колене»,[226] началась в 1955 году, когда Орлов прислал ему на рецензию рукопись о титанофонеусах. Быстров нашёл рукопись никуда не годной. Работу невозможно было исправить, её надо было писать заново — об этом Быстров и сообщил директору ПИНа настолько тактично, насколько это было возможно. Орлов отмолчался. В мае 1956 года Алексей Петрович получил письмо от Ефремова — в конверт была вложена фотография, сделанная с американской карикатуры на палеонтолога: старый учёный, похожий на Дон Кихота, едет на осле, а перед ним на дороге белеет череп единорога. Иван Антонович приписал несколько шутливо-ироничных строк.
Быстров оскорбился: он решил не отвечать, считая, что его беспощадная правка и критика орловской работы расценены как попытка «изничтожить» палеонтологию позвоночных в СССР. Однако вскоре в книге Ефремова «Фауна медистых песчаников» он обнаружил ряд ошибок. В частности, на схематичных рисунках рептилий колени были вывихнуты назад, тогда как у позвоночных колени — вперёд. Алексей Петрович воспользовался этим, нарисовав остроумную карикатуру.
Летом 1956 года он получил от Ефремова ответ — вновь фотография, на этот раз изящной девчонки в модном купальнике, и шутливая приписка про любимый профессором Быстровым вид наземного позвоночного и коленный сустав.
Алексей Петрович ответил двумя рисунками, один из которых — шутливый танец девушки и горгонопсихи — был, по его мнению, весьма язвительным. Профессор негодовал, что Ефремов считает себя гениальным и непогрешимым, и ждал от него признания собственной некомпетентности. Иван Антонович, живший в то время в Мозжинке и погружённый в работу над «Туманностью Андромеды», состязаясь в остроумии с другом, воспринимал это сначала как возможность расслабиться и пошутить.
Получив ещё раз рисунок и отправив фотографию с шутливой припиской, Ефремов через некоторое время вновь держал в руках нарисованную тушью сценку: крокодил крадёт у «пляжницы» штаны. Картинка, которая могла бы вызвать только весёлый смех, сопровождалась, однако, категорическим требованием признать в дискуссии о колене свою ошибку, иначе Быстров считает себя вправе думать, что Ефремов ничего не понимает в морфологии позвоночных.
Ивану Антоновичу стало не до шуток. Он ответил, что вовсе не защищает свою грубо и неумело нарисованную схему, что хотел посостязаться с известным остроумцем Быстровым. Но Алексей Петрович продолжал доказывать анатомическую безграмотность Ефремова. Переписка прервалась…
С тех пор прошло три года. Иван Антонович ощутил удар, когда из Ленинграда пришло известие о смерти друга. Перед лицом вечности все ошибки и недоговорённости теряли своё значение. Алексей Петрович умер 29 августа 1959 года. Шестьдесят лет — для учёного возраст, когда накопленные знания должны изливаться в мир мощным потоком. Люди должны жить дольше! Так трудно вырастить образованного, здорового человека, так много на это надо затратить сил… Люди будущего, о которых писал в последней своей работе друг, обязательно будут жить долго.
Размышляя об отношениях двух выдающихся учёных, нужно отчётливо понимать, что их дружба, длившаяся более четверти века, не могла прерваться так, как дружба гоголевских Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Чтобы понять причину их расхождения, обратимся к дневниковой записи Алексея Петровича:
«18 декабря 1955. Вот уже 25 лет как я занимаюсь научной работой.
В течение этой четверти столетия я постоянно пользовался следующими XIII-ью заповедями научной работы:
1. Не пополняй свой научный материал чужими наблюдениями, так как они могут оказаться неверными.
2. Не верь никаким авторитетам. Если ты будешь находиться под влиянием какого-нибудь авторитета, то будешь повторять его ошибки и не двинешься вперёд.
3. Не верь никому и помни, что в любой научной работе достоверно только мнение автора, а не те факты, на которые он опирается. Ты можешь сказать: «Такой-то автор, в такой-то работе, в таком-то году написал то-то» — это всё, что несомненно и достоверно в любом научном труде. Но никаким утверждениям не следует верить, а всякие наблюдения нужно проверить.
4. Не верь самому себе, так как мы часто не видим того, что не хотим видеть или не понимаем. Проверять свои наблюдения нужно долго и упорно, проверять даже тогда, когда всё кажется совершенно очевидным.
5. Никогда не забывай, что в процессе эволюции твой мозг был создан только для того, чтобы ты познавал природу. Поэтому не считай свой мозг всесильным и безукоризненным познавательным аппаратом. Memento te hominem esse (Помни, что ты человек), но не думай, что ты что-то вроде полубога. Animal es (Ты — животное).
6. Изучай всё и во всех деталях. Помни, что в природе не существует неважных или бессмысленных деталей. В природе нет ненужных мелочей.
7. Никогда не пиши о том, что кажется: сегодня кажется верным одно, завтра покажется истиной другое.
8. Когда в своей научной работе напишешь: «Всё это несомненно свидетельствует о том, что…» ит.д., то откинься на спинку стула и сделай совершенно противоположный вывод.
Во многих случаях ты легко убедишься, что «всё это» с одинаковой несомненностью свидетельствует о совершенно противоположном.
9. Считай, что ты понял изучаемое явление только тогда, когда тебе станет ясна его совершенная необходимость. Иными словами, считай явление познанным только тогда, когда ты поймёшь, что иначе и не могло быть.
10. Говори о своей научной работе со всеми, кто будет тебя слушать. Не бойся, — обокрасть тебя трудно: ты раньше закончишь свою работу, чем это сделает вор. Впрочем… для науки совершенно безразлично, чья и какая фамилия будет стоять на работе, посвящённой интересующему тебя вопросу.
11. Если ты найдёшь факт, противоречащий всем известным тебе фактам, — радуйся: ты на пороге открытия.
12. Придумывай без смущения самые разнообразные рабочие гипотезы и не падай духом, когда они будут лопаться, как мыльные пузыри. Помни, что научная работа в сущности состоит из открытий и «закрытий», и чем разрушительнее «закрытие», тем ценнее идущее ему на смену открытие…
13. Учись смотреть на свою научную работу как на художественное произведение, во всех деталях и до последнего слова отчеканенное и гармоничное, как творение художника. Научная работа от начала до конца должна быть пронизана каркасом железной логики.
Иллюстрируй свою работу так, чтобы один просмотр рисунков давал достаточно ясное представление о всём, что в ней написано. Помни, что и в подборе, и в расстановке иллюстраций должна быть логика».[227]
Ефремов не оставил нам подобного списка научных заповедей, его размышления о характере и особенностях научной работы в современном обществе рассеяны в статьях и романах, действующими лицами которых часто становятся люди науки.
Быстров утверждает: «Не пополняй свой научный материал чужими наблюдениями, так как они могут оказаться неверными… Никаким утверждениям не следует верить, а всякие наблюдения нужно проверить».
Иван Антонович не раз писал о том, что теперь науку двигают не одиночки, крупные открытия под силу только коллективам. В этих условиях неизбежно сотрудничество, когда наблюдения одного учёного становятся основой для работы многих людей. Границы познанного расширяются, древо науки разрастается на удивление бурно, и неизбежно сужается специализация учёных, усложняются приборы, средства и методы добычи фактов. Учёные одной области вынуждены принимать на веру открытия, сделанные в других областях. Тем выше ответственность каждого за результат — ведь если ошибётся один, это скажется на итоге деятельности целого коллектива.
С заповедью — «Не верь никаким авторитетам» — Иван Антонович вполне мог бы согласиться.
Откроем статью Ефремова «Наука и научная фантастика», найдём главу с характерным названием «Двойственность процесса развития науки». Иван Антонович пишет: «Наука неоднородна и представляет собой процесс, развивающийся, как и всё в мире, противоречиво. Часть учёных, наделённых могучим и живым воображением, «фантазирует» в науке, двигается в ней как бы бросками. Другая часть, консервативная, аналитическая, движется в области открытий очень медленно, но прочно отвоёвывая у природы неведомое. Такие учёные сдерживают и проверяют фантазирующих «скороходов». Если бы соотношение обеих частей было равным, то мы имели бы диалектически сбалансированное противоречие и быстрое движение вперёд. Однако консервативная часть учёных гораздо многочисленнее, особенно в науках описательных, где воображение меньше значит, чем в физике или математике.
По аналогии с механизмом наследственности сдерживание фантазирования в науке совершенно необходимо, для того чтобы наука не превратилась в бесформенную массу теоретических спекуляций, а сохранила свою сущность — проверку опытом, искусственное воспроизведение природных процессов и овладение ими».
Заповеди Быстрова великолепно иллюстрируют ефремовское описание консервативной части учёных. Трижды повторяет Алексей Петрович слово «не верь»: не верь авторитетам, не верь никому, не верь себе, призывает изучать явления во всех деталях. Часто такой подход заводит в тупики, которые «преодолеваются обходным, зачастую совершенно неожиданным путём, с помощью диалектического мышления».
Алексей Петрович указывает на возможность неожиданного выхода из тупика, когда пишет о факте, противоречащем всему известному: «…ты на пороге открытия». Но стоять на пороге — ещё не значит совершить открытие.
Чтобы увидеть обходной путь, надо оторваться от тщательного разглядывания каждого факта, суметь подняться ввысь, увидеть проблему с высоты птичьего полёта, установить общие методологические закономерности. Аналитической части учёных такой отрыв от почвы может показаться неправомерным. Однако диалектика развития науки в том, что «стимуляция научных фантазий определяет темп научного прогресса».
Подобный взгляд и возможен, и необходим, когда, по мнению Ефремова, «фантазирующая часть учёных обладает столь же высокой (и лучше даже если ещё более высокой) закалкой серьёзной подготовки и дисциплиной мышления, как и тормозящая, консервативная часть.
Пока всё же число подобных учёных в любом научном коллективе невелико, что и вызвало известное замечание Эйнштейна: «Воображение важнее, чем знание!».
Сам Ефремов, безусловно, относился к «фантазирующей части». Его идеи не могли найти моментального воплощения в науке, Иван Антонович попытался донести их до читателей в оболочке художественных произведений, которые звучат как научные гипотезы.
Сотрудничество двух типов учёных блестяще показано в повести «Звёздные корабли». С такого сотрудничества и начиналась совместная дорога в палеонтологии Ефремова и Быстрова. Диалектические противоречия снимаются на уровне творческого синтеза. В реальной жизни Алексей Петрович остался верен постулатам аналитического метода в науке, что в итоге привело к прекращению дружеских отношений.
Общему течению эволюции безразлично, «чья и какая фамилия будет стоять на работе, посвящённой интересующему тебя вопросу». С этим утверждением Ефремов, безусловно, согласен. Однако этические пути Быстрова и Ефремова различны. Алексей Петрович призывает рассказывать заинтересованным людям о своей научной работе (необходим живой обмен мнениями), понимая, что в современном обществе есть псевдоучёные, промышляющие воровством чужих идей.
Иван Антонович говорит, что никогда не опасался отдать. Его этический посыл находит отражение в «Туманности Андромеды», в идее всепланетного открытого обсуждения важнейших проблем.
Быстров постулирует необходимость железной логики, то есть следование строгой системе. Ефремов призывает выходить из конкретной системы в сверхсистему, конфигурация которой может выглядеть нелогичной с точки зрения пребывающих на более низком системном уровне.
Ефремов пишет: «Процесс этот находится в жёстком противоречии с узкой специализацией науки и научного образования. Узкая специализация учёных содействует быстрому разрешению частных вопросов, но в то же время мешает обобщению более широких проблем. Поэтому количество тупиков имеет тенденцию к возрастанию…»
Герой «Лезвия бритвы» Иван Гирин — тип «фантазирующего» учёного. В седьмой главе студент Сергей, помогающий Гирину в проведении опытов, восклицает:
«— Удивляюсь я на скотскую тупость нашего начальства. Такие учёные, как Иван Родионович, очень нужны, прямо необходимы науке. Он — бездна знания, настоящий энциклопедист и всегда будет центром кристаллизации научных идей, всегда будет держать научную мысль на высоком уровне. Специальность его не имеет значения, ведь он не прямой изобретатель, а разгребатель огромной кучи бессмысленного набора фактов. Он прокладывает дороги сквозь эту кучу, за которой большинство просто не видит пути, а громоздит её всё выше».
В предисловии Ефремов, в ответ на многочисленные просьбы о помощи больным, писал: «Сам я — не врач, а прототипом Гирина послужил мой покойный друг, врач и анатом, ленинградский профессор А. П. Быстров».
Это высказывание нельзя отрывать от контекста. Прототипом главного героя в том, что касается способности к диагностике, был, несомненно, Быстров (хотя и эта способность у автора присутствовала в немалой степени). Но в образе Гирина с его масштабностью исследователя и могучей фигурой мы справедливо видим самого Ивана Антоновича.
Голос Ефремова звучит в эпилоге романа — его устами Иван Родионович высказывает идею: необходимо «создать институт обмена безумными, как выражаются физики, идеями. Новыми предвидениями на грани вероятного, научными фантазиями и недоказанными гипотезами. Так, чтобы здесь встречались, черпая друг у друга вдохновение, самые различные отрасли науки, писатели — популяризаторы и фантасты. И, уж конечно, молодёжь! Только отнюдь не любители сенсационных столкновений и пустопорожних дискуссий, отдающие дань модному увлечению. Чтоб не было никаких научных ристалищ и боя быков! Товарищеская поддержка или умная критика… словом, не изничтожение научных врагов, а вдохновенное совместное искание».
Перечитывая эпилог «Лезвия бритвы» сегодня, спустя полвека со времени создания романа, невольно размышляешь о современном состоянии отечественной науки.
Помните — Сима предлагает отдать пустующее здание дацана под лабораторию мужа. Гирин отвечает: «Нельзя. Слишком роскошное начало. Такие замахи убивают даже хорошие намерения. Если бы организовался целый институт, большой коллектив. Но и тогда понадобится немалый срок. Иные учёные деятели думают, что дай здание и побольше вакансий — это называется штатные единицы, и разработка той или другой задачи пойдёт быстро. А на деле нужны люди, много лет подготовлявшиеся к этому направлению!»
«Сердце Змеи»
Лев Николаевич Толстой задумал написать произведение о декабристах, возвращающихся из ссылки. Размышления привели его к необходимости рассмотреть истоки возникновения декабризма, к идее начать с 1805 года. Так возник замысел романа «Война и мир».
Ефремов к замыслу «Туманности Андромеды» шёл сходным путём. Автор задумал показать первый контакт человечества с представителями инопланетного разума. Но мысль его пошла вглубь: каким должно быть общество Земли, создавшее возможности для межзвёздных путешествий? Иван Антонович решил сосредоточиться не на самом контакте, а на предшествующем ему развитии человечества.
Однако идея изобразить сам контакт не оставляла Ефремова. После ошеломляющего успеха «Туманности…» он на одном дыхании написал «Сердце Змеи». Изначальным импульсом был протест против рассказа Мюррея Лейнстера «Первый контакт», в котором два космических корабля при первой же встрече хотели уничтожить друг друга. Лейнстер, как и многие западные авторы, начиная с Уэллса, утверждал неизбежность войны между представителями разных цивилизаций.
Ефремов с безукоризненной логикой учёного знал, что к межзвёздным полётам может подойти лишь настолько гуманное общество, в котором даже мысль о войне не может возникнуть.
С 1959 года, с момента первой публикации повести «Сердце Змеи», прошло более полувека. Сейчас мы воспринимаем как архаику описание пульта космического корабля в виде огромной панели с множеством кнопок, описание прокладки курса и записи его на ленте серебристого металла, некоторые другие технические детали. Само же описание первого контакта воспринимается скорее как всесторонне обоснованная гипотеза. Действующие лица — не столько герои в литературоведческом смысле слова, сколько персонажи, призванные проиллюстрировать ту или иную идею.
Повесть напоминает букет, в котором не видно листьев, стеблей и даже вазы. Главное её содержание — разнообразные, и по сей день остающиеся актуальными идеи, цветы настолько крупные, что их с трудом удерживает тонкая рамка сюжета. Повесть была призвана насытить мыслью формирующееся пространство научной фантастики, и свою роль она сыграла в полной мере.
«Сквозь туман забытья, обволакивающий сознание, прорвалась музыка. «Не спи! Равнодушие — победа Энтропии чёрной!..» Слова известной арии пробудили привычные ассоциации памяти и повели, потащили за собой её бесконечную цепь».
Это начало повести — описание пробуждения звездолётчиков и одновременно призыв к активной и напряжённой мыслительной деятельности. В трёх предложениях закодирован смысл всего творчества писателя и — если брать уже — авторская концепция «приключений мысли».
Существует полемика относительно возможности вписать повесть в хронологию, созданную самим Ефремовым. Технологически события явно происходят существенно позже Тибетского опыта. На это указывает способ перемещения в пространстве (пульсации, совершаемые на принципе сжатия времени, что является частичным решением в поиске преодоления светового барьера). «Теллур» — первый пульсационный звездолёт, он имеет номер 687 в общем списке звёздных экспедиций, — вспомним, что колонизационная экспедиция к звезде Ахернар, отправленная в конце «Туманности Андромеды», значилась под номером 38. На эту же мысль наталкивает ничем другим не оправданная длительность Века Тибетского Опыта в авторской хронологии — целых 500 лет!
Главный аргумент против — это отсутствие упоминаний в повести о Великом Кольце. О том, что земляне давно должны знать о строении инопланетян, а кое с кем и встречаться (в «Туманности…» земляне ждут в самое ближайшее время гостей из числа соседей по Великому Кольцу). Получается как бы ветка альтернативной реальности. Разумеется, относиться чрезмерно серьёзно к таким подсчётам не стоит — всё-таки речь идёт о литературе! Ефремову важно было тщательно остановиться на проблемах, для максимально эффектного, литературного решения которых смысловое и образное поле должно было быть чистым. В самом деле, как с чистого листа задаваться вопросом о строении инопланетян после контакта с феерически прекрасными людьми Эпсилон Тукана?
Противоречие может быть с известными оговорками вписано в любую из этих точек зрения с пониманием того, что литературный мир требует специфической постройки сюжета для иллюстрации авторского замысла и эта специфика первична по отношению к изображаемым деталям.
Итак, земляне научились летать в неизмеримые глубины космоса. Полёт пульсационного звездолёта парадоксален, невероятен в преобладающих сегодня категориях линейного мышления. Мы привыкли, что космический корабль должен быть из прочнейшего металла. На этом фоне символически звучит название корабля — «Теллур». Теллур — химический элемент 6-й группы, серебристый блестящий неметалл.
Звездолёт словно прокалывает пространство.
Но любое достижение двойственно и в какой-то момент ярко проявляет негативные черты. Помимо трудности и опасности прокладывания курса для последующих «пульсаций», восьмерых звездолётчиков подстерегает другая опасность. Люди победили пространство, но время осталось непобеждено. Повесть недаром начинается призывом противостоять энтропии.
Энтропия одиночества… В чём смысл расставания на семь веков с цветущей Землёй? Что увидят люди, вернувшись на родную планету, кому нужны будут принесённые ими знания? «Теллур» только в начале пути, но неизвестность будущего и понимание исключительности своих судеб висит над каждым из членов экипажа. Капитан корабля Мут Анг отвечает на вопросы товарищей чеканными формулировками:
«Развитие знаний, накопление опыта должны быть непрерывны»;
«Вы напрасно опасаетесь будущего. В каждом этапе своей истории человечество в чём-то возвращалось назад, несмотря на общее восхождение по закону спирального развития. Каждое столетие имело свои неповторимые особенности и вместе с тем общие всем черты»;
«Разве может оказаться чужим тот, кто служит в полную меру сил? Ведь человек — это не только сумма знаний, но и сложнейшая архитектура чувств, а в этом мы, испытавшие всю трудность долгого пути через космос, не окажемся хуже тех, будущих…»
Вопрос в принципе исчерпан. На одной чаше весов несомненное личное желание и возможность увидеть далёкое будущее, мысль о важности вклада в общее дело землян и невысказанная, но очевидная идея о важности знакомства людей будущего со своими предками, то есть служение интересам сразу двух обществ. На другой — потеря всех родных и близких, неподконтрольная неизвестность впереди, одиночество от несоответствия знаний и нюансов эмоциональных переживаний, свойственных тому или иному времени.
Кари Рама, возражавшего капитану, удалось убедить, но Мут Анг зорко взглядывает на него перед погружением в сон, опасаясь за психологическое состояние молодого человека. Человек — это действительно «сложнейшая архитектура чувств», предвидеть все проявления которой в столь необычных условиях полностью никогда нельзя.
Капитан «Теллура» размышляет о глобальных цивилизационных процессах, о том, что «семьсот лет значили мало в эпохи древних цивилизаций, когда развитие общества, не подстёгнутое знаниями и необходимостью, шло лишь к дальнейшему распространению человека, заселению ещё пустых пространств планеты».
Ефремов вкладывает в мысли капитана собственные рассуждения, собственную жажду жизни: «Почти с ужасом Мут Анг подумал: каково было бы людям древнего мира, если бы они могли знать наперёд медлительность тогдашних общественных процессов, понять, что угнетение, несправедливость и неустроенность планеты будут тянуться ещё так много лет? Вернуться через семьсот лет в Древнем Египте означало бы попасть в то же рабовладельческое общество, с ещё худшим угнетением; в тысячелетнем Китае — к тем же войнам и династиям императоров, или в Европе — от начала религиозной ночи средневековья попасть в разгар костров инквизиции, разгула свирепого мракобесия.
Но теперь попытка заглянуть в будущее сквозь насыщенные изменениями, улучшениями и познанием семь столетий вызывает головокружение от жадного интереса к потрясающим событиям.
И если подлинное счастье — движение, изменение, перемены, то кто же может быть счастливее его и его товарищей? И всё же не так просто! Человеческая натура двойственна, как окружающий и создавший её мир. Наряду со стремлением к вечным переменам нам всегда жаль прошлого, вернее, того хорошего в нём, что отфильтровывается памятью и что прежде вырастало в представления о минувших золотых веках».
Только сильный душой готов предвидеть будущее!
Попробуем, к примеру, шагнуть на семь столетий назад и представить общение с человеком начала XIV века. К Смоленску подобралось огромное Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтское, раскинувшееся от Чёрного до Балтийского моря. В лесных дебрях прячется крошечная деревянная Москва, ещё не получившая первого подтверждения богоизбранности — грамоты хана Джанибека Ивану Калите, после которого стали составляться московскими князьями духовные грамоты — завещания. Московское княжество соседи ещё не начали звать Залесской ордой и вообще мало обращают на него внимания. Периодически усиливаются апокалиптические ожидания, подчиняющие себе весь уклад тогдашней жизни. Только внуки тех, кто пока босоногими детишками бегает по дворам, напитываясь мифом безвременья, выйдут на Куликово поле и явят миру энергию пассионарного взрыва и рождения нового этноса. А пока даже не угадывается мощный белокаменный кремль, первые пушки на стенах, духовный подвиг Сергия Радонежского и Андрея Рублёва. Нет помыслов о будущем. Каждый год может оказаться последним. И последнее дело, болезненный вывих лукавого мудрствования — рассуждать о том, как будут жить люди спустя века. Душу надо спасать! Ради этого явились на свет, и Последние Времена уже лижут тёмным пламенем, опаляя души трансперсональной жутью коллективного бессознательного эпохи…
Иная жизнь, иной образ мира, иные ценности и смыслы. Даже в смерти нет нам с ними общности!
Мы видим прозрачные контуры ефремовского Великого Кольца времени. Конвергенция сжимает не только разбросанные в пространстве цивилизации, но и различные времена. Эволюционная спираль стягивается всё туже, ближе к точке сингулярности подходя к полной победе над временем — не только научно-технической, но и духовной. Время тогда потеряет свой смысл, обратится в вечность…
Но это будет потом.
Общение людей в ефремовском будущем исполнено глубокого значения. Это приводит подчас к очень любопытным результатам. Когда всё в человеке подчинено высокой и благородной цели, когда он глядит на мир сквозь призму осознанных закономерностей, ход его мыслей строен, а причудливые изгибы ассоциаций только помогают в постижении того или иного феномена. Кажется, что весь мир помогает, как бы специально подбрасывая те темы и идеи, что пригодятся в ближайшем будущем. Так и звездолётчики словно бы случайно выходят на тему братьев по разуму.
Отличительная черта человека будущего — пристальное исследование любой проблемы, начиная с её истории. Обсуждение смысла полёта «Теллура» привело к вопросу взаимодействия природы и человека, о том, каким путём идёт материя в познании самой себя. Появление чужого звездолёта выглядит в этой связи совершенно закономерно и будит дальнейшую мысль, уже обретшую самые практические очертания. Герои повести говорят о неизбежной стагнации и самоуничтожении агрессивных видов, о своеобразном законе плодотворности. Не может напряжённая космическая жизнь осуществляться людьми с примитивной психологией собственников-индивидуалистов, только всеобщими усилиями можно проложить путь к звёздам. Должно быть скоординировано слишком много частностей и твёрдо приведено к общему знаменателю слишком много личных устремлений.
«Как подготовить себя к предстоящей встрече? — задаются вопросом звездолётчики. И отвечают: — Помнить о всей кровавой и великой борьбе человечества за свободу тела и духа!»
Самым важным, захватывающим и таинственным был вопрос: каковы те, что идут сейчас нам навстречу? Страшны или прекрасны они на наш земной взгляд?
Биолог корабля Афра Деви развивает идеи, высказанные профессором Шатровым в повести «Звёздные корабли»:
«Облик человека, единственного на Земле существа с мыслящим мозгом, не был, конечно, случаен и отвечал наибольшей разносторонности приспособления такого животного, его возможности нести громадную нагрузку мозга и чрезвычайной активности нервной системы.
Наше понятие человеческой красоты и красоты вообще родилось из тысячелетнего опыта — бессознательного восприятия конструктивной целесообразности и совершенства приспособленности к тому или другому действию. Вот почему красивы и могучи машины, и морские волны, и деревья, и лошади, хотя всё это резко отличается от человеческого облика. А сам человек ещё в животном состоянии благодаря развитию мозга избавился от необходимости узкой специализации, приспособления только к одному образу жизни, как свойственно большинству животных.
И красота человека в сравнении со всеми другими наиболее целесообразно устроенными животными — это, кроме совершенства, ещё и универсальность назначения, усиленная и отточенная умственной деятельностью, духовным воспитанием».
В «Сердце Змеи» системообразующей становится специфическая концепция этики и эстетики, уже прозвучавшая в «Туманности…». Через несколько лет ефремовская эстетика воплотится в базовую идею энциклопедического романа «Лезвие бритвы», где аргументация окончательно утеряет флёр фантастической гипотезы.
В эпоху гуманистической эстетики сердцевинным становится всё же вопрос об универсальности этики. Сомнения Кари Рама олицетворяют сомнения в единстве этических вопросов с эстетическими: «Чужие существа, даже обладая вполне человеческой и красивой оболочкой — телом, — могут оказаться бесконечно далёкими от нас по разуму, по своим представлениям о мире и жизни. И, будучи столь отличными, они могут стать жестокими и ужасными врагами».
Однако капитан «Теллура» разрушает это опасение полным жизни утверждением обратного: «Мышление человека, его рассудок отражают законы логического развития окружающего мира, всего космоса. В этом смысле человек — микрокосм. Мышление следует законам мироздания, которые едины повсюду. Мысль, где бы она ни появлялась, неизбежно будет иметь в своей основе математическую и диалектическую логику. Не может быть никаких «иных», совсем непохожих мышлений, так как не может быть человека вне общества и природы…»
И прибавляет, словно вспоминая о нас с вами: «Две разные планеты, достигшие космоса, легче сговорятся, чем два диких народа одной планеты!»
Мы же лишь готовы добавить, что речь стоит вести даже не о народах, и даже не о субкультурах внутри одного народа — но прежде — о столь часто встречающемся непонимании друг друга ближайшими родственниками… В этом плане знаменитое евангельское: «Покиньте отца и мать, идите за мной» — приобретает завершённость при всех масштабах рассмотрения.
Ефремов проводит аналогию между эволюцией жизни и общества. Позже он завершит триаду, рассмотрев и становление самого человека. Вывод мыслителя однозначен и ставит крест на любых попытках иного прочтения: «Человечество не может покорить космос, пока не достигнет высшей жизни, без войн, с высокой ответственностью каждого человека за всех своих собратьев!»
Итак, мы пришли к глубочайшей закономерности форм живой и тем более разумной жизни во вселенной. Однако сразу появились новые, не менее интригующие вопросы. Оказалось, что чужой звездолёт летит с удивительной планеты, где основной активной составляющей атмосферы является фтор!
После исполненного колоссального нервного напряжения знакомства с невероятно и необычно красивыми собратьями очень глубокую и мудрую фразу произнесла Тайна Дан. «Теперь я не сомневаюсь, что у них есть любовь, — сказала Тайна, — настоящая, прекрасная и великая человеческая любовь… если их мужчины и женщины так красивы и умны!»
Подлинная красота и ум немыслимы без любви, это различные проявления гармонии жизни — так считал Ефремов.
Может ли любовь инопланетян резко отличаться от земной любви? Как мы представим себе любовь фторных людей? Можно ли вообразить, что где-то высшая жизнь развилась, минуя чувство любви?
Кари Рам, прикованный взглядом к прекрасным обитателям фторной планеты, внезапно понимает «всё могущество и силу человеческой любви»; он, невзирая на разницу тел и чудовищную удалённость наших планет, чувствует, что мог бы полюбить девушку с чужого звездолёта…
К теме творческой силы любви и вообще всякого высокого взаимодействия мужчины и женщины Ефремов возвращается постоянно, всякий раз ставя перед героями всё более невероятные преграды. Усольцев отстраняется в своей слепой привязанности к женщине, совершая подвиг, обретает внутреннюю свободу и тем вызывает подлинный интерес к себе. Пандион несколько лет идёт длиннейшим кружным путём к своей Тессе. Мвен Мае рвётся к Эпсилону Тукана за 88 парсеков в жажде сжечь необходимость наматывать по линии светового луча бесконечно длинный путь.
Но стоит землянину встретиться с прекрасной инопланетянкой лицом к лицу — рождается ещё более непреодолимое препятствие — химическое! Сама химия встаёт на пути встречи мужчины и женщины. Не всегда возможно преодолеть пропасть, но можно энергию восхищения преобразовать в действие. Герои фокусируют её, и рано или поздно препятствия оказываются преодолены.
Общение двух экипажей оказалось прервано — чужой звездолёт получил сигнал и должен был улетать. Начался стремительный обмен информационными блоками. В одном из них было описание химического строения фторной жизни. Обнаружилось, что «бесконечные цепочки молекул фторостойких белков были в то же время изумительно похожи на наши белковые молекулы: те же фильтры энергии, те же её плотины, возникшие в борьбе живой материи с энтропией».
Такое сходство находится в полном соответствии с законом единства высших форм того или иного уровня развития материи, и оно подталкивает космобиолога землян к поразительной мысли — «путём воздействия на механизм наследственности заменить фторный обмен веществ на кислородный»! Сохранить все особенности фторных людей, но заставить их тела работать на иной энергетической основе. И командир чужого корабля понял идею Афры, и жесты фторных людей более не походили на знаки безнадёжного прощания, но «ясно говорили о будущих встречах».
…Прежде чем закрыть повесть, не спеша перелистаем страницы — от начала до конца. Как много мыслей подчёркнуто, выделено, как резко обозначена необходимость диалектического мышления, как многое хочется впечатать в свою память. Пусть характеры героев только намечены, пусть сюжетная линия, требующая продолжения, обрывается внезапно. Всё это отходит на второй план, когда во всю мощь торжествующе звучит главная тема: «Самое важное во всех поисках, стремлениях, мечтах и борьбе — это человек. Для любой цивилизации, любой звезды, целой галактики и всей бесконечной Вселенной главное — это человек, его ум, чувства, сила, красота, его жизнь!
В счастье, сохранении, развитии человека — главная задача необъятного будущего после победы над Сердцем Змеи, после безумной, невежественной и злобной расточительности жизненной энергии в низкоорганизованных человеческих обществах.
Человек — это единственная сила в космосе, могущая действовать разумно и, преодолевая самые чудовищные препятствия, идти к целесообразному и всестороннему переустройству мира, то есть к красоте осмысленной и могучей жизни, полной щедрых и ярких чувств».
Встречи с Юрием Рерихом
В личном архиве Ефремова хранится такое письмо:
«Москва, 19 июля 1958 года.
Глубокоуважаемый Иван Антонович.
Спасибо Вам большое за Ваше письмо от 27.VI и за Вашу прекрасную книгу «Великая Дуга».
Направляюсь в командировку в Монголию, и вернусь в Москву в начале августа, и буду очень рад побеседовать с Вами о стране Снегов.
С искренним уважением,
Ю. Рерих».
В 1957 году Юрий Николаевич Рерих после смерти матери вернулся из Индии, где прожил более тридцати лет, в Россию, о которой всегда, во всех своих трудах, помнили члены его великой семьи. Он начал работать в Институте востоковедения АН СССР, взяв под своё начало сектор философии и истории религии. Из Индии Юрий Николаевич привёз в дар СССР около четырёхсот полотен своего отца, провёл колоссальную работу по организации выставок Николая Константиновича в столицах и крупных городах страны.
Иван Антонович, любивший картины Рериха, изучивший к тому времени несколько томиков «Агни Йоги», обратился к Юрию Николаевичу с письмом. Было ли процитированное послание первым, полученным от Рериха, — мы не знаем.
Встреча состоялась в августе или начале сентября 1958 года, после возвращения Рериха из Монголии и перед поездкой Ефремова в Китай.
Сохранилось письменное свидетельство о встрече Ариадны Александровны Арендт, художницы, скульптора, работавшей в Москве над скульптурным портретом Юрия Николаевича. Ещё до Первой мировой войны семья Арендт была дружна с Максимилианом Волошиным, и в 1955–1956 годах семья Арендт-Григорьевых построила дом в Коктебеле, деля каждый год между Москвой и Крымом.
В 1956 году Анатолий Иванович Григорьев, муж Ариадны Арендт, выполнил скульптурный портрет Ефремова.[228] В 1960 году Ариадна Александровна записала:
«Ю. Н. высказал своё желание познакомиться с Иваном Антоновичем Ефремовым, так как последний прислал ему книгу «Туманность Андромеды», которая заинтересовала Ю. Н., но пока он не знает, как осуществить знакомство… Юра[229] сказал, что сделать это очень просто, так как «моя мать очень хорошо знакома с Ефремовым и, наверное, с удовольствием возьмётся Вас познакомить с Иваном Антоновичем», что я, конечно, осуществила опять путём телефонных переговоров. Ю. Н. назначил время, И. А. заехал за мной на такси, и мы поехали… На этот раз я была больше слушательницей. Разговаривали они. Боюсь, что не смогу хоть сколько-нибудь связно воспроизвести этот разговор».[230]
Рерих жил в новом, недавно построенном доме на Ленинском проспекте. Он пригласил гостей в кабинет. Индийские ткани на окнах, полки с книгами, на стенах — картины отца и брата, фотографии. Атмосфера в кабинете такая, что хочется говорить вполголоса. Юрий Николаевич прост и сердечен, они с Иваном Антоновичем сразу находят общий язык.
К сожалению, воспоминания Ариадны Александровны отрывочны, процитируем то, что есть:
«Ю. Н. рассказывал о своём скандинавском происхождении. «Может быть, мы с Вами окажемся родственниками, ведь я тоже скандинавского происхождения», — удалось вставить мне. Ю. Н. говорил о своём предке, полководце Кутузове (по матери), и что его должны были назвать не Юрием, а Мстиславом (кажется), но родственники возражали, и по семейной традиции его готовили в кадетский корпус, как старшего сына. «Неужели Вы были бы военным?» — спросила я. «Отчего же нет? Конечно, я был бы военным… Первое время, конечно», — добавил Ю. Н. Заговорили о Блаватской. Ефремов сказал, что не может доверять этой женщине, что она слишком «по-женски» пишет и там много просто подтасовок… Ю. Н. очень строго в упор посмотрел на И. А. «Книги Е. П. Б. очень серьёзны, даже слишком серьёзны для того, чтобы все могли их понимать. А что касается подтасовок, то их там нет совсем». — «Да?!» — удивился Ефремов. (Любопытен тот факт, что в молодости позиция самого Юрия Николаевича была аналогична ефремовской, и это причиняло немало страданий матери, Елене Ивановне. Самоуверенный сын полагал, что у него — продвинутого учёного — нет оснований доверять по-женски организованному, местами ироничному языку Блаватской. — О. Е. H. С.) Потом заговорили о тиграх-оборотнях. Ефремов сказал, что это явная выдумка, но Ю. Н. возразил совершенно серьёзным тоном, что это вовсе не выдумка и что в некоторых индийских племенах могут установить такую связь через астрал и другие планы. «Ментал?» — спросил Ефремов. «Ментал», — невольно поправила я. «Конечно, правильно сказать «ментал», — сказал Ю. Н… «Если такое животное убивают на охоте, его, так сказать, «напарник», то есть человек, завязавший с ним такую связь (оккультную), умирает также. При помощи этого животного человек может видеть обстановку в джунглях и окружение этого зверя…» Иван Антонович всё удивлялся. Мне вспомнилось несчастье, происшедшее с женой нашего товарища скульптора. Явная и типичная одержимость. Я рассказала подробно Ю. Н. все симптомы и как она в минуты просветления ясно чувствует присутствие «чужой воли», как она непрерывно слышит запах водки, будучи совершенно непьющей, как она говорит всякую околесицу… Ю. Н. подтвердил, что это типичное одержание. «Но как избавить её от этого?» — «Это очень трудно, — сказал Ю. Н., — иногда помогает переезд в другую местность. Основное — это не давать для одержателя повода общения с внешним миром, т. е. не говорить, не спорить, не реагировать ни на что, чтобы одержателю стало бессмысленно его положение. Ещё есть один самый радикальный способ… Это волевой приказ». — «А здесь, в условиях Москвы, кто-нибудь может это применить?» — «Нет», — покачал головой Ю. Н. Тем не менее нашей знакомой на другой же день стало лучше и вскоре она стала совершенно здоровой… Перешли в столовую. Традиционный чай. Много говорили о Монголии, где оба были, а Ю. Н. — совсем недавно. Говорили о Чингиз-хане и о теперешней положительной оценке его жизни… Об архитектурных памятниках, которые теперь в Монголии так беспощадно разрушаются. Один из прекрасных памятников был уже полуразрушен, когда французский учёный-востоковед приехал специально посмотреть этот памятник мирового значения. Он как раз в это время разрушался, и француз был ошарашен этим. Это было в Улан-Баторе, причём монголы были сконфужены не тем, что разрушили памятник, а тем, что не успели этого сделать до конца к приезду учёного… Заговорили о Святославе Николаевиче и его скором приезде в Москву со своей женой Девикой Рани. «Если Вы с ней познакомитесь, то так её и называйте — Девика Рани». — «А правда, что она француженка по происхождению, но совершенно «обиндилась», живя там с детства?» — спросила я, вспомнив эту версию, которую слышала от своих знакомых индусов. «Нет. Это совершенно не верно. Она чистокровная бенгалка и даже родственница Тагора». — «А они остановятся у Вас?» — «Нет, им нужен комфорт, а что я могу им дать? Они будут жить в гостинице». Мы стали собираться. Ю. Н. предложил довезти нас на своей машине до стоянки такси. Сам же он, как всегда, торопился куда-то».[231]
В Кулу, в институте «Урусвати», директором которого был Ю. Н. Рерих, хранится множество различных коллекций, в том числе и палеонтологическая. Юрий Николаевич, живо интересовавшийся всеми сторонами науки и жизни, знал о находках советской экспедиции в Монголии.
Вторая встреча Рериха и Ефремова состоялась в Палеонтологическом музее. Рерих осматривал коллекции, а затем долго беседовал с Иваном Антоновичем в его кабинете.
Таисия Иосифовна, жившая тогда вместе с Иваном Антоновичем и Еленой Дометьевной в квартире, что в Спасоглинищевском переулке, рассказывала, что Рерих приходил к ним в гости. Мужчины разговаривали без неё, затем пили чай.
Она уверена, что Ефремов и Юрий Николаевич непременно стали бы друзьями, если бы не внезапный уход Рериха.
Аллан Иванович вспоминал: «Отец дружил с Ю. Н. Рерихом. Они переписывались, и он неоднократно бывал у нас дома, вплоть до своей неожиданной смерти, которая очень удивила нас всех».[232]
При постоянной занятости Юрия Николаевича, притом что Ефремов значительную часть времени с осени 1958 года до мая 1959 года был болен, находился в санатории или на даче, встреч не могло быть много. Три из них — несомненны.
21 мая 1960 года «светлый воин» ушёл с Земли.
Скорбная весть донеслась к Ивану Антоновичу на дачу, в любимое Абрамцево, где он писал «Лезвие бритвы». Он, поражённый случившимся, испытал сильнейший протест против неизбежности смерти. Человек может и должен жить долго. Но прощание надо воспринимать светло, легко, преодолевая протест, рождённый болью и печалью, благословляя далёкий путь…
На протяжении всей дальнейшей работы над романом Ефремов словно ощущал дыхание Юрия Николаевича, расставляя по тексту знаки его присутствия.
Одного из главных героев «Лезвия бритвы», геолога-ленинградца, зовут Мстислав Ивернев. Именно он становится ключевой фигурой истории с серыми кристаллами, а затем отправляется в командировку в Индию, знакомится со скульптором Даярамом Рамамурти и безвозмездно даёт ему денег на отливку статуи Тиллоттамы. Редкое в советское время имя Мстислав — дань памяти Юрию Рериху.
В последней главе «Лезвия бритвы» профессор искусствоведения Витаркананда после выступления Гирина перед индийскими мудрецами дарит гостю картину «Мост Ашвинов». Ашвины в прямом переводе с санскрита — всадники, в Махабхарате это боги и врачеватели, утренняя и вечерняя заря:
«В однообразной сумеречной серо-фиолетовой гамме красок простёрся бушующий океан, бьющийся в иззубренные скалистые берега, затянутые глухой пеленой тумана. На левом берегу, на ступенчато поднимавшихся вглубь страны холмах, виднелись могучие здания и дымящиеся трубы, на правом — снеговые горы. У их подножия — тесные восточные жилища и храмы индийской, тибетской и китайской архитектур.
Пологой дугой взмывал над океаном, соединяя оба берега, мост, как бы сплетённый из светящихся стрел. На него въезжали на чёрных конях два всадника, безоружные, но в броне. Левый — голубовато-серый, правый — оранжево-коричневый. Оба протягивали друг другу руки широким, свободным жестом призыва и дружбы».
Ефремов описал вымышленную картину. Но возникла она в его воображении под впечатлением полотна Н. К. Рериха «Гэсэр-хан», созданного в 1941 году. Эту картину отец подарил старшему сыну в день рождения, и Юрий Николаевич привёз её в Москву. Именно эта картина висела в его кабинете, где он принимал гостей.
Оранжево-коричневый всадник на чёрном коне, натягивающий тугой лук, на ступенчато поднимающихся серых холмах — на фоне алой зари, взвихренные облака — словно бушующий океан.
П. Ф. Беликов писал о Ю. Н. Рерихе: «Вся его деятельность была устремлена в будущее, он жил будущим. Он говорил: «…надо перекинуть мост в будущее, не надо оглядываться назад. Если ты совершил ошибку, подумай, как надо было поступить, и в следующий раз так не поступай. Не надо думать о причинённых тебе обидах. Лишь бы можно было сотрудничать. Будущее светло, надо всё ему принести».[233]
В эпилоге романа Сима и Гирин гуляют по островам и оказываются на Приморском проспекте, напротив бывшего буддийского храма. Николай Константинович Рерих принимал активное участие в его создании, консультируя архитектора Г. В. Барановского. Когда в СССР приехал Ю. Н. Рерих, возникли идеи передачи пустующего здания Институту востоковедения, шли разговоры о том, чтобы устроить здесь кабинет Юрия Николаевича.
Ефремов и Рерих, оба петербуржцы, без сомнения, беседовали о судьбе замечательного архитектурного и культурного памятника. И «массивное здание тибетской архитектуры из негладкого серого гранита с обрамлёнными чёрным лабрадоритом проёмами окон и дверей», с яркими кафельными полосами на карнизе фронтона было одинаково дорого обоим учёным.
Там же Иван Антонович высказал мысль о превращении пустующего тогда дацана в место встречи учёных — ради обмена новыми идеями, ради «вдохновенного совместного искания».
Так Ефремов в «Лезвии бритвы» расставил знаки памяти Юрия Рериха.
Владимир Иванович Дмитревский
Владимир Иванович, прихрамывая и привычно опираясь на палку, шёл по Ленинграду. Чёткие контуры зданий расплывались перед глазами, отражения их дрожали в воде каналов. Восемь лет в беспокойных снах он шёл по родному городу — в свой дом, к своим любимым… Но сейчас он оттягивал час долгожданной встречи. Дома ждут дочка Танюшка и тёща. Именно она, настоящая дама из старинной петербургской семьи,[234] одна воспитывала внучку после того, как её отец и мать Наталья, балерина, оказались в лагере. Владимир Иванович возвращается, а жена ещё в заключении…
По тротуарам спешили занятые своим делом люди. Он один ничем не занят. И не знает, чем ему теперь заниматься. Ему 48 лет — возраст, когда большинство уже подводит итоги своей жизни. Но всё, чем жил Дмитревский, прервалось 1 октября 1948 года, в день неожиданного ареста, и окончательно растворилось в небытии, когда его, убеждённого коммуниста, обвинили в контрреволюционной деятельности и приговорили к пятнадцати годам лагерей. За этой чертой остались бурная, насыщенная романтикой революции и Гражданской войны юность, запах свежей типографской краски, исходивший от страниц его рассказов и статей, только что выпущенных в печать, учёба в Институте красной профессуры, где на семинарах активно обсуждались работы Маркса и Энгельса, история революций, вопросы философии, диалектики развития общества. Там же остались работа журналиста-международника, война и счастье победы.
Да, он досрочно освобождён, и сейчас не 1964-й, как могло бы случиться, а 1956 год. Смерть Сталина, как считали многие заключённые, возвратила подлинное место имени Ленина, возвращала честные имена невинно осуждённым. Но не вернуть искалеченных лет и потерянного здоровья.
Старые друзья… Остались ли они друзьями после всего, что приключилось с ним? Поймут ли его? Но ведь все мы одним миром мазаны, они так же могли стать жертвами злого навета. Есть одна опора — Борис Дмитриевич Четвериков, писатель, с которым он познакомился в заключении. Вместе они совершили невероятное — в лагере написали роман о лагерной жизни и строительстве Каргальско-Тихоокеанской магистрали — назвали его по строке знаменитой песни времён Гражданской войны: «Мы мирные люди».
Опершись на перила моста, Владимир Иванович закурил, вспоминая, как в 1953 году, в Озерлаге, на лагпункте 05, он предложил Борису Дмитриевичу написать роман. Сильный, громоздкий Четвериков вскинул на старосту барака свои чёрные, густые, как у лешего, брови: роман? Здесь, в лагере специального строгого режима, где письма домой разрешалось писать один раз в полгода? Иная реальность стояла у него перед глазами, ныла в мышцах и суставах: его бригаду последние недели, в свирепые мартовские вьюги, гоняли на заготовку дров. Брёвна заключённые тащили по глубокому снегу волоком, впрягаясь человек по десять в бревно, оступались, падали, барахтались в сугробах, обмораживали руки и ноги. Особенно тяжелы были старые кедры. Смерть заглядывала в глаза. Четвериков вспомнил слова Ромена Роллана: творить — значит убивать смерть. Заключёнными двигало общее желание — верить в будущее, вернуться в большую жизнь не с пустыми руками, не с разбитой душой!
Вдвоём они продумали сюжет романа, обратились с заявлением к начальнику Озерлага Евстигнееву. Случилось непостижимое: разрешение было дано.
Порывистому, импульсивному ленинградцу удавались краткие живые зарисовки, но связывать воедино и доводить до конца сложные сюжетные линии ему крайне трудно. Борис Дмитриевич мог справиться с этой сложной задачей.
«Дмитревский и Четвериков жадно принялись за работу. Писали, притулившись на тумбочке, в полутьме барака. При каждом обыске солдаты рвали рукопись, забирали карандаши и ручки, а чернила выливали в снег. Начальник режима лейтенант Тюфанов всякий раз с наигранной досадой замечал: «А, чёрт! Забыл предупредить!» И всякий раз литераторы начинали заново…
Жила на этом лагпункте группа бандеровцев. Её перевели сюда из Воркуты. Бандиты считали, что Дмитревский и Четвериков никакие не заключённые, а «подосланные агенты МВД». Решили с ними расправиться».[235]
Младший сержант Мосолов по просьбе друзей сумел позвонить в Тайшет, в управление, и объяснить ситуацию. Тут же на лагпункт приехал заместитель начальника Озерлага полковник Крылов. Романисты шли на вызов с тревогой, но Крылов предложил им стулья и долго беседовал о современной литературе, о лично знакомых ему писателях. Впервые за много лет с заключёнными говорили как с людьми.
«Дмитревского и Четверикова повели на вахту, без вещей: обманули бандеровцев, которые подкарауливали писателей, чтобы не выпустить живыми из зоны. Потом Мосолов принёс вещи и один, без штыка и овчарки, сопроводил заключённых на станцию. Их доставили в обычном пассажирском поезде на лагпункт 053 — для инвалидов.
Озерлаг объявил благодарность надзирателю Мосолову за спасение жизни заключённых писателей…
Начальник лагпункта 053, старший лейтенант Логунов, уже знал, что за люди поступили. Мельком пробежал формуляры и стал читать лежавшую на столе бумагу из Тайшета.
— Поня-ятно! — протянул он. — Вам требуется для этого самого… творческого процесса отдельное помещение? Ага! Для меня приказ полковника Евстигнеева — закон. Конечно, согласен: люди в лагерях не должны терять свою квалификацию. Вот так-то!.. Будет отдельное помещение… Ещё что? Бумагу?.. Понятно. Деньги у вас есть?.. Купим. А чернила выдадим из конторы. Всё?..
Спустя час заключённые, бухгалтер и два счетовода, уносили из конторы свои папки, счёты, линейки, чернильницы в кабинку, где до этого выдавали посылки, и бурчали:
— Тоже нам Максимы Горькие, прости господи!..
В большой комнате с двумя столами и стульями, с кипой бумаги и бутылкой фиолетовых чернил Дмитревский и Четвериков денно и нощно писали роман «Мы мирные люди». Не только живые факты были у них под руками, но и сами действующие лица. Заключённые поведали авторам о шпионских школах за границей (был один такой «студент»), о собственных судьбах. Не известно, как раньше у следователей, а теперь с писателями они были очень откровенны».
Вот он, роман — в заплечном мешке. Но будет ли он когда-нибудь напечатан? Хотелось бы верить.[236]
…Владимир Иванович привыкал к новому темпу жизни. Но не хватало чего-то важного — может быть, мечты.
Вскоре он познакомился с Евгением Павловичем Брандисом, сотрудником Публичной государственной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, автором книг о Жюле Верне.
Летом 1957 года дочка принесла ему несколько изрядно потрёпанных номеров журнала «Техника — молодёжи»:
— Обязательно прочти, папка, «Туманность Андромеды». Написал Ефремов. Все наши мальчишки говорят, что очень здорово.
Память подсказала Дмитревскому: «Звёздные корабли», повесть «На краю Ойкумены», рассказы. Ну что ж, почитаем роман.
«Туманность Андромеды» покорила душу неистребимого романтика. Чувствами и помыслами перенёсся он в Эру Великого Кольца. Именно о таком будущем ему мечталось, рядом с такими людьми ему хотелось бы жить.
В ноябре Владимир Иванович вместе с Евгением Павловичем были в Москве и стояли перед дверью, где на стеклянной табличке значилось: «И. А. Ефремов». Каким окажется человек, сумевший с чародейской силой нарисовать бесконечно далёкое будущее Земли?
Дмитревскому показалось, что хозяин квартиры похож на возмужавшего капитана Грея. Ефремов пригласил их в свой «кабинет» — отгороженную шкафами часть комнаты. Хозяин занял своё любимое дубовое кресло, гости разместились на диване. Беседе, казалось, не будет конца.
Ефремов и Дмитревский были ровесниками — оба родились в 1908 году, оба были не из рабоче-крестьянских семей. Дед Дмитревского Павел Андреевич, родившийся в Вологде, был первым послом России в Китае, имел пятерых детей. Дядя его, Николай Павлович, стал крестником Николая II. Первый сын Павла Андреевича Иван стал музыкантом, преподавал, жил в Китае, в России, гостил у родственников в Вологде. После 1913 года он эмигрировал в Австралию, оставив в России сына Владимира. Так что Дмитревский тоже рано начал жить самостоятельно, без поддержки отца. У обоих рано проснулась тяга к перу, обоим пришлось самим пробивать дорогу в жизни. Они много лет ходили по одним и тем же улицам Ленинграда, возможно, встречались с одними людьми, но судьба свела их лишь сейчас, когда Владимиру Ивановичу столь важно было вновь обрести смысл жизни.
Дмитревского сразили открытость и колоссальная эрудиция хозяина, которая невольно указывала на провалы в его собственном образовании. Сразу возникло желание написать об этом человеке. Но прежде надо лучше узнать его.
Ефремов, слушая рассказы гостя о его непростой судьбе, видел его необычайно светлую, чистую романтику — все удары и разочарования жизни не излечили его от веры в жизнь. Может быть, действительно лучше прожить наивным соколом, чем софистической змеёй?
Под конец беседы гости упросили Ивана Антоновича рассказать о необычных случаях, происходивших с ним в экспедициях, когда жизнь буквально висела на волоске.
Ефремов указал на английское издание одной из книг Рериха и по памяти процитировал:
«На самом трудном перевале Тибета путник находит древние письмена, неведомо кем и когда нарезанные на скале, у тропы, усеянной на большом расстоянии останками замёрзших людей и вьючных животных. «Научился ли ты радоваться препятствиям?» — гласит эта надпись, обращённая к тем, кто достиг перевала… И я так думаю, — добавил Ефремов. — Тот, кто избегает препятствий, ищет лёгких путей, останется пустоцветом. Ничего не откроет, не сделает ничего доброго…»[237]
Писатели стали друзьями. Более всего Ефремов сблизился с Дмитревским. Приезжая в Ленинград, он бывал в семье Дмитревских, Владимир Иванович подолгу живал в Абрамцеве, на съёмной даче Ивана Антоновича, после 1962 года приезжал в новую квартиру Ефремовых.
Брандис увлёк Дмитревского изучением современной фантастики, поддержал мысль о книге, посвящённой творчеству Ефремова. Вдвоём они принялись за работу. Решено было показать произведения писателя на широком фоне современной советской и западной фантастики. Дмитревский взял на себя биографическую часть, Брандис — литературоведческую. Готовые главы Дмитревский привозил Ефремову, работа шла споро, и в 1961 году книга была завершена. Опубликована она была два года спустя под заглавием «Через горы времени»[238] — как раз когда публикующийся в периодике роман «Лезвие бритвы» вызвал особый всплеск интереса к автору.
Сравнение времени с горами нетипично для русского языка. Мы привыкли говорить о волнах времени, о реке времени. Откуда же возникла идея такого названия?
В «Поэме горы» Марины Цветаевой, которая как раз в конце 1950-х годов стала известна в СССР, есть такие стихи:
Но под тяжестью тех фундаментов Не забудет гора — игры. Есть беспутные, нет беспамятных: Горы времени — у горы!Поэма Цветаевой посвящена страстной любви, которая поднимает героев над мелкими интересами мещанства и приближает к пониманию подлинной сущности мира. Давая своей книге название «Через горы времени», авторы отсылали образованного читателя к идее страсти, гумилёвской пассионарности, которой должна быть проникнута жизнь.
Ефремов отозвался на рукопись подробным письмом, отметил, что биографическая и аналитическая части получились слишком разнородными, но в то же время подобный разбор фантастических произведений в жанровом аспекте чрезвычайно своевремен. Он написал Дмитревскому:
«Я очень благодарен Вам и Брандису за по-настоящему хорошее обо мне представление, которым пронизана вся книга. Это очень трогает — настолько, что тяжело браться за критику. Второе — книга сделана в широком аспекте, в каком обычно не делаются критико-биографические очерки, и потому приобретает, если можно так сказать, какой-то несовременный, непривычный характер, и я не понял — архаичный он или наоборот из будущего».[239]
(В начале 1970-х годов Дмитревский и Брандис начали хлопотать о повторном издании книги «Через горы времени», желая дополнить её новыми главами. Эти хлопоты были прерваны смертью Ефремова и последующей за этим попыткой зачеркнуть его имя, но подготовка рукописи продолжалась. Брандис уже после смерти Дмитревского работал над биографией Ефремова, вёл переписку с Таисией Иосифовной. Смерть в 1985 году в возрасте шестидесяти девяти лет помешала ему завершить книгу.)
Работа над рукописью помогла второму автору, Евгению Павловичу Брандису, взглянуть на советскую фантастику свежим взглядом — и привела его к мысли об объединении ленинградских фантастов. Вскоре по его инициативе при Ленинградском отделении Союза писателей была организована секция научно-фантастической литературы, ядром которой стала молодёжь. Брандис составлял представительные антологии научной фантастики, пестовал молодых авторов, готовил к изданиям сборники зарубежной фантастики. При этом он постоянно переписывался с Ефремовым, который стремился быть в курсе всех дел ленинградцев, часто советовался с ним.
Переписка Ефремова с Дмитревским носила иной, более личный характер, но тоже была долгой и насыщенной.
Владимир Иванович страдал вспыльчивостью, обидчивостью: холерический темперамент усугубился унижениями лагерной жизни. Причём самым сильным унижением были не обиды, наносимые тебе, а те, которые ты был вынужден — своей ролью, положением в искажённом, искорёженном лагерном обществе — наносить другим людям. Истязать других — чтобы не замучили тебя.
Владимир Иванович стремился загрузить себя работой, иначе в часы покоя было слишком мучительно вспоминать…
Лагерь эвакуировался. На голой плеши острова выстроились бригады, готовившиеся к отправке на материк. Дмитревский как бригадир обязан провести перекличку. Каждый делает шаг вперёд, привычно называя своё имя. Лишь один человек не желает подчиниться бригадиру — это новенький, сектант, может быть, старовер, который был осуждён за отказ от военной службы и отказ называть своё имя.
Бригадир кричит:
— Имя?!
— Божий человек.
— Назови имя!
— Божий человек.
Дмитревский осыпает его бранью. Всё построено на грубой, сокрушающей волю силе. Если он не заставит этого упрямца слушаться, то другие члены бригады тоже выйдут из повиновения.
Удар.
— Божий человек…
Остервенение — и с каждым ударом — как град в летнюю жару — тает уважение к себе. Какой же должна быть мера насилия над собственной личностью, чтобы сломать в ней человеколюбие?
А в ответ — десятки раз — уже окровавленным ртом — «божий человек»…
Иван Антонович знал — нельзя вызывать Владимира Ивановича на споры: пытаясь доказать свою правоту, он становится по-мальчишески несдержан, готов взорваться из-за пустяка. Однажды, когда он гостил у Ефремовых, поздно вечером завели разговор о балете. Дмитревский поспорил с Таисией Иосифовной о ролях Улановой, вспылил так, что был смешон и жалок, и собирался уже громко хлопнуть дверью. Такт и доброжелательность Таисии Иосифовны спасли дело. Неустойчивость психики друга была вполне понятной и простимой, но заставляла Ефремова размышлять о губительном влиянии инферно на человека. Нужно несколько поколений спокойной, сытой, здоровой жизни, осмысление исторических закономерностей, знание и понимание истории своего рода, чтобы психика пришла к нормальному состоянию, в котором возбуждение уравновешено торможением.
Иван Антонович часто думал, что сам много лет ходил над пропастью — и пропасть эта не исчезла до сих пор. Как бы он повёл себя на допросах? Рассуждал так: если ему будут называть фамилии друзей или знакомых, он обо всех будет говорить только хорошо, лишь бы никому не навредить. Но это в теории…
Баярунас, Свитальский, Лев Гумилёв, Майский, Дмитревский, Штильмарк… Немало его знакомых провели годы в заключении, некоторые там и остались.
Каким бы стал он, оказавшись на их месте? В нашумевшем рассказе А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» обрисованы типы зэков. Кавторанг Буйновский, не сломленный духовно, хотя и страдающий физически, был более других близок Ивану Антоновичу.
Общество ещё слишком далеко не то что от совершенства, но даже от элементарного самопознания. Репрессии могут вернуться, это надо помнить всегда. Но жить, несмотря на это, без опаски, смело и свободно.
Дмитревский — друг верный и преданный, но огонь его не ровен, мерцает. Как велика разница между его близкими друзьями — Быстровым, который уже ушёл из жизни, и Владимиром Ивановичем! И оба они нужны ему — в том числе и для того, чтобы лучше понять себя.
В соавторстве с Быстровым была написана знаменитая работа по лабиринтодонтам. Дмитревский тоже в какой-то степени стал соавтором Ефремова: он написал сценарий по роману «Туманность Андромеды». Вторым сценаристом стал режиссёр фильма Евгений Шерстобитов. Эпопея с фильмом (начиная с первых переговоров) тянулась почти десять лет. У советского кино ещё не было опыта съёмок фантастических фильмов. «Туманность…», вышедшая на экраны в 1967 году, оказалась столь непохожей на яркий, насыщенный жизнью роман Ефремова, что критики дружно заговорили о неудаче фильма. На обсуждении фильма в Ленинграде Дмитревский, ожидавший поддержки, был так расстроен, что сорвался и наговорил чепухи.
Ефремов, зная всю подноготную постановки, отозвался о фильме положительно, понимая, что резкая критика может вообще закрыть дорогу попыткам экранизации фантастики. Однако Дмитревский невольно стал отдаляться от него.
Но это произойдёт позже, к концу 1960-х годов, а пока мы возвращаемся в 1959 год, в морозный февраль, когда Ефремов вернулся из санатория «Узкое» в Москву с категорической рекомендацией врачей — на время поселиться на природе, вдали от города и срочных дел.
«В абрамцевских снегах»
В феврале 1959 года Ефремов арендовал в Абрамцеве дачу № 39 с участком в гектар — не у частного лица, а непосредственно у самой Академии наук. Дача из шести комнат, двухэтажная, стояла практически пустой — мебели для такого помещения не было и в помине. Кафельные печи — красота! Однако протопить этакую махину — дров не напасёшься. Проходя по просторным комнатам, Иван Антонович чувствовал себя самозванцем, калифом на час. Доставку дров задерживали, и Ефремов с Тасей решили, что пока поселятся при гараже, в двух маленьких, но тёплых комнатах для прислуги и шофёра. Настанет лето, и тогда можно будет переместиться в просторные комнаты, приглашать друзей (если их не смутит отсутствие мебели), вместе гулять, собирать грибы, а по вечерам вести тихие, неспешные беседы.
Дворец этот был арендован на полгода, до августа. Почту и продукты будет привозить из Москвы Аллан — электричкой или на машине.
В конце февраля привезли дрова, и 5 марта Ефремов и Тася уехали «в абрамцевские снега».
Жарко горели берёзовые дрова. Иван Антонович, устроившись за письменным столом, смотрел на лист бумаги, где стремительным почерком было выведено: «Юрта Ворона», «Афанеор, дочь Ахархеллена», «Легенда о Тайс», «Камни в степи», «Молот ведьм», «Светлые жилки», «Лезвие бритвы».
Последнее занимало его сейчас больше всего. Повесть о диалектике жизни не менее важна и интересна, чем космические вопросы.
Мечталось: вот осилит всё это — и тогда… Тогда он примется за приключенческий роман «6 декабря»:[240] «Там будет всё, что мило моему сердцу романтика — юноши двадцатых годов: и яростные битвы, и страшные злодеи, калейдоскоп дальних, неизведанных мест, прекрасные девушки и смелые юноши, тигры, боевые слоны, магараджи и танцовщицы, развалины храмов и древние могилы, синее море и безбрежные степи… Тогда я отдохну от головокружительных проблем нашего века, от сознания утраты таинственного и необходимости железной общественной дисциплины — единственно возможного пути для обеспечения существования огромных человеческих масс, растущих как снежный ком, грозно катящийся в будущее планеты….»[241]
Однако в огромности планов Иван Антонович помнил: приближается шестидесятый год, страшный рубеж — очередной приступ его болезни, которая возвращалась раз в пять лет. Каждый последующий приступ был сильнее, чем предыдущий, и сейчас, после череды сердечных спазмов, трудно было верить в свои силы. Видимо, планы придётся сократить, сосредоточившись на чём-то одном, самом нужном для общества.
Сияло мартовское солнце, таяли снега, размокали дороги. Обнажалась земля, и весенний запах становился всё бодрее и крепче. За два месяца — март и апрель — у Ефремова был всего один небольшой приступ сердечной болезни, это обнадёживало и радовало Тасю. Готовя простой обед, она радостно прислушивалась к звуку пишущей машинки в соседней комнате.
Тася вносила в простой быт каждого дня ощущение праздника, не создавала его искусственной бодростью, но жила так светло и свежо, что нельзя было не любоваться ею. В первый же день она достала из своих вещей мешочек с кедровыми орехами — ей сказали, что в Абрамцеве много белок. Насыпала орехов в кормушку и стала ждать. Вскоре появилась крупная белка, обследовала угощение и исчезла. Тася огорчилась: что же ей не понравилось? Каким искренним был её восторг, когда первая белка привела целый выводок бельчат.
В суровые мартовские морозы молодая женщина кормила птиц. Возле кормушки суетились бойкие желтогрудые синицы, с ветки на ветку перепархивали шустрые лазоревки, бегали по стволам элегантные поползни, пересвистывались снегири. Наглые сойки распугивали всех птиц, с необычайной скоростью лущили семечки полсолнечника. В вершинах елей выводили птенцов клёсты, чижи облепляли берёзы, крошили на снег мелкие коричневые семена. Неожиданно налетали стайки нарядных свиристелей, пели нежное «свирири», а затем так же внезапно исчезали. Ощущение радости жизни питало творческую жилу.
После большого перерыва, связанного с созданием крупных произведений, Ефремов вновь вернулся к рассказам — но они получились совершенно иного характера, чем прежде, намного масштабнее как по объёму, так и по темам.
Первым был написан рассказ «Юрта Ворона». Его Ефремов обещал отдать в «Комсомольскую правду». Опыт газетной публикации его чрезвычайно разочаровал — редакция потребовала значительных сокращений, а печатание небольшими порциями с продолжением создавало для писателя особые трудности. В 1960 году рассказ удалось опубликовать без сокращений в авторском сборнике издательства «Молодая гвардия» с общим названием «Юрта Ворона».
Главный герой «Юрты Ворона», геолог Кирилл Александров, стремясь проверить внезапную догадку, упал на дно глубокого шурфа и сломал ноги и позвоночник. Ноги оказались парализованы. Через полгода лечения врачи вынесли ему окончательный приговор: ходить он не сможет.
Важнейшая проблема рассказа — столкновение личности с жестокой судьбой. Что может быть страшнее для геолога-полевика, чем потеря способности двигаться? Трагедия сломила не только физическое здоровье Александрова — он, некогда владыка тайги, погас душевно. Жизнь казалась ему хуже смерти, и он не мог найти себя в обречённом на неподвижность будущем. Положение усугублялось отношением жены, которую катастрофа надломила. Она привыкла видеть в муже опору и оказалась не готова к нежданному удару. Своей слезливой жалостью она только терзала измученного Кирилла.
Найти точку духовной опоры Александрову помогает беседа с соседом по палате, помощником в далёких экспедициях Иваном Ивановичем Фоминым. На протяжении более чем двадцатилетней геологической практики Александровым двигала жажда научного поиска, стремление разгадать загадки природы. Найдя в своей памяти одну из таких тайн, геолог ощутил в своей душе твёрдую точку, с которой началось его внутреннее возрождение.
Почему перевал со зловещим названием Юрта Ворона притягивает к себе страшные грозы? Возможно, там залегают металлические руды. «Если бы кто-то, не побоявшийся смертельной опасности, смог в разгар сильной грозы проследить места непосредственных и наиболее частых ударов молний и остаться в живых, то, пожалуй, так можно было бы добиться разгадки Юрты Ворона дешёвым и простым способом».
Александров с помощью надёжного друга-женщины доехал до перевала и три недели пробыл там, мучительно тоскуя в дни хорошей погоды, но живя подлинной, полной борьбы жизнью во время гроз, когда он ползком, на одних руках, добирался до мест, куда наиболее часто били пучки слепящих молний.
Герои прежних рассказов автора переживали необычайные приключения, но не менялись внутренне (за исключением Усольцева в рассказе «Белый рог»). В «Юрте Ворона» Ефремов заостряет внимание на внутренней борьбе героя, тщательно прослеживает его психологическое состояние во всех эпизодах рассказа, показывает, как инферно безнадёжности и тоски неуклонно тащит его к душевной гибели, как пытается отстоять себя в этой борьбе яркая личность геолога. Гроза становится во многом символом этого единоборства: «Как корка, брошенная умирающему от голода, поможет лишь отдалить смерть и тем продлить ненужные мучения, так и приближающаяся гроза уведёт его от тоски. Ещё два-три часа он будет жить полно и радостно, в стремлениях и борьбе исследователя, в напряжении поиска, этого могучего, глубокого и древнего инстинкта, всегда живущего в человеческой душе!»
Александров рвался туда, где в землю били пучки зелёных молний, чтобы заметить место колышком. Гигантский разряд ударил в него — и случилось чудо: повреждённые нервы ожили. Когда утихла гроза и геолог очнулся, он почувствовал боль в колене — боль, которую не ощущают парализованные люди. Подлинным торжеством звучит эпилог рассказа: Александров, опираясь на палку, входит в кабинет начальника управления и подаёт ему кусок свинцовой руды — галенита — из нового месторождения «Юрта Ворона».
Рассказ, проникнутый энергией победы человека над своей слабостью и судьбой, был написан Ефремовым после тяжёлой болезни. Это он всего два-три месяца назад не мог ходить — его вносили на второй этаж, это он ощущал безнадёжность и собственную ненужность. Его коллеги и ученики собираются в долгожданную экспедицию в Китай, а он не может не только руководить ею, но даже поехать туда. Палеонтологические раскопки теперь закрыты для него. Как найти себя? В чём?
Ефремов, как его герой, устремляется туда, где бьют самые сильные молнии — молнии мысли, сгущения новых, ярких идей. Его задача — вбить колышек, заметить выход новой энергии, донести до людей новое знание.
Рассказ об исцелении геолога Александрова помогает автору излечиться от сознания физической немощи, утвердиться на писательском пути.
Взяв в качестве сюжетной основы героическую разгадку «Юрты Ворона», автор включил в рассказ три вставные новеллы. Сюда органически вошли «Светлые жилки», задуманные сначала как отдельный рассказ, новелла о лунном камне и история, которая случилась с юной девушкой-шофёром Валей по дороге на далёкий прииск. Каждая вставная новелла двигает вперёд сюжет рассказа, помогает понять тонкие, но прочные связи между людьми и событиями, вскрывает мотивы личностного роста и преодоления боли.
Ефремов выступает в неожиданном ракурсе — как восприемник сказовых традиций Павла Петровича Бажова. Старый забойщик Фомин, с которым Александров делал свои первые таёжные экспедиции, словно дедушка Слышко, говорит сочным языком горняка, простого работного человека, главное отличие которого от обывателя в том, чтобы «доходить до корня, везде интерес иметь, к чему, казалось бы, нашему брату и не положено». Светлые жилки, которые он заметил в угле и которые принесли ему Ленинскую премию, превращаются в символ познания, стремления народа к чистой, осмысленной жизни.
Фомин говорит: «Светлые жилки должны быть у каждого <…> без них и жить-то вроде принудительно. Не ты своей жизни хозяин, а она тебя заседлает и гнёт, куда захочет», «Только знание жизни настоящую цену даёт и широкий в ней простор открывает».
Именно воспоминание Фомина о походе 1939 года, когда они нашли необыкновенной красоты лунный камень, наталкивает Александрова на мысль о перевале Юрта Ворона.
Тема подлинной красоты, понимания её простым народом ярко звучит в рассказе о лунном камне, она станет одной из главных тем всего творчества Ефремова. Находка лунного камня — эпизод, достойный лучших сказов Бажова.
Стремление к знаниям, к чистоте духовной жизни роднит Фомина с Валей. Восемнадцатилетней девушкой она стала шофёром в первый год войны, чтобы заменить мужчин, ушедших на фронт. Рабочая юность и послевоенные годы не дали ей возможности учиться. Узнав об открытии народного университета, она стремится попасть туда, и Александров с удовольствием пишет ей рекомендацию. Вторая их общая черта — верность: Валя помнит о давних встречах с Александровым и безоговорочно соглашается помочь травмированному геологу осуществить рискованную идею — добраться до далёкого перевала.
Фомин будит живую искру, Валя довозит до места. Третьим помощником становится лесник — хозяин зимовья возле перевала: тувинец даёт ему лошадь, помогает добраться на сам перевал и навещает его там, принося еду. «Александров понял, что чуткость помогавших ему людей выработалась в суровой жизни, где каждый немедленно отвечает за свои личные промахи перед самим собой и ближайшими товарищами. Эти люди привыкли полагаться прежде всего на себя и, главное, доверять себе».
Доверие себе, внимание к своему внутреннему голосу — часто вопреки голосам подлинных и мнимых доброжелателей — именно это требовалось сейчас и самому Ефремову.
«Юрту Ворона» он посвятил знакомому инженеру А. В. Селиванову. В основу сюжета лёг случай, произошедший в конце 1940-х годов с геологом Александром Леонидовичем Яншиным, будущим вице-президентом Академии наук СССР. Шурф, в который спускался Яншин в одноместной бадье для подъёма породы, был 24-метровым. При подъёме, когда до поверхности оставался один метр, лопнул крюк воротка, на котором крепилась цепь бадьи. Геолог очутился на дне, раздробленный, переломанный, и думал лишь об одном: только бы не потерять сознание.
Сначала он лежал в больнице в Аральске, затем в Институте Склифосовского. Как только удалось освободить от гипса правую руку, Яншин начал работать. Дни полетели, и даже кости, казалось больному, начали срастаться быстрее. Карты, схемы, описания, дневники, литература — всё нужное лежало на узком больничном столе. В клинике Яншин написал работу «Геология Северного Приаралья», которая стала его докторской диссертацией. В ней дано исчерпывающее освещение геологического строения и истории развития обширной территории Западного Казахстана, исследованию которой Яншин отдал более двадцати лет.
Пример Александра Леонидовича вдохновлял Ефремова. Один из первых экземпляров рассказа автор подарил Яншину с надписью «Герою моей книги».
Редакторы крупных издательств, узнав, что писатель уединился на даче, тут же выстроились в очередь за новыми произведениями, которые неизменно повышали тираж журналов. Толстые журналы — «Октябрь», «Москва», «Нева», «Вокруг света» и другие — боролись за право первыми опубликовать новые рассказы и повести Ефремова.
В мае прошёл третий съезд писателей СССР. Ефремов отказался от участия, ссылаясь на нездоровье. В мае ему и так пришлось прерывать своё абрамцевское уединение и навещать Москву ради встречи с Олсоном и других научных забот.
В просторных комнатах дачи стало достаточно тепло, и Иван Антонович перевёз туда из городского шума Елену Дометьевну.
Обложившись книгами, посвящёнными Северной Африке, Ефремов взялся за давно задуманный им рассказ «Афанеор, дочь Ахархеллена».
В 1958 году читающую публику в СССР поразила сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Французский лётчик, герой сказки, потерпел крушение в Западной Сахаре, «где на тысячи миль вокруг не было никакого жилья». Иван Антонович, внимательно следивший за новинками литературы, прочитал «Маленького принца» одним из первых. Для Ефремова, как для самого Сент-Экса, пустыня не была мёртвой — она жила жизнью кочующих воинственных племён, редких растений, животных и даже камней.
История о Маленьком принце была переведена на русский язык в 1957 году Норой Галь для дочерей её подруги Фриды Вигдоровой. Нора Галь — удивительное имя, словно пришедшее из далёкого будущего, которому посвящена «Туманность Андромеды». Как хорошо, что под лёгким, чарующим переводом сказки стоит не полное имя — Элеонора Яковлевна Гальперина, а звучный, выразительный псевдоним.
Пусть сказочная пустыня Экзюпери обретёт плоть, вылепится отчётливыми, вещественными образами!
Иван Антонович хотел сделать свои рассказы более короткими, чем прежде, но «Афанеор…» сокращению не поддавалась: автору хотелось всесторонне показать жизнь немногочисленного, рассеянного в пустыне древнего племени туарегов, о котором писал в стихотворении «Сахара» его любимый поэт Николай Степанович Гумилёв.
В письмах Ефремов называл рассказ географическим. Возможно, он изначально и задумывался именно таковым — с помощью занимательного сюжета рассказать о своеобразной природе и населении пустынных областей Сахары. Действительно, по тексту «Афанеор…» можно изучать природу пустыни, особенности рельефа и термины, их обозначающие, названия горных областей и низменных участков.
Окончательный вариант произведения трудно назвать рассказом: это, скорее, повесть — в первую очередь потому, что предложенная автором проблематика необычайно широка.
Если Александров, герой «Юрты Ворона» — яркая индивидуальность, то Тирессуэн — высшее, совершенное воплощение типа кочевника Сахары.
Национально-историческая проблематика выражена идеями, раскрывающими сущность национального характера жителей пустыни — туарегов — в сравнении с западноевропейским типом характера, представленным французами, и в сравнении с характером русского народа, для туарегов явленного в образах врача Эль-Иссей-Эфа и писателя Немирдана.[242] Идеи национального самоопределения народов зримо выражены в попытке Тирессуэна почувствовать сердцем характер столь далёкого северного народа: «Теперь Тирессуэн понял всё до конца. Бессолнечная и холодная страна, засыпанная снегом, скованная морозом, порождала таких же живых, горячих людей, полных стремления к прекрасному и способных создавать его, украшая жизнь, как пламенная сухая земля юга. Права была дочь Ахархеллена, устремляя свои мечты вслед за Эль-Иссей-Эфом к России. Трудно было жить русским в такой суровой земле, но они не ушли никуда от своей доли, как то сделали и предки туарегов. Они закалили душу и тело в морозной белизне севера, как туареги — в пламенной черноте гор и равнин Сахары! Вот почему душа русского человека смотрит глубже в природу и чувствует богаче, чем душа европейца, вот почему Эль-Иссей-Эф так хорошо понимал кочевников пустыни, а те — его!»
Лучшие представители европейской науки тоже стремятся понять туарегов, как профессор археологии, добившийся для спасшего их проводника невозможного в годы холодной войны — туристической поездки в Советский Союз.
Второй тип проблематики рассказа — социокультурная. Автор осмысляет условия и образ жизни туарегов и племени тиббу, организацию их быта, делая акцент на культурных особенностях — роли женщин в обществе, тифинарской письменности, проведении ахалей — музыкальных собраний. Ефремова особенно привлекают народы, сохранившие древний матриархальный уклад общественной жизни. В «Лезвии бритвы» автор сделал одну из самых прекрасных своих героинь — танцовщицу Тиллоттаму — представительницей народа найяров, где женщины с кшатрийской душой сохраняли гордую независимость. Остатки этого древнейшего уклада с иным, несвойственным как европейцам, так и народам арабского мира отношением к женщине сохранились и у туарегов.
Автор заостряет внимание на политическом и культурном взаимодействии коренного населения и представителей метрополии — французов, которые в основном не стремятся понять туарегов, воспринимая их как диких, невежественных людей; рисует портреты французских военных и учёных — тех, кому довелось первыми встретиться с туземным населением, и показывает разницу отношений людей этих профессий к туарегам.
С любовью пишет Ефремов об этнографических особенностях жизни туарегов, об их способности верно находить дорогу даже в незнакомых частях пустыни, легко вводит в ткань произведения множество подробностей быта и окружающей природы.
Пребывание главного героя в Ленинграде связывает психологически совершенно различные миры, показывая потенциал их будущего единения. Люди, внутренне выстроенные, внимательные, чувствующие естество окружающего мира, не погрязшие в мутных страстях и ложных ценностях, найдут общий язык, хоть бы и были бесконечно разделены культурой и расстоянием. Сквозная тема всего творчества — братство непохожих, единство в духе. С неприязнью смотрит туарег на натюрморты фламандцев с их горами снеди, символизирующими ослабляющее душу изобилие. Ничего не понимающий в европейском искусстве африканец чувствует сущностное: цель искусства должна быть высока, только тогда оно имеет смысл, приумножая внутреннюю силу человека. Поэтому он восхищён балетом, его простая цельная душа отзывается на высокое безусловно.
К философской проблематике относятся вопросы взаимодействия человека и природы, в нашем случае — проблема использования ядерного оружия. Даже если ядерное испытание проводится в самых пустынных и удалённых от человека местах, оно неизбежно наносит вред природе и людям. Тирессуэн рассказывает Афанеор, своей возлюбленной: «После взрыва на сотни и даже тысячи километров разносится ужасная отрава. Она проникает в кости человека, заставляет его умирать в мучениях, лишает силы. Она делает мужчин и женщин бесплодными, а нерождённых детей — уродами. Никто не может спастись от яда — он в земле и в воздухе, в огне и воде, в пище, даже в молоке матери!»
Герой встаёт на путь борьбы за право народа самостоятельно решать судьбу своей земли. Рассказ заканчивается говорящей картиной: ночью по дороге через пустыню ползут чудовищные машины, покрытые бронёй, — воплощение агрессивной силы Запада. Над дорогой, на плоскогорье, — два всадника на высоких верблюдах — Тирессуэн и Афанеор, туарег и тиббу, дети пустыни, готовые защищать свою страну. Стояла «ночь холодного огня», и голубое пламя обтекало всадников с головы до ног, делая лица необычайно чёткими и твёрдыми.
Афанеор хотела положить верблюда, чтобы их не заметили, но туарег остановил её: «Они ослеплены собственным светом!» Эти слова звучат символическим приговором технократической цивилизации Запада.
С середины июня 1960 года Ефремов и Тася вновь в Абрамцеве, куда вскоре приезжают Елена Дометьевна и дорогая гостья — Мария Степановна Волошина. Ей было уже за семьдесят, и она умела радоваться жизни, дорожа каждым мгновением. В Москве она в этот раз жила у известной писательницы Мариэтты Сергеевны Шагинян. Назад, в Крым, её сопровождала Тася. Мария Степановна первый раз в жизни должна была лететь на самолёте, и предстоящее приключение увлекало и волновало её. Иван Антонович видел всё прозаически: мол, утром вылетите из Москвы, через два часа приземлитесь, от Симферополя на такси — и в три часа дня уже будете купаться в море. «День отдохнёшь у Марии Степановны — и назад».
И всё так и случилось бы, если бы день вылета не совпал с визитом в СССР вице-президента США Ричарда Никсона. Утром 23 июля 1959 года аэропорт Внуково не отправлял и не принимал самолёты. После посадки лайнера Никсона американские пилоты проводили экскурсию по самолёту, и Иван Антонович, Тася и Мария Степановна осмотрели комфортабельный салон. Ефремов на английском пообщался с пилотами.
Своего вылета женщины прождали до обеда. Несколько раз их приглашали на посадку и вновь высаживали. Когда же наконец взлетели, то через час сели на военном аэродроме Киева. Там прождали до вечера без еды и питья. Взлёт, посадка — и военный аэродром Симферополя, где им вообще запретили отходить от самолёта. Автобусы же не приезжали. И всю ночь Тася и Мария Степановна просидели под звёздами. Дети плакали, мужчины ругались, охрана военного аэродрома грозилась стрелять, если пассажиры отойдут от своего самолёта, и только Мария Степановна сохраняла бодрость и радостное расположение духа. Два автобуса пришли утром, но влезть в них не было возможности. Тася подошла к водителю третьего автобуса и, узнав, что он симферополец, спросила, знает ли он про дом поэта Волошина в Коктебеле: «Здесь его жена, я её сопровождаю, и мы не можем уехать, а нас ждут и волнуются».
В три часа дня они были в Коктебеле, но Тасе оставалось только помочить ноги в море и ехать назад.
…В августе Елена Дометьевна вернулась в столицу, Ефремов продлил срок аренды дачи и возобновил своё отшельничество. Вскоре начались холодные осенние дожди. Тася плотно закрыла освободившиеся помещения, где стоял холод. В натопленных комнатах тепло, уютно, и так хочется успеть!..
Иван Антонович работал с десяти до двух, затем с четырёхпяти вечера до десяти, часто припоздняясь до одиннадцати. Обычно он проводил в день за рабочим столом десять часов, когда чувствовал себя в форме — до четырнадцати часов. Читал, подбирая нужный материал, заполнял «премудрые тетради» записями важных мыслей, вносил туда идеи, догадки, целые готовые формулировки, планы и конспекты отдельных частей будущих произведений.
Готовый текст печатал на машинке.
Только к концу сентября Иван Антонович закончил повесть о туарегах. Отделка и перепечатка заняла ещё некоторое время. Тася была первым слушателем. Перепечаткой занималась она же — милый Зубрик, как ласково называл её Ефремов.
В гараж были доставлены из города столярные и слесарные инструменты.
Устав от сидения за письменным столом, Иван Антонович частенько приходил в гараж — он любил и умел работать руками, что-то мастерить или чинить.
Абрамцевские отшельники особенно радовались письмам друзей, приезду дорогих гостей. В октябре приехал из Ленинграда Владимир Иванович Дмитревский. Он с наслаждением, не спеша читал свежую, только что перепечатанную «Афанеор…», перечитывал знакомые главы «Туманности Андромеды», изданной недавно в «Роман-газете». По вечерам, когда весёлый огонь в печи лизал сухие поленья, ровесники подолгу говорили друг с другом — и сердечнее тех бесед не было. В часы, когда из комнаты Ивана Антоновича доносился звук печатной машинки, Дмитревский тоже брался за перо — он работал над книгой «Через горы времени», которая должна была рассказать читателям о Ефремове.
Навещал Борис Александрович Вадецкий с дочерью Эльгой. Познакомились два писателя после войны, когда Бориса Александровича выбрали ответственным секретарём отдела прозы Союза писателей, членом комиссии по приёму в СП и по работе с молодыми авторами.
Вадецкий, петербуржец, принадлежал тому же поколению, что и Иван Антонович. Он гордился принадлежностью к старинному морскому роду Белли, основанному в России при Екатерине II выходцами из Англии. Его родной дядя, Владимир Александрович Белли, автор книги «В Российском императорском флоте», был контр-адмиралом. Мать Вадецкого, Анна Александровна Белли, умерла через две недели после родов, и мальчик воспитывался у родни матери. Во время Гражданской войны они временно уехали в Крым, но мальчик убежал из семьи: он хотел найти своего отца, Александра Константиновича, офицера лейб-гвардии Павловского полка. Белая армия отступала. Мальчик отстал от поезда, остался на платформе, чуть не потерял ногу и стал заикаться. Затем детдом, интернат…
Было что вспомнить… Ефремов вернулся в Петроград в 1921-м, Вадецкий двумя годами позже. Он сразу поступил на Балтийский завод, окончил ФЗУ, стал подручным разметчика по металлу. На заводе действовала литературная группа «Резец», Борис стал её участником, увлёкся рабкоровской работой и с 1925 года начал печататься.
В 1935 году его направили по совету М. Горького в Среднюю Азию — председателем киргизской комиссии Союза советских писателей. Там зародилась у Вадецкого идея написать роман об узбекском поэте и мыслителе XV века Алишере Навои.[243] Ефремов прошёл и проехал азиатскими тропами тысячи километров. Азия, сухая, пыльная, скалистая и пряная, была для друзей общей любовью.
О море оба писателя тоже знали не понаслышке. Ефремов плавал сам — в Охотском и Каспийском морях. Вадецкий в годы Великой Отечественной войны писал очерки с фронтов, с боевых кораблей Балтийского и Черноморского флотов, Днепровской и Дунайской флотилий, из осаждённого Ленинграда и Севастополя. Гордясь своим морским родом, Борис Александрович посвящал свои произведения великим адмиралам и мореплавателям.[244]
Ефремовы и Вадецкие дружили домами. Ходили друг к другу в гости. Вадецкие после войны, когда в их дом попала бомба, жили в квартире при Литературном институте на Тверском бульваре, 25. Только в 1957 году семья перебралась в писательский дом на Ломоносовском проспекте.
Эльга была старшей из трёх дочерей Бориса Александровича. Ровесница Аллана, в 1954 году она окончила школу. Увлечённая личностью Ивана Антоновича, она всё чаще приходила в гости самостоятельно: «Его нравственные идеи, мысли и умение видеть перед глазами все фазы человечества меня буквально опьяняли, я выходила от него просветлённой. Хотелось с ним общаться всё чаще и больше. Что же касается Ивана Антоновича, то он имел потребность общения с молодёжью, особенно с такой восторженной слушательницей, какой была я. Я слушала его с большим интересом, чем Аллан или его друг Валентин».[245]
Иван Антонович любовно называл Эльгу Чайкой и обращался к ней исключительно на «вы». Он знал наверняка, что в этой умной и привлекательной девушке, как в куколке, скрыта прекрасная бабочка.
Однажды Борис Александрович при Эльге спросил Ефремова:
— Зачем вы к такой пичужке обращаетесь на «вы»?
— Видите ли, Борис Александрович, этот человек мне нравится, нравится во всех отношениях. Говорить ей «ты» — значит расписаться в своей немощности, а так я вроде ещё ничего.
Эльга мечтала стать журналисткой. Исторический факультет манил девушку не меньше. Ефремов, словно бы в шутку, грозил проклятием, если она станет «журналюгой» или историком XIX века. По его представлениям это означало «продать своё перо». При ближайшем рассмотрении журналистско-писательская тропа оказывалась столь узкой!
В 1954 году Иван Антонович, работая над повестью «Там-ралипта и Тиллоттама», был особенно увлечён «мыслью Индии». Он направил Эльгу на собеседование на соответствующую кафедру исторического факультета МГУ. Однако в тот год был непредвиденный наплыв льготников, и девушка всего с одной четвёркой оказалась лишь на вечернем отделении. Ефремов пытался хлопотать, ходил к декану, которым тогда был археолог А. В. Арциховский.
Эльга Борисовна рассказывала: «Позже он решил, что я должна заниматься непосредственно археологией Средней Азии, а поскольку туда девочек не брали, выбрал для меня в качестве учителя крупнейшего специалиста по Сибири С. В. Киселёва, который тогда копал в Забайкалье. Меня взяли туда в экспедицию по его личной просьбе, причём сам Иван Антонович не только оплачивал дорогу, но даже покупал спальный мешок, необходимый для поездки. Однако наибольшую помощь он мне оказал после университета, обратившись с личным письмом к директору Института этнографии С. П. Толстому с просьбой меня взять в штат археологической Хорезмской экспедиции. Тот был поклонником Ивана Антоновича, рассчитывал через меня с ним познакомиться и принял на работу. Я в очередной раз оказалась взятой ради Ефремова. Применительно ко мне он поступал вопреки своим принципам не пользоваться своим именем, которые мне же внушал. В определённой степени я такой помощи заслуживала: мой диплом был признан лучшим, вскоре я поступила в аспирантуру, раньше всех сверстников защитила кандидатскую диссертацию и, тем не менее, в течение дальнейший жизни всегда стремилась его хлопоты оправдать, поскольку кроме него до меня никому не было дела. Я всегда ему подчинялась и при долгих экспедициях и большой научной нагрузке стремилась писать даже научно-популярные очерки и книги, как он этого от меня требовал. О том, что я на это способна, у него сложилось мнение из-за моих ещё первых писем из экспедиций».[246]
Когда Эльга Борисовна защитила кандидатскую диссертацию, Ефремов послал ей от имени своей семьи телеграмму: «Целуем свою Чайку на взлёте, теперь ждём литературных побед».
В романе «Туманность Андромеды» Ефремов нарисовал образ прекрасной и мудрой археологини — Веды Конг, достойной подруги Дар Ветра. Некоторые черты её облика — фигура, волосы — списаны с Эльги Вадецкой. Когда создавался роман, девушке было 20 лет. Неверно было бы говорить, что Эльга стала прообразом Веды Конг. Иван Антонович словно хотел создать в наше время — человека будущего, он наделил свою героиню теми качествами, которые хотел видеть в живой, современной женщине.
Он любил фантазировать, придумывая своей протеже наряды для раскопок, порой весьма далёкие от тех, что были удобны в полевых условиях. В 1959 году Эльга прислала из Тувинской экспедиции Ефремову свою фотографию в купальнике: в глубокой могиле она в шутку обнимала скелет. Фото было плохое, скелет виден нечётко. Ответ Ефремова поразил девушку: «Фу, Чайка, что за обман. Вы ведь обнимаете женщину». Эльга была потрясена: скелет действительно был женским. Но она никак не могла предположить, что Иван Антонович поймёт это по тусклому фото в яме.
В 1967 году, получив от Эльги в подарок её первую научно-популярную книгу «Древние идолы Енисея», он подарил ей очередное издание «Туманности Андромеды» с надписью: «Будущей Веде Конг для установления формы одежды на раскопках и открытия стальной двери». Обратите внимание — «будущей». Ефремов поставил перед своей Галатеей высокую планку, она создавала себя по его мысли, не жалея сил. Встреча с ним стала её судьбой.
В 2009 году доктор исторических наук, ведущий сотрудник Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург), специалист по археологии Южной Сибири и Центральной Азии (Тува и Монголия) эпохи энеолита, бронзы и железного века[247] по изучению искусства древних народов Сибири, палеоэтнографии и историографии Сибири Эльга Борисовна Вадецкая посвятила свою новую научно-популярную книгу «Древние маски Енисея»[247] памяти Ивана Антоновича Ефремова.
Тогда же, в 1959 году, Ивана Антоновича навестила в Абрамцеве Вера Васильевна Щеглова, когда-то аспирантка ПИНа, а теперь старший научный сотрудник Института геологических наук АН БССР. Перед отъездом в Белоруссию, пять лет назад, она навестила однажды Ивана Антоновича во время его болезни. Летом 1959-го она путешествовала на теплоходе «Грузия» вокруг Европы, после чего опубликовала в газетах несколько очерков. Это был прекрасный предлог, чтобы повидаться с Ефремовым.
Они долго беседовали на застеклённой веранде. Он разбирал её статьи, Вера читала ему белорусские стихи, рассказывала о республике, которая стала её второй родиной. Ивана Антоновича интересовало всё без исключения. На стихи Богдановича «Зорка Венера» он отвечал стихами на английском…
Это была последняя встреча Веры Васильевны и Ефремова. В 1960 году она вышла замуж, написала Эглону, с которым дружила, что её мужа зовут Сергей. В «Лезвии бритвы», над которым тогда начал работать Иван Антонович, появились лаборанты Гирина — Сергей и Верочка.
Иван Антонович и Вера обменялись несколькими письмами. Но ни в одном она не решилась спросить, как получилось, что детская биография прекрасной героини «Лезвия…» Серафимы Металиной повторила её биографию.
Вера Васильевна Щеглова пережила Ефремова почти на 40 лет. В конце жизни она признавалась: «…не было дня, чтобы я не молилась о вечном покое для его души…»[248]
…Так уютен и добр был созданный в Абрамцеве мир, пропитанный творчеством, что горькие мысли Ефремова, злопыхательства недоброжелателей и завистников отошли на дальний план.
Осенью 1959 года «Туманность Андромеды» была выдвинута на соискание Ленинской премии от издательства «Молодая гвардия», журнала «Техника — молодёжи» и Ленинградского университета. Тут обнаружилось, что племя врагов и завистников не поредело: вопрос рассматривался в парторганизации Союза писателей, «началась какая-то муть, верчение, неопределённость».[249] Создавалось впечатление, что пронизанная коммунистической идеей «Туманность…» не устраивала партийные круги отсутствием прямого, в лоб, славословия партии.
Ефремов в своём творческом уединении не хотел вникать в эти дела. Он буквально закопался в новую книгу, которая поначалу вырисовывалась как маленькая повесть. Было совершенно ясно, что у многих издательств не хватит смелости напечатать подобную вещь — так много в ней «неапробирован-ных» вопросов.
В начале февраля 1960 года Ефремов вернулся в Москву — но только затем, чтобы получить продление второй группы инвалидности ещё на год. Это продление освобождало его от казённой службы, в которую всё больше обращалась Академия наук. Не задерживаясь надолго в Спасоглинищевском переулке, Иван Антонович поспешил вернуться в Абрамцево: периодическая лихорадка могла обостриться в любой момент, а в покое дачной жизни её проявления сошли бы легче, чем в городе.
Комнаты при гараже были заранее протоплены. Комендант академического дачного посёлка Николай Фёдорович Шкаринов стал большим другом семьи. Он с женой Александрой Николаевной жил здесь постоянно. С особой теплотой этот пожилой человек относился к Тасе. До войны он был куратором детских домов от городского отдела народного образования, часто приезжал в детский дом на станции Правда, где жила Тася. Общие линии прошлого сближают людей. Николай Фёдорович часто приходил в гости зимой, когда посёлок пустовал, и сам предложил звонить ему перед приездом, чтобы дорогие дачники прибывали не в выстуженный холодами дом.
«Лезвие бритвы», захватившее внимание писателя, двигалось пока туго: мешали необычность тем и скверное самочувствие.
Из Москвы Ефремов привёз в Абрамцево целый мешок читательских писем: разобрать их, ответить на самые важные — не один день. Несколько писем от зарубежных корреспондентов потребовали особого внимания. Работа над повестью застопорилась. Таинственная болезнь не проявлялась резко — лишь общая вялость и апатия одолевали Ивана Антоновича. Возможно, последний год, проведённый на природе, в спокойной, доброжелательной обстановке, в окружении заботы и любви Таси, преломил силу болезни. Как бы то ни было, приступ в 1960 году не повторился, и странная лихорадка, порядочно потрепав здоровье Ефремова, наконец оставила его насовсем.
В мае Ефремов, приехав в город, перенёс удаление грыжи. К июню рана зажила, но врачи разрешили ему поднимать не более пяти килограммов. Иван Антонович мечтал о покое и сосредоточенности дачи. Там с весны всё запущено, трава не кошена, но скоро так душисто зацветут липы, таким дивным ароматом повеет с лугов, что невозможно сидеть в городе, в душной и тесной квартире.
Ефремов с новой силой налегает на «Лезвие бритвы». Тася всё свободное время посвящает разбору читательских писем и печатных рецензий, которые в беспорядке были отвезены в Абрамцево с городской квартиры.
В июле у них гостили Дмитревские с дочерью.
В сентябре Иван Антонович проводил Елену Дометьевну в Крым, в санаторий. Но санаторий оказался плохим, состояние жены ухудшилось, и Ефремову пришлось выручать её оттуда — в Москве можно было обеспечить хотя бы сносный уход.
Родные убеждали её, что пора ей выходить на пенсию и поберечь себя, что её состояние и возможности не позволят ей каждый день ходить на службу и выполнять все требования, предъявляемые к научному работнику. Но Елена Дометьевна мечтала поскорее поправиться и вновь взяться за любимое дело — только работа могла хотя бы на время утишить душевную боль. Она чувствовала себя очень несчастной. С момента появления Таисии в жизни мужа речь несколько раз заходила о разводе, но Елена Дометьевна отказывалась. Она не хотела верить, что можно столько пережить вместе, столько вместе сделать — и потерять любимого мужчину. Умом она ясно осознавала положение, но сердце отказывалось верить… Сколько разных чувств, так непохожих друг на друга, стоят за коротким словом «любить»! Обманывала себя: вот поправлюсь… Но в глубине души знала, что жить осталось совсем недолго. Иван Антонович жалел её, заботился, но как же хотелось любви. Может быть, той, которую в своё время не смогла дать мужу. Есть неизбежность в том, что пути человеческие расходятся. Сухо, защищаясь от внутренней боли, она произносила: «Я умру женой Ефремова».
Она часто вспоминала 1957 год, свою осеннюю поездку в Индию — с туристической группой. Она так долго желала увидеть эту загадочную страну![250] Правда, именно после Индии её болезни обострились. Может, тому виной резкая смена климата, тяжело протекающее привыкание организма к иным условиям.
Осень для Ефремова прошла в метаниях между Абрамцевом и Москвой. Тёмный, холодный ноябрь пришлось пробыть в столице, чтобы вычитать корректуры «Туманности…» для Гослита и «Дороги ветров» для Географгиза. Месяц выдался суматошным и утомительным. Сплошным потоком шли люди: кто по делу, кто просто повидаться. По старинному московскому обычаю, гостей полагалось встречать угощением.
В результате Ивану Антоновичу, который придерживался правила не есть после шести вечера, пришлось за компанию есть много и поздно. Пополнел, устал, печальные мысли одолевали после получения наглых, хамских ответов из Моссовета об обмене старой квартиры на новую, более удобную. Проходные комнаты совершенно не давали возможности не только спокойно работать, но даже и жить.
Аллан после окончания института получил свободное распределение, но на службу устроиться не мог. Оказалось, что геологу найти работу не так легко, как прежде. Между тем на 10 декабря была назначена его свадьба. Отпраздновали тихо, без особых торжеств и мещанских пышных застолий.
Иван Антонович мечтал выбраться в Ленинград, однако здоровье не позволяло. Работа над «Лезвием бритвы» всё затягивалась — Ефремову казалось, что повесть получается не такой, как надо бы; но начатое дело нужно закончить — хотя бы ради тех интересных мыслей, которые удалось заложить в это произведение.
В феврале 1961 года Ефремов вновь посещает врачей и возобновляет вторую группу инвалидности — за этот год надо закончить затянувшееся писание! Он спешит в Абрамцево, ставшее подлинной творческой лабораторией, но не чувствует себя в полном покое: Елена Дометьевна хворает, лежит в постели, и хотя к ней ходит медсестра, всё же надо быть к ней ближе. Аллан живёт у матери жены, занимается поисками работы — на его помощь в уходе за больной надежды мало.
В марте Ефремова вызвали из Абрамцева в Москву — приехали американские палеонтологи, и на плечи Ивана Антоновича по сложившейся в институте традиции легла забота об их приёме.
«Мосфильм» постоянно тревожит Ефремова разговорами об экранизации «Туманности…».
12 апреля через будни и фантастику вдруг ярким факелом прорывается сообщение: в космос полетел первый человек!
Радость велика и неподдельна. Однако она несколько осложняется для Ивана Антоновича: ему без конца звонят из всех газет, приходят домой с просьбами написать статьи о первом полёте в космос. Дело кажется писателю настолько великим само по себе, что нет никакого желания сгибаться по этому поводу в придворных поклонах, ибо, как шутил Ефремов, он явился в сей мир с врождённым неумением. Тася отвечала на все звонки, что писатель не может подойти к телефону.
Елене Дометьевне становилось всё хуже, и её положили в больницу. Отъезд в Абрамцево стал невозможным — надо было постоянно навещать жену.
Смерть Елены Дометьевны
Апрель. Елена Дометьевна в больнице, на ноги не встаёт. Ефремов, отложив «Лезвие…», пишет для газеты «Известия» по предложению главного редактора А. И. Аджубея, зятя Хрущёва, статью о литературе и науке.
У Таисии Иосифовны нашли тромбофлебит, врачи прописали ей постельный режим. Аллан пока ещё безработный.
Май. Елена Дометьевна всё ещё в больнице. Врачи определили у неё несколько заболеваний сразу, причём каждое из них усугубляло общее состояние. Цирроз сердца, отёк лёгких, водянка.
Июнь. Аллан отправился в Алданскую экспедицию МГУ с сотрудниками кафедры мерзлотоведения, чтобы исследовать Ороченское золотое месторождение. Жена Ольга вскоре поехала вслед за ним. Ефремов после трёх месяцев забрал жену из больницы. Болезнь её усугубилась. Наступившая жара ухудшила положение. Медсёстры говорили, что её отпустили домой умирать. Иван Антонович и Таисия Иосифовна ухаживали за тяжелобольной женщиной. Днём дежурила медсестра, ночью няня. Елена Дометьевна так ослабела, что не может перевернуться с боку на бок. Как каждому тяжелобольному человеку, ей каждую минуту что-то надо. Тася спит по шесть часов в сутки.
1 августа 1961 года Елена Дометьевна умерла.
В письме В. И. Дмитревскому Иван Антонович писал: «Для всех нас, кто был с Еленой Дометьевной всё последнее время, её внезапный уход явился как бы шоком. Хотя мы были заранее подготовлены врачами и знали, что болезнь безнадёжна, но почему-то были уверены, что нам удастся продлить жизнь нашего Ежонка ещё на несколько месяцев. И смерть её очень сильно подействовала на всех нас и на меня в том числе особенно, так как вместе с Е. Д. ушёл навсегда большой кусок жизни от молодости до старости (мы были вместе 26 лет) и утрата, сама по себе большая, усилилась ещё чувством острой боли и жалости после всех мучений, которые пришлось претерпеть бедному Ежонку. Никогда не думал, что декомпенсация порока сердца — такая страшная штука. Это, право, ничем не лучше рака, даже хуже!
Только в одном была милостива судьба к Елене Дометьевне — умерла она в одно мгновение, говоря со мной, на полуслове и не успев осознать, что умирает. А ей в последнее время так хотелось жить и так она раскаивалась, что была легкомысленна в отношении со своим здоровьем!».[251]
Гражданская панихида. По одну сторону гроба — Иван Антонович с Тасей, по другую — все сотрудники Палеонтологического института. Ефремов знал уже про ядовитый шёпот: мол, специально уморили Елену Дометьевну. Но они с Таисией Иосифовной держались твёрдо, в полном сознании чистоты любви и чести. Острое ощущение инферно не отпускало, не было возможности в мире заскорузлой морали доказать нравственность любви и самоотвержения. Наконечником стрелы вошла эта сцена в сознание Таси, испытывавшей помимо душевных мук ещё и предельную физическую усталость. Иван Антонович знал, что лишь своими произведениями он сможет показать правду их отношений. «Лезвие бритвы» будет романом, который покажет подлинность любви между мужчиной и женщиной…
Аллан был вызван телеграммой, но, добираясь из далёкой Якутии, на прощание с матерью опоздал.
Последняя просьба Елены Дометьевны — урну захоронить в море возле Коктебеля, а прах развеять над Карадагом. В 1962 году с помощью Марии Степановны Волошиной и своего друга Валентина Селивёрстова Аллан захоронил урну в Чёрном море, под Карадагом, напротив скалы «Профиль Волошина».
После кремации Ефремов и Тася уехали в Абрамцево, чтобы сбить чисто физическую усталость. Однако печаль не уходила — два лета Елена Дометьевна жила на этой даче, и воспоминания наполняли пространство.
Затем со старым верным другом Марией Фёдоровной Лукьяновой добыли билеты на пароход и 31 августа отправились вниз по Волге до Астрахани. Волга с её неспешным течением помогала снять груз прошедшего, спокойно посмотреть в будущее.
Увы, на этом полоса потерь не закончилась. 8 ноября из жизни в 57 лет ушёл Сергей Владимирович Киселёв, тот самый шумный, громогласный археолог, который раскапывал древние города Монголии и открыл для Ефремова мир Древней Руси. Один за другим исчезали старые друзья. Приближалось что-то новое, неведомое.
Завершая роман
Осенью 1961 года Ефремов обратился с письмом к президенту Академии наук, прося обменять ему старую квартиру на новую. В это время полным ходом шло строительство новых домов в районе Ленинского проспекта, именно туда селили сотрудников академических институтов. Дело, казалось, сдвинулось с мёртвой точки. Во всяком случае, Иван Антонович решил до конца пройти через все бюрократические препоны и подготовить документы.
Аллан с Ольгой задержались на Алдане до декабря, и Ефремов вновь углубился в свою повесть.
Ещё весной, не имея возможности спокойно писать, он дал волю своей фантазии. В результате возник потрясающий детективный сюжет «Корона Искендера»: итальянцы охотятся за алмазами возле берегов Южной Африки и достают со дна моря таинственную корону. Иван Антонович азартно поделился этим сюжетом с сыном и его другом: у сына неплохой слог, он сможет написать приключенческий роман, который вызовет настоящий ажиотаж у читателей. Однако вскоре Аллан, не расположенный к литературному творчеству, уехал в экспедицию. Расставаться же с замечательным сюжетом Ефремову не хотелось, так и подмывало написать самому — но где же взять время?
Повесть «Лезвие бритвы» в том варианте, в котором была написана к весне 1961-го, всё более походила на научно-популярную вещь, буквально балансируя на грани художественной литературы.
Что, если положить материал «Лезвия…» на приключенческий сюжет — на «Корону Искендера» и присоединить сюда некоторые части давно написанной индийской повести? Получится роман с тремя сюжетными линиями, в котором научно-популярный материал станет на своё место без ущерба для художественности.
В письме В. И. Дмитревскому Ефремов размышляет: «Сущность «Лезвия» в попытке написания научно-фантастической (точнее — научно-художественной) повести на тему современных научных взглядов на биологию, психофизиологию и психологию человека и проистекающие отсюда обоснования современной этики и эстетики, для нового общества и новой морали. Идейная основа повести в том, что внутри самого человека, каков он есть в настоящее время, а не в каком-то отдалённом будущем, есть нераскрытые могучие силы, пробуждение которых путём соответствующего воспитания и тренировки приведёт к высокой духовной силе, о какой мы мечтаем лишь для людей отдалённого коммунистического завтра. То же самое можно сказать о физическом облике человека. Призыв искать прекрасное будущее не только в космическом завтра, но здесь, сейчас, для всех — цель написания повести».[252]
Заглянув в глаза смерти, Ефремов явственно ощущает: из всего, что написано и задумано, ничего нельзя держать про запас. Сколько ещё жить осталось — неизвестно, надо стремиться воплотить сейчас всё, что возможно.
Весной 1962 года Иван Антонович и Таисия Иосифовна регистрируют свой брак. В свидетелях — сын Аллан и его жена Ольга Петровна Павлова. Вернувшись домой, выпили по бокалу вина. Никаких торжеств не устраивали. Иван Антонович шутил: чем пышнее свадьба, тем быстрее развод.
Как только позволили дела, Иван Антонович уединился на даче. Он пишет, пишет, пользуясь временем, отпущенным ему судьбой. Лето 1962 года проходит в Абрамцеве, где после итальянской он заканчивает индийскую часть романа и работает над русской.
В середине лета в семье Ефремовых пополнение — у Аллана и Ольги родилась дочь Дария. Ольга с ней поселилась на даче, и Иван Антонович, отпустивший по этому поводу усы, радостно наблюдал, как растёт маленькая девочка, как всё более осмысленным делается её взгляд, как радостно разглядывает она широкий мир.
Ефремов рассчитывал, что к концу 1962 года он сможет завершить маленькую повесть, превратившуюся в масштабный роман.
Ольга Петровна вспоминала, что рядом с Иваном Антоновичем жить было легко и радостно. Он никому не создавал трудностей своей работой, не требовал к себе повышенного внимания. Он стремился передать не тяжесть долга, а лёгкость знания.
Однако финал вновь отодвигался — на этот раз благодаря радостному событию: после четвертьвековой жизни в Спасоглинищевском переулке Ефремову наконец выделили новую квартиру. Всего две комнаты, сравнительно небольшие, но в хорошем доме, в тихом, удалённом от шумного центра районе, на небольшой улочке, перпендикулярной Ленинскому проспекту.
Бумажная волокита и хлопоты с переездом заняли почти три месяца. Молодёжь: Валентин Селивёрстов по прозвищу Буйвол, Юрий Зайцев, Аркадий Григорьев — пришла на помощь (Аллан был в экспедиции), и ящики с рукописями и книгами перевезли довольно быстро, за полдня. Новоселье отпраздновали пельменями.
Иван Антонович любовно расставлял книги по полкам — тематически: тома, посвящённые Древней Греции, Древней Руси, Африке, Востоку, красочные альбомы, фантастика русская и переводная, книги по геологии и палеонтологии. По чётное место над входной дверью занял арслан, привезённый из Монголии. В кабинете рядом с окном встали массивный рабочий стол и резное дубовое кресло. На столе — фигурка рыцаря, закованного в латы, и хрустальный стаканчик с ручками и карандашами. По обе стороны двери — два африканских копья: с широким лезвием — копьё охотников на слонов племени ватутси, с длинным узким лезвием — копьё масаев для охоты на львов. (Никто не догадывался, что это не настоящие копья, а макеты.) В спальне повесили деревянную люстру с жёлтым абажуром, доставшуюся от отца, и любимую, великолепную «Фрину».
Потянулись визитёры: друзья и знакомые шли взглянуть на новую квартиру, затем повторяли визиты. Чтобы прервать эту цепь и втянуться в работу, Иван Антонович в середине ноября вновь уехал в Абрамцево.
На завершение «Лезвия…» требовалось ещё не меньше месяца. Ефремов рассчитывал отдать роман в ленинградский журнал «Нева» — именно там работал Дмитревский, и это было некой гарантией, что его детище не искромсают нелепыми сокращениями, не искорёжат бездумно. Ни «скользких» тем, ни крамолы в новом произведении не было, но необычность его требовала от редакции известной храбрости.
В это время всю литературную Москву взбудоражило известие о приезде польского фантаста Станислава Лема, к тому времени уже написавшего «Человека с Марса», «Астронавтов», «Магелланово облако».
Ивану Антоновичу сообщили, что Лем желает с ним встретиться.
Ефремов писал Дмитревскому:
«На свидание с Лемом решил не ходить — мне кажется, что Лем относится к нам с высокомерием, потому, что ежели бы он по-серьёзному хотел со мной встретиться, как писатель с писателем, то он должен был бы написать мне о своём желании, а не выражать его вообще. Тут наши засуетились, стали донимать меня телеграммами, чтобы я пришёл на встречу, а я протелеграфировал им, что люди культурные, ежели хотят встречи, так предварительно списываются, а не изображают генерала, на встречу с каковым сгоняют писателишек. Наверное, «деятели» изумились, а может — и нет, если им плевать».[253]
Вновь сумрачное декабрьское утро заглядывало в окно абрамцевской дачи. Призрачный зимний свет заставал Ивана Антоновича за письменным столом: он уже сделал небольшую зарядку, позавтракал и вновь собирал свои мысли в единый луч, чтобы одолеть сложнейшую часть — беседу Гирина с индийскими мудрецами. Строжайшая дисциплина мысли требовалась, чтобы свести воедино три столь разноплановые линии романа и довести его до финала.
Ефремов уже несколько лет мечтал приехать в Ленинград, писал об этом желании друзьям — а долгожданная поездка всё откладывалась. Жемчужный свет небес в Абрамцеве, низкое декабрьское небо напоминали ему о любимом городе, тревожили воспоминаниями, и Иван Антонович решил закончить роман эпилогом, в котором Гирин с Симой отправятся гулять по островам Северной столицы.
В конце декабря 1962 года кончался срок аренды академической дачи, где были написаны «Юрта Ворона», «Афанеор, дочь Ахархеллена» и — почти целиком — огромное «Лезвие бритвы». Пора было закрывать эту страницу — сейчас дела, связанные с изданием нового романа, потребуют его присутствия в Москве. К 24 декабря Иван Антонович и Тася решили эвакуировать дачу окончательно.[254]
В середине января 1963 года Ефремов дописал последние страницы романа, который в процессе работы приобрёл неподъёмный для журнальной публикации объём.
Правка и перепечатка рукописи оказались гораздо более длительным делом, чем думал сам Ефремов: первая часть, написанная давно, потребовала гораздо большей работы, чем ожидалось. Иван Антонович порядком пристал, как говорят в Сибири, но изо дня в день садился за стол, чтобы продолжить правку. Перепечатка требовала сверки, которую надо было держать под личным контролем. Таисия Иосифовна, Тасёнок, как он ласково называл её, превратилась в злобную пуму: она вынуждена была постоянно прогонять посетителей, которые вереницей шли к Ефремову. Телефон в новой квартире ещё не установили, и это создавало дополнительные трудности.
В начале марта перепечатанная и сверенная рукопись наконец была сдана в редакцию «Невы».
«Лезвие бритвы»
Пятьдесят лет прошло с тех пор, как опубликован роман «Лезвие бритвы». Сразу после издания в газетах и журналах возникло множество отзывов о нём, письма шли непрекращающимся потоком. Но — увы! — за полвека так и не появилось обстоятельного литературоведческого исследования. «Туманности Андромеды» и рассказам повезло чуть больше — о них успели подробно написать в книге «Через горы времени» Е. П. Брандис и В. И. Дмитревский.
За первым изданием романа читатели буквально гонялись, в библиотеках выстраивались годовые очереди. На чёрном рынке экземпляр стоил 30–40 рублей — огромная сумма, треть зарплаты молодого инженера! Счастливым обладателям книги завидовали. В середине 1970-х желание прочитать и перечитать роман не иссякло; в конце 1980-х, в годы массового прорыва информации, когда тиражи Ефремова стали исчисляться миллионами, «Лезвие бритвы» мгновенно покидало полки магазинов.
Книгу стремились прочитать и школьники, и зрелые учёные. Авиаконструктор П. В. Цыбин рассказывал о Королёве: «Дома у Сергея Павловича… я видел и книги И. А. Ефремова. Однажды Сергей Павлович неожиданно вышел ко мне с книгой — это было «Лезвие бритвы» — и спросил меня: «Ты читал эту книгу?» Я говорю: «Нет, не читал». — «Обязательно прочти! Здесь есть над чем подумать».[255]
Отзыв неудивительный, если учесть отношение главного конструктора к точности и красоте. Если рабочий при сварке делал прочный, но неровный шов, то Королёв требовал исправить его, сделать приятным глазу. Это была не причуда, но выстраданное жизнью понимание: в некрасивом чаще таится скрытый дефект, порой имеющий значение лишь во взаимном усилении с другими, незначительными, казалось бы, небрежностями. В целом же ослабляется вся структура.
Роман, сыгравший огромную роль в самоосознании общества, повлиявший на каждого своего читателя, обязательно должен быть осмыслен. Это ещё предстоит сделать — в нашей книге мы дадим лишь краткий очерк.
«Лезвие бритвы» — творческий эксперимент, в котором три сюжетные опоры — русскую, итальянскую, индийскую — замыкает встреча всех главных героев в Индии. Ефремов, безусловно, в выборе сюжетов и антуража ориентировался в первую очередь на современную ему молодёжь — в массе своей детей войны, многие из которых вынуждены были работать, часто не имея материальной возможности продолжать образование, рвались в институты, мечтая двигать страну вперёд. Многие приезжали в города из деревень, стремились к знаниям и упорно искали их. Этих людей и видел перед собой Иван Антонович, создавая масштабное полотно, по которому пролегали маршруты его героев. Чтобы облегчить восприятие сложного теоретического материала, ради которого задумывалась книга, он выбирает форму приключенческого романа.
Попробуем поставить себя на место молодых людей начала 1960-х годов. Тогда в «Лезвии бритвы» практически каждая страница окажется для нас ошеломляюще новой — причём на всех уровнях восприятия.
Для начала возьмём итальянскую линию.
Иван Антонович переписывался с многочисленными зарубежными друзьями, принимал их у себя в гостях, получал из-за границы журналы — одним словом, он достаточно хорошо представлял себе мир западного капитализма, отделённый в те годы от СССР холодной войной и «железным», лишь изредка приподнимающимся занавесом. Среду западных актёров и художников, почти совершенно не знакомую советскому читателю, но безумно притягательную, он и выбрал для изображения. Яхта «Аквила», принадлежащая знаменитому актёру Иво Флайяно, «мисс Рома» — его богемная подруга Сандра, пара аквалангистов — художник Чезаре Пирелли и отважная ныряльщица Леа плюс суровый капитан Каллегари: всё это неумолимо должно было привлечь читателей — любителей приключений. Плавание по Атлантическому океану, опасные погружения в аквалангах, алмазы Берега Скелетов, затонувшие в древности суда, таинственная корона, великолепный Кейптаун, который многим был известен только по песенке «В Кейптаунском порту…» — даже отдельно взятый сюжет из подобных ингридиентов был обречён на успех. Добавить к этому пылкость итальянцев, связь без любви, развенчание киногероя, любовь и ревность благородного лейтенанта Андреа — и становится понятно, почему даже сотрудницы телефонной станции, где чета Ефремовых добивалась установки домашнего телефона, просили Таисию Иосифовну принести им хоть один экземпляр «Лезвия…».
Индийская линия не менее привлекательна. Древние монастыри Ладакха, громады Каракорума и Гималаев, общение с гуру, необычайные испытания духа, природа равнинной Индии, храмы Кхаджурахо, любовь к прекрасной танцовщице-найярке, оказавшейся артисткой кино и практически рабыней продюсера. Скульптор Даярам, любя Амриту Тиллоттаму, испытывая жгучее чувство ревности, ищет избавления от него в удалённом монастыре Тибета, затем с помощью итальянцев и местных йогов похищает возлюбленную у продюсера и, уединяясь в домике на берегу океана, ваяет статую апсары. А русский геолог становится их товарищем.
Индия в 1960-е годы была, пожалуй, даже более закрытой для советских людей, чем мир Запада, — из-за внутренних распрей и противостояния на религиозной и социальной почве. Эта страна с её красочным, необычным для северян видом, многоликая, исполненная тайных знаний, дававших посвящённым могущество, чрезвычайно привлекала советских людей. Книги о йоге, о древних знаниях и искусстве Индии в СССР были столь редки, что главы «Лезвия бритвы» досконально изучались читателями как единственный источник столь желанных сведений.
Русская часть романа тоже рождала в читателях ощущение тайны. Вроде бы всё просто: действие происходило в хорошо знакомой стране, однако и герои, и события казались читателям необычайными, словно плотно облегающий душу футляр быта вдруг рассыпался прахом и явственно проступили контуры совершенно иных, непривычных отношений и явлений. Герои Ефремова были совершенно непохожи на знакомых всем героев производственных романов. Они не добивались перевыполнения плана, не поднимали целину, но сосредоточенно и увлечённо занимались наукой, гимнастикой, танцами, во время дружеских застолий обсуждали новости из разных областей знания. Знакомые незнакомцы — так воспринимались они простыми читателями. Среди обыденных действий — работы, посещения поликлиники, встреч с друзьями — возникали поступки, которые вызывали жгучий интерес. Оказывается, молодая женщина может всерьёз заинтересоваться зрелым мужчиной. Оказывается, любовь к чаю может сблизить людей (абсолютный нонсенс для страны, где не было культуры чая). Оказывается, на свидании с мужчиной можно свободно говорить о любимых картинах, о танцах и музыке, а деньги, выигранные в лотерее, потратить не на вожделенный для большинства ковёр или диван, а на трёхдневное путешествие в весенний Крым!
Завораживал образ Ивана Гирина — поразительная исследовательская деятельность, которую он вёл сверхурочно на свой страх и риск, способность к медицинской диагностике и гипнозу, знание психологии и самоконтроль. В отличие от исполненного ревности чувства в итальянской и индийской части Гирин и Сима создавали совершенно иной образ любви, построенный на глубоком понимании, уважении и отсутствии чувства собственности, на котором зиждется ревность. Советский кинематограф тех лет состоял из картин, где любовь представлялась в многочисленных эмоциональных всплесках наивной страсти и диковатой ревности на фоне деревенских или заводских пейзажей. Гирин, Сима и Мстислав Ивернев с его любовью к Тате выглядели на этом фоне как инопланетяне. Даже введение в русскую часть шпионской темы вызывало меньше интереса, чем духовные облики главных героев.
Русская часть единственная имеет глубокое обращение к прошлому, многоступенчатое, если учитывать пролог, в котором мы попадаем в 1916 год, на выставку самоцветов Алексея Козьмича Денисова-Уральского. Здесь завязывается сюжетная нить всего романа, связанная с редким загадочным камнем, здесь же мы встречаемся с автобиографическим образом — мальчиком Ваней. Второе погружение — в знойное лето 1933 года, когда студент Гирин, выполняя первое самостоятельное исследование, оказался на Волге, где встретился с Анной. Читатели 1960-х годов, в большинстве своём ещё связанные корнями с деревней, узнавали реалии уходящей жизни, близко к сердцу принимали трагическую историю талантливой девушки. Интеллигенция же как откровение восприняла описанный автором обычай омовения в росе — на заветной поляне, где когда-то стояли древние идолы.
Ещё одной временной ступенью становится Великая Отечественная война. Под Москвой, уйдя на фронт добровольцем, погибла Анна, был убит и друг героя, скульптор, ставший её мужем. Сам Иван Гирин отдал войне и её последствиям огромную часть жизни, много лет служа хирургом, главным врачом госпиталя.
Неизмеримо углубляют хронотоп всего романа видёния охотника Селезнёва, запечатлённые в ходе эксперимента по высвобождению наследственной памяти. Как вехи ушедшего, но неисчезнувшего прошлого человечества воспринимаются образы тибетских монастырей, храмы Кхаджурахо, тантрические обряды и история исчезнувшего флота Неарха.
Три части, несмотря на своеобразие сюжетов, не выглядят чуждыми, разнохарактерными: их объединяют авторский взгляд, постоянное осмысление фактов, событий, чувств, испытываемых героями. Лекционный материал, которым особенно нагружена русская часть, должен был, по мысли автора, служить важнейшей цели: только знание может стать основой духовного самовоспитания, без которого невозможно пройти лезвием бритвы — узкой дорогой к совершенному обществу («Эпилог»).
Проглотив книгу за одну-две ночи, ухватив нити интриги, молодые читатели возвращались к роману ещё и ещё раз, обращая внимание уже не столько на события, сколько на вдумчивые размышления автора, на богатство сведений по самым разным наукам, на цитаты и упоминания поэтов и художников, о которых в те годы не принято было говорить (М. И. Цветаева, М. М. Шкапская, 3. Е. Серебрякова, Н. К. Рерих). Деревянную статую Анны сравнивали со статуей С. Т. Конёнкова в Третьяковской галерее.
Распространено утверждение, что прототипом Ивана Родионовича Гирина стал Алексей Петрович Быстров, и слова самого Ефремова в предисловии ко второму изданию это вроде бы подтверждают. Но не стоит вырывать их из контекста: «Среди множества писем, мною полученных, больше всего волновали меня трагические просьбы о помощи в болезнях. Читатели принимали меня за врача или, во всяком случае, просили познакомить их с прототипом главного героя. Заранее должен сообщить, что я сам — не врач, а прототипом Гирина послужил мой покойный друг, врач и анатом, ленинградский профессор А. П. Быстров, который, увы, уже не придёт ни к кому на помощь».
Разумеется, заявлять во всеуслышание о писании героя с себя было бы не очень корректно. Какие-то качества, общие у Гирина с Быстровым — скажем, пресловутая способность к диагностике — была в наличии и у самого Ефремова, пусть и не в такой ярко выраженной, профессиональной форме. Конечно, Гирин, как и Быстров, был военврачом. От Быстрова же герою досталось и умение играть на пианино: обоим хорошо думалось под музыку.
Однако в большинстве черт образ Гирина имеет автобиографичный характер.
Быстров был человеком нелюдимым, Гирина же мы видим в постоянном общении. Трудно узнать невысокого, остроумно-язвительного, лысоватого Быстрова в большом надёжном Иване с неторопливой речью и отточенными жестами.
Могучая фигура с широким костяком, стремление проникнуть в сферу бессознательного, потрясающая работоспособность и задатки необычных способностей, круг интересов, дружеские связи и отношение к Симе, в образе которой воплотилась Тася с биографией Веры Щегловой. Обобщающие формулировки, фокусировка идей и глубокая внутренняя уравновешенность — всё это, конечно, черты, присущие прежде всего самому автору. И даже привычка убегать от огорчений в зоопарк принадлежит Ефремову.
В этом ключе крайне любопытен ещё один заход: в прологе, после философского вступления о судьбе и ключевых событиях, открывающих её новый виток, рассказывается о выставке, где в одном помещении находятся серые камни — немые герои романа, и голубоглазый мальчик Ваня, полный внимания и замирающий перед красотой разнообразных минералов. Само собой воспринимается этот мальчик маленьким Гириным, но… тому в момент проведения выставки было всего два годика, и это явно не он. Зато другой мальчик Ваня — Ефремов — из всамделишнего мира — вполне мог посетить такую выставку в 1914 году. Здесь мы видим уникальный для Ефремова приём, который положил во главу угла всего своего творчества другой выдающийся писатель — Владислав Петрович Крапивин. Речь идёт о скрещивании двух реальностей и рождении благодаря этому невероятной и непредсказуемой третьей, которой словно сообщается дополнительное измерение. Мир, в котором происходят такие превращения и пространственные наложения, Крапивин назвал… Великим Кристаллом.
Писатель, учёный, мыслитель
Во главе Монгольской экспедиции
И. А. Ефремов, Н. И. Новожилов и А. К. Рождественский в Гоби
Поцелуй. Абрамцево, 1947 г.
Ефремов с сыном Алланом
Писатель за работой. 1950 г.
Аллан, Е. Д. Конжукова и И. А. Ефремов в санатории «Узкое»
Трое на берегу. Коктебель, 1951
Интерьер дома Волошина в Коктебеле
Ефремов в своём кабинете
У машины «Дракон» в Монголии
И. А. Ефремов и К. К. Флеров у скелета динозавра
С немецким палеонтологом Фредериком Хюне
Ефремов с коллегами в гостях у П. К. Чудинова. 1961 г.
Елена Дометьевна в Никитском ботаническом саду
Ефремов с Алланом. 1952 г.
До конца жизни Иван Антонович сохранил страстность натуры
Э. Б. Вадецкая. 1950-е гг.
Журнал с первой публикацией романа «Туманность Андромеды
Шуточный «паспорт землянина», выданный Ефремову друзьями
Иван Антонович и Таисия Иосифовна. 1970 г.
Иллюстрации Галины Яремчук к роману «Лезвие бритвы»
Такими Г. Яремчук увидела героев Ефремова: Симу Металину, Чару Нанди, танцовщицу Тиллоттаму
Обложки книг И. А. Ефремова
Библиотека им. И. А. Ефремова в Вырице с установленным перед ней памятником писателю
Программа Пятых Ефремовских чтений. Апрель 2013 г.
Могила И. А. Ефремова на кладбище в Комарове
Думается, причин, из-за которых Ефремов отвёл внимание от себя, несколько. Ему важно было добрым словом помянуть ушедшего друга, привлечь внимание к его личности. С другой стороны, в письмах люди просили о помощи, а Ефремов не мог её оказать. И вынужден был отвести часть потока от своей персоны.
Во времена перестройки, когда произведения Ефремова вернулись к массовому читателю, восприятие романа оставалось таким же острым, вызывало те же животрепещущие темы и вопросы. Только в обществе уже не было порыва самоотвержения, стремления жить ради прекрасного коммунистического будущего, на первый план выступили вопросы совершенствования — не ради общего блага, а ради возвышения личности. И тут «Лезвие бритвы» давало обильную пищу для умов и сердец.
Минуло ещё четверть века. Прекратил своё существование Советский Союз, в России воцарился олигархический капитализм, и все прежние реалии западной жизни контрастно и отчётливо проступили в повседневности, напоминая слова Леа о судьбе молодёжи, которая живёт без будущего. Молодых читателей начала XXI века уже не удивляют сцены на яхте знаменитого киноактёра, их скорее удивит поведение Гирина, который безвозмездно работает ради научных открытий и не берёт денег за лечение больных. Песочные часы перевернулись; там, где было узко, стало широко. В 1960-е ничего не знали о йоге — сейчас, во многом благодаря Интернету, доступны любые сведения, однако это создало ощущение лёгкости обретения, что привело к поверхностности, не позволяющей в полной мере оценить дарованное. Хочешь спрятать хорошо — положи на видное место. В сплошном информационном шуме не остаётся места для глубоких раздумий и вчувствования в предмет, необходимых для духовных практик.
Современный читатель, умеющий сосредоточивать своё внимание, разглядит в «Лезвии бритвы» все достоинства, которые не померкли, а только ярче заблистали за пол столетия. Иван Антонович надеялся, что появится много подобных книг, сплавляющих воедино интригу и знание. Однако «Лезвие…» так и осталось уникальным произведением подобного рода.
Ефремов продолжает двигаться в направлении, которое критики после публикации «Рассказов о необыкновенном» назвали приключениями мысли. Мысль здесь следует воспринимать отдельным литературным персонажем, имеющим свою судьбу и психологию, она вступает в многоуровневые отношения с другими героями и явлениями действительности. Диалектика души Толстого на века останется образцом, а «детективы для домохозяек» — анекдотом-приговором для нашего времени. Творческая мысль должна иметь сложную разветвлённую структуру, быть осознанна, а значит — выражена в слове. И уже в силу этого неизбежно противоречива и захватывающе динамична.
Умение насладиться приключениями мысли — искусство, которое необходимо вырабатывать. И Ефремов обильно насыщает свои книги вставными сюжетами, окутывает тело романа густой и сложносоставной ментальной ноосферой с тончайшими огненными смыслами в потаённой сердцевине. Словно подчёркивает практичность философских дефиниций, выраженных в одном из писем Олсону: необходимость дополнить утверждение Маркса о бытии, определяющем сознание, контрутверждением — что и сознание определяет бытие. И что дух является не функцией, но высшей формой материи…
В «Лезвии бритвы» читателя держит в напряжении не только детективный сюжет, но — главным образом — развитие научных идей. Важное место занимают поиски Иваном Родионовичем ключа к Себ, пятой душе древнеегипетской мифологии, вместилищу памяти поколений.
Опыты Гирина с наследственной памятью, с вызыванием эйдетических видёний прошлого столь удивительны, что морально уравнивают советского учёного с индийскими мудрецами, дают ему право говорить об индийской мудрости так, как он говорит — почтительно и внимательно, но дерзко и строго. За самим Гириным стоит полнота полученной западными методами поразительной информации, сходной с результирующим вектором многовековой йогической практики. Разумеется, опыты с ЛСД были в СССР недоступны, а позже их запретили во многих странах мира, хотя до сих пор ведётся полемика о влиянии препарата на физиологию человека. Во время написания романа тема была исключительно свежа и горяча — словно из печки. Только-только начинал свои опыты Станислав Гроф, позже ставший патриархом трансперсональной психологии. Откуда же Ефремов брал информацию настолько детальную, что описывал даже химическое воздействие препарата? След ведёт к его другу, психофизиологу Ф. В. Бассину. Будучи энциклопедически образованными людьми, они свободно обсуждали стоящие перед наукой проблемы, пытаясь предугадывать пути её становления. Может быть, некоторое влияние оказала повесть Айзека Азимова «Фантастическое путешествие»: Азимов был не только фантастом, но и популяризатором науки, биохимиком, и ему были знакомы особенности воздействия препарата ЛСД-25, открытого Альбертом Хофманом.
Поразительны видёния охотника Селезнёва, вызванные расщеплением сознания и подсознания и пережитые им как подлинные события. В одном из романов любимого Хаггарда аналогичное переживает Аллан Квотермейн. Необычные животные, пасущиеся стадами в степи, сражение с саблезубым тигром, создание каменных сооружений, где могли прятаться древние охотники, набег доисторических слонов — архидис-кодонов, встреча с четырёхметровой обезьяной гигантопитеком — в этих картинах автор даёт нам краткую историю эволюции человека, концентрированно показывает биологические и психологические механизмы, приведшие к возникновению современного образа человека.
Эволюция человека построена на гуманизме, в основе которого лежит мощный инстинкт сохранения рода. Людей «так мало, каждый на счету, каждый бережно охраняется своими соплеменниками. Как трудно во всех превратностях жизни вырастить бойца-мужчину или способную к продолжению рода крепкую женщину! Бесконечно долго вырастают человеческие детёныши, прежде чем становятся полноценными, обученными и воспитанными членами племени. Поэтому каждый погибший или искалеченный в схватке с хищниками человек — большая утрата, а гибель нескольких охотников или женщин может поставить всё племя на грань исчезновения». Высокая ценность индивида, забота о потомстве — вот подлинная база человеческой нравственности. Каждая человеческая жизнь — драгоценный цветок. Это понимали наши предки 300 веков назад, с этим же ощущением будут растить детей люди эпохи ЭВК и ЭВР (Эры Встретившихся Рук, описанной в «Часе Быка»).
Образ лезвия бритвы буквально пронизывает роман. В ситуации с опытами он озвучен так: «Нормальный человек — это тот, у кого, выражаясь фигурально, стрелка показателя психики трепещет на нуле — на неощутимой грани между сознанием и подсознанием, взаимодействующими вдоль этого тонкого, как… лезвие бритвы, психического стержня абсолютно здорового «я».
Современная исследовательница Е. А. Мызникова в своей диссертации, посвящённой рассказам Ефремова,[256] отмечает богатую образную структуру, основанную на идее нуля-лезвия. Чётко прослеживается представление о синтезе как о грани между пространством и временем, прошлым и будущим, науки о человеке как природного объекта (физиология) и культурного (психология), герои идут то вдаль, то вглубь (и буквально, и метафорически — макро- и микрокосм).
Исследования Гирина дали столь выдающийся результат, что у любого учёного был бы большой соблазн продолжить опыты. Да и сам Селезнёв умолял доктора продолжать. Однако начало сказываться кумулятивное действие препарата, и ради здоровья охотника эксперимент следовало прекратить. Гирину удалось пройти по лезвию бритвы, получив уникальные данные и сохранив здоровье испытуемому.
Удался этот путь и в случае излечения лётчика Дёмина, больного раком. Суть достижения Гирина — понять причину болезни как нарушения нервно-химической регулировки, тончайшего баланса человеческого организма — на лезвии бритвы и воздействовать гипнозом, тщательно продумав последовательность внушений — так, чтобы больной активно помогал врачу всем напряжением своей психики.
Способность к гипнозу, осознаваемая человеком как высокий дар, требует точнейшей дозировки, применения в соответствии с высочайшими нравственными установками. Пройти по лезвию, не соскользнуть — в этом высокая ответственность перед людьми. Гирин применяет гипноз несколько раз. Заставляет Дерагази признаться в его истинных побуждениях, требует у женщины-хирурга признания в садистических наклонностях и ставит на них запрет, лечит лётчика — действуя во благо людей. Лишь раз он включает гипнотическую способность не ради других, а ради себя, когда в Никитском саду заставляет Симу упасть в его объятия, и глубоко сожалеет об этом. Ибо в основе подлинной любви — свобода воли каждого.
Развитие психической энергии должно сопровождаться самовоспитанием, ростом нравственных качеств, иначе последствия могут быть трагическими. Вспомним: в «Туманности Андромеды» люди Эры Великого Кольца сознательно задерживают развитие экстрасенсорики.
Поэтому появление в романе Вильфрида Дерагази не случайно и обусловлено не только литературной необходимостью фигуры злодея. Зло хорошо организовано, понимал Ефремов, и использует самые разнообразные средства, включая апокрифические. Высшее мастерство владения психикой людям, подпавшим под власть зла, никогда не будет доступно, но и навыков липкого гипноза, кодировки простых людей вирусами преступных программ — вполне достаточно, чтобы причинить ничего не подозревающим об этой стороне жизни людям жестокие бедствия. Драма случилась в жизни Мстислава Ивернева, полюбившего закодированную на преступление девушку Тату. Характерно, что коды внушения были наслоены на кольцо с хиастолитом, которое она носила.
Поразительное воздействие на психику серых камней из чёрной короны имеет вид дополнительного указания на непосредственное родство устройства человеческой души и структуры минералов. Не только развитая психика может оказывать сильнейшее воздействие на мозг другого человека, но и целиком природное образование! Понятно, что за таинственными свойствами серых камней охотились преступники, знающие толк в том, что люди называют магией, а на деле часто является знанием о необычных закономерностях. Надо отметить, что в «Часе Быка» писатель вновь возвращается к этой теме — там фигурируют хрустальные шары, используемые в средневековой Японии для гадания.[257]
Эти факты, как и ряд других сцен с их правдой судьбы, обладают несомненным сходством с фрагментами эзотерического романа Конкордии Евгеньевны Антаровой «Две жизни». Поединок Гирина и Дерагази, магия сцены после убийства Тиллоттамы — аналогичное, хотя и более аскетическое воспроизведение сразу нескольких подобных фрагментов в «Двух жизнях». Тут важны именно этика и психология эпизода, выходящие за рамки описательности критического реализма.
Нет никаких данных о знакомстве Ефремова с романом Антаровой, да и вряд ли это было возможно — в то время он существовал только в немногочисленных списках. Но линия синтеза таинственных приключений, ведущих к исполнению сужденного, и духовно ориентированных экстраспособностей прослеживается в близкой тональности.
В индийских главах автор несколько раз упоминает Упанишады — сокровенное знание Индии. Изначально образ лезвия бритвы возник именно в этой древнейшей книге: «Восстань! Пробудись! Найдя Великих Учителей, слушай! Путь так же труден для следования, как остриё бритвы. Так говорят мудрецы».[258]
Великие Учителя связаны с Шамбалой. Образ этой страны как высшего мира неизбежно возникает в романе в тибетских главах. А описание окрестностей монастыря в Ладакхе соответствует картине Н. К. Рериха «Путь в Шамбалу». Описание же монастыря, в котором Даярам проходил испытание тьмой, очень напоминает монастырь Сандолинг в долине Нубра, описанный в книгах Н. К. Рериха.
Витаркананда — не иномирный, отрешённый гуру, замкнувшийся в стремлении достичь нирваны; он стал на путь социального служения: как профессор, преподаватель, он дарит свои знания жаждущим, помогает талантливому скульптору понять рождение и смысл канонов красоты в Индии, поверить в себя и создать предназначенное.
Профессор указывает Даяраму на обряды тантры как на средство преодоления ревности, возвышения до Любви. Создавая статую Апсары, скульптор и танцовщица «сроднились на пути совместного творчества в жизни, пронизанной любовью и страстью. Им теперь не были страшны терзания «нижней» души: близость шла не через первобытную тьму, а по светлому лезвию ножа над всеми пропастями сердца, поднималась торжествующим цветком любви над тёмным и могучим естеством Земли».
Изваяние Апсары становится центром выставки, и мы видим в индийской части зеркальное отображение русской сцены, где впервые была представлена публике деревянная статуя Анны.
«Надо говорить с теми, в ком есть непробуждённое богатство, — тогда придёт отклик», — объяснял гуру Даяраму.
Ефремов, посвящая роман красоте, обращался и обращается к молодёжи — к тем, у кого в душах есть ростки чистоты, ещё не заглушённые ложными наслоениями. Тема прекрасного в произведениях Ефремова сквозная, ведущая. В «Лезвии бритвы» сконденсирована она, пожалуй, с наибольшей плотностью. Идея о красоте как наивысшей мере целесообразности чётко проговорена уже в «Туманности…». В новом, экспериментальном романе она получает полное выражение.
Ефремовское определение прекрасного представляется настолько естественным и самоподразумевающимся, вытекающим из самого строя жизни, что заранее имеет немалую фору перед разнообразием других концепций. Важно понимать, что приведённые Гириным конкретные примеры вовсе не исчерпывают многообразия подхода. Более того: совершенно очевидно, что ефремовская концепция прекрасного в эстетике дополняется аналогичным пониманием в этике. Подробно Ефремов об этом не пишет, оставляя читателю возможность самому совершить открытие и увидеть в красоте поступков его героев наивысшую меру целесообразности. Напомним, автор писал всё же не учёный трактат, и специфическая недоговорённость при ясном указании на строй мысли рождает волшебное чувство сопричастности и сотворчества.
Современная метанаука синергетика исследует законы гармонии, математику золотого сечения, демонстрируя исключительную точность ефремовского подхода.[259]
Вопросы восприятия прекрасного теснейшим образом увязываются с вопросами социальной психологии.
Вслед за Эрихом Фроммом (а Фромма он читал, как и другого представителя гуманистической психологии Роджерса, о котором упоминает в диалоге с йогами как о наиболее близком к индийской мудрости), говоря о конкретном человеке, Ефремов выходит за личностные рамки и рассматривает индивида в контексте его существования — в природе и обществе. Как последовательный диалектик и монист, он утверждает нелинейную связь между природой, обществом и человеком и постулирует безусловное наличие нормы. Норма человека — общественное поведение, равновесие процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга. Однако общество может быть нездоровым, не способствующим формированию и развитию в человеке сугубо человеческих качеств, выработанных за долгую эволюцию — способности к самопожертвованию, заботы и альтруизма. Ефремов и Фромм указывают на существование осевой человеческой природы, которая может воспроизводиться и реализовывать себя должным образом только при условии здоровых социальных отношений. Иначе жёсткий деструктивный конфликт неизбежен.
Индийская йога, дающая мощное индивидуальное продвижение человека по пути эволюции, в условиях многовекового косного окружения неизбежно оказалась закрытым учением со строгой внутренней иерархией и комплексом знаний, сокрытых от непосвящённых. Неизбежность этого очевидна, но столь же очевидно, что условия быстроменяющегося мира, небывалого ускорения происходящих в нём процессов требуют активного участия в жизни общества каждого достойного человека. Именно в этом заключается главная критическая идея, высказанная Гириным во время его встречи с индийскими мудрецами.
Интересен тот факт, что в Живой Этике Рерихов, о связи с которой речь будет идти ниже, есть параграфы, почти дословно воспроизводящие логику Гирина. В этом плане идеал Агни-йоги предстаёт в виде синтеза индивидуального совершенства и работы на общее благо (недаром Ефремов называл её «общественной йогой»). В романе к этому же пониманию склоняется учитель Витаркананда, с большим вниманием воспринявший появление самобытного северного врача.
Финальная сцена романа — стрелы мысли, сплетающиеся в познании на картине «Мост Ашвинов» — ещё один ефремовский архетип.
Подлинное счастье — это общение людей, стремящихся к целостному познанию, проходящих разными тропами долгий путь восхождения на одну и ту же вершину. В этом соль диалектического монизма: единство в разнообразии, если это разнообразие подчинено единой цели. Именно поэтому и сам Гирин, и его индийские оппоненты спокойно отнеслись к непреодолимым (на данном этапе) идейным разногласиям и приветствовали факт общей устремлённости к высшему.
Как это далеко от культивируемых сейчас бесконечного плюрализма и кажущейся равноценности всякого суждения, мысли, поступка! С другой стороны, полная невозможность находиться в этом шизофреническом мире возрождает к жизни максимы традиционного общества, освящённые религиозными догмами. Эти два полюса сосуществуют, никак не взаимодействуя, погружая массу людей в состояние духовного анабиоза. Осевая человеческая природа, путь к которой тонок, как лезвие бритвы, угнетается навязываемой одномерностью жизни. В итоге нормальная творческая личность представляет серьёзную опасность как для плоскости постмодерна, так и для косности механически насаждаемой догматической обрядовости.
В пролог, в самое его начало Ефремов помещает размышление о судьбе, задающее тон восприятию книги целиком и каждого эпизода по отдельности. Он напоминает, что за внешней непохожестью и разбросанностью событий в пространстве и времени могут скрываться непреложные линии закономерностей. И стоит найти возможность высветить их — как выявятся их оптические оси со всеми вероятностями, подаренными двойным лучепреломлением.
За необычными интересами часто скрываются необычные способности — так сказал старший Ивернев, наблюдая за ясноглазым мальчиком, заворожённо стоящим перед витринами выставки.
Интерес Вани Ефремова-Гирина к кристаллам, их структуре, блеску и расцветкам преобразовался отнюдь не в страсть Гирина к минералогии, как можно было бы подумать. Ефремов, как знаток судьбы и жизни, описывает сдвоенную анизотропию (большинство кристаллов анизотропно). В этом качестве они наглядно демонстрируют анизотропию человеческой психики. Соответственно, событием, которое сам автор назвал спусковым крючком для движения целой линии судеб, был рождён интерес не к камням как таковым, а к их свойству, аналогичному свойствам человеческой души. В этом вторая анизотропия судьбы, её символизм, раскрытый Ефремовым.
Тут необходимо упомянуть об источнике такого подхода. Источнике не прямом, а преломлённом сквозь кристаллическую структуру ефремовского разума, собирающего символы и случайные ассоциации, находя им место в нерушимой оправе целостной логики жизни. Ефремов был очень внимательным читателем Льва Семёновича Берга — выдающегося биолога, чья концепция номогенеза резко расходилась с общепринятым дарвиновским пониманием роли естественного отбора. Берг указал на поразительный факт предварения признаков, проходящий сквозь эволюцию. И на следствия, неизбежно вытекающие из этого факта. Именно на внутренних причинах покоится процесс эволюции, на существовании внутренней логики развития, выявляющей себя независимо от внешней среды. Поэтому кристалл анизотропен как человек, в нём есть та же правда подобия миру. Человек полон глубиной, неизмеримо выходящей за рамки текущего момента, за рамки времени, дающей силы преодолеть сдавливающую косность конкретно-исторического мифа.
Найти оптическую ось судьбы, всякого подлинного знания сквозь нагромождения внешнего разнообразия, выйти за пределы скорлупы времени — в этом соль и Тибетского опыта, и экспериментов с видёниями Селезнёва, и проникновения в тайны собственной психики, овладения её мощью. Поэтому человек — не функция социологии, не послушный слепок окружающего мира. В нём закодировано глубочайшее прошлое, которое в самой своей сути, согласно Бергу, уже предвосхитило высочайшее будущее.
«Дикая жизнь человека, — тут Гирин поднял ладонь высоко над полом, — это вот, а цивилизованная — вот, — он сблизил большой и указательный пальцы так, что между ними осталось около миллиметра. — Мозг — это природа и вселенная, но вселенная не одного лишь текущего момента, а всей её миллионолетней истории, и опыт мозга отражает не только необъятную ширину, но и изменчивость природных процессов.
Отсюда и диалектическая логика — выражение сущности этого мозга, а наша психика, отражающая внешний мир, — это такой же процесс и движение, как всё окружающее».
Говоря предельно кратко, человеку необходимо реализовывать вертикаль через горизонталь. В этом суть диалектики.
Любопытно, что не раз упоминаемый в романе минерал хиастолит, разрезанный поперёк главной оптической оси, на свету даёт именно крест. Своего рода косвенное упоминание, образная подсказка, подобная двойному лучепреломлению…
Серые камни прозрачны и в то же время пронизаны едва заметными точками с металлическим блеском. Так и кажущееся порой простым пространство жизни оказывается пронизано искрами бифуркаций — моментов внутреннего выбора, определяющих, в каком направлении человек двинется дальше. Но человек может и должен решать сознательно, и поэтому понять свой эволюционный план, свою миссию (вспомним Берга!) становится важнейшим и определяющим для судеб всего мироздания. Так из геологии и биологии выковывается ефремовский космизм, построенный на идеях конвергенции и антропологической коэволюции.
Ефремов никогда не утверждал чего-то нетерпеливо и безоглядно. Устремлённость в будущее всегда соединялась в нём с глубоким знанием прошлого и трезвой оценкой настоящего. Восхищение идеалом античности с её культом наготы и аналогичная свобода в будущем вовсе не переносились им механически на наше время. В романе он специально пишет, что этот идеал сейчас невозможен ввиду психофизической незрелости и хилости большинства населения. Действительно: тонко подмеченное полвека назад, когда такой проблемы не было в СССР, проявилось со всей очевидностью ныне, когда множество некрасивых, неразвитых людей обнажаются с невротической целью так или иначе обратить на себя внимание, скрыто или явно эпатировать окружающих. Выражаясь словами старой балерины из романа: сейчас ещё не время полностью обнажённого тела.
Принцип дао-ориентированности проявляет себя в таком подходе как терпеливое ожидание сроков.
Гирин говорит о незаменимости коммунистической идеи: она ориентирована не на элиту, а на среднего человека, но притом не обывателя. И это неизбежно, так как появление нового типа человека в историческом времени возможно только широким охватом, это должна быть перемена общественного сознания. Берг пишет о том, что эволюционные перемены совершаются очень быстро, осуществляются практически сразу во всей полноте. О сходных вещах писал ещё один значимый для Ефремова автор — Вернадский, утверждавший, что количество живого вещества в целом по планете с момента появления жизни изменилось несущественно.
Немало внимания уделено в книге товарищеским отношениям Гирина и Андреева.[260] Важно, что на их основе вырастает целый кружок товарищей — мужчин, женщин, молодёжи. Они собираются вместе, обсуждают интересные новости из области науки и искусства, делятся опытом и сомнениями, внимательно выслушивая знающих и не боясь насмешки. А проблема легковесного критицизма стояла, и её описание явно носит автобиографический характер. Андреев с горечью рассказывает о новой манере научной полемики, когда «молодой и честолюбивый начинающий исследователь, попав в какой-нибудь новый район, делает там наблюдение, противоречащее, скажем, моим выводам. Немедля публикуется статья, где он пишет, что поскольку его наблюдение противоречит Андрееву, то все заключения Андреева о том и том-то неверны. Это подхватывается, цитируется, и никому из торопыг невдомёк, что андреевские выводы сделаны на материале несравненно более широком. Если уж меня опровергать, то только на основании такого же, если не большего, числа наблюдений. А то мало толку для науки. Куда как полезнее просто опубликовать своё маленькое наблюдение и честно сказать, что случай, пока единичный, противоречит схеме Андреева, но надо накопить ещё много подобного материала».
В наше время подобное поведение ушло в массы в связи с доступностью информации и мгновенных средств сообщения.
Специфика свободных обсуждений проблем науки, искусства и общества в Интернете такова, что немедленно привлекает к теме множество шумных дилетантов, заполоняющих эфирное пространство потоками вздора и мелочной агрессии, открыто издевающихся над самим понятием профессионализма. Совершенно очевидно, что техническая возможность в который раз опередила готовность человека морально соответствовать собственным изобретениям.
Насыщенность мудрыми и злободневными мыслями в романе колоссальна, и все их даже не перескажешь. Но есть насущная необходимость процитировать два отрывка столь же полно, как и сокрушение о науке. Они показывают, насколько ясно Ефремов осознавал тенденции окружающей действительности, диалектически совмещая в себе уникально тонкого философа-мечтателя и трезвого реалиста.
«Борьба с элементами садизма — очень серьёзное и важное, но в то же время и тонкое дело. Чаще всего мещанин, ущемлённый в своих эгоистических поползновениях, мстит за это всем, кто попадает от него хоть во временную зависимость. Завистливый негодяй, причиняя зло и горе всем, кому может, пытается так уравнять себя с более работящими и удачливыми людьми».
«Однако многое изменилось даже с тех пор, как я начинал свои первые экспедиции, — сказал Андреев. — Ушли в прошлое отсутствие запоров в деревнях, старые, покинутые, но нетронутые часовенки на русском Севере, древние надписи и изваяния на степных холмах. Теперь почему-то немало людей старается сокрушить, разбить, испакостить не охраняемые ничем, кроме благоговения к человеческому труду и искусству, вещи, до сей поры стоявшие сотни лет.
— Всё тот же признак антисоциальной повреждённой психики, о котором я только что говорил, — сказал Гирин, — чем дальше, тем больше он усиливается не только на Западе, но уже и на Востоке. Всё чаще случаются взрывы самолётов в воздухе, стрельба по невинным ни в чём случайным прохожим, дикая расправа со старинными произведениями искусства, составляющими славу народа…»
Напомним, речь идёт о высказываниях полувековой давности! Нынче описанное стало обыденной повседневностью, рутиной жизни и новостных выпусков со всего света — и нашей родины… На что-то уже и не обращается внимания, настолько мы отвыкли жить в людских условиях. Для всех, кто хотел бы отыскать своеобразный «золотой век» в советском прошлом, придётся признать: корни гнева нынешних россиян, разобщённых внешне и внутренне, лежат за пределами «лихих девяностых» или «предательской перестройки». Уже во времена Ивана Антоновича чередой шли процессы, спустя поколение приведшие к развалу страны…
И по-прежнему (пожалуй, даже ещё более актуальной) остаётся идея создания «дружеских союзов взаимопомощи», как их назвала Сандра. Сейчас их называют горизонтальными связями в обществе и они никак не взаимодействуют с авторитарной вертикалью отчуждённой власти. Вспомнив же образ, пронесённый Ефремовым через весь роман, можем констатировать: вертикаль и горизонталь должны войти в одну плоскость, создать диалектическую структуру системы координат с вектором устремлённости к общему благу и всё повышающейся планкой ответственности и самодисциплины каждого человека, семьи, круга друзей…
«Витаркананда поднял руки к горам, как бы сгоняя их воедино широким жестом.
— Ещё бесконечно много косной, мёртвой материи во вселенной. Крохотными ключами и ручейками текут повсюду отдельные Кармы: на земле, на планетах бесчисленных звёзд. Эти мелкие капли мысли, воли, совершенствования, ручейки духа стекают в огромный океан мировой души. Всё выше становится его уровень, всё неизмеримее — глубина, и прибой этого океана достигнет самых далёких звёзд!»
Глава девятая МУДРОСТЬ (1963–1972)
Создать самого себя. Как это понимать? Мне кажется, что так — приобрести свои взгляды на любое явление в жизни и своё отношение, основанное или на личном опыте, или, что также очень важно, на глубоком продумывании и прочувствовании опыта мировой культуры. Приобрести мудрость, которая не есть только знание, а «чувство-знание», которая даётся больше страданием, чем радостью, часами тоскливого раздумья, а не мгновеньями победной борьбы.
И. А. ЕфремовЕсли бы так удавалось — писать каждый день. Понемногу. По несколько строчек…
И — свободно. Писать, забывая про буквы, не помня ни мыслей чужих и ни правил.
В. Д. ИвановТернистый путь «Лезвия…»
Белый пассажирский теплоход неспешно, но неуклонно рассекал надвое гладь Волги, лёгкие волны убегали от кормы к далёким берегам. Берега словно струились назад, и только гордые вертикали деревенских колоколен отмечали пройденные километры. Свежий май оставался позади, уступая место жаркому июню.
Иван Антонович, Тася и Чудинов подолгу сидели на палубе. Лёгкий ветер нёс ароматы цветущей черёмухи, ивы-бредины. Ефремов вспоминал путешествие 1952 года, когда друзья на «победе» проехали по древним городам Руси. Горестный Углич, красно украшенный Тутаев (бывший Романов-Борисоглебск), основательный Ярославль… Особенно оживился Иван Антонович, когда справа зажелтели оползающие в Волгу откосы возле Казани, Ильинского, Тетюшей, где он когда-то искал кости древних ящеров.
Весна 1963 года выдалась необычайно хлопотливой. Подготовка «Лезвия бритвы» к журнальной публикации потребовала ежедневной работы с редакторами, корректорами, машинистками. Сверить текст, снять все вопросы, вычитать гранки. Успеть ответить на накопившиеся письма, прочитать принесённые на рецензию рукописи, подготовить обоснованные отзывы. Приглашали к участию в различных комиссиях, заседаниях. При этом в квартире нет телефона, и решение любого вопроса требует личных встреч.
Вся нагрузка по приёму посетителей легла на Таисию Иосифовну. Людского потока не избежать, и Тася загонялась так, что поднялось давление и заболело сердце. Отдых был необходим.
Вечерами гуляли по палубе, любуясь долгими закатами, затем прятались от речной прохлады в каюте. Иван Антонович с наслаждением читал по памяти Киплинга, Гумилёва, Волошина, Игоря Северянина. Как утверждающе властно звучали над величественной рекой стихи поэтов — мудрецов, отважных искателей приключений и эстетов! Как полая вода, спадали мелкие хлопоты и заботы, всю весну одолевавшие Ефремова.
Из солнечной, нарядной, разноликой Астрахани на том же теплоходе вернулись в Москву, где вновь взялись за подготовку романа для очередных номеров «Невы». В журнале тем временем сменился главный редактор. Новый испугался ответственности за публикацию столь необычного для советской литературы романа, начал требовать больших сокращений. На его сторону стали некоторые сотрудники… «Оттепель» заканчивалась, курс страны под руководством Брежнева становился консервативным, и люди, в душах которых не был изжит страх сталинского времени, быстро сдавали позиции.
Ефремов, живя в Москве, не мог точно узнать, что происходит в редакции «Невы», находившейся в Ленинграде. В какой-то момент ему даже показалось, что Дмитревский, ради которого он и отдал рукопись в ленинградский, а не в московский журнал, отступился и не хочет защитить его роман. Но Владимир Иванович его не предал.
В августе Иван Антонович решил сам приехать в Ленинград. Правда, перед этим ему пришлось срочно провожать в США Чудинова. Пётр Константинович собирался делать доклад об открытии новой фауны пермских позвоночных на Международном зоологическом конгрессе в сентябре 1964 года, и лишь в последний момент стало ясно, что доклад должен быть прочитан на английском. Иван Антонович срочно переводил доклад на английский, занимался перепечаткой, а Тася в это время бегала по магазинам, покупая Чудинову новые рубашки: он собирался ехать в ярко-жёлтой рубашке, что могло вызвать недоумение у чопорных западных учёных. Проверив весь гардероб Петра Константиновича, докупив необходимое, Ефремовы остались довольны учеником. Теперь можно было ехать в любимый город. Чудинов отправился вместе с ними.
Ефремовы остановились у давних друзей Ивана Антоновича на Карповке, Пётр Константинович — у своего знакомого. Обсудив непростые вопросы с сотрудниками «Невы» и во многом сумев их решить, Ефремов посвятил время прогулкам и музеям. Вместе с Чудиновым был в знакомом с юности великолепном музее Горного института, в Геологическом музее им. Ф. Н. Чернышова. Ездили на острова, на Карельский перешеек.
Живое общение с друзьями — Дмитревским, Брандисом, молодыми ленинградскими писателями, среди которых были братья Стругацкие, — давало уверенность в необходимости писательской работы. После публикации первых глав «Лезвия бритвы» в редакцию журнала валом пошли взволнованные, радостные, часто полные вопросов читательские письма. Роман зацепил важные для людей области жизни.
«Лезвие» печаталось, но стало ясно, что позиция редакции отныне изменилась, и осенью Владимир Иванович Дмитревский уволился из «Невы». Ефремов, которого давно осаждали киношники, предложил другу работу над сценарием художественного фильма «Туманность Андромеды».
В Москве на Ефремова насели редакторы издательства «Молодая гвардия»: мол, надо срочно подготовить роман для книжного издания. Ефремов гнал с рукописью, однако через некоторое время неожиданно оказалось, что на издание книги якобы нет бумаги, да и авторский договор ещё не оформлен. Иван Антонович без церемоний писал Дмитревскому: «…«Молодая гвардия» ни мычит ни телится… <…> Ну посмотрим. Так дык так, а то и ребёнка об пол».[261]
Все эти переживания не прошли даром: в ноябре у Ивана Антоновича ухудшилась кардиограмма, обострилась стенокардия. Таисия Иосифовна выполняла огромную работу секретаря и одновременно медсестры. Между тем люди буквально напирали на Ефремова, особенно нахальными оказывались газетчики.
Под Новый год от Ефремовых решила уйти домработница Лида. Она сетовала, что денег на жизнь не хватает. В результате денежной реформы 1961 года в стране резко подорожали продукты, что в 1963 году привело к настоящему продовольственному кризису. Многие продукты совершенно исчезли с прилавков, цены на рынке взлетели. Много времени приходилось тратить на стояние в очередях, чтобы добыть необходимое. Предполагали, что правительство может вновь ввести карточки.
Домработница ушла, и все домашние заботы легли на плечи Таисии Иосифовны. Иван Антонович решил вновь взять путёвки в Малеевку, в Дом творчества писателей: там не нужно беспокоиться о продуктах, о стирке и уборке, и жена сможет отдохнуть вместе с ним. Три недели тишины, метелей, слепящего февральского солнца и ярких синих теней немного успокоили душу и сердце.
В марте в Москву приехал профессор Олсон — он мечтал посмотреть только что отпрепарированную коллекцию из Очёра. Фантастические, ни на что не похожие черепа крупнейших растительноядных диноцефалов-эстемменозухов красовались в витринах музея. Ефремов с Чудиновым показывали коллеге драгоценные находки. Об этой встрече сам Чудинов рассказывал так:
«Вначале разговор шёл об образе жизни и питании этих неуклюжих и тяжеловесных рептилий. Непривычная для глаз «несуразность» черепов, выраженная в громадных скуловых выростах, костных вздутиях и коротких, толстых рожках, венчающих темя, вызвала у Олсона прилив положительных эмоций. В полный восторг его привёл череп дейноцефала Estem-menosuchus mirabilis. За небольшие размеры и торчащие на темени раздвоенные рожки мы называли этот череп «малым рогатиком».
— Wonderful, isn’t it? (Чудесно, не правда ли?) — восклицал Ефремов.
— Just amazing! Quite impossible! (Просто восхитительно! Совершенно невероятно!) — вторил Олсон.
Я подлил масла в огонь, спросив Олсона об адаптивном приспособительном значении «архитектурных излишеств» черепа в виде многочисленных костных выростов. Именно они придавали черепам неповторимый и фантастический облик. Мы переключились на обсуждение этих образований, называемых экцессивными или избыточными структурами, но не нашли удовлетворительного объяснения.
— Nobody knows (Никто не знает), — задумчиво произнёс Олсон. Он немного помолчал, хитро улыбнулся и добавил по-русски: «Давиташвили знает».
При этих словах мы весело рассмеялись. Очевидно, в этом вопросе каждый несколько скептически относился к взглядам известного палеонтолога Л. Ш. Давиташвили. Он связывал возникновение экцессивных образований с вторичными половыми признаками. Отсюда следовало, что вся серия черепов принадлежала только самцам и костные украшения играли роль «турнирного оружия». Между тем различия в серии черепов и отсутствие в захоронении черепов «безрогих» самок и, наконец, общая гипертрофия скелетов этих животных исключали подобную интерпретацию».[262]
Олсон оказался не только знающим палеонтологом, но и тонким, внимательным, остроумным человеком. Иван Антонович ощущал постоянное доброжелательное стремление американского профессора понять его как личность, как писателя, вникнуть в особенности жизни в Советском Союзе.
Как-то, словно само собой, получилось, что все представительские функции пришлось нести не ПИНу, а семье Ефремовых.
После отъезда Олсона Иван Антонович решил всячески экономить время, не участвовать ни в каких заседаниях и совещаниях, которые часто собирались по линии Союза писателей. Давно задуманная повесть — «Долгая Заря» — слишком долго ждёт. В квартире наконец установили телефон, и решать текущие проблемы стало проще.
В мае 1964 года Ефремовы вновь отправились по Волге. Глядя на обрывы красноцветов, Иван Антонович хотел приняться за что-нибудь палеонтологическое, популярное. В то же время спокойный бег воды возвращал к мыслям о новом романе. Люди коммунистического общества летят на далёкую планету. Соединить в одном произведении то, что никто никогда не соединял: утопию и антиутопию. Резче, выпуклее станет одно на фоне другого.
Едва успел возвратившийся домой Ефремов вработаться, вписаться в давно задуманный роман — вынужденный перерыв: подоспела корректура «Лезвия». Чтобы рукопись превратилась в книгу, сначала нужно работать с первой вёрсткой, затем со второй — при постоянном контроле со стороны корректоров, редакторов и автора.
Грустно писал он Владимиру Ивановичу Дмитревскому:
«Интересно, что «Молодая Гвардия» до сей поры мне не перевела «одобрения» — 35 %. Якобы бумага затерялась где-то на столе у директора… а я уже подошёл к самому краю своих сберкнижечных возможностей. Затем ещё номер — якобы не хватает бумаги, и они хотят дать тираж 65 000 — это даже в магазины не попадёт. Но как будто теперь собираются 115 — в общем, всё время что-то неясно, что-то крутится, и не поймёшь, главное, в чём же суть. Вообще, на опыте «Лезвия» пришёл к заключению, что писательство в нашей стране — дело выгодное лишь для халтурщиков или заказников. Посудите сами — я ведь писатель, можно сказать, удачливый и коммерчески «бестселлер», а что получается: — «Лезвие» писал с середины 1959 года, т. е. до выхода книги пройдёт без малого 5'/2 лет. Если считать, что до выхода следующей, мало-мальски «листажной» повести или романа пройдёт минимум ещё два года, ну в самом лучшем случае — полтора, то получается семь лет, на которые растягивается финансовая поддержка от «Лезвия». Если всё будет удачно, то «Лезвие» получит тройной гонорар (журнал + 2 издания) за вычетами, примерно по 8500, т. е. в итоге — 25 тысяч. Разделите на семь, получите около 300 рублей в месяц, поэтому если не будет в ближайшее же время крупного переиздания, то мой заработок писателя (не по величине, а по спросу и издаваемости) первого класса оказывается меньше моей докторской зарплаты — 400 р. в мес., не говоря уже о зав. лабораторской должности — 500 руб. Каково же меньше пишущим и менее удачливым или издаваемым — просто жутко подумать.
В итоге — если не относиться к писанию как некоему подвигу, но и не быть способным на откровенную халтуру и угодничество — не надо писать, а надо служить. Как ни странно, это сейчас даже почётнее, а то писателя всяк считает своим долгом критиковать, ругать, лезть с советами. Видимо, что-то надо правительству предпринимать с писателями, иначе будет как в Китае. Я слыхал, что в Польше была стычка писателей с правительством, и писатели выиграли кое-какие преимущества. У нас это не в моде, и потому руководители культуры должны проявить разум, пока не поздно. Вот какие экономические рассуждения. Они не означают, конечно, что я вознамерился возвратиться в науку, но трезвое представление о действительности никогда не мешает».[263]
Только в августе 1964 года Ефремов подписал сверку «Лезвия бритвы» в печать. Отзывы на журнальную публикацию продолжали идти. Он был готов ко всему: и к тому, что книгу будут неуёмно хвалить, и «лаять воровскими словами». Неожиданным оказалось то, что автора приняли за посвящённого йога. Некоторые прямо просили стать для них Учителем, Гуру. Иван Антонович писал:
«Отношения ученика и учителя в наше время почти невозможны, не только в глубоком индийском смысле, но даже в науке, так, как сорок лет назад, я был учеником академика П. П. Сушкина. Теперь под словом «учёный» разумеют исследовательского работника, скорее инженера, чем собирателя знаний прошлого, больше заинтересованного в собственном успехе и удачном решении той или другой задачи, чем в познании окружающего. Это одна сторона. А другая — жизненно важный совет учителя ученику — это столь тонкое и сложное дело, что для этого оба должны находиться в постоянном общении, понимая друг друга с полуслова и зная все обстоятельства. Без этого совет, данный по письменному запросу, немногим больше стоит, чем предсказание, вытащенное попугаем на шарманке. Правда, иногда это немногое, брошенное на чашку весов судьбы, может сыграть решающую роль, но всё же элемент случайности слишком велик».[264]
Почтальоны приносили письма мешками. Иван Антонович старался внимательно прочитать каждое, откладывал те, на которые хотелось ответить. Думалось: в наше трудное время нельзя сгоряча судить и рубить, но если встречается хоть крупица чего-то светлого, надо вызволять и сберегать её.
В 1957 году началась переписка Ефремова с молодым моряком Борисом Устименко, в первом письме которого он словно бы узнал давно прошедшие дни и самого себя — юного, мечтательного, ищущего свой путь. Переписка продолжалась 15 лет — за это время Иван Антонович написал Борису, ставшему журналистом, 52 послания — письма, открытки и телеграммы,[265] помогал всем, чем мог: посылал деньги на дорогу, вместе с Таисией Иосифовной покупал отправлявшемуся на Дальний Восток моряку рубашки, тарелки и подобные мелочи. Всегда был готов помочь спокойным, мудрым словом.
С 1964 года Ефремов переписывался с Галиной Яремчук, девушкой, которая прислала ему свои рисунки к «Туманности…», и её мамой, Аделаидой Александровной Ситанской. Иван Антонович выписывал ей в подарок журнал «Художник», помогал в выборе жизненного пути, был строгим критиком её новых работ. Галина стала автором экслибриса, который украсил книги домашней библиотеки Ивана Антоновича.
У Нади Рушевой есть рисунок, на котором несколькими точными линиями изображён доверчиво-серьёзный кентаврёнок. Если есть кентавры, то у них должны быть и дети! Галина Яремчук продолжила эту шуточную греческую тему — она нарисовала кентавриду, кентаврессу — девушку-кентавра, которая словно потягивается, едва проснувшись. Линию длинных волнистых волос продолжает пышный лошадиный хвост. Надпись стилизована под древнегреческие буквы: «Из книг Ивана Ефремова».
В 1964 году «Долгую Зарю» вновь пришлось отложить. Последние повести Бориса и Аркадия Стругацких — «Далёкая радуга» и «Трудно быть богом» — вызвали пристальное внимание партийного руководства к социологической линии в советской фантастике. Именно эту линию легче всего было извратить или исказить. Ефремов опасался: если «Долгая Заря» выйдет в свет и привлечёт внимание критики, то плохо осведомлённое в литературе партийное начальство может принять какие-нибудь меры, губительные для молодых фантастов.
Размышляя так, Иван Антонович с удовольствием взялся было за популярную книгу о палеонтологии. Одновременно он помогал в подготовке большой экспедиции: в Южной Гоби открыли новое динозавровое местонахождение, за организацию экспедиции взялась Академия наук МНР, а консультантами пригласили П. К. Чудинова и Б. А. Трофимова.
Новые дороги неожиданно пересекались со старыми путями: в 1964 году ученики школы имени Карла Маркса Александровского района Оренбургской области нашли дом Хреновых в посёлке Горном, в котором 35 лет назад останавливался Ефремов, и повесили на нём мемориальную доску. Иван Антонович был искренне тронут.
В начале осени Ефремовы съездили в Ленинград, гостили в семействе Маслаковцов. Оттуда на автобусе добрались до столицы Эстонской республики — Таллина. Поселились в гостинице и неделю осматривали достопримечательности и музеи города и окрестностей. Иван Антонович интересовался шпилем Олевисте и домом, где находилось Братство черноголовых.
Таинственный Таллин манил не только Ивана Антоновича. В 1967 году известный журналист Евгений Михайлович Богат, сотрудник «Литературной газеты», опубликовал фантастическую повесть «Четвёртый лист пергамента», действие которой происходит в средневековом городе. Прообразом его стал Таллин XIII века. Семь столетий назад была вознесена над городом башня Олевисте. Собор, в образе которого архитектор утвердил победу духа над материей, стал духовным центром повести Богата.
В октябре уехали в Ялту, пробыли там до середины ноября. Осень была холодная, ветреная, и пребывание в санатории не улучшило состояние писателя. Из Ялты не выезжали. Лишь один раз взяли такси, чтобы добраться по прибрежной дороге до Коктебеля, повидаться с Марией Степановной Волошиной. С ними собралась было Мариэтта Шагинян, но отказалась от этой затеи.
С радостью вернулся Иван Антонович домой, и вскоре ему привезли долгожданные экземпляры «Лезвия бритвы». Тираж был необычайно мал для огромной страны. Стопка авторских недолго пролежала в квартире Ефремова: послать-подарить друзьям — вот и остались лишь два экземпляра, подписанных самому себе — чтобы не ошибиться и никому случайно не отдать. На чёрном рынке «Лезвие» взлетело до 40 рублей — невиданная цена для недавно вышедшей книги!
«Крёстный отец» атлантологии
«Атлантида. Основные проблемы атлантологии» — так называлась необычная для СССР книга, вышедшая в издательстве «Мысль» в 1964 году. Ефремов получил её от автора, Николая Федосьевича Жирова,[266] с дарственной надписью, которая гласила, что Иван Антонович — «крёстный отец» атлантологии. Это был венец их переписки, которая началась в 1953 году.
В детстве Коля Жиров с другом писали роман «Последние дни Атлантиды» — так же, как позже писал об исчезнувшей стране Ваня Ефремов в голодном Петрограде. Затем мальчик, мать которого — урождённая Ковалевская, увлёкся химией и самостоятельно изучил эту науку, в гимназии выучил немецкий, французский и латынь. В 1920 году, в тяжёлый для Киева и страны год, семнадцатилетний Николай Жиров вынужден был оставить учёбу и пойти работать в Киевскую артиллерийскую школу комсостава РККА. Он стал заведующим химической лабораторией.
С 1934 года Жиров служил в Москве, в закрытом научно-исследовательском институте № 6 МСХМ, занимался взрывчатыми веществами. В 1949 году он — без официального высшего образования — получил степень доктора наук. Но до этого произошло событие, коренным образом изменившее его налаженную жизнь. Летом 1945 года рейхсляйтер, обер-группенфюрер СА Роберт Лей сообщил американцам о подземном объекте «3Z» на юге Германии. По его словам, объект представлял собой смертельную угрозу для населения, так как некоторые контейнеры в нём могли быть разгерметизированы. Американцы пригласили советского специалиста по спецхимии. Николай Жиров первым вошёл в подземелье.
Объект «3Z» с 1944 года был одним из главных поставщиков «биологического материала» для страсбургского Анатомического института, который под эгидой СС создал гаупт-штурмфюрер СС доктор Хирт. Экспериментируя с ипритом, Август Хирт получил кровоизлияние в лёгкие. Первый диагноз Жирова — такой же. Затем начались судороги. Врачи определили это как «вирусное заболевание центральной нервной системы».
Изменения в организме были необратимыми. Однажды в бессвязной, сумбурной речи пациента врач неожиданно расслышал фразу:
— Выслушай же, Сократ, сказание хоть и очень странное, но совершенно достоверное, как заявил некогда мудрейший из семи мудрых Солон…
Это было начало «Крития», знаменитого диалога Платона, в котором философ впервые упомянул об Атлантиде.
С этого дня речь больного стала связной, размышления логичными. В организме словно открылся источник сил, который будет поддерживать тело парализованного исследователя ещё четверть века. Созрела идея: дерзко проникнуть в тайну легендарной цивилизации — не фантастическим наскоком, а упорным научным трудом по собиранию, систематизации и объяснению множества разрозненных фактов, которые казались невероятными.
В руки Жирова попала книга «На краю Ойкумены». Там он встретил упоминание о скифской пряжке с изображением саблезубого тигра, как считалось, вымершего ко времени скифов. Сначала Николай Федосьевич решил, что это выдумка писателя. Однако вскоре ему попалась заметка, что на юге Англии саблезубый тигр ещё жил к концу оледенения, во время, близкое к дате гибели Атлантиды по Платону (середина X тысячелетия до н. э.).
Жиров написал Ефремову. Иван Антонович ответил, что лично видел эту пряжку в хранилище Эрмитажа. Это было началом долгой и плодотворной переписки, из которой сохранилось 56 писем.
Геология, океанология, этнография, антропология, археология, история, астрономия, астрофизика, математика, геофизика, вулканология — учебники и монографии, русская и зарубежная периодика. Атлантология была призвана стать комплексной наукой, в фокусе которой оказалась загадка исчезнувшей цивилизации. Поместить непознанное в перекрестье различных лучей — главная задача исследователя. По существу, Николай Федосьевич разрабатывал не только атлантологию, но, что крайне важно, методы синтетической науки, комплексного, всестороннего исследования ключевой проблемы.
Такой же — комплексный — подход помог Ефремову создать тафономию, объединив в перекрестье цели данные различных отраслей геологии, палеонтологии, климатологии. Учёных объединял не только общий интерес к непознанному, но и методологические подходы. Фантастика Ефремова тоже стала синтезом — литературы и науки, этим она и привлекала Николая Федосьевича.
Многочисленная иностранная корреспонденция Жирова заинтересовала Лубянку. В квартире провели обыск, однако инвалида с парализованными ногами всё же оставили в покое.
В 1956 году журнал «Техника — молодёжи» в четырёх номерах (9–12) опубликовал дискуссию об Атлантиде, в том числе статью Николая Федосьевича и интервью Ивана Антоновича. Жиров размещал Атлантиду в Атлантическом океане. Ефремов считал, что земля погибшей цивилизации находилась в бассейне Средиземного моря, что это Крит с прилегающими островами. Приводя данные океанологии, геологии, зоологии, истории, археологии и других наук, Ефремов, по существу, говорит, что древние цивилизации изучены ещё крайне мало, что учёные недооценивают многие факты, кажущиеся на первый взгляд нелогичными, не укладывающимися в принятые схемы.
На вопрос, почему от Атлантиды не осталось материальных памятников, Ефремов отвечает: «Недоумение по поводу отсутствия каких-либо принадлежащих Атлантиде исторических документов, мне кажется, происходит из невольного перенесения условий нашей современности на древние эпохи средиземноморских культур. Уничтожение той или другой культуры в древности было делом более лёгким и быстрым, чем в наше время. Не говоря уже о малом распространении письменности, ничтожном количестве книг или записей, число самих носителей культуры — тогдашней интеллигенции, — будь то жрецы, врачи, строители или художники, было очень невелико. Народы также были немногочисленны, и чем древнее была культура, тем меньшее число её носителей передавало знания и искусства последующим поколениям. Поэтому всякая серьёзная катастрофа, военная или стихийная, по существу, навсегда уничтожала прежнюю культуру. Достаточно было перебить несколько сотен человек интеллигенции «атлантов» или немного больше египтян, чтобы эти древнейшие культуры уже никогда не смогли восстановиться. Так погиб целый ряд культур древности без всяких внутренних таинственных причин, столь излюбленных некоторыми философами».[267]
В этом высказывании легко увидеть параллель с наследниками культуры дореволюционной России, интеллигенцией, которая планово уничтожалась на протяжении многих лет, начиная с расстрела Николая Гумилёва.
Почти одновременно с дискуссией в «Технике — молодёжи» альманах «На суше и на море», в редакционную коллегию которого входил Ефремов, напечатал несколько статей Жирова. В 1957 году в Географгизе была опубликована брошюра Жирова «Атлантида». Автор подарил экземпляр Ефремову, Иван Антонович и его друзья читали её с увлечением. Ефремов посылал Николаю Федосьевичу новые книги, учёные обменивались интересными фактами из разных областей науки.
Вскоре была готова и монография, но публикация её откладывалась. Николай Федосьевич переживал, что появляются новые научные факты, которые не найдут в тексте своего отражения, и книга может потерять свою острую актуальность. Наконец в 1964 году монография вышла — и до сих пор является самым фундаментальным исследованием по проблеме Атлантиды.
Гирин, герой романа «Лезвие бритвы», утверждал огромную силу духа человека, подчиняющего себе непреодолимые внешние обстоятельства. Николай Федосьевич, много лет прикованный к инвалидному креслу, сумел провести гигантскую научную работу и завершить труд, с которым едва ли справился бы и совершенно здоровый человек. Развитый, тренированный ум подчинил себе психические силы организма. Николай Федосьевич писал: «В области же науки я имею огромный запас прошлого опыта исследователя и экспериментатора, который пока ещё придаёт моему мышлению столь мощную силу научной инерции (в лучшем понимании последнего слова), что её можно сравнить с катком, сминающим всякие психоневрозы. Эта сила многолетней инерции позволила мне справиться с различными и многочисленными тяжкими недугами и дала возможность при очень тяжёлом физическом состоянии закончить свою «Атлантиду»…»[268]
Два учёных мечтали о встрече друг с другом — и не смогли осуществить своё желание. Жиров был парализован. Иван Антонович договаривался с ним о визите, но мешали неожиданные сердечные приступы.
Николай Федосьевич был внимательным читателем всех новых произведений своего эпистолярного друга. В своём последнем письме, датированном декабрём 1968 года, он говорит, что с удовольствием, а в некоторых местах прямо-таки с наслаждением читает «Час Быка». В 1970 году учёного не стало.
Ныне в Москве под эгидой Российского общества по изучению проблем Атлантиды (РОИПА) и редакции альманаха «Атлантида: проблемы, поиски, гипотезы» создан музей Атлантиды имени Н. Ф. Жирова. Монография Николая Федосьевича, к созданию которой причастен Ефремов, считается непревзойдённым трудом по атлантологии.
«Броненосец с пробоиной»
1965 год, по тибетскому календарю год Белой змеи, начался тяжело — весь январь и март Иван Антонович и Тася проболели: возможно, это было расплатой за позднюю поездку в Крым. Продлив вторую группу инвалидности, с 20 марта Ефремов уехал в Малеевку, в Дом творчества писателей. Лето провёл в Москве. Сердце сдавало. В сентябре — традиционная поездка по Волге, затем хотелось вновь в Дом творчества — использовать улучшение состояния, чтобы написать наконец книгу: популярная палеонтология с происхождением человека и взглядом в будущее. В Москве сосредоточиться было крайне трудно: звонки, визитёры, письма, журналисты.
Ноябрь — тягучий, тёмный, на постельном режиме. Декабрь — в Малеевке.
С надеждой встречали Ефремовы Новый год. Иван Антонович следил, каким будет каждый наступающий год по восточным приметам. 1966-й — год Белой лошади — должен был быть куда как лучше предыдущего. Однако январь не обрадовал. Иван Антонович грустно отвечал на звонки друзей: «Болел и болею». Хлипкий пошёл народ…
От Аллана вести доходили редко: он работал в Камбодже.
В феврале — начале марта 1966 года в Москву приехала весёлая итальянская чета, словно сошедшая со страниц ефремовского романа: литературоведы-слависты Леоне Пачини-Савой и его жена Ида Бонетти. Иван Антонович переписывался с ними на русском языке, они доставали по книжным магазинам и присылали для него редкие журналы и книги, обсуждали новинки литературы. Радушный хозяин и тактичная, милая хозяйка очаровали итальянцев. Но на восторженные благодарственные письма ответ пришёл очень не скоро…
6 марта Иван Антонович отдыхал после обеда, когда в дверь позвонили. Пришли из домоуправления. Открыла Таисия Иосифовна. Ефремов услышал наглый мужской голос. Как они смеют хамить его Тасеньке?!
Иван Антонович резко вскочил с дивана — и сердце замерло. Дыхание прервалось. Воздух словно не хотел входить в лёгкие. На лицо навалилась огромная пуховая перина и медленно, медленно душила. Сознание оставалось ясным. Иван Антонович был готов к лёгкой смерти от сердечного приступа. Но это мучительное удавление. Она уже близко — черта Беспредельности. Из горла пошла кровь с водой.
Тася, шприц, укол. Недолгое забытьё.
Скорая, затем вторая. Врачи хотели тут же отправить Ивана Антоновича в больницу, но жена решительно не дала этого сделать и этим второй раз спасла жизнь мужа: в столь тяжёлом состоянии больного нельзя было перевозить.
Примчалась Мария Фёдоровна Лукьянова. Она рассказывала: «Уже два часа прошло после приступа. Иван Антонович в постели лежит, пытается улыбнуться, а у самого кровь из уголка рта тянется. Чудинов ходит из угла в угол. Иван Антонович ему говорит: «Ничего, Пётр Константинович, не беспокойтесь. Со мной ничего не будет. Я не позволю Орлову говорить над моим гробом речь».[269]
Кардиологи констатировали: 6 марта Ефремов пережил острый приступ кардиальной астмы с отёком обоих лёгких. Выздоравливать придётся не меньше полугода. Если получится выздороветь…
16 марта в маленьком эстонском посёлке, в квартире, где на стенах висели репродукции картин Рериха, а книжные полки были уставлены редчайшими книгами, скромный бухгалтер Павел Фёдорович Беликов составлял письмо Ефремову. Святослав Николаевич Рерих посоветовал обратиться за помощью именно к нему. Важнейшей поддержкой больному стал чуткий, добрый отзыв рериховеда о «Лезвии бритвы». Возможно, первым, что написал Ефремов после приступа, был ответ Беликову, датированный 3 апреля.
10 апреля, когда состояние позволило, его перевезли в больницу Академии наук. По выражению Ивана Антоновича, Тася ходила туда как на службу — два раза в день. Выздоровление мужа шло медленно, сердечные приступы время от времени повторялись.
В 1992 году Таисия Иосифовна рассказывала: «Во время болезни Ивана Антоновича в 1966 году я каждый день приходила к нему в больницу Академии наук. Однажды мужа не оказалось в его одноместной палате; его неожиданно перевели из трёхместной палаты в одноместную. В другой раз также не оказалось в палате — сказали, что увезли делать кардиограмму, хотя обычно делали это на месте. И только после кончины Ивана Антоновича я узнала, что во время его отсутствия в палате ставили подслушивающее устройство. Ожидалось посещение мужа английским критиком-литературоведом Алланом Майерсом».[270]
Главной для Ефремова была мысль о любимой, не раз спасавшей его с края бездны. Что станет делать, оставшись одна, женщина, посвятившая ему всю жизнь без остатка, не имея высшего образования, с небольшим стажем работы? Горькие думы не покидали.
Май подарил надежду, а вместе с ней вернулись повседневные хлопоты. Стало ясно, что лечить надо не только самого Ефремова, но и Таисию Иосифовну, которой требовался отдых после пережитого шока. Санаторий — проверенное средство. Путёвки оставались только в «Узкое», цены в котором были воистину грабительскими. Однако пришлось взять две путёвки. На лето Тася с верным другом семьи — Марией Фёдоровной Лукьяновой сняли дачу в Лесном Городке, недалеко от Москвы, по Минскому шоссе (300 рублей за четыре месяца).
Вернулись и мысли о творчестве. Ефремов в письме Дмитревскому размышлял: «Книга по палеонтологии, которая только что стала обрисовываться в интересную вещь, должна быть отложена — не под силу управиться с нужной литературой, да и как таскать её за собой?[271]
Поэтому возвращаюсь к фантастике и «Долгой Заре», если будут силы писать самому, а если не будут, то придётся обождать с ней и диктовать рассказы (не фантастику в точном смысле этого слова) Тасе. Вот видите, какое дело, дорогой друг.
В общем, несмотря на то, что приютила меня наука, иду обратно в лоно литературы.
Тут есть и другая подоплёка: если быть на этой земле остаётся мало, то всё же лучше оставить после себя литературные вещи, чем научные, — это будет подспорье для Тасёнка, которая, посвятив мне всю жизнь, останется яко наг яко благ. Да и если есть что важное сказать — надо сказать. Успеть бы!»[272]
Вглядываясь в ритмы своей жизни, Ефремов отчётливо видел неизбежные повороты, следовавшие заточками ветвления. Март 1942 года — Свердловск, лихорадка, не проходящая больше месяца, когда в бреду ему начали рисоваться сюжеты рассказов. Сразу после этого, в эвакуации, он написал первые художественные произведения — от невозможности заниматься наукой, как ему казалось тогда. Но сейчас в этом виделась мудрая логика жизни. Всего за пять лет утвердившись в литературе, он фактически оставил её, вернувшись к палеонтологии. В 1955-м судьба властной рукой вновь оторвала его от науки, поставив на грань жизни и смерти. Спасением раскрылся над ним звёздный купол Мозжинки, и мысли обратились к «Туманности Андромеды». История повторяется: после «Лезвия бритвы» он отодвинул литературу, чтобы вернуться к палеонтологии, год провозился с небольшой по объёму книгой и получил сильнейший удар. Стало быть, его миссия на данном этапе в том, чтобы запечатлеть свои многолетние размышления в художественных произведениях.
Словно озвучивая мысли самого Ефремова, Георгий Константинович Портнягин писал: «Всегда помните, что счастье-несчастье — парная категория. Вы огорчаетесь, что пришлось оставить палеонтологию. Это, несомненно, так, но в какой степени? Круг людей, который может получить от Вас полезное в области палеонтологии, несомненно, во много крат меньше миллионов Ваших читателей. Ваши книги разбудили у многих миллионов читателей прекрасные чувства, чудесные мысли, заставили по-иному взглянуть на Вселенную, да, наконец, просто вокруг себя».[273]
В 1966 году Ефремов с непреложной силой получил глубочайший опыт умирания, тот самый опыт, который освобождает от страха смерти. Позже психологические, философские и духовные перспективы опыта смерти и умирания были описаны и осмыслены выдающимся психологом Станиславом Грофом.[274] Он показал, что встреча со смертью может вести к мощному духовному раскрытию. Вскоре в психологии возникла особая отрасль — танатотерапия.
Состояния, приближающие Ефремова к порогу жизни, каждый раз оказывали на него трансформирующее влияние, раскрывали новое понимание мира, его не-конечности с наступлением смерти. Ощущение смерти как предстоящего перехода на иную грань бытия давало возможность осмысливать вопросы, которые раньше по разным причинам оставались закрытыми, такие как проблема жертвы и искупления.
Июнь, «Узкое». Вновь, как десять лет назад, первые шаги после болезни давались необычайно тяжело. Шептались берёзы над тропинкой, по которой гулял Ефремов, — километр от крыльца, километр назад, не спеша, чтобы не сбить ритм сердечных ударов.
В начале июля уехали в Лесной Городок, где прожили до октября — на строгом режиме. Иван Антонович с трудом вживался в «Долгую Зарю» — в самом названии романа теперь чудилось что-то роковое. Здоровье налаживалось крайне медленно, так ещё никогда не бывало. Только бы удавалось писать, а поездки на этот год придётся отложить.
Печатная машинка теперь стояла не в кабинете, а в комнате Таси. Ивану Антоновичу запретили печатать, и новые страницы писались от руки. Тася перепечатывала. Вчитываясь в готовые главы — «Миф о планете Торманс» и «На краю бездны», Иван Антонович не мог решить, получаются они хуже или лучше прежнего. Как обычно, выстроилась очередь из желающих получить право публикации. Первым в ней оказался главный редактор журнала «Октябрь» В. А. Кочетов.
Друзья редко добирались до Лесного Городка, и Иван Антонович чувствовал, что скучает по ним, особенно по Дмитревскому, взаимопонимание с которым никогда не давало осечки.
Грустным вьщался этот год Белой лошади. Едва вернувшись в Москву, Иван Антонович узнал о смерти директора ПИНа Юрия Александровича Орлова. Память настойчиво возвращала к началу 1930-х годов, когда Орлов, внезапно оставивший прекрасную карьеру в Военно-медицинской академии, пришёл в палеонтологию. В воображении вставали эпизоды начала войны и эвакуации, сцены из Монгольской экспедиции.
При воспоминании о монгольских спутниках словно ледяная ладонь ложилась на сердце. Весной, когда Ефремов лежал в больнице, неожиданно умер Евгений Александрович Малеев, товарищ по гобийской одиссее, так много успевший сделать в палеонтологии. Последним его увлечением были комоде кие вараны, ради которых он в 1962 году ездил в Индонезию. А ведь ему был всего 51 год…
С одной стороны, Иван Антонович хотел покоя, чтобы сосредоточиться на новой книге. С другой стороны, он с особым чувством благодарности и радости относился теперь к друзьям. В октябре 1966 года к Ефремову приехал Пачини, произошла ещё одна встреча — с Павлом Фёдоровичем Беликовым.
Несмотря на слабость, на фатальность любой непогоды, Иван Антонович старался читать рукописи коллег, писать статьи и отзывы, быть в курсе писательских дел, следить за новинками литературы. Особое внимание привлёк роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», который публиковался в журнале «Москва» в конце 1966-го — начале 1967 года. Ефремов считал, что столь блестящего произведения давно не появлялось в нашей печати. Интересно, что силы якобы зла на фоне общего упадка морали выглядели представителями доброго начала. Такая трактовка заставляла глубоко задуматься. «Был бы ты холоден или горяч, но ты тёпл…»
Друзьям и коллегам казалось, что Иван Антонович так же силён и энергичен, как прежде. Но кардиограмма с каждым месяцем всё ухудшалась.
6 марта 1967 года Ефремов писал Дмитревскому: «Кроме шуток, у меня ощущение, что я как хороший броненосец, с большой силой машин, запасом пловучести и т. д., но получивший пробоину, которую никак не могут заделать… И вот медленно, но верно заполняется водой один отсек за другим, и корабль садится всё глубже в воду. Он ещё идёт, но скорости набрать нельзя — выдавятся переборки и сразу пойдёшь ко дну, поэтому броненосец идёт медленно, почти с торжественной обречённостью, погружаясь, но с виду всё такой же тяжёлый и сильный. А в рубке управления мечется, пытаясь что-то сделать, — капитан — мой Тасёнок и экипаж из моих друзей, готовых сделать, что возможно, кроме главного — пробоина не заделываемая. Так и у меня — с каждой новой кардиограммой смотришь, как выполаживаются одни зубцы, опускаются другие, расползаются вширь, осложняясь дополнительными, третьи. Эту картину я отчётливо вижу и сам. Это — не паника, не внезапный припадок слабости или меланхолии, просто облеклось в поэтический образ моё заболевание. И не говорите ничего никому, ведь сколько осталось пловучести — величина неопределённая, зависит от общей жизненности организма и, может быть, и не так уж скоро, кое-что во всяком случае успею сделать — это я как-то внутренним чутьём понимаю, хоть и не исключаю возможности внезапного поворота событий — но ведь это уже опасение кирпича на голову и потому не принимается во внимание. Как-то всегда привлекал меня один эпизод из Цусимского боя. Когда броненосец «Сисой Великий», подбитый, с испорченными машинами, спасаясь от японцев, встретил крейсер «Владимир Мономах» и поднял сигнал: «Тону, прошу принять команду на борт». И на мачтах крейсера взвились флаги ответного сигнала: «Сам через час пойду ко дну». Мой броненосец пока не отвечал этим сигналом людям, введённым в заблуждение моей всегдашней бодростью, но дело к тому пошло за последний год довольно быстро».
С 20 марта 1967 года — санаторий «Десна». Иван Антонович с Тасей постарались продлить путёвки, чтобы задержаться там до конца апреля. 22 апреля Ефремову исполнялось 60 лет (по документам). В писательской среде был обычай праздновать юбилеи, но Иван Антонович не любил этих торжеств за нарочитую помпезность и определённый привкус, старался избегать официальных мероприятий. Все ожидали, что, по обычаю, к юбилею ему дадут правительственную награду. Говорили об ордене, но его не оказалось. В этом проявилась оценка руководства страны в отношении к Ефремову. Для него самого награды не имели серьёзного значения, но факт сей был показателен для оценки обстановки в правительстве Брежнева. Впрочем, при сложившейся в стране политической ситуации это можно было воспринимать как награду.
Орден Трудового Красного Знамени, второй в своей жизни, Ефремов всё же получил — в 1968 году, «за заслуги в развитии советской литературы и активное участие в коммунистическом воспитании трудящихся».
В «Десне» вдвоём с Тасей тихо отпраздновали свой, особый юбилей: 22 апреля им на двоих исполнилось 100 лет.
В мае вновь поехали в «Узкое», но там случился очередной приступ кардиальной астмы. Приступы повторились и в Москве. Не только личное нездоровье мешало писать: безмерно тяготило ощущение горя планеты, взваленного на себя.
Роман продвигался медленно, и Ефремов решил переименовать его из «Долгой Зари» в «Час Быка». Писал от руки, секретарскую работу выполняла Таисия Иосифовна, по хозяйству помогала смуглая, быстрая, лёгкая в движениях, несмотря на возраст, Мария Фёдоровна Лукьянова, на время переселившаяся к Ефремовым и давно ставшая в доме своим человеком. Сын вновь был далеко — на этот раз в длительной командировке в Сирии. Письма от него доходили плохо.
Засуха, ясные жаркие дни. «Час Быка» продвигается медленно, и даже странно думать о том, что год назад хотелось его закончить за несколько месяцев. Роман разрастался, и каждая мысль, каждый образ казались необходимыми, неотложными. В сентябре Портнягин рассказал Ефремову о последних высказываниях Бориса Леонидовича Смирнова, переводчика Махабхараты: «Если хочешь работать — работай здесь и сейчас; каждый поставлен в наилучшие условия для внутренней работы. А если он ищет «условий» и откладывает «на потом» — толка не будет!»[275]
В ноябре 1967 года у Таисии Иосифовны случился приступ тахикардии. Но разве могла она подолгу лежать в постели, ничего не принимая близко к сердцу, как велели доктора?
Броненосец медленно, но неуклонно двигался вперёд. Помогали мудрость книг и поддержка друзей.
Ленинградец Николай Николаевич Косниковский, с которым Ефремов в 1935 году вместе раскапывал Ишеево, говорил: «Кубинцы пишут на своих домах: «Это твой дом, Фидель». На дверях нашей комнаты в Ленинграде я мысленно вижу плакат «Это Ваш дом, Иван Антонович!».[276]
Частыми гостями в квартире Ефремовых были его ученики-палеонтологи Чудинов и Рождественский. Навещали коллеги-фантасты: остробородый и воинственный Александр Петрович Казанцев, молодые братья Стругацкие, Олесь Бердник, Спартак Ахметов и многие другие.
Стругацкие, которые давно были в дружеских отношениях с Иваном Антоновичем, вывели его в фантастической юмористической повести «Понедельник начинается в субботу»:
«В четырнадцать часов тридцать одну минуту в приёмную, шумно отдуваясь и треща паркетом, ввалился знаменитый Фёдор Симеонович Киврин, великий маг и кудесник, заведующий отделом Линейного Счастья. Фёдор Симеонович славился неисправимым оптимизмом и верой в прекрасное будущее. У него было очень бурное прошлое. При Иване Васильевиче — царе Грозном опричники тогдашнего министра государственной безопасности Малюты Скуратова с шутками и прибаутками сожгли его по доносу соседа-дьяка в деревянной бане как колдуна; при Алексее Михайловиче — царе Тишайшем его били батогами нещадно и спалили у него на голой спине полное рукописное собрание его сочинений; при Петре Алексеевиче — царе Великом он сначала возвысился было как знаток химии и рудного дела, но не потрафил чем-то князю-кесарю Ромодановскому, попал на каторгу на Тульский оружейный завод, бежал оттуда в Индию, долго путешествовал, искусан был ядовитыми змеями и крокодилами, нечувствительно превзошёл йогу, вновь вернулся в Россию в разгар пугачёвщины, был обвинён как врачеватель бунтовщиков, обезноздрен и сослан в Соловец навечно. В Соловце опять имел массу всяких неприятностей, пока не прибился к НИИЧАВО, где быстро занял пост заведующего отделом и последнее время много работал над проблемами человеческого счастья, беззаветно сражаясь с коллегами, которые базой счастья полагали довольство».
Братья сохранили Фёдору Симеоновичу его жизнелюбие, душевную щедрость, особенности темперамента и даже заикание, характерное для Ивана Антоновича:
«— П-приветствую вас! — пробасил он, кладя передо мною ключи от своих лабораторий. — Б-бедняга, к-как же вы это?
В-вам веселиться надо в т-такую ночь, я п-позвоню Модесту, что за г-глупости, я сам п-подежурю…
Видно было, что мысль эта только что пришла ему в голову, и он страшно ею загорелся.
— Н-ну-ка, где здесь его т-телефон? П-проклятье, н-ни-когда не п-помню т-телефонов… Один-п-пятнадцать или п-пять-одиннадцать…
— Что вы, Фёдор Симеонович, спасибо! — вскричал я. — Не надо! Я тут как раз поработать собрался!
— Ах, п-поработать! Этод-другое дело! Эт’ х-хорошо, эт’ здорово, вы м-молодец!.. А я, ч-чёрт, электроники н-ни черта не знаю… Н-надо учиться, а т-то вся эта м-магия слова, с-старьё, ф-фокусы-покусы с п-психополями, п-примитив… Д-дедов-ские п-приёмчики…»
Во второй повести — «Сказка о Тройке», уже больше сатирической, чем юмористической, заведующий отделом Линейного Счастья появляется вновь. Он дружит с Кристобалем Хозевичем Хунтой, заведующим отделом Смысла жизни, и в конце они вместе разгоняют местную администрацию — «Тройку по Рационализации и Утилизации Необъяснимых Явлений», чудовищно невежественную и погрязшую в бюрократии.
К Ивану Антоновичу, реальному, а не сказочному, приходили спокойный, доброжелательный Сергей Георгиевич Жемайтис, заведующий редакцией фантастики «Молодой гвардии» и редактор многих ефремовских произведений, Валентин Дмитриевич Иванов, суровый, немного ворчливый, с лохматыми бровями — автор исторических книг «Повести древних лет», «Русь изначальная» и «Русь Великая».
В романе «Русь Великая» пятая глава называется «Крепче стань в стремя». Она повествует о XII веке, об одном дне старого дружинника боярина Стриги и его молодой жены Елены. Боярин Стрига проживает богатый день: показывает посланцу князя Владимира Мономаха хозяйство пограничной крепости Кснятин, пускается в погоню за половцами, в единоборстве, раненый, побеждает хана и берёт половцев в плен. Договаривается о выкупе — за каждого по четыре русских пленника. Беседует с приехавшими гостями о древних жителях этих земель, о политике Византии и делах Владимира Мономаха, о персидском предании, рассказанном купцом «из индов», об умельце по имени Жужелец, сделавшем крылья, о том, как отличить силу от насилия…
Боярин Стрига много старше своей жены, одолевают его недуги, он чутко прислушивается к переменам в себе: «Не хочет он сходить с поля, ему невыносима мысль о бездействии». Жена хочет понять душу мужа: «Елена знала — есть ещё много сил у любимого. Не было б силы, он в слабости бы не каялся. Душа его ищет, живёт и растёт в нём таинственным ростом. Изменяется он — стало быть, бьётся в нём сильная жизнь. И радовалась женщина цветенью неизносимой мужественности того, кого избрала, быв ещё девочкой. Доведись начать всё сначала, опять его взяла бы из многих».
Так друг смог постичь глубинную сущность отношений в семье Ефремовых, перенеся их силой своей фантазии в Древнюю Русь.
Немало перекличек в романах Иванова и Ефремова.
Портнягин, тонко чувствуя состояние Ивана Антоновича, признавался: «Недавно перечитывал чудные письма Бориса Леонидовича <Смирнова>. А познакомился я с ним потому, что Вы мне подарили VII томик «Махабхараты». Сейчас заканчиваю редакцию перевода лекций П. Д. Успенского — «Четвёртый путь». Пытаюсь во многом следовать умным вещам, содержащимся там. К этому чистому роднику я вышел потому, что Вы познакомили меня с Ф. П. <Беликовым, биографом Рериха>. Это не сентиментальные разговоры, это понимание того глубочайшего влияния, которое Вы оказали на меня. Я знаю, что каждый сам идёт по своему Пути. Это так, но бывают перепутья, так ведь? И на них очень нужен свет. Этот свет дали мне Вы и Борис Леонидович».[277]
Иван Антонович читал лекции П. Д. Успенского «Четвёртый путь» в переводе Портнягина, просил его отпечатать в двенадцати экземплярах, чтобы давать для знакомства друзьям, ибо до издания этой книги ещё очень далеко. И пусть читают!
В марте 1968 года был закончен роман «Час Быка». В начале мая его успел прочитать и высоко оценить Портнягин, на праздники приехавший в гости к Ефремовым. Теперь немного отдохнуть — и можно подумать о Тайс, коли будет на то Божья воля. Иншалла!
«Как паровоз через лес»
К 20 мая 1968 года «Час Быка», начатый в 1961 году, был перепечатан начисто. Иван Антонович, как обещано, отдал рукопись в «Октябрь», но главный редактор Кочетов болел, а его заместитель Стариков убоялся и отверг роман.
На очереди стояли журналы «Москва» и «Знамя». Пока редакторы знакомились с новой рукописью, Иван Антонович перечитывал «Лезвие бритвы». Он давно хотел добавить некоторые вставки, надеясь, что его любимый роман будут переиздавать, но пока делать этого никто не спешил. Вставки всё же были написаны, и мысли теперь обращались к повести из древнегреческой жизни, задуманной ещё в начале 1950-х годов. Повесть эту, грустно думал Ефремов, никто не будет издавать: «Видно, уж сейчас я вышел из нужных для момента предметов и пру, как паровоз через лес. Но жить осталось немного и писать ещё то, что неинтересно или кажется мне неважным, — провались оно!»[278]
К концу лета стало понятно, что и «Москва», и «Знамя» не рискуют взяться за публикацию «Часа Быка». Август грянул неслышным громом: ввод советских войск в Чехословакию стал решительным концом оттепели. Все словно затаились в ожидании: каким теперь станет курс партии. Момент для публикации остросоциального романа был явно неблагоприятным.
Издательство «Молодая гвардия», заявившее о готовности в 1969 году опубликовать новый роман отдельной книгой, требовало смягчения или снятия важных, с точки зрения автора, мест, на что Ефремов не соглашался: пусть лучше роман полежит; может, его вообще стоит выдержать как вино.
Самым отважным из журналов оказался верный Ефремову «Техника — молодёжи»: договорились, что роман с большими сокращениями будет печататься, начиная с десятого номера 1968 года. А пока Иван Антонович раздал для чтения машинописные экземпляры романа своим друзьям и коллегам-фантастам.
Не уехавший в этом году на дачу Ефремов оказался в эпицентре внимания гостей. Август — сезон проезжающих, и многие из знакомых стремились попасть в Москву именно для встречи с писателем. Кто только не был в гостеприимной квартире на улице Губкина! Индийцы, итальянцы, американцы, немцы, чехи… О своих даже говорить не приходится! Каждый день — новые лица. После двух лет работы вернулся из Сирии Аллан — видно было, что он сильно отвык от всех родных.
На беду, у Ефремова разболелась нога — в том самом месте, куда летом 1929 года в Средней Азии пришёлся удар бандитов. Проткнутое колено напомнило о себе отложением солей именно в месте ранения. Но мало кто из гостей догадывался о том, что радушному хозяину трудно ходить.
Осенью поток гостей поредел, и настало время писем. В октябре, окунувшись в золотую осень «Узкого», Ефремов с удовольствием читал отзывы друзей на новый роман. Особенно ценным было мнение Евгения Павловича Брандиса, знатока фантастической и приключенческой литературы, глубокого и чуткого исследователя. Он писал:
«Уже больше недели живу под неослабным впечатлением «Часа Быка». После «Туманности Андромеды» не могу назвать произведения, которое оказало бы на меня столь сильное воздействие. По привычке, читая, делал заметки и выписки. Если при чтении обычного рядового романа записи занимают 1–2 страницы, то здесь понадобилось 46 страниц, да и то пришлось ужиматься за недостатком времени. Поразительное богатство идей — животрепещущих, без промаха бьющих в цель, бездна ассоциаций и аналогий, острейших формулировок и афоризмов, высокая интеллектуальность — таково первое и самое общее впечатление. Отсюда своеобразие: роман перерастает в философский, социологический и футурологический трактат, требующий от читателя максимального напряжения. Для любителей лёгкого чтения это — недостаток, для тех, кто ищет в научной фантастике занимательности и сюжетных хитросплетений, — разочарование. Но в моих глазах это первейшее достоинство, настоящий праздник. Вероятно, так же воспримут «Час Быка» тысячи квалифицированных, думающих читателей. Хотелось бы очень, чтобы отдельное издание вышло в полном виде или, во всяком случае, без больших сокращений. Не уверен, что всё пропустят в таком виде, как есть, и будет очень обидно, если роман пострадает. Он интересен и в жанровом отношении. Я не знаю другого произведения, где соединялись бы вместе так плотно и неразрывно позитивное и негативное начало, «утопия» и предупреждение. Одно уравновешивает другое. Идеал отчётливо противоречит тому, что отвратительно и внушает наибольшую тревогу. В этом преимущество «Часа Быка» перед всеми романами-предупреждениями и тем более — антиутопиями (мне кажется, следует разграничивать эти жанры). Тем самым «Час Быка» — произведение новаторское и по содержанию, и по форме.
Вспоминается разговор с Вами, когда Вы рассказывали мне о Вашем новом романе. Я подумал тогда и сказал Вам, что это ответ на пожелание Ленина — написать роман «на тему о том, как хищники капитализма оцепили Землю, растратив всю нефть, всё железо, дерево, весь уголь». Действительно, роман отвечает этой теме, но далеко не исчерпывается ею. Парадокс истории заключается в том, что спустя 60 лет честный советский писатель вынужден говорить не только о хищниках капитализма, грабящих Землю… Я уверен, поймут Вас правильно, но только не те, от кого зависит что-либо изменить в нашем тревожном мире.
Ещё в Вашей книге громоздкость и переизбыточность. Это громоздкое здание из неотшлифованных гранитных глыб. Вы больше заботитесь о целостности замысла, чем о проработке деталей, не об одежде мысли, а о самой мысли. Над этим сооружением работал не Канова, а Роден. Хорошо это или плохо? Не знаю. Воспринимаю всё в целом, как нечто грандиозное, хотя, не скрою, неуклюжие обороты и языковые небрежности порою вызывают досаду. Разумеется, это мелочи. Шероховатости сгладятся или уже сгладились при редактировании. Но всё вместе взятое потрясает и переворачивает душу. К чему мы пришли и куда идём? Мы и наша страна, и человечество Земли. Меня поражает масштабность замысла и неопровержимая логика энциклопедической мысли. Мне ещё трудно осознать значение этого явления, которое нельзя воспринимать только как жанр литературы. Это нечто большее. Плод философской и научной мысли, который мог созреть только в 60-х годах нашего столетия.
Меня, поклонника «Туманности Андромеды», как Вы знаете, вполне устраивает созданная Вами «модель» человека будущего. Здесь Вы идёте ещё дальше и с яростью борца отстаиваете Ваши идеи, которые были недостаточно развёрнуты в первом романе. Имею в виду, прежде всего, личные взаимоотношения и роль Эроса. В отличие от других, меня это нисколько не шокирует. Убеждает и разговор Эвизы с врачами. И даже её эротический эксперимент. Всё, кроме обсуждения этого эксперимента, потому что акцент должен быть, на мой взгляд, на психологии, а не на физиологии.
Теория инферно и Стрелы Аримана кажется мне неопровержимой. Об этом будут говорить и спорить. Это материал для философских диссертаций.
Извините, Иван Антонович, что так бессвязно излагаю свои впечатления и переживания. Нужно ещё время, чтобы всё уложилось и вошло в систему. Для этого нужно не один раз ещё перечитать «Час Быка», как перечитывал и перечитывал «Туманность Андромеды». Хотелось сказать об этом, чтобы поздравить Вас от души с ещё одной большой победой».[279]
Удивил Ивана Антоновича отзыв недавно назначенного главного редактора издательства «Молодая гвардия». Будучи в гостях у Ефремова, Валерий Николаевич Ганичев сказал: «Час Быка» — это «настольная книга для государственных деятелей». И принял решение публиковать роман (сократив сцены, признанные эротическими) в четырёх номерах журнала «Молодая гвардия» с начала 1969 года, а в майском номере дать интервью с автором, параллельно готовя отдельную книгу.
В ноябре 1968 года Иван Антонович вернулся из санатория домой, состояние его ухудшилось, и пришлось лежать в постели. Его сильно взволновала весть о том, что в Ленинграде, в Союзе писателей, на секции научно-фантастической и научно-художественной литературы назначено обсуждение рукописи «Часа Быка». Дмитревскому без согласования с ним поручили вступительный доклад. Он сообщал другу, что рукопись уже прочитали Бритиков, Брандис, Гор, Ольга Ларионова, Борис Стругацкий, Аскольд Шейкин, Шалимов, и все «ошеломлены грандиозностью и множественностью проблем, поставленных автором в самых различных сферах: и социалистической, и философской, и биологической, и экономической, и морально-этической, и ещё, и ещё…».[280]
Обсуждение было заявлено как официальное мероприятие, и это весьма не понравилось Ефремову. Давая рукопись друзьям для приватного обмена мнениями, он не без оснований полагал, что публичное обсуждение ещё не напечатанной книги в условиях кризиса власти может повредить изданию. Владимир Иванович позвонил в Москву, узнал мнение Ефремова и добился отмены обсуждения.
В декабре Иван Антонович, понемногу восстанавливаясь после болезни, вновь обратился к древнегреческой повести, которая виделась сначала ему довольно короткой. С утра он на несколько часов отключал телефон и садился за рабочий стол. После обеда отдыхал, затем просматривал журналы, решал деловые вопросы, принимал гостей. Ефремов почти перестал ходить на концерты, в кино и в гости — пришлось отказаться от этих удовольствий, превратив свой дом в подобие ашрама. Однако люди шли к нему непрекращающимся потоком.
Молодым Иван Антонович задавал вопрос, который служил проверкой на общую культуру: «Кто такая Геката и кто такая Гекуба?» Не все могли ответить.
Часто гости, впервые приходящие к знаменитому писателю, смущались, и тогда Ефремов, садясь за рабочий стол, давал гостям знаменитое собрание «красоток» — альбом, куда были наклеены фотографии красивых женщин, в основном актрис, и предлагал выбрать тех, кто больше нравится. Листая альбом, гость успевал оправиться от смущения и привыкнуть к обстановке, а его выбор красавиц много говорил Ивану Антоновичу о характере и вкусах новичка.
Вскоре после августа 1968 года возникли трудности с зарубежной почтой. Некоторые книги и журналы, которые посылали Ефремову зарубежные корреспонденты, не доходили до адресата. Цензура грубо изымала из посылок то, что считала антисоветским. Нарушался один из основных принципов Великого Кольца — закон свободы информации. Возмущённый писатель обратился сначала в Министерство связи, а затем напрямую к секретарю ЦК КПСС Петру Нилычу Демичеву, который курировал вопросы культуры. Кое-чего удалось добиться, но стало ясно, что «железный занавес» вновь закрыл страну от внешнего мира.
Ефремову было необходимо общение с широким миром, из которого он свободно черпал энергию и знания. Они питали его мысль и превращались из просто научных фактов в артефакты.
Однажды он увидел фрагмент фильма, где азиатская жрица демонстрировала древнейший обряд — «Поцелуй кобры». Огромная змея изгибалась, бросалась на женщину, стремясь укусить, но та мгновенно уворачивалась, и смертельный танец начинался сначала. Это же прекрасный эпизод для повести о Тайс!
Создателем фильма оказался режиссёр Арман Денис, бельгиец, обосновавшийся в Найроби, столице Кении, автор более ста фильмов о диких животных. Ведущей была его жена Микаэла, дочь английского археолога, женившегося на белоруске. Отец её был убит в Первой мировой войне, когда девочке было три месяца. Воспитывали её мама и бабушка, укрепив в ней веру в себя.
Ефремов послал Арману Денису свою статью о палеонтологии и письмо, на которое ответила Микаэла: муж болел, ему было трудно писать. Ефремов ответил присылкой книги «На краю Ойкумены», в английском переводе Land of Foam. Микаэла отвечала радостными письмами и присылала свои фотографии, книгу «Леопард у меня на коленях». Десятилетиями она общалась с дикой природой, жила в чистых местах, заботилась о сохранении деревьев в Кении. В одном письме она рассказала, что много лет лечила мужа с его болезнью Паркинсона наложением рук, и последнее время к ней приходит много народу с просьбами о помощи, и лечение Микаэлы помогает. Она признавалась, что чувствует себя проводником, передатчиком излечивающей силы. В конце 1970 года она выясняла у Ефремова признаки его болезни. Вдруг ей удастся приехать в Россию, страну, где она ни разу не была?
Но об этом — в своё время.
Весной 1969 года Ефремов, отложив «Легенду о Тайс», трудится над книжным вариантом «Часа Быка». Одновременно к нему поступает корректура книги старых рассказов и докторская диссертация одного из учеников. Всё это завязалось в тугой узел.
Лишь в середине июля удалось закончить подготовку «Часа Быка» к печати. Однако, как уже было с «Лезвием бритвы», издательство не торопилось с печатанием романа. Ефремов понимал, что если публикация по каким-то причинам не состоится, то на будущий год мало шансов увидеть новую книгу: 1970 год — год столетия Ленина, и почти вся бумага зарезервирована для юбилейных изданий.
Лето выдалось холодным, с частыми дождями, и на дачу решили не уезжать.
В середине июля 1969 года Ефремов вновь пережил сердечный приступ, больше двадцати дней пришлось пролежать в постели. Болезни всё чаще посещали дом. Строже, сосредоточеннее стал взгляд Таисии Иосифовны.
Из типографии роман вышел почти год спустя, в июне 1970 года.
Какая радость — дарить свой роман друзьям, посылать его людям, мнение которых для тебя особенно важно!
Одним из таких людей был великий педагог современности, директор Павлышской школы, автор книги «Сердце отдаю детям» Василий Александрович Сухомлинский. Он ответил Ефремову: «Получил от Вас роман «Час быка» с дарственной надписью, безмерно счастлив. Я давний поклонник Вашего творчества. Может быть, вы не поверите, но это так: «Туманность Андромеды» я прочитал четыре раза. Это не пристрастие к фантастике, а стремление ещё и ещё раз пережить, перечувствовать глубину мыслей, которых у Вас обилие и в строках, и между строками. «…Не можем жить и быть свободными, пока есть несчастные» — в этих словах из «Часа быка» сконцентрированы, мне кажется, идеи, которые не могут не волновать в наши дни каждого честного человека.
Ваша фантастика восхищает своей правдивостью. Я влюблён в Ваших людей будущего — честных, правдивых, ярких, «сильно выраженных».[281]
«Час Быка»: утопия против антиутопии
Час Быка — это самое тёмное время суток, когда на Земле властвуют демоны. Это два часа ночи — самое томительное время перед летним рассветом. Это время кажущейся безысходности. Но именно — кажущейся…
Восемь столетий прошло со времени событий «Туманности Андромеды».[282] Совершено долгожданное — на основе старинного открытия Рен Боза найден способ мгновенного перемещения в нуль-пространстве, неуловимо тонкой гранью разделяющем наш светлый мир Шакти и мир антивремени и антипространства Тамас. Построены Звездолёты Прямого Луча (ЗПЛ), наступила новая Эра Встретившихся Рук (ЭВР). С Эпсилоном Тукана налажена постоянная связь.
Но не торжество человеческого разума становится темой времени. ЗПЛ из созвездия Цефея случайно натыкается на обитаемую планету. Обитаемую людьми. Людьми, которые терпят невероятные лишения, но, несмотря на это, отказываются принять цефеян.
Полученная информация обрабатывается на Земле. Из древних архивов извлекаются сведения о бегстве с Земли трёх космических кораблей в самом начале Эры Мирового Воссоединения. Кораблей, унёсших в себе тех, кто отказался принять происходящие на родине перемены. Несмотря на громадные расстояния, разделяющие красную звезду в созвездии Рыси, где обосновались беглецы, и Солнечную систему, вероятность их проникновения в столь отдалённые районы была — это случайное попадание в переходную между Шакти и Тамасом зону. Терпящую лишения планету называют Тормансом — от французского tormence (мучение). На Земле принимается решение о посылке разведывательно-спасательной экспедиции на ЗПЛ «Тёмное Пламя»…
Очень сложно писать об этом романе. Книги Ефремова необычайно насыщены разноплановыми и злободневными идеями. Идеи эти выражены ясно и лаконично, но сами по себе столь сложны и нетривиальны, что всякий раз останавливаешься в недоумении: как сказать точнее, короче, доходчивее? Учитывая, что литературоведами книга совершенно не исследована, многие вещи необходимо проговорить, хотя и по возможности кратко. С первых строк на читателя обрушивается лавина отточенных формулировок и размышлений на сложнейшие темы. Вот перед нами типическая ситуация: ученик-учитель, вопрос-ответ. Но о чём спрашивает молодой человек?
«— Правильно ли сказать, что весь исторический опыт утверждает неизбежную победу высших форм над низшими как в развитии природы, так и в смене? — начал юноша.
— Правильно, Ларк, если исключить особенные стечения обстоятельств, которые очень редки, как всё то, что выходит из границ великого диалектического процесса усреднения, — ответил учитель».
Речь идёт о сочетании случайности и необходимости в историческом развитии. Упомянутый закон усреднения как раз об этом. Недаром ещё Будда говорил о Срединном Пути.
Не так всё просто и с наследием угасших культур — например, таких, как Зирда. Справедливо это не только к нашей планете, но и в масштабах вселенной. Порой такое наследие превращается в «опасный яд, могущий отравить ещё незрелое общество, слепо воспринявшее мнимую мудрость».
Заглянем на последний перед отлётом Совет Звездоплавания. Люди, сидящие там, при всей своей мудрости и немалом знании ещё понятия не имеют, с чем придётся столкнуться экспедиции. Они могут дать лишь самые общие рекомендации. Практические решения придётся принимать на месте членам экипажа, беря на себя последствия и всю ответственность за эти решения.
«— Напоминаю ещё и ещё раз: мы не можем применять силу, не можем прийти к ним ни карающими, ни всепрощающими вестниками высшего мира. Заставить их изменить свою жизнь было бы безумием, и потому нужен совсем особый такт и подход в этой небывалой экспедиции.
— На что же вы надеетесь? — озабоченно спросил человек с Юпитера.
— Если их беда — как огромное большинство всех бед — от невежества, то есть слепоты познания, тогда пусть они прозреют. И мы будем врачами их глаз. Если болезнь от трудных общих условий планеты, мы предложим им исцелить их экономику и технику — во всех случаях наш долг прийти как врачам, — ответил председатель, и все члены Совета поднялись, как один человек, чтобы выразить полное согласие.
— А если они не захотят? — возразил юпитерианец».
И ответ выскальзывает из рук…
Вот мы читаем сцену отлёта «Тёмного Пламени». Она в зародыше содержит всю противоречивость предстоящего и задаёт ритм всему повествованию. Ефремов, поясняя, раскрывает суть и значение возникшего недоумения среди провожающих:
«Человеческий разум, как ни обогатился и ни развился за последние три тысячи лет,[283] всё ещё воспринимал некоторые явления лишь с одной внешней их стороны и отказывался верить, что это неуклюжее сооружение способно почти мгновенно проткнуть пространство, вместо того чтобы покорно крутиться в нём, как и лучи света, в продолжение тысяч лет по разрешённым каналам его сложной структуры».
Всё в мире взаимосвязано. Частное событие не бывает оторвано от остального мира. Так или иначе, оно выражает какой-либо аспект всей системы. Уметь прозревать сквозь сновидческое покрывало майи — признак пробуждённости и свободы. «Нередкое совпадение при глубоком чувстве!» — восклицает Родис. Позже их будет много, таких совпадений. Знаменитая синхронистичность Юнга, которую невозможно объяснить, если не принять как факт заложенного в человеке потенциала третьей сигнальной системы.
Философская картина мира, описанная Ефремовым, глубоко символична. Мироздание оказывается гигантским наглядным воплощением диалектики. Хотя правильнее сказать, конечно, что диалектическое мышление будет отражением подлинной структуры мира. Уловить текучую границу нуль-пространства, проскользить на гребне волны между Сциллой Шакти и Харибдой Тамаса, познать неуловимо мерцающее лезвие Дао посреди бушующего океана инь-ян — значит постичь сердце мира и слиться с ним. Человек для быстрого внутреннего роста должен, подобно ЗПЛ, находить баланс сил, и тогда вся вселенная будет ему доступна.
Истина всегда находится в середине. Проблема лишь в том, чтобы отыскать эту середину. Движение не прекращается ни на секунду, координаты нечётки. Многих это путает и смущает, им становится проще объявить, что истины нет, что это человеческая фантазия породила представление о ней. «Всё относительно», — заявляют такие люди, забывая, что в это «всё» входит их собственное утверждение. Если они достаточно последовательны в своём отрицании, то оправдают любое угодное им дело, потому что критериев для оценки нет, и мир тогда хаотичен. Другие, также запутавшись и испугавшись беспредельности мира, заявят, что нашли истину раз и навсегда. Они станут ревниво хранить её, но можно ли ручей запереть в бутылке? И, с другой стороны, разве у ручья нет берегов?
Исчезающе зыбкое «настоящее» оказывается единственной реальностью, в которой мы существуем, сдавленные омертвелой громадой прошлого и призрачной бездной будущего. Это тоже своеобразное нуль-пространство. Но для нахождения истинной гармонии необходимо, чтобы на шкалах не одного, а многих приборов трепещущие стрелки установились на этой заветной отметке, как это было в рубке управления «Тёмного Пламени», ответственного лишь за физическое нуль-пространство.
Вдумаемся в диалектическую проблему: человек — наивысшее порождение природы, отрицающее её главный закон. Своим существованием он вносит во вселенную совершенно новое измерение. Это измерение подготовлено всем предшествующим путём развития, и теперь прежние законы выполняют функцию торможения подобно тому, как мозг тормозит чувство, Совет Экономики тормозит безоглядную романтику различных проектов, а мудрый наставник притормаживает экспрессивные излияния ребёнка. Молодость сделала своё дело и превратилась в зрелость…
Инферно — ад, его суть — безысходность. Эволюция жизни на Земле как страшный путь горя и смерти — так её понял Ефремов, больше других имеющий право на подобные интерпретации. Мы редко задумываемся над этим и вряд ли в полной мере можем представить бездну страдания возникшей миллиарды лет назад органической жизни. Слово «никогда» — символ безысходности — недаром очень часто встречается в произведениях Ефремова. Любое действие с благими мотивами должно опираться на понимание происходящих процессов. Теория инфернальности — это свод фактов и наблюдений за миллиардами лет естественного отбора.
«Жестокий отбор формировал и направлял эволюцию по пути совершенствования организма только в одном, главном, направлении — наибольшей свободы, независимости от внешней среды. Но это неизбежно требовало повышения остроты чувств — даже просто нервной деятельности — и вело за собой обязательное увеличение суммы страданий на жизненном пути.
Иначе говоря, этот путь приводил к безысходности. Происходило умножение недозрелого, гипертрофия однообразия, как песка в пустыне, нарушение уникальности и неповторимой драгоценности несчётным повторением… Проходя триллионы превращений от безвестных морских тварей до мыслящего организма, животная жизнь миллиарды лет геологической истории находилась в инферно.
Человек, как существо мыслящее, попал в двойное инферно — для тела и для души.
Некоторые философы, говоря о роковой неодолимости инстинктов, способствовали их развитию и тем самым затрудняли выход из инферно. Только создание условий для перевеса не инстинктивных, а самосовершенствующихся особей могло помочь сделать великий шаг к подъёму общественного сознания».
В неустроенном человеческом обществе природная закономерность достигла своего крайнего выражения. Двойное инферно превратилось в так называемую Стрелу Аримана, бьющую уже только по лучшим. Разговаривая с диктатором, Фай Родис старается объяснить суть бьющей по Тормансу угрозы: «Каждое действие, хотя бы внешне гуманное, оборачивается бедствием для отдельных людей, целых групп и всего человечества. Идея, провозглашающая добро, имеет тенденцию по мере исполнения нести с собой всё больше плохого, становится вредоносной».
Поразительно точно описание интеллигенции нашего времени: «Учёный тех времён казался глухим эмоционально; обогащённый эмоциями художник — невежественным до слепоты». Примерим эти рассуждения к себе. Немалое мужество требуется порой для этого. Количество правды, которое человек может вынести, не озлобившись, — самый точный показатель духовной зрелости…
Что же остаётся уделом тех, кто вынужден существовать в навязанных условиях? Проблема искренности в отношениях к миру, доходящей в своих крайних проявлениях до юродивости, со времён Пушкина является ключевой для русской литературы. Подчинённость «правилам» и «манерам» едва не растерзала Онегина, поглотила душевные силы Печорина. В произведениях Гоголя маска окончательно завладевает душой человека. Романы Достоевского и Толстого — отчаянный протест против демонического в своей ненасытности лицемерия масок. Вспомним «Балладу о манекене» Высоцкого — реакция взаимодействия гениальной чуткости поэта с угрозой, подчиняющей себе все слои общества. Ефремов выступает продолжателем важнейшей традиции русской культуры, для которой первостепенное значение имеет поиск истины, борьба против лжи, утверждение надличностного смысла бытия. Тех, кто жил в прошлом без маски, — называли святыми или дураками. Так сказала Фай Родис.
Две стороны жизни — внешняя и внутренняя — порой настолько отчуждаются друг от друга в нашем мире, потуги глубинного «я» докричаться до поверхности личности подавляются с такой интенсивностью, что реальный живой человек превращается в робота. Выдающийся психолог-гуманист Эрих Фромм писал, что если в XIX веке умер Бог, то в XX умер сам человек.
На планете Торманс, которую местные жители называют Ян-Ях, первое, на что обращают внимание звездолётчики, — поразительно бедный язык тормансиан. Мы пользуемся языком автоматически, и поначалу может показаться, что языковое богатство второстепенно, — взгляд с трудом обращается на самое привычное. Более пристальное рассмотрение показывает глубокую взаимосвязанность культуры того или иного общества с языком, на котором оно разговаривает. Как выразить любовь, если мало слов, которые её описывают? В то время как в ЭВР их «более пятисот, — ответила не задумываясь Родис, — триста — отмечающих оттенки страсти, и около полутора тысяч — описывающих человеческую красоту. А здесь, в книгах Торманса, я не нашла ничего, кроме убогих попыток описать, например, прекрасную любимую их бедным языком. Все получаются похожими, утрачивается поэзия, ощущение тупится монотонными повторениями».
И это неудивительно, ибо откуда в бедной душе богатство чувств? Людям Земли казалось странным не только это. Услышав наполненное руганью выступление одного из «вождей», они долго не могли перевести его речь. Фай Родис определила ругань как «слова на низком уровне развития психики, считающиеся оскорбительными для тех, кому адресованы».
В Древней Греции нашему слову «поцелуй» соответствовало восемь различных слов. Существовала тщательная градация видов любви. Обобщающее слово — важный этап развития языка, но оно не должно уничтожать разнообразие, а лишь вносить иерархию. Человек придумывает много слов для описания того, что его по-настоящему волнует. Мы можем наверняка утверждать, что эллинов волновали поцелуи. А наших современников больше волнуют автомобили и деньги. Но всегда существует и обратная связь. Богатые чувства немыслимы без умения их выразить. Иначе им просто не на чем обосноваться. Непонятые, неосмысленные, они никогда не дадут полноты и отточенности переживаний — и это зерно будущих конфликтов между эмоциональной и рациональной сторонами жизни. Надо иметь материал, те кирпичики, с помощью которых происходит осмысление, — слова.
Подобно тому как «широта выбора генетических сочетаний обеспечивала бесконечность жизни без вырождения, то есть беспредельное восхождение человечества», многообразие словарного запаса обеспечивает и развивает тонкость переживаний. Выбор слов велик, но нет и невротической болтовни, каждое слово веско и ценно, словно редкоземельный элемент.
Язык — своеобразная «тень» общества, потому что это главное средство общения. Насыщенная энергетичная жизнь людей ЭВР явилась твёрдым основанием для богатства и разнообразия языковых структур. Со временем происходило и обратное воздействие: языковой потенциал повышал и утоньшал впечатлительность, увеличивал осязаемость и ясность эмоциональной жизни, что влекло за собой обязательную необходимость ещё большего физического совершенства, дабы избежать ухода в мир собственных переживаний и инфантильности восприятия внешнего мира. Мощный, здоровый организм никогда не позволит человеку потерять интерес к окружающему, это своеобразная антенна, принимающая всё усиливающийся поток сигналов — материал для эмоций. Так закольцованы в единый процесс вроде бы совершенно различные стороны жизни. Всем знакомы песочные часы — символ стягивания каналов, насильственный застой массы песчинок. Физическое, эмоциональное и ментальное кольца в человеке должны соответствовать друг другу во избежание перекоса развития и искажения картины мира. Только свободный обмен энергиями рождает быстрое продвижение вперёд. Оттого неудивительно, что даже по сравнению с людьми «Туманности Андромеды» люди «Часа Быка» внешне ещё более совершенны. Это показано отчётливо на примере двух выдающихся женщин — Веды и Фай: «Фай Родис отражала ещё одну ступень повышения энергии и универсальности человека, сознательно вырабатываемой в обществе, избегающем гибельной специализации». Физической мощи Родис удивляется и скульптор Гахден, а она ему отвечает чеканной формулировкой: «Чтобы стать матерью, я должна по сложению быть амфорой мыслящей жизни, иначе я искалечу ребёнка. Чтобы вынести нагрузку трудных дел, ибо только в них живёшь полно, мы должны быть сильными, особенно наши мужчины. Чтобы воспринимать мир во всей его красочности и глубине, надо обладать острыми чувствами».
Высшая ступень классической йоги — раджа-йога. Это йога психической силы, непоколебимости внутреннего мира, полного самообладания, сочетающегося с высшим знанием и глубоким состраданием к несовершенному миру. Ефремов подчёркивал: Фай Родис — раджа-йог.
Любое действие должно сопровождаться убеждённостью в его правильности, проистекающей из знания, а также полным бесстрашием, которое исключает половинчатость поступков. Но такое бесстрашие может покоиться лишь на полноте знания и чутком самоконтроле в отличие от бесстрашия прошлого, основой которого была, как правило, тупая нервная система. Качества прошлого должны переплавиться в тигле времени, дабы стать практическим мерилом для будущего.
Человек, вынужденный исполнять законы, которые намерен разрушить, тотчас сталкивается с тем, что должен скрывать свои планы и, следовательно, обманывать. Земляне, для которых ложь непереносима, оказываются в тупике. Они понимают, что вынуждены запрашивать разрешение у тех, кого так или иначе собираются лишить власти. Им отказывают. Возникают варианты. Два крайних пути совершенно неприемлемы: садиться, несмотря на запрет (то есть сразу нарушать этику взаимоотношений грубым насилием), и лететь обратно (но какой тогда смысл в труднейшем перелёте?); третий путь оставляет вопрос открытым: любой ценой добиваться официального разрешения на посадку (но сразу встаёт вопрос о соотношении цели и средств).
Происходит первое столкновение Фай Родис и Чойо Чагаса, являющихся олицетворениями принципиально различных способов мировосприятия и, соответственно, отношения к людям, обществу и власти.
Заранее предполагающая отрицательный ответ, Фай Родис умело разыгрывает подготовленное представление. Её спутники только оказались перед фактом отказа, а она уже отводит лобовое неприятие давно забытыми дипломатическими трюками. Однако реакция щепетильных землян оказалась бурной. Выйти за пределы своего времени оказалось непросто даже для них. Мы видим эмоциональное неприятие малейшей лжи частью землян. Другие, кто сосредоточил своё внимание на цели, наоборот, поддержали поступок. Мента Кор сказала, что соотношение добра и зла абсолютно в мере, а не в прямом сравнении. А это компетенция высшего разума, мудрости.
Фай Родис — уникальная женщина в мировой литературе. Ефремов доверил ей представлять человечество в невероятно сложной и деликатной миссии, да и другие женщины «Тёмного Пламени» сыграли гораздо большую роль на планете, нежели мужчины. Грубому ограниченному началу ян ноосферы Торманса в романе противопоставлено обаяние, такт и бездонная интуиция женственности начала инь. Это не случайно и с точки зрения развития всей нашей цивилизации имеет огромную важность. Именно с женщиной Ефремов связывал свои надежды на лучшее будущее. Эпохой Матери Мира называли грядущее Рерихи. Подчеркнём: на Тормансе мы видим деструктивный ян, на Земле — конструктивный инь. (Ситуация могла бы быть и обратной, и чрезвычайно интересно смоделировать инверсию: гармоничный ян против искажённого инь).
Ефремовские героини оказываются в мире, где женщина угнетена и где её привыкли воспринимать — в лучшем случае — в качестве украшения самоуверенной власти больших и малых владык. Это придаёт встречам предводительницы экспедиции и диктатора планеты особый подтекст и особое напряжение. Нетрудно увидеть развитие событий, если бы переговоры велись суровым Гриф Рифтом.
Чойо Чагас вынужден разговаривать с гостьей и терпеть её речи. Родис выступает в качестве давно подавленной атрофировавшейся совести диктатора. Фактически, разговаривая с ней, он разговаривает с тем высшим, что изначально закладывается в каждого человека и может быть выявлено в соответствующих условиях. И это его тревожит и ранит.
Абсолютная прямота и желание говорить только о сути рождают и первую фразу Фай при знакомстве с женой владыки Янтре Яхах. «Не обманывайте себя, — негромко сказала она, — вы, бесспорно, красивы, но прекраснее всех быть не можете, как и никто во вселенной. Оттенки красоты бесконечно различны — в этом богатство мира».
Вместе с тем землянка не надменна и не стремится к превосходству. Именно это порождает невразумительные реакции тех, кто начинает противостоять ей. Янтре Яхах яростно обвиняет её в непристойности и соблазнении, исходя из типической для извращённого инь модели отношений с мужчинами. Таков «Час Быка», где каждый эпизод — повод к размышлению. Чем определяется наличие непристойности — мнением окружающих или внутренней мотивацией?
Знакомство с Таэлем — шаг к человечеству Торманса. Умный «джи» сразу уловил сердцевинное: «Нечто нечеловеческое исходило от сияния её широко раскрытых зелёных глаз под прямой чертой бровей. Она смотрела как бы сквозь него в беспредельные, ей одной ведомые дали. Тормансианин сразу понял, что это дочь мира, не ограниченного одной планетой, открытого просторам вселенной».
Для Таэля непросто понять суть выражения «общественная дисциплина» как умения сдерживать себя, не мешая другим людям. В советское время такая дисциплина утверждалась хотя бы декларативно, как необходимое социализму качество, и к этому можно было апеллировать. Сейчас уже выросло поколение тех, кого поп-культура с детства учила разнузданности и эгоизму. Норма уже не просто бытовое хамство, а истерические угрозы и мерзкие пожелания в ответ на элементарные просьбы отнестись с вниманием к нуждам окружающих. Ставшая обыденной мутная, полная издёвок и изворотливых оскорблений речь современности парализует и отравляет доброго человека. И никаких способов противодействия, кроме бесперспективного грубого насилия, не осталось…
Мы постоянно сталкиваемся с противоречием между действительностью и очевидностью. Символ этого противоречия на Земле — отлёт «Тёмного Пламени», показавшийся многим неприятным бегством из-за неготовности в полной мере видеть суть вещей, — разворачивается на Тормансе чередой нестандартных ситуаций. Фактически очевидность оказывается той поверхностной адаптацией, которая губила многие виды животных при изменении условий существования. Очевидность бросается в глаза, тащит по колее привычных реакций на давно знакомые вещи. Но вот резко меняется «точка сборки» — и старые наработки становятся камнем на шее, если человек вовремя не сбрасывает с себя их притягательную, но ложную простоту. Часто необычность отторгается нами только потому, что нет навыка её восприятия и нет понимания необходимости большой работы для этого.
Что касается самих тормансиан, то они почти целиком оказывались во власти привычной для них очевидности. Ефремов, описывая их восприятие землян, с абсолютной точностью предвосхитил восприятие выписанного им самим мира нашими современниками, в том числе и большинством тех, кто в целом относится к его творчеству благожелательно. Вспомним: «Земляне сначала показались жителям Ян-Ях слишком серьёзными и сосредоточенными. Их немногословие, нелюбовь к остротам и полное неприятие всякого шутовства, постоянная занятость и сдержанное выражение чувств в глазах болтливых, нетерпеливых, психически нетренированных тормансиан казались скучными, лишёнными подлинно человеческого содержания.
Лишь потом жители Ян-Ях поняли, что эти люди полны беспечной весёлости, порождённой не легкомыслием и невежеством, а сознанием собственной силы и неослабной заботы всего человечества. Простота и искренность землян основывались на глубочайшем сознании ответственности за каждый поступок и на тонкой гармонии индивидуальности, усилиями тысяч поколений приведённой в соответствие с обществом и природой».
Это «потом» никак не наступит по отношению к героям Ивана Антоновича в нашем мире. Постоянны упрёки к его персонажам в самомнении, бездушности из-за отсутствия иронии, любовных и ранговых интриг. То, что автор открыто прописал такую реакцию и объяснил её корни, никоим образом не помогает понять себя таким людям, но просто игнорируется. Страсть современного человека заклеймить всё непохожее на него самого как ненатуральное и вредное немногим лучше культурной ограниченности Древнего мира или Средневековья. При этом происходит чёткий отбор Стрелы Аримана — отбрасывается всё, что структурирует человеческую индивидуальность, выстраивает её на пути к знанию и красоте.
Однозначность и панорамность картин ноосферного коммунизма, показанных тормансианам, исключали обман и потрясли даже олигархов. В мире Ефремова почти за семь тысяч лет до этого фараон Хафра со столь же смешанными чувствами слушал повествование Баурджеда. Но кольцо времени должно быть разомкнуто. Мир к пятому тысячелетию изменился. Искусственность величия владык и смехотворность их претензий совершенно непроизвольно, но с предельной ясностью высветились перед каждым. Помните притчу о том, как холодный Ветер не смог сорвать одежду с путника, а только заставил его ожесточённо кутаться, а Солнце обогрело человека и тот раскрылся сам? Так ветер жёстких начальных условий Фай Родис заставил владык торопливо изобретать средства нейтрализации неожиданной угрозы, но солнце увиденной земной жизни проникло в самые глубины их естества…
Трое землян попали в беду. Жестокий инфернальный выбор проверил на прочность искренность их устремлений и одновременно поставил их в зависимое положение от Чойо Чагаса. Который, конечно, не преминул им воспользоваться. Проницательная Родис почуяла неладное, но владыка сумел усыпить её бдительность.
Уже много позже, когда Чагас узнал о нарушении его запрета на показ земной жизни простым людям, произошёл ещё один знаменательный разговор. В нём Фай заявляет жёстко: «Когда в Великом Кольце обнаруживают государство, закрывающее своим людям путь к знанию, то такое государство разрушают. Это единственный случай, дающий право на прямое вмешательство в дела чужой планеты». Позиция олигархии Торманса целиком подпадает под этот случай, и её представителям дико слушать странные речи космических гостей:
«— Нет выше радости для человека, чем отдавать и помогать, поймите же!
Она держала перед лицом сцепленные в порыве руки и замерла в полушаге от Чойо Чагаса, наклоняясь вперёд, как воспитательница или мать тупого ребёнка».
Диктатор изо всех сил пытается раскачать невозмутимость гостьи, раз за разом одерживающей над ним победы в психологических поединках. Всякий раз его удар либо проваливается в пустоту, либо натыкается на стену высшего самообладания. Даже имея право первого хода (молчаливо предполагалось, что темы бесед выбирает он сам), Чойо Чагас вынужден кружить, как хищный зверь, в поисках уязвимой точки. Но эти попытки всё более раскрывают его самого…
Родис не играет с владыкой, у неё иные цели. Она неуязвима, потому что ей нечего таить, любую мысль она бесстрашно доводит до логического завершения. Она неуязвима, потому что цельно проживает все чувства, и особенно — сострадание к людям и желание им помогать. Наиболее открытого и чуткого — Таэля — такая цельность покоряет полностью, но… «сияющие, как у всех землян, сказочные зелёные очи жительницы Земли под внешней ласковостью таили непоколебимую отвагу и бдительность, стояли на страже её внутреннего мира». Фай пытается рассказать инженеру основы гендерной этики Земли: «Любовь у нас только в совместном пути. Иначе это лишь физическая страсть, которая реализуется и проходит, исполнив своё назначение. Периоды её бывают не часто, потому что требуют такого подъёма чувств и напряжения сил, что для неравного партнёра представляют смертельную опасность».
Но явление такой женщины поразило не только Таэля. Сам Чойо Чагас постепенно попадал под её обаяние и ничего не мог с этим поделать. Но, пытаясь остаться хозяином положения, совершал типическую для Торманса ошибку. «Не думаю, что эта холодная, весёлая и самонадеянная дочь Земли будет столь же хорошей любовницей, как моя Эр Во-Биа…» На самом деле физическая любовь такой женщины, как Родис, убила бы его ожогом нестерпимого наслаждения. Угадывать змеящиеся извивы желаний господина, льстить и ублажать его самолюбие — в этом неизменный рефрен патриархального взаимодействия мужчины и женщины. Сотворчество равных, дающее высшее наслаждение в эросе, недостижимо для искривлённой страсти к стяжательству. Но тот факт, что, несмотря ни на что, владыка очаровывается гостьей, доказывает, что речь идёт не просто о разных типах гендерного взаимодействия, но о тяге всякого человеческого существа к подлинно прекрасному. Особенно когда речь идёт об эросе.
Чойо Чагас околдован не только внешностью Фай. Энергия бесстрашной чистоты её такта и обаяния мало-помалу проникла в тщательно скрываемые трещины его неизбежно ущербного внутреннего мира. В результате парадоксального взаимодействия этих энергий он придумал сложный компромисс, сочетающий, на его взгляд, интересы всех сторон. Он предложил Родис стать матерью своего ребёнка, утверждая, что сделает его наследником. Но компромиссы в любви невозможны. Проявление потайных струн души диктатора вызвало к жизни фундаментальное объяснение, лежащее далеко за рамками социологии или психологии личности: «Все предрассудки, стереотипы и присущий человеку консерватизм мышления властвуют над высшим человеком в государстве. Мысли, думы, мечты, идеи, образы накапливаются в человечестве и незримо присутствуют с нами, воздействуя тысячелетия на ряд поколений. Наряду со светлыми образами учителей, творцов красоты, рыцарей короля Артура или русских богатырей были созданы тёмной фантазией демоны-убийцы, сатанинские женщины и садисты. Существуя в виде закрепившихся клише, мысленных форм в ноосфере, они могли создавать не только галлюцинации, но порождать и реальные результаты, воздействуя через психику на поведение людей. Очистка ноосферы от лжи, садизма, маниакально-злобных идей стоила огромных трудов человечеству Земли. Здесь, у вас, я физически чувствую колючую ноосферу грубости и озлобления».
Мы видим ефремовское понимание ноосферы в её становлении. Главное для историка ЭВР — история духовных ценностей, процессы перестройки сознания и структура ноосферы.
Земляне знают о простой и ясной истине, гласящей: «В плохо устроенном обществе человек или должен развивать в себе крепкую, бесстрашную психику, служащую самозащитой, или, что бывает гораздо чаще, надеяться только на внешнюю опору — бога». В итоге получалось, что «жизнь Земли самим своим существованием оказывалась враждебной строю Торманса». Фай Родис констатирует: количество горя на планете превосходит радость в 15–18 раз. Погружение в искажённую реальность, вековая жизнь в мутной ноосфере вызывали столь же искажённые реакции на мир, порождали извращённые цели и критерии успеха. Пытаясь разобраться с происходящим и объяснить его сначала для самих себя, а потом и для тормансиан, земляне совершали экскурсы в собственную историю — наше с вами настоящее: «Перед великими достижениями науки и искусства, ума и воображения средний человек в те времена остро чувствовал свою неполноценность. Психологические комплексы униженности и неверия в себя порождали агрессивное стремление выделиться любой ценой. Психологи Земли предсказали неизбежность появления надуманных, нелепых, изломанных форм искусства со всей гаммой переходов от абстрактных попыток неодарённых людей выразить невыразимое до психопатического дробления образов в изображениях и словопотоках литературных произведений. Человек, в массе своей невоспитанный, недисциплинированный, не знающий путей к самоусовершенствованию, старался уйти от непонятных проблем общества и личной жизни. Отсюда стали неизбежны наркотики, из которых наиболее распространён был алкоголь, грохочущая музыка, пустые, шумные игры и массовые зрелища, нескончаемое приобретение дешёвых вещей».
Наиболее контрастным оказался опыт Чеди Даан, поселившейся в семье «кжи». Масса вынесенных ею впечатлений взволновала молодую исследовательницу и привела к доселе неизведанным переживаниям.
«Чеди будто запуталась в сетях неопределённой вины. Она ещё не понимала, что к ней пришла жалость — древнее чувство, теперь так мало знакомое людям Земли. Сострадание, сочувствие, желание помочь владели человеком Эры Встретившихся Рук. Но жалость, которая родится из бессилия отвратить беду, оказалась внове для Чеди Даан и заставила её тревожно осмысливать своё поведение».
Она попыталась сделать это в разговоре с Эвизой Танет. Свидетельницей беседы стала хозяйка дома, молодая тормансианка Цасор.
«Тормансианка стояла, сложив руки, щёки её пылали, а в глазах стояли слёзы.
— Могучая Змея, как прекрасна Эвиза! — сказала она. — Даже сердце замирает, как у маленькой, когда слушала сказку.
— Что же в ней особенного? — улыбнулась Чеди.
— Всё! Ты тоже хороша, но она!.. Только почему она такая жёсткая, почему мало в ней любви и сострадания?»
Это просто потрясающая иллюстрация к современности. Цасор хороший человек, но она высказывает суждения импульсивно и даже в её восхищении остаётся место тяжёлой претензии. Казалось бы: как можно определить меру любви и сострадания в незнакомом человеке (раз) с экрана (два) буквально за несколько минут (три) его беседы с другим человеком (четыре)? да ещё заявлять об этом столь уверенно (пять)? Цасор тут же исправляется, припомнив, что Чеди сама поначалу показалась ей такой же, но для книги это необходимый приём, демонстрирующий, как говорят психологи, завершённость паттерна. В жизни такое отношение, переслоенное замутняющими потоками каждодневности, может тянуться десятилетиями, став штампом сознания. Подметить такое можно, лишь самому пройдя через аналогичные рогатки…
О холодности землян говорят и мужчины Торманса, принимая уравновешенность и сдержанность за отчуждённость, а достоинство за высокомерие и самолюбование.
Отношение к женщине и вопросам пола — пробный камень для любой культуры. Везде, где женщины угнетались, дети могли быть только злобными и жестокими дикарями. Многовековое главенство мужчин сейчас так или иначе завершается. Патриархат, создавший всю современную цивилизацию, исчерпал себя. Однако пережитки, глубоко укоренившиеся в сознании, продолжают жить и воздействовать на новые поколения. Кротость на психически слабой основе лишь поощряет грубость и невежество. А если на этом фоне проявлять дерзость — это немедленно превращается в месть всем мужчинам холодностью и презрением. Таков современный феминизм.
Ефремов понимал великое значение отношений между полами и без ханжества писал об этом. В наше время лицемерное умалчивание сменилось смакованием низостей и порнографией, следовательно, с точки зрения подъёма из инферно ничего не изменилось. Происходящее на основе хилой психофизики, это приводит к искусственности и бесконтрольности переживаний, с одной стороны, и гендерным извращениям — с другой. Владыка Торманса недаром называет Фай Родис Цирцеей и ведьмой.
Для землян всё просто: «Надо научиться быть хозяином своего тела, не подавляя желаний и не подчиняясь им до распущенности». Но у тормансиан это вызывает лишь недоумение: «Разве можно регулировать любовь и страсть?» Им, даже образованным, неимоверно тяжело воспринимать диалектические формулировки гостей с Земли. Для чёрно-белого мира богатство красок — всегда отвлечённость или фантазия. Эвиза Танет в своём выступлении перед врачами старается изо всех сил, чтобы добиться понимания, но краткого результата достигает лишь внешний эффект.
«Я говорила на собрании о двоякой зависимости. Богатство психики — от сильного и здорового тела, которое от многогранной психики насыщено отвагой, стремлениями, неутомимостью и чувственностью. Биохимия человека такова, что требует постоянной алертности мозга на одну пятую часть его мощности, а это поддерживается лишь уровнем кетостеронов — гормонов пола в крови. За это человек расплачивается, выражаясь вашими словами, постоянной эротической остротой чувства. Если тормозить это чувство слишком долго, то возникают нервные надломы и психосдвиги, то внезапное и порабощающее влечение к случайным партнёрам, что в старину у нас звалось несчастной любовью».
Гимн несчастной любви — «Евгений Онегин». Но Пушкин недаром был выдающимся реалистом. Описывая состояние Татьяны Лариной, он краток и исчерпывающе точен в оценке генезиса её чувства к Онегину: «Пришла пора, она влюбилась». Онегин тут удачно подвернулся, не более. Главное — пришла пора, настала юность. А вот романтизация и драматизация несчастных Любовей взрослыми людьми — признак незрелости, и Ефремов это показывает недвусмысленно. И даёт штрихами советы на заметку: «Нет ничего унизительнее и противнее для мужчины, чем женщина, требующая от него невозможного. Женщине оскорбительна необходимость самоограничения, обязанность «спасать любовь», как говорилось встарь. Оба пола должны одинаково серьёзно относиться к сексуальной стороне жизни…»
Эвиза постулирует как безоговорочную данность поразительные для традиционной западной морали вещи — о начальном сексуальном знакомстве каждой пары. Будет или необходимая разрядка, или родится длительное чувство. Но это возможно при условии здоровья, поэтому для нашего времени этика такого уровня в массовом масштабе недоступна, не работает точно так же, как (об этом сказано в «Лезвии бритвы») не пришло ещё время возвращения эллинского отношения к обнажённости. Иначе — профанация, выхолощенность. Следует заметить, что индийские любовные наставления поощряли добрачный секс, но только прежде предписывали юноше и девушке всенепременно обсудить некоторые вопросы — и их было несколько десятков! Философия, экономика, политика, искусство, религия, литература…
Вопрос ревности куда более насущный, и он поднимается во всех произведениях писателя. «Ревнует — значит любит». Расхожая истина, растиражированная миллионнократно. Что может быть привычнее и… нелепее? Казалось бы — так всё просто. Тёмная страсть порабощает, изматывает душу, откуда же на фоне липкого стяжания взяться любви? Давно уже пора признать, что мы имеем дело преимущественно с западным пониманием любви как страсти, светлая сторона которой неотделима от тёмной, а это с точки зрения индийских или китайских любовных трактатов — сущее варварство.
«Высшее счастье человека всегда на краю его сил».
Сравнительно небольшая часть романа посвящена разговору о нарушенной экологии Торманса. Чёткие описания гибнущей природы, сделанные рукой профессионала, — и всего лишь пара-тройка советов по исправлению положения.
Это не случайно.
Планета погибает не сама по себе, её истощение — следствие деятельности людей. Именно в людях кроются все подлинные причины несчастья. Восстановление экологического равновесия на планете не может происходить механически, должны измениться предпосылки нарушений. Центр проблемы — катастрофа нравственная. Недаром Торманс сравнивается с пепелищем опустошённых душ, где «мораль в зависимости от обстоятельств диктуется свыше»…
Ефремов пишет про духовные устои, скрытые у цивилизованного человека в подсознании и сверхсознании.[284] Но и они могут быть разрушены. «Многообразные страхи, пронизывающие такое общество, аналогичны суеверным страхам, возникавшим в изолированных остатках архаических культур, где ужас перед богами заставлял ограждать себя сложнейшими ритуальными обрядами вместо сознательной ответственности за свои поступки».
Душу надо охранять. Экология души — прежде всего прерогатива искусства. Но земляне и здесь сталкиваются со Стрелой Аримана. Инфернальное искусство, помимо прочих несообразностей, гораздо больше говорит о плохом, чем о хорошем и добром. Патологические, извращённые характеры заполнили страницы бестселлеров, мода на дробный, детальный психологизм привела к нездоровому акценту на теневых сторонах личности. В лабиринтах кричащего фрейдовского натурализма и фасетчатой надэмоциональной абстрактности все светлые черты — цельные по своей природе — чудовищно опошлились, низведённые до примитивности инстинкта моллюска.
Средний человек, атакованный со всех сторон деструктивными изображениями, преподносимыми в качестве «последней правды», оказался морально подавлен, деморализован в буквальном смысле этого слова или превратился в циника. Более того, он склонен верить именно плохому, в чём убеждает его повседневный опыт. Зло в условиях стихийного общества всегда рельефнее и убедительнее. Но, механически отражая действительность, такое искусство создаёт порочный круг, замыкая текущий момент и усугубляя его беспрестанным воспроизводством отжившего.
В глухую и тяжкую атмосферу попадают звездолётчики. Но человек, подвластный ей, не может противостоять злу. Условиям Торманса земляне должны противопоставить невиданное там качество духовного развития.
Конечная степень духовного восхождения в буддизме — нирвана. Это значит, что мудрец вырвался за пределы сансары — круга страдающей и перевоплощающейся жизни, превозмог её своим духовным подвижничеством и вступил в сверхжизнь, полную блаженства. Однако часть подвижников сознательно отказывается от нирваны и с высот достигнутого спускается обратно в наш мир. Ими движет любовь и сострадание к людям. Судьба их, как правило, трагична.
Заглянем внутрь маленькой группы землян с планеты счастья и радости, вслушаемся в пульсацию их сердец и вибрацию нервов. Попытаемся постичь всю глубину инфернальных мучений, в которую они погрузились.
Попытаемся представить себя и на месте тормансиан. Для них эти борения страдающих чистых сердец, принявших в себя яд их отравленной жизни, были таинственной эзотерикой, тем апокрифом, который смогли бы понять лишь единицы из них.
«— Если мы вторгаемся в жизнь Торманса, применяя древние методы — столкновение силы с силой, если мы нисходим до уровня их представлений о жизни и мечте… — Родис умолкла.
— Тем самым принимаем и необходимость жертвы. Так?
— Так, Рифт…»
«У рычагов подъёмника стоял Гриф Рифт. Он задержал металлический локоть Родис, шепнув с непривычной для него мягкостью:
— Фай, помните, я готов всё взять на себя! Я сотру их город с лица планеты и разрою его на глубину километра, чтобы выручить вас!
Фай Родис обняла командира за крепкую шею, привлекла к себе и поцеловала.
— Нет, Гриф, вы никогда не сделаете этого!
В этом «никогда» было столько силы, что суровый звездолётчик покорно наклонил голову…»
Люди ЭВР подобны воплощению своей власти над косной материей — Звездолёту Прямого Луча. Они глядят в сердцевину вещей и процессов, им видна скрытая за кулисами времени развязка.
«Обречённость Родис отгораживает её от меня, а за моей спиной тоже тень смерти…»
Это слова Грифа Рифта. Его сомнения и стремление уйти с планеты далеки от страха или презрения к низшей жизни. Он потерял любимую женщину и, полюбив «женщину, которую невозможно было не любить», понял, что потеряет и её тоже. И не только он, вся мудрая и устроенная Земля потеряет её. И не помогут ни великое знание, ни беззаветная преданность, ни самая пламенная любовь. Нельзя безнаказанно пройти через инферно. В этой фразе — и добровольное принятие закона жертвы, и запрет на возмездие, и тяжкое сомнение Рифта в смысле окружающего мира, убивающего своих лучших детей.
Только знающие могут выбирать свои пути.
Трое землян погибли, пытаясь уйти от обезумевшей толпы в заброшенном городе. Хотя могли рассеять или уничтожить нападавших…
«Руководясь достойными намерениями, я смею всё…» — так Фай обозначает максиму земной этики. Фактически это парафраз известной формулы: «Возлюби Бога и делай, что хочешь».
Вскоре едва не погибает Чеди Даан. Помните? — «Вы? — с безмерным удивлением прошептала Чеди. — За что?»
Молодая социологиня с фиалковыми глазами оказалась погружена в самые непредсказуемые слои инферно, где беда приходит случайно и является привычной. Но нравственная высота девушки столь велика, что убийца вызывает в ней лишь глубочайшее горестное удивление. Самоубийство Шот-шека, ощутившего непереносимые по чистоте вибрации духа, показывает Ефремова знатоком, приобщённым к высшим загадкам человеческого бытия. Только человек, понимающий ослепительную силу света, мог так описать звериные мучения прикоснувшегося к этому свету абсолютно неподготовленного существа. На Востоке сказали бы, что мгновенная карма Шотшека есть результат его покушения на святое.
Земляне уже не церемонятся. «Спите! Забудьте!» — властно протягивает ладонь к обнаглевшему чиновнику Вир Норин, а Фай Родис покидает место своего негласного заточения и спешит в больницу. Там раджа-йогиню ждёт суровое испытание.
«Молва о необыкновенной женщине мгновенно разошлась по всему госпиталю. Теперь Фай Родис, как богиню, со всех сторон встречали мольбы и протянутые руки. Окружающее горе навалилось на неё, давя, лишая прежней внутренней свободы. Родис впервые поняла, как далека она ещё от подлинного духовного совершенства. Следствием ничтожества её сил в океане горя неизбежно возникала жалость, отклоняя от главной цели. Её помощь здесь не соответствовала задаче, отныне лежавшей на людях Земли: помощи народу Ян-Ях в уничтожении инфернальной общественной системы целиком и навсегда».
Люди Земли приняли на себя карму тормансианского общества и добровольно стали для него искупительной жертвой. Но жертв оказалось мало…
В жарком споре перед высадкой Тор Лик напоминает, что действительные изменения должны исходить не извне, а изнутри. Любые жертвы будут напрасными, если внутри испорченной системы не созреют семена истины. Человек отзовётся только на то, что будет созвучно ему самому. И если предположить, что человек плох изначально, то самое глубокое воздействие вызовет лишь реакцию отторжения. К счастью, это не так.
«Известно ли вам, что мозг человека обладает замечательной способностью исправлять искажения внешнего мира, не только визуальные, но и мыслительные, возникающие из-за искривления законов природы в неправильно устроенном обществе? Мозг борется с дисторсией, выправляя её в сторону прекрасного, спокойного, доброго. Я говорю, разумеется, о нормальных людях, а не о психопатах с комплексом неполноценности. Разве вам не знакомо, что лица людей издалека всегда красивы, а чужая жизнь, увиденная со стороны, представляется интересной и значительной? Следовательно, в каждом человеке заложены мечты о прекрасном, сформировавшиеся за тысячи поколений, и подсознание ведёт нас сильнее в сторону добра, чем это мы сами думаем».
Фай Родис говорит о поразительных и легко проверяемых фактах, которые совершенно игнорируются теми, кто хотел бы путём заумных рассуждений представить человека как злого невротика, таящего бездны маниакальных импульсов. Подобное знание может стать опорой в запутанном мире своевольного индивидуализма.
«Диалектический парадокс заключается в том, что для построения коммунистического общества необходимо развитие индивидуальности, но не индивидуализма каждого человека».
Толпу взаимно отчуждённых людей непросто преобразить в коллектив единомышленников. Разрыв между толпой и властью непросто заполнить. Оживить мёртвое можно, лишь пробудив сердце и создав критическую массу добра. Для начала необходимы «опорные столбы», возвышающиеся над плоской системой безжизненных механических отношений. Для борьбы с системой надо создавать людей высокой психофизиологической тренировки, безвредных в своём могуществе. Знающая об этой закономерности, Фай Родис предлагает свою помощь лидеру зреющего сопротивления.
Но тот отказывается.
От силы и качества устремления к общему благу зависят индивидуальные силы и духовный уровень человека. Таэль идёт этим путём, имея перед собой живой критерий соизмеримости. Фай Родис, сама напряжённо ищущая ответы на острейшие практические вопросы, попыталась выплавить ответ, создав художественное произведение. Напряжённые до предела творческие силы воплотились в создание картины «Скованная Вера». Зримо представив в символическом изображении предстоящий путь, Родис поняла, что для выхода из инферно важнее не вера, а мера. И неудивительно, что эмоциональная убеждённость Чеди Даан бессознательно послужила прообразом для изображения именно веры, а напряжённая мудрая сосредоточенность олицетворённой меры вызвала к жизни автопортрет.
Не один Гриф Рифт испытывал серьёзные сомнения. Обратим эмоциональный накал переживаний Эвизы в её разговоре с Фай на наше общество. Дети алкоголиков и наркоманов стали привычным явлением. Все мы постоянно сталкиваемся с противоречиями, о которых с горечью говорит Эвиза.
Испорченная психология и генетика не смущают землян. Они понимают, что здоровые гены существовали миллионы лет. Динамика же психических процессов — отнюдь не намертво отлитые сущности. Координировать эти процессы достаточно легко при помощи воспитания и упражнений, если есть осмысленная понятная цель. Однако при отсутствии веры в лучшее будущее цель мельчает и теряется, последним прибежищем человека становится сектантская убеждённость в сверхъестественном. Человек заговаривает самого себя, бессмысленно повторяя шаблонные формулы, перемещает всю свою энергию в самые поверхностные слои психики. Тогда малейшее сомнение в принятой им формуле спасения становится невозможно, потому что это обнажает глубочайшую опустошённость личности.
Ефремов утверждал первостепенную роль творческой, насыщенной фантазии. Насыщение ноосферы светлыми образами — шаг на пути к выходу из инферно.
«Величайшее могущество фантазии! В голоде, холоде, терроре она создавала образы прекрасных людей, будь то скульптура, рисунки, книги, музыка, песни, вбирала в себя широту и грусть степи или моря. Все вместе они преодолевали инферно, строя первую ступень подъёма. За ней последовала вторая ступень — совершенствование самого человека, и третья — преображение жизни общества. Так создались три первые великие ступени восхождения, и всем им основой послужила фантазия».
Конечно, речь идёт не об отвлечённом, бездеятельном фантазировании а-ля Манилов. Мечта учёного или художника окрыляет, окутывает резкие грани безжалостного мира чарующей дымкой таящихся возможностей, заставляет понимать, что современное положение вещей не окончательно, что потенциал будущего не исчерпан.
Разговаривая с предводителем тайного общества «Серых Ангелов», Фай Родис вынуждена говорить и о границах самого грубого воздействия, и это тоже, являясь перефразированием Живой Этики, имеет огромное значение для жизненной практики обычного человека: «Нельзя уничтожать зло механически. Никто не может сразу разобраться в оборотной стороне действия. Надо балансировать борьбу так, чтобы от столкновения противоположностей возникало движение к счастью, восхождение к добру».
Отрешение, сосредоточение, познание — три шага к подлинному познанию, к мудрости. Всё это взято Ефремовым из мистических практик Востока, но на самом деле описывает любую качественную работу по преобразованию себя и мира — подобно тому как Сима Металина оказывается, с точки зрения индусов, хатха-йогом высокого уровня. Знающий человек не озлобится в процессе многотрудной борьбы, говорит Фай, потому что тогда потеряют смысл все его прошлые достижения. Это ли не беда современности с её жестокими потрясениями, когда с трудом полученный опыт настолько меняет человека, что уже не может быть плодотворно приложен к реальности?!
Ничего нет более могучего, чем люди, соединённые доверием, пишет Ефремов. Вера, о которой здесь говорится, неотделима от знания. Убеждённость в собственной компетентности может возникнуть только вследствие глубокого знания своих возможностей, иначе это незрелая и опасная эйфория, которую жизнь обрушит, отяготив и озлобив человека. Доверие к другому — следствие общности целей и убеждений, умение видеть и понимать всего человека, а не одну-две поверхностные черты.
Всякое недоумение может быть разрешено исключительно познанием — это одно из центральных представлений философии будущего. Но познание многолико. Прежде всего оно включает в себя историю вопроса. Планировать и строить будущее можно только на основе понимания настоящего. Настоящее же возникло не само по себе, а явилось результатом долгого пути. Знание истории в широком смысле слова, включающее в себя и палеонтологию, геологию и космологию, — обязательно для интеллигентного человека. Как можно говорить о судьбе человека, ничего не зная о нём и его семье? Как можно говорить о судьбе страны, не зная её прошлого? Как можно говорить о судьбе человечества, не зная путей эволюции?
Сочетание различных сторон познания даст целостную картину мира. Уже сейчас мы знаем о фазах существования этносов Гумилёва, циклах солнечной активности Чижевского, экономических ритмах Кондратьева, вертикали Снукса — Панова, открытиях трансперсональной психологии…
Вселенная необъятна. За полвека, прошедшие с первого космического полёта, мы не побывали даже на ближайших планетах — что же говорить о сложностях их освоения! Необходимо отчётливое понимание, что открывающиеся просторы космоса будут доступны ещё не скоро. Прежде чем отправляться путешествовать, надо привести в порядок собственный дом, иначе это будет бегство, подобное бегству предков тормансиан. Всё должно иметь свою цель, всякое достижение не самоценно. Вот почему Фай Родис отказывает высокопоставленному «змееносцу», желающему узнать тайну долгой жизни.
Характерно, что Ефремов, сам будучи замечательным учёным и посвятивший науке будущего столько вдохновенных строк, вкладывает в уста своих героев совершенно особое объяснение роли науки в обществе. Постоянно сталкиваясь с самомнением и косностью в учёном мире, он понимал, что наука должна претерпеть кардинальные изменения, чтобы в полной мере соответствовать своему должному образу. Такая позиция — не противоречие, а твёрдое понимание меры любой увлечённости.
Вспомним первое выступление Вир Норина: «Наука не знает и не может знать всей необъятности мира. И вера в то, что она уже нашла решение всех проблем, приведёт к катастрофе. Так могут думать лишь ослеплённые догматизмом или некритическим энтузиазмом люди… Наука будущего должна стать не верой, а моралью общества, иначе она не заменит полностью религии и останется пустота. Жажда знаний должна заменить жажду поклонения. <…> Даже самые важные научные теории в духовно-моральном отношении находятся на уровне мышления каменного века, если не будут переведены в сознательную мудрость человеческой морали, подобно тому как многие открытия были пророчески предвидены в индийской и китайской древней философии…
Когда-то и у нас на Земле велось множество дискуссий по миллионам вопросов, издавались миллионы книг, в которых люди спорили со своими противниками. В конце концов мы запутались в тонкостях семантики и силлогизмов, в дебрях миллионов философских определений вещей и процессов, сложнейшей вязи математических изысканий. В литературе шёл аналогичный процесс нагромождения изощрённых словесных вывертов, нагромождения пустой, ничего не содержащей формы.
И раздробленное сознание в тенётах этих придуманных лабиринтов породило столь же бессмысленные фантастические творения изобразительного искусства и музыки, где все достоверные черты окружающего мира подверглись чудовищной дисторсии. Добавьте к этому, что шизоидная трещиноватая психика неизбежно отталкивается от реальности, требуя ухода в свой собственный мир, мир порождений больного мозга, и вы поймёте силу этой волны в историческом пути человечества Земли. С тех пор мы опасаемся изощрённых дискуссий и избегаем излишней детализации определений, в общем-то ненужных в быстро изменчивом мире. Мы вернулись к очень древней мудрости, высказанной ещё в индийском эпосе «Махабхарата» несколько тысяч лет назад. Герой Арджуна говорит: «Противоречивыми словами ты меня сбиваешь с толку. Говори лишь о том, чем я могу достигнуть Блага!».
Разговор не получился. Чтобы уподобиться Арджуне, необходимо смотреть в суть вещей, иметь внутренние силы и готовность увидеть то, от чего непроизвольно отводится взгляд менее мужественного человека.
Мы уже говорили о парадоксах искривлённой психологии. Но трудно промолчать, вспомнив образчики современного «искусства», с полным правом занимающего выставки и целые залы в музеях: груды искорёженной арматуры, бессодержательная мазня на газетной бумаге, рядом с которой, ничем не отличаясь, располагаются подобные же «творения» животных, грубые оковалки камня, претендующие на то, чтобы называться скульптурами…
Разговаривая через несколько дней с самоуверенными физиками, Вир Норин сознательно сбивает спесь с зарвавшихся интеллектуалов, используя ещё более резкие формулировки: «Даже если не требовать истин, основанных на непротиворечивых фактах, наука даже в собственном развитии необъективна, непостоянна и не настолько точна, чтобы взять на себя всестороннее моделирование общества…»
Этот поразительный вызов науке не раз приводил в смущение читателей кажущейся непоследовательностью. Крупный учёный, прославивший науку до того многократно, вдруг резко говорит обратное. Но противоречие мнимо. Отношение к науке своего времени писатель скопировал в роман, говоря о науке тормансианской. Помимо чисто эмоциональных личных моментов («Взять пулемёт, встать у выхода из Академии наук и решать вопрос персонально» — так порой говаривал Иван Антонович), писатель понимал, что наука — лишь один из путей познания мира.
Человек, неспособный понимать мир без дорогостоящих экспериментов и стерильных лабораторий, не может помочь в гуманном обустройстве жизни. Спираль познания должна скручиваться, неизбежно приводя к единству качества при необъятном разнообразии количества. Умение наблюдать и тонко чувствовать окружающее — основа для овладения любой специальностью.
Лишь в конце Вир Норин говорит о том, о чём надо было, судя по всему, говорить с самого начала — об изменениях психологии мировосприятия, от которого зависит выбор целей, средств исследования и готовность осознавать те или иные факты. Он проводит прямую аналогию между психофизической мощью познающего и возможностью составить адекватную картину мироздания. Есть определённый рубеж познания, для преодоления коего требуются особые условия внутреннего развития. Экстравертное исследование, характерное для западной науки, должно быть дополнено интроспективным методом Востока. Это не означает отвлечённых размышлений и созерцаний, это означает непременное овладение гигантскими ресурсами психики, развитие экстрасенсорики.
«Лишь когда человек смог преодолеть инфернальные круги и понял, что нет замкнутости, а есть разворачивающийся в бесконечность геликоид, тогда он, по выражению индийского мудреца, раскрыл свои лебединые крылья поверх бурного бега времён над сапфирным озером вечности…»
Ефремов подчёркивает: естественное пробуждение экстрасенсорики возможно только до кондиционирования человека системой устоявшихся взглядов — то есть Матрицей, мифом. А дальше человек ведёт жизнь дваждырождённого (вспоминается роман Д. В. Морозова «Дваждырождённые»), глядя в суть вещей и процессов, буквально реализуя знаменитый призыв Козьмы Пруткова зрить в корень.
Любое достижение — лишь надстройка. Базис покоится в самом человеке. Запомним и мы: мир — не комната. Упрямое стремление найти в науке подтверждение ограниченным представлениям о жизни — следствие психологической незрелости. Думать о беспредельных просторах мира и радоваться им — значит принимать участие в сотрудничестве с мирозданием.
Если человек прямо из сауны отправится гулять в тридцатиградусный мороз, то он серьёзно рискует своим физическим здоровьем. Если дирижёр или композитор пойдёт работать на стройку, где жуткие механические звуки молотов, пил и моторов заменят ему виолончель, рояль или арфу, он рискует здоровьем психическим. Но если честный и добрый человек идёт увещевать бандитов и отморозков, то он рискует жизнью.
Слишком велика разность потенциалов.
Недаром астронавигатор Вир Норин, изумляясь нечеловеческим условиям в местных больницах, ёмко обобщает причины существующего положения дел: «…Люди Ян-Ях не подобны туго натянутым струнам, как мы, земляне, и легче переносят инфернальные условия. У них нет другого выхода. Мы бы очень скоро расплатились здесь за нашу быстроту реакций, напряжённость чувств и нагрузку памяти».
И, несмотря на это, тот же Вир Норин добровольно включается в карму планеты, ответив на любовь тормансианской девушки Сю-Ан-Те.[285] Хотя, как раздумывала Фай Родис, по закону внезапных поворотов это может быть по-своему логично у неодолимых преград.
Земляне трезвы в своих оценках. Они понимают, что Вир Норин проживёт в условиях планеты мучений от силы год-два и погибнет. Понимает это и сам Вир Норин. Но решения своего не меняет.
Тучи сгущаются над пришельцами. Земляне стали катализатором медленно назревавших событий и невольно пробудили защитные механизмы, свойственные всякой системе. И в этом тоже была своя предсказуемая, но неотвратимая диалектика. Врачуя планету от нравственной чумы, они были защищены от заражения своей моральной чистотой и знанием. Они знали меру, и сострадание их было действенно. Но весь смысл миссии заставил их сознательно нарушить известную истину, что «никакие условия, мольбы и договоры с бандитами невозможны». Из-за этого они остались уязвимы физически, и система лжи, предательства и невежества нанесла свой главный ответный удар…
Земляне стали вождями, вестниками Иерархии Братства (Великого Кольца), разомкнувшими инфернальную опухоль плоского безгранья Торманса энергией сверхсистемы. Любопытно и то, что именно в приобщении (причащении) к новой энергии фактически увидел писатель путь для тормансиан. Никакой самоорганизации ведь у них и в помине не было и Серые Ангелы не в счёт, как всякая закрытая подсистема внутри системы. Тут получается следующее: или Ефремов — наивный человек, полагающий, что можно за несколько месяцев/лет организовать революцию в столь гипнабельном обществе с развитым карательно-репрессивным аппаратом; или же он — провидец, знающий мощь потока, идущего сверху…
Фай погибла, запретив мстить за себя.
Нельзя безнаказанно пройти через инферно.
«Если уж находиться в инферно, сознавая его и невозможность выхода для отдельного человека из-за длительности процесса, то это имеет смысл лишь для того, чтобы помогать его уничтожению, следовательно, помогать другим, делая добро, создавая прекрасное, распространяя знание.
Иначе какой же смысл в жизни?»
Авакара
Именно, делите мир не по северу и по югу, не по западу и востоку, но всюду различайте старый мир от нового. Старый мир ютится во всех частях света, так же новый мир нарождается всюду вне границ и условий. Старый и новый мир отличаются в сознании, но не во внешних признаках. Возраст и условия не имеют значения. Красные знамёна часто подымаются руками старого мира, полного предрассудков.
Знаки Агни Йоги, 55Позволим себе авторское отступление. Перед тем как писать эту главу, мы оглянулись на историю изучения нами творчества Ивана Антоновича Ефремова. Прошло четверть века с момента первого знакомства, изменившего наши жизни, и 12 лет с создания ключевой статьи «Космизм Ивана Ефремова». В тот момент документы, которые свидетельствовали о внимательном изучении Ефремовым Живой Этики, лежали в архиве и доступ к ним был фактически закрыт. Знали о них единицы. Существовала только небольшая статья А. А. Юферовой, которая непосредственно общалась с писателем.[286] Текстологическое знание произведений Ефремова и книг Живой Этики позволило провести более тщательное сопоставление. Результат поразил: десятки страниц текстов буквально вторили друг другу. Как стало известно позже, совпадения особенно радовали самого писателя, когда оказывались случайными, словно давая ему понять: путь верен.
В 2006 году на Ефремовских чтениях в Вырице был прочитан доклад о близости взглядов Ефремова и авторов Живой Этики. Текст был опубликован на сайте «Нооген», созданном исследователем жизни и творчества Ефремова А. И. Константиновым. Доклад вызвал яростное неприятие со стороны многих лиц, которым было удобно понимать Ефремова узко.
Спустя три года Таисия Иосифовна позволила подготовить к публикации переписку мужа. Тогда и стали доступны источники, говорившие о постоянном, с каждым годом возрастающем интересе Ефремова к Агни-йоге.
За десятилетие нашего участия в обсуждении идей Ефремова[287] много раз был подтверждён универсальный «эффект Колумба»,[288] когда люди просто отказывались воспринимать информацию, никак не обращая на неё внимания, либо пытаясь безудержно навертеть десятки эпициклов — лишь бы нивелировать значимость открытия. Имея перед глазами срезы конкретно-исторических мифов всей человеческой истории, можно отметить, что именно на таких темах апробируются важнейшие эволюционные новообретения психики современного человека. Способность разрешить себе узреть то, что противно всему строю убеждений, — серьёзное эволюционное достижение в развитии сознания. И сейчас разделение людей идёт именно по этому вектору — ригидность либо пластичность сознания. В стародавние времена, когда жизнь была медленна, а анклавы людей немногочисленны и разобщены, погружены каждый в свой совершенно закрытый и целостно проживаемый миф-ритуал, такая способность была избыточным многообразием. Теперь она становится знаком качества, символом эволюционной адекватности.
И в творчестве Ивана Антоновича, и в Живой Этике мы видим постоянные указания на необходимость умения видеть необычное, непривычное, на необходимость формирования внутри себя открытого психического пространства. По сути, пафос их творчества в кратком призыве Живой Этики, известном в советское время как обращение к пионерам: БУДЬ ГОТОВ!
Мир течёт и плавится, меняется калейдоскопично. Ригидность психики, подчинённость ложной форме сознания — идеологии — превращает человека в социального робота.
Интерес Ефремова к глубинной психологии и эзотерической философии не случаен. Сама жизнь выковала Ивана Антоновича таким образом, что предоставила ему на практике простые и ясные подтверждения многих постулатов Живой Этики, давая при этом материал для дальнейших этических и философских исследований. Для него не представляло мучительного вопроса существование экстрасенсорных способностей, сверхдлинных причинно-следственных линий, переходящих в судьбу; его практически интересовала астрология, и он сожалел, что ей не уделяется должного внимания. Вся эта жизненная фактология должна была концептуально оформляться, структурироваться определённым образом. Классическая научная картина мира таких возможностей не давала, отсекая от себя целые пласты зовущей реальности. Недаром в «Часе Быка» земляне ЭВР жёстко критикуют науку Торманса. Наследие Рерихов такую возможность предоставило, находясь на стыке науки, религии (понимаемой не с обрядовой, а с сущностной стороны) и искусства.
С позиций классической науки всякая эзотерика — идеализм и вредная мистика. На самом деле для многих это серьёзное противоречие: «божья искра», якобы отрицающая и унижающая самостояние личности, и вера в человека, якобы непременно должная отрицать возможность существования разума, превосходящего человеческий. Надо ли пояснять, насколько мнимо такое противопоставление! Надежда на человека в плодотворном своём выражении равнозначна надежде на Бога, который везде, в том числе и внутри человека, и способности возвышения каждого разумного существа до богочеловека. Лишь доведённое до абсурда, отчуждённое от мира человеконадеяние приводит к отрицанию всякой иерархии разума во вселенной. Если же отчуждение происходит под флагом богонадеяния, то это будет слепая вера во внешний иррациональный авторитет. Когда нет отчуждения, эти крайности сливаются, оставаясь таковыми лишь на бумаге. «А слова… пусть дразнят друг друга, показывая язык», — как говорил Сент-Экзюпери. Как всегда, мы видим позицию меры и крайних, экстремистских выражений одной и той же идеи. Крайние позиции — полюса, безмерно далёкие от мудрой осторожности чуткого исследователя, который должен быть озабочен не собственным психологическим комфортом, а поиском истины. Последователи идей и сами идеи — вещи разные.
Это всё та же завуалированная дуэль вещного грубого материализма и дуалистического идеализма. В то время как в рациональном своём выражении материализм и идеализм — две стороны рассмотрения одной и той же реальности.
Учитывая почти полную неосведомлённость любителей творчества Ефремова о столь важной для него системе мировоззрения, как Живая Этика, собранный материал может послужить начальным этапом на пути самоопределения прикоснувшегося к теме — готов ли он входить в будущее, или приближающиеся корабли Колумба просто не улавливаются, не перерабатываются из физических импульсов в психическую картинку зрения.
Начальным этапом — поскольку тут не требуется даже готовность допустить что-то малообоснованное, пусть и перспективное. Речь идёт о факте, который просто есть, неотменяем, несмотря ни на какие ухищрения лукавого рассудка, и многократно подтверждён автографами самого Ивана Антоновича. Своего рода — входной билет на разумность. Тест для каждого, впервые прикоснувшегося к теме: кто он — человек или фрик, некий эльф? Такая постановка вопроса может показаться излишне нетерпимой. Но тема такова, что не терпит вялой толерантности — слишком многое поставлено на карту. Каждый должен уметь ставить и решать эти вопросы, искать оселок, на котором будет оттачиваться познание им самого себя.
Мир изнывает от невменяемости. Нравственность отождествляется с моралью, духовность — с религиозностью, религиозность — с церковностью, слово — со смыслом, научность и мировоззрение как таковое — с идеологией. Слово изъязвлено и многократно переврано. Чистая русская речь вызывает глумливые насмешки у необразованных сетевых бездельников и высокомерных узких профессионалов, «вписавшихся в тренд» постмодерна. На этом фоне многократно вперёд против пафоса двенадцатилетней давности, когда писался «Космизм Ивана Ефремова», обостряются те проблемы, что были подняты Иваном Антоновичем. И ещё более злободневны становятся строки Живой Этики, не менее полно предвосхитившей последние времена человеческого выбора.
Разумеется, многие десятки тематических сопоставлений,[289] некоторые из которых являются дословными сознательными заимствованиями, некоторые — естественными при единстве большинства воззрений совпадениями (что с радостью подмечал сам Иван Антонович), — лишь верхушка айсберга, уходящего глубоко под воду текстологии, в герменевтику смыслов и — ещё глубже — общей судьбы поля идей, прорастающих сквозь сердца и разумы лучших представителей земного человечества. Но у этих десятков страниц особая судьба — быть наконечником копья синтеза. На том стоим.
…В январе 1964 года Иван Антонович получил письмо из Кузнецка Пензенской области с отзывом на «Лезвие бритвы». Выделив этот отзыв из ряда других, он ответил автору, Георгию Константиновичу Портнягину. Георгий Константинович оказался родным братом Павла Константиновича Портнягина, участника Центрально-Азиатской экспедиции Рерихов, проходившей по Монголии и Тибету, с 1960 года поселившегося в Самарканде. Братья общались мало.
Портнягин был старше Ивана Антоновича на два года. В провинциальном Кузнецке он осел после войны. Здесь никто не догадывался, что директор школы рабочей молодёжи знал несколько иностранных языков, в 1926–1928 годах был резидентом советской разведки в Харбине, неоднократно переходил границу, что родители его так и остались в Китае, в Пекине. Сам Георгий Константинович оказался в Куйбышеве, где окончил биолого-химический факультет университета. По счастливой случайности, а может, закономерности бывшему разведчику удалось избежать репрессий: незадолго до войны он уехал в село Верхний Дарасун Читинской области, где работал учителем. После перебрался в небольшой городок Инза, что в Ульяновской области. Стоящий на железной дороге промышленный Кузнецк находился южнее, жизнь там текла живее, чем в сонной Инзе. В Кузнецке Портнягин прожил около сорока лет.
В свободное от работы время директор школы переводил и перепечатывал брошюры о йоге, де-факто запрещённой в то время в Советском Союзе, интересовался Индией, буддизмом, книгами Рерихов. Между Ефремовым и Портнягиным завязалась переписка, корреспонденты пересылали друг другу ценные книги, плёнки и перепечатки.
Георгия Константиновича сначала особенно интересовала йогическая практика. Портнягин как прирождённый учитель желал, чтобы советские люди знали об этом достижении человечества. Ефремов писал другу:
«Противоречие насчёт того, что нельзя давать йогу кому попало, и необходимостью распространения познаний разрешается диалектически: распространять познание среди тех, кто для этого годен, а не гордиться перед бесами и не метать жемчуг перед свиньями.
По моему впечатлению от Вас, Вы — человек очень хороший и потому легко впадаете в ошибку переоценки качества человека, встреченного Вами. Однако это в тысячу раз лучше, чем считать всех мерзавцами, хотя иногда и больно отражается на Вас самом (а в недавнее время было бы просто опасно, а может быть, и будет…).
Я постараюсь найти Вам хорошую книгу для перевода, может быть и не так скоро, но найду».[290]
Вскоре незримая нить связала четыре точки на карте: квартиру Ефремова в Москве, Кузнецк, где жил Портнягин, дом Святослава Рериха в Индии и маленький посёлок Козе-Ууемыйза в Эстонии, в котором на цементном заводе служил пожилой бухгалтер Павел Фёдорович Беликов, собравший уникальный материал о жизни и творчестве Н. К. Рериха, главный биограф знаменитой семьи.
Интерес Ефремова к работам Рерихов, подкреплённый возможностью обмениваться мнениями с Георгием Константиновичем, желание распространять книги Рерихов среди друзей привели к тому, что Иван Антонович обратился с просьбой о присылке книг непосредственно к Святославу Николаевичу Рериху.
30 августа 1965 года Святослав Николаевич Рерих писал Павлу Фёдоровичу Беликову:
«Мне писал Ефремов и просил прислать книги Н. К. К сожалению, у меня лишних экземпляров сейчас нет, но я попытаюсь их достать».[291]
Беликов, будучи в Москве и узнав от Ариадны Арендт телефон Ефремова, в октябре 1965 года пытался связаться с ним, но Иван Антонович тогда был болен.
Через полгода Павлу Фёдоровичу, связанному перепиской со всеми, кто желал в СССР издавать новые книги о Рерихах, потребовалась помощь в общении с молодым писателем Олесем Бердником.
С. Н. Рерих написал Беликову 2 марта 1966 года:
«Дорогой Павел Фёдорович.
Послал Вам сегодня телеграмму:
«Советую снестись от моего имени с писателями Леоновым, Ефремовым и Полевым и спросить совета, что лучше предпринять. Ваше письмо издательству правильно». <…>
Леонова, Полевого, Ефремова я назвал, ибо имел с ними хорошие контакты, и я их очень уважаю как писателей».[292]
16 марта Беликов отправил Ефремову обстоятельное письмо, где рассказал о себе, изложил суть дела, связанного с Олесем Бердником, и рассказал о своём впечатлении от книги «Лезвие бритвы»:
«На меня, и далеко не только на меня, прекрасное впечатление произвёл Ваш последний роман, который, к слову сказать, удалось мне получить только на прочтение. Правда, будь моя воля, подзаголовок «Роман приключений» я переделал бы на «Роман идей» и эпиграфом поставил бы: «Если спросят: как перейти жизнь? Отвечайте: как по струне бездну: красиво, бережно и стремительно». Вам удалось дать на редкость удачную, очень жизненную интерпретацию целого ряда этических и эстетических положений. Ваша интерпретация очень близка мировосприятию Н. К. Рериха и очень современна. Но писать о Вашей книге в нескольких словах, это значит ограничиться комплиментом, в которых, уверен, Вы недостатка не испытываете».
Завершалось это письмо так:
«С Вашего позволения, мне хотелось бы обменяться с Вами некоторыми мыслями по работе над темами Н. Рериха. Предполагаю осенью побывать в Москве. Если я могу быть Вам полезен в отношении материалов о Н. Рерихе, то прошу полностью на меня рассчитывать».
Ефремов, едва оправившийся от болезни, которая поставила его на границу Беспредельности, сразу откликнулся на письмо Беликова, задумавшего написать книгу о Николае Константиновиче Рерихе для серии «Жизнь замечательных людей». Книга вышла в 1972 году и для своего времени стала прорывом.
Сохранившаяся переписка сведена воедино и ждёт своих исследователей. Она может поведать о том, как три выдающихся человека работали над распространением учения Агни-йоги. Беликов пересылал Ефремову книги, имеющиеся часто в одном экземпляре, Ефремов переснимал их на фотоплёнку — и отправлял плёнку или готовые снимки Портнягину, который перепечатывал их в нескольких экземплярах. Так через руки Ефремова прошли почти все книги Агни-йоги, более других ему оказались близки томик «Братство» и «Беспредельность». Особенно радовался Иван Антонович, когда находил соответствия между цитатами Агни-йоги и своими мыслями, высказанными в уже написанных книгах. «Очень здорово — это § 827, 828, 829 на стр. 210–211 второй части [речь идёт о «Беспредельности»]. Здесь чётко изложена позиция к науке, данная в «Часе Быка». Такие совпадения меня всегда очень радуют — путь верен!».[293]
Читал Ефремов и «Тайную доктрину» Елены Петровны Блаватской. Первый том он получил от Беликова, заказывал фотографу переснять его на плёнку, плёнку послал в Кузнецк, где Портнягин по совету Ивана Антоновича перепечатал из текста Блаватской самое на тот момент ценное.
Второй удалось раздобыть в Москве — и послать его Портнягину для работы.
Портнягин отвечал Ефремову: «Размышлял над Вашим предложением по поводу «Т. Д.». Пришли мысли, что писать нужно нечто сжатое, краткое, необычайно продуманное, — суть только, но форма изложения должна быть чёткой, современной по языку, понятной людям эпохи конца Кали-Юги. Это должны быть Упанишады, в первую очередь рассчитанные на тех, кто соприкоснулся в любой форме с Учением, без малейшего искажения смысла Его. Задание Вы дали очень интересное, а главное — очень нужное, ибо сам текст «Т. Д.» доступен не всем, а по объёму мало приемлем современным вечно спешащим людям».[294]
Полученные от Георгия Константиновича стопки машинописи Ефремов отдавал машинисткам — размножить тексты для друзей: пусть читают! Когда Георгий Константинович не мог переслать работы по почте, роль курьера выполнял его старший сын Лев.
По делам, связанным с выставками и изданиями книг о Рерихе, приезжал в Москву Беликов. Он заходил в гости к Ефремову. Беседовали подолгу. Приезжал из Кузнецка и Портнягин, которому тоже довелось лично познакомиться с Беликовым и побывать у него в Эстонии.
Ефремов подарил Портнягину седьмой том Махабхараты, и благодаря этому Портнягин завязал переписку с Борисом Леонидовичем Смирновым, переводчиком великого индийского эпоса, знаменитым врачом и санскритологом. После его смерти продолжал переписываться с его женой, Людмилой Эрастовной.
В феврале 1972 года Ефремов получил от Беликова заказной пакет с открытками и репродукциями картин Рериха. Беликов ошибся конвертами: посылка предназначалось Владимиру Васильевичу Соколовскому, инженеру в отставке, который по собственной инициативе составил список всех художественных работ Рериха. Репродукции Беликов получал из музея Николая Рериха в Нью-Йорке, от Зинаиды Григорьевны Фосдик, ближайшей ученицы Рерихов.
Ефремов отправил пакет по назначению, однако попросил Беликова сообщить, откуда он добывает такие прекрасные репродукции. Более других ему понравилась картина «Капли жизни»: над голубыми хребтами горной страны, слева, на сером скалистом уступе, сидит, склонив голову, юноша в жёлтом одеянии. За его спиной со скалы тонкой струйкой стекают капли, падают в глиняный кувшин. Иван Антонович каждый подаренный ему судьбой день ощущал как светящуюся каплю жизни. Он знал, что ему осталось немного, и с грустью писал об этом Портнягину.
Вскоре он получил в подарок от Павла Фёдоровича именно эту репродукцию — вместе с адресом нью-йоркского музея. Среди «штрафных» фотографий, присланных Беликовым, была картина «Святой Сергий». Иван Антонович и Таисия Иосифовна с особой любовью и почитанием относились к этому святому, которого они в некотором роде могли считать своим соседом: любимое Абрамцево, где писалось «Лезвие бритвы», стоит между Радонежем и Троице-Сергиевой лаврой.
Сергий был не просто одним из святых, коих немало. В своём монастыре он впервые на Руси ввёл «общежительный» устав, по которому всё имущество в монастыре становилось общим и каждый монах должен был трудиться. Введённая Сергием дисциплина требовала от учеников постоянной бдительности над мыслями, словами и поступками, создавала из обители воспитательную школу, в которой росли мужественные, бесстрашные люди. Они готовы были отказаться от всего личного и работать на общее благо. Величайший смысл жизни Сергия Радонежского в том, что он создал новый тип личности, укоренившийся в народном сознании как идеал человека. Его подвижническая жизнь осветила русскую историю на много столетий вперёд.
Ефремов без промедления написал Фосдик и получил от неё доброе письмо с предложением обмена: он посылает в Нью-Йорк свои книги в обмен на репродукции Рериха. Иван Антонович тут же откликнулся и послал в Нью-Йорк внушительную посылку, ответ не замедлил прийти. (После смерти Ефремова Таисия Иосифовна послала Зинаиде Григорьевне только что вышедший роман «Тайс Афинская» и получила от неё благодарственное письмо.)
Портнягин называл Ефремова «авакарой», что в буддизме означало «духовный подвижник». Елена Ивановна Рерих писала: «Вы знаете, и вы понимаете высокое понятие «аватара», но чтоб достичь его, нужно стать авакара — огненно устремлённым».[295]
Таисия Иосифовна рассказывала, как Гаральд Феликсович Лукин,[296] будучи у них в гостях, опустился перед ней на колени с восклицанием:
— Берегите его!
Лицо его было светло, вся же сцена выглядела немного комично: Гаральд Феликсович был под стать самому Ефремову, и когда этот могучий крупный мужчина опустился на колени, он стал практически одного с Таисией Иосифовной роста.
В переписке с Портнягиным Иван Антонович высказывался предельно откровенно. Например:
«Я совершенно согласен с Вами, что идеи йогизма скоро будут «неудержимым потоком», но поток будет, закономерно, мутным, как острая реакция на плоскостнейший утробный материализм, культивирующийся уже немало лет на святой Руси. <…>
Мне думается, что сопротивление будет жесточайшее, хотя бы на примере Лысенко — его надо судить как государственного преступника, а вчера перед Академией Наук в числе виднейших деятелей вывесили его огромнейший портрет! Тёмные силы сильны, а потому — будьте осторожны!»[297]
«Материальность мысли — это вы совершенно правы, но метафизическое отношение к ней наших учёных и философов — вот главная беда. Именно по этой причине они не могут объяснить даже себе самим ясновидение, телепатию и телекинез, именно потому так трудна очистка ноосферы. А если бы они сообразили бы это, то, поскольку к «многослойности» пространства-времени они уже подошли, всё бы стало на свои места».[298]
«Отвечаю на Ваши вопросы по предисловию к Кларку. Я его «изничтожил» было, но, уступая слёзным просьбам двух редакций, согласился отсечь конец, в котором говорится о духовной пустоте и фильма, и книги. <…> Гипотеза… не научна… Конечно, как же иначе. Речь идёт: а) о нашей официальной науке — читатели иной и не знают и, даже если бы Келдыш узнал, что его наука убога и существует иная, настоящая, то счёл бы автора предисловия за сумасшедшего или опасного маньяка; б) на том уровне, о котором идёт речь в повести — человекообезьян, даже для истинной науки бесполезность вмешательства очевидна. Поэтому все Ваши возражения отпадают по той причине, что они не противоречат моей позиции, я полностью с ними согласен. Но никогда не забывайте, с какой колесницей Вы имеете дело. В лице молодого массового советского читателя мы, увы, видим самую низшую колесницу (по чудовищному невежеству в делах духовных)».[299]
«Я не совсем понимаю, почему Вас так смущает вопрос: теизм — атеизм. Для меня — врождённого атеиста, сейчас это не имеет никакого значения, если речь не идёт о личном, человекоподобном, карающем Боге.
Если брать атеиста в его прежнем, примитивном понимании, что всё есть беспорядочное корпускулярное движение со случайными последствиями, тогда ко всем чертям такой атеизм, я не атеист, ибо с таким атеизмом жить иначе, чем по-скотски, нельзя и аморальность — неизбежное следствие, что мы и видим. Если же признавать некую причинную связь, назовите её кармой, мировой механикой, эволюцией, развитием процесса с определёнными законами и порядком, то такой атеизм меня устраивает, но ведь это иначе называется теизмом такими людьми, как Рерихи. Здесь дело не в термине, а в вере в существование определённых законов причин и следствий, протяжённых во времени, которым подчиняется весь мир, будь то людишки, архаты или апсары…
Но ведь признание системы есть одновременно принятие религии, ибо что же такое религия как не свод определённых правил поведения, в согласии с законами бытия? Само слово «религио» означает связь, зависимость, опору — вспомните английское «рели», «релайэбл». Признавая связь причин, следствий, времён и процесс мирового развития и соподчиняя ему нормы своего поведения, Вы тем самым религиозны. И я не понимаю Ленина, который так бешено восставал против религии, будучи сам не менее, а более религиозным, чем самые неистовые церковники. Религия — есть моральный свод, а что он неизбежно должен опираться на веру, Вам должно быть очевидно. Вера же может быть, в зависимости от уровня восприятия, хоть в пень, и горе тому обществу, которое, уничтожая прежнюю веру. не заменит её другой. Всеобщее страшное моральное обнищание и разрушение ещё впереди, и никакая Махабхарата нас не спасёт от морального крушения нашей цивилизации, что, впрочем, и предвидит Е. И. <…> Просмотрел ещё раз Ваше письмо и вижу, что не ответил ещё на одно. Рерих говорит, что каждый должен выбрать себе Учителя, ещё стремясь к Пути. Это вовсе не значит, что Вы рыщете и находите некую личность. Отнюдь! Вы выбираете себе одного из великих Учителей человечества, в том смысле, что это может быть Будда, а может быть и Христос, или кто-либо из Бодисаттв, или ЕПБ, или даже отец «Розенкрейцер» и т. д. Иными словами, Вы дисциплинируете себя в той или иной религии, или философии, или науке, какая Вам больше по душе, будь то хоть Гиппократ или Ауробиндо. Иными, опять же, словами, Вы набираете определённую кармическую высоту, а дальше идёт уже познание».[300]
«…Эзотерия — лишь признак определённого уровня общественного сознания, а не специфически религиозный уклон познавания мира. Сейчас народилась новая эзотерия — естественных наук, и каждый учёный, если бы яснее отдавал себе отчёт в том, кому можно вручать плоды своих трудов и какие из этого произойдут последствия, был бы адептом тайных наук».[301]
«Я решил погадать и открыл на первом попавшемся месте. Это был § 142, как нельзя более в точку, и я решил, что через Вас мудрецы Братства послали мне совет».[302]
«Я по-прежнему занят размышлениями на три важнейшие вопроса Кармы, которые меня особенно интересуют, как палеонтолога.
1. — о нём Вы знаете — право на уничтожение вредоносных, и принципы определения — и вредоносности, и права.
2. Права на самоуничтожение, которое должно вытекать из:
3. Права судить высшие силы Судьбы и Промысла.
Я прихожу к заключению, что из-за разности масштабов право судить нецелесообразность и ошибки высших миров имеем только мы — жертвы страдания в плохо устроенном мире, устроенном недодуманно «ими». Не «они», великие и всемогущие, а мы, маленькие их жертвы. И очень интересно, что я нашёл подтверждение этому сразу в двух писаниях: Евангелии от Иоанна («и дал ему Отец право Суда, ибо он есть Сын Человеческий») и в древней легенде индуизма, где говорится, что Брахма узурпировал себе право создания мира, вопреки другим членам Тримурти — Вишну и Шиве, создал его, «запустив» Махамайю (дни и ночи Брахмы), и тем самым обрёк на великое страдание свои создания, особенно мыслящие (разумные) существа рода человеческого.
И если право суда над ним остаётся за нами, купленное неисчислимыми жертвами и страданиями, тогда следует пересмотреть Карму и, может быть, право ухода из этой жизни, вольного и ненаказуемого тоже право Сына Человеческого. Это всё вопросы величайшей сложности, но если удастся хотя бы получить намёк на ключи подхода, то это — великое дело…»[303]
Особняком стоит письмо врачу-урологу Россихину:
«Если искать путь, то, как Вы очень хорошо сказали в начале письма, он в наше время лежит через общественную йогу («агни-йогу»), йогу служения человеку и обществу, йогу уничтожения страдания и войны со злом и несчастьем (не забывая, что всё в этом мире имеет две стороны). Для всего этого нужно и самоусовершенствование и самоограничение, но в иной мере и иных целях, чем в личной йоге, которой начинают увлекаться многие, мечтая получить особую власть и силу. Если бы они знали, что не получат ничего, кроме ответственности и заботы, самопожертвования и долга, то они даже близко не пытались бы познакомиться с высшей йогой. Если бы они знали, что на самых высших ступенях «посвящения» человек не может жить, не борясь с окружающим страданием, иначе он погибнет…
От души желаю Вам и Вашим товарищам твёрдо стать на путь — это самое большое счастье, какое есть на Земле, кроме большой любви…»[304]
Разумеется, человек, высказывающийся подобным образом, очень специфически решал «официально решённые» философские проблемы, делал из них необычные этические выводы. Ему чужда была классовая атеистическая этика, но и догматизм этики богословской он отвергал как безжизненный. Тонкая диалектика текучих нравственных проблем — вот что привлекало его внимание. Именно это составляет основу Живой Этики.
Всякий человек найдёт в ней массу полезных рекомендаций и ёмких обобщений, обладающих огромной призывной силой. Если при этом не смущаться непонятным (что неизбежно, потому что изложение спиральное, а не привычное поступательно-линейное), не ставить его во главу угла своей реакции, то открывается возможность серьёзного переосмысления жизни. Для многих людей с недостаточно развитым абстрактным мышлением всякое слово воспринимается конкретно-чувственно. Соответственно, если нечто имеет словесное выражение, то подразумевается, что оно представляет собой едва ли не осязаемую вещь. Такие люди бессознательно ожидают от любого утверждения столь же наглядных манифестаций, как голубизна неба или холод снега. Так как предмет гораздо тоньше, наступают скепсис и разочарование. Гностики поздней античности делили людей по качеству информационного метаболизма: физики, психики и гилики — телесно, душевно и духовно ориентированные. Судя по всему, такое деление не утеряло своей актуальности. Выкрики о недопустимой религиозности рериховского наследия на этом фоне особенно показательны.
Сознание многих начинает плыть от мыслей о неких над-сущностях, и они либо начинают бояться их, либо сваливают на них всю свою ответственность. Рождается потребность не трудиться вместе с ними, а инфантильно от них чего-то требовать. Однако махатма — это не христианский Бог, который беспределен, всё знает, всё умеет, и на всё Его воля. Это бодхи-сатвы, чьи проявления ограничены в пространстве и времени. Ну а Тонкий и Огненный миры… Речь только об одном: материальна ли мысль? Возможна ли принципиально телепатия? Если принципиальный ответ (неважно, с какими оговорками) гласит «да» — то всё остальное прямо-таки само собой подразумевается. В этом принципиальном «да» скрыта вся философская часть теософии.
Раз чувство и мысль — объективные субстанции, только тонкоматериальные, то пространство должно быть наполнено мыслеобразами. Предполагать, что это бесструктурное аморфное марево, — значит противоречить всем известным законам самоорганизации материи. Раз есть структура, значит, есть иерархические уровни (придонный ил — вода — воздух — вакуум).
Далее: если есть ясновйдение, то это доказательство того, что сознание не закреплено в теле абсолютно. Значит, человек многомерен и сосуществует, подобно всё более разреженным матрёшкам, во всё более тонких структурах, из которых может черпать информацию. Что может помешать его тонким оболочкам существовать какое-то время после смерти самой грубой оболочки — тела — совершенно неясно.
Это превосходно понимают сторонники того самого «утробнейшего» материализма, и для них оказывается принципиально именно то, о чём Иван Антонович писал не раз: отрицание, попытки любой ценой доказать, что каких-то фактов быть просто не может. Более того, несмотря на совершенно ясные утверждения мыслителя, его самого старательно карнают, суеверно втискивают в проскрустово ложе, в полном соответствии с «эффектом Колумба» отказываясь понимать анекдотичность таких попыток. Болезненная потребность разъять целостный процесс познания на жестокую оппозицию механистической науки и религии, понятой как покорность иррациональному авторитету, — лишь характеристика внутрипсихической проблемы современного западного интеллектуала. Научное мировоззрение — тоже миф, во многом аналогичный христианскому мифу недавних веков или язычеству далёкого прошлого. Передаваемая при помощи второй сигнальной системы традиция всегда есть миф.[305] Отличие подлинного учёного от авгура-джи — умение осознавать положенные временем границы и готовность выходить за их пределы, стремиться к познанию, а не к воспроизводству разрешённых ходов исследования, когда «мысль, как загнанная зверюшка, металась между словесными нагромождениями изречений, отступлений, реминисценций, схоластики доказательств. Учёные Торманса очень много занимались отрицанием, словесно уничтожая то, чего якобы не может быть и нельзя изучать».
Типы научности и религиозности разнятся и в своих плодотворных формах могут вступать в творческий диалог. Гирин приходит к индийским философам, и это начало пути; в том, что говорит Вир Норин о сочетании экстравертного и интроспективного метода познания, уже нерушимый вековой опыт единства.
Пора отвергнуть примитивную двуцветность. Западные определения применительно к Востоку не срабатывают. Мы, произнося слово «религия», автоматически подразумеваем то, что видим вокруг себя, и переносим соответствующее отношение на названный так же, но иной по сути феномен. Тип восточной религиозности гораздо более рационален в смысле опоры на опытное знание. Выдающийся религиовед современности профессор Е. А. Торчинов недаром чётко разделял религии откровения и религии чистого опыта. Когда же рассказывается об опыте некоего общения, то можно верить или нет, но коли суть в том, что явилось результатом общения, а не кто явился собеседником, говорить о доминировании религиозной составляющей нельзя. Это аксиомы религиоведения.
Главный признак религии — наличие культа и строго ритуализированных таинств.[306] Многие структуры современной науки деградировали в пародию на религию. Ефремов обращал на это самое пристальное внимание, об этом же неоднократно сказано в Живой Этике. Если уйти от идеологических оценок, то следует признать: речь в ней идёт о качествах и поступках, а не о формальной доктрине. Напротив, постоянны напоминания: всякие достижения ценны, лишь бы человек развивался, а не деградировал. Разумеется, это привлекало Ивана Антоновича, исследовалось как основа для будущего СССР.
Живая Этика утверждает иерархически организованную беспредельность, через общину зовёт к братству, говорит о необходимости меры и устремлённости к высшему, о дисциплине мысли и значении чувствознания/интуиции. О том, что мир — открытая сверхсистема и можно, став открытым самому, войти с миром в определённый резонанс. Главное: глубоко проработанная системность, которая создаёт ориентиры, вытекающие из сути вещей и процессов, увязанность в единое целое этики и космоса.
Живая Этика и романы Ефремова исключительно диалектичны.
Мир Ефремова, как и мир Рерихов, находится в постоянном развитии, он нелинеен, анизотропен и познаваем. Более того, он необходимо познаваем.
Можно сказать, что пронзительная светоносная диалектика является их архиглавнейшей характеристикой.
«Эволюция мира складывается из революций или взрывов материи. Каждая эволюция имеет поступательное движение вверх. Каждый взрыв в конструкции своей действует спирально. Потому каждая революция в своей природе подвержена законам спирали» (Община, 66).
Чувство меры, являющееся условием возможности прохождения пути по «лезвию бритвы», то есть оптимальному для развития данной системы пути, представляется Ефремову важнейшим. Одно из центральных понятий Живой Этики — соизмеримость. Говорится об умении найти не механическую, но подлинную «золотую середину», находящуюся в постоянном движении, динамическом равновесии — в противовес догмам, раз и навсегда определяющим должные пути.
«Что требуется в Нашей Общине? Прежде всего, соизмеримость и справедливость. Конечно, второе всецело вытекает из первого. Конечно, нужно забыть о доброте, ибо доброта не есть благо. Доброта есть суррогат справедливости. Духовная жизнь соизмеряется соизмеримостью. Человек, не отличающий малое от большого, ничтожное от великого, не может быть духовно развитым.
Говорят о Нашей твёрдости, но она лишь следствие Нами развитой соизмеримости» (Община, 67).
Немало слов и в романах Ефремова, и в Живой Этике сказано о целесообразности — и понимается она идентично, диалектически. Это не плоская утилитарность, это сочетание эффективности и универсальности.
«Нет бездушной справедливости, но лишь сияющая целесообразность. Именно, прекрасная целесообразность не тиранствовать может, но открывать прекрасные врата» (Община, 23).
Показательно и отношение к женскому началу и женщине. Возвеличивание женщины в романах Ефремова находят в полном соответствии с эпохой Матери Мира, провозвещаемой Рерихами.
В Живой Этике говорится об Иерархии. Иерарха отличают мера знания, компетентность в сочетании с готовностью вести за собой. Подобную же максиму управления мы видим и у Ефремова в противовес дуалистическим концепциям, представляющим сам принцип иерархии как насилие и отчуждение. Можно назвать это диагональю власти.
«Чуждое учение настаивает на явлении подчинения, но община настолько насыщена возможностями, что единственной Иерархией будет ступень знания. Никто не назначает Иерарха, но слушающий и познающий признают тем эту ступень. Учитель будет естественным вождём» (Община, 215).
Осознание беспредельности мира у Ефремова — важнейший устой творческой жизни. Всякая закрытая система рано или поздно превращается в энтропийное болото — будь это сам человек, семья, секта, целая страна или всё население планеты. Беспредельность — утверждаемая в Живой Этике сущностно важная характеристика мироздания.
Естественно, наука должна быть также открыта и не скована придуманными правилами. Всякое правило, утверждаемое в букве, но не в духе, по прошествии некоего времени всё меньше соответствует действительности, потому что догма — железобетонная прямая, а развитие происходит по спирали.
Наука и у Ефремова, и у Рерихов должна безбоязненно подходить к фактам, что возможно только при открытом, подвижном сознании учёного. Главное же — наука должна заниматься вещами, действительно необходимыми человечеству, и вводить в конкретность всякое достижение.
Точно так же не самодостаточна и современная наука в понимании Живой Этики. Наука будущего синтезирует науку дня сегодняшнего с древней мудростью.
Слепая религиозная вера отвергается в Живой Этике, приветствуется соизмеримое доверие к раньше познавшему. Люди, объединённые доверием, представляют собой самую большую силу. Аналогичный подход мы находим в философии Ефремова.
Известно, что, отдавая должное достижениям индийской йоги, Ефремов понимал её историческую обусловленность и критиковал за требования, трудносовместимые с существованием в современном мире. Идентичное отношение мы находим в Агни Йоге. Там немало предостерегающих слов от увлечения йогическими практиками без работы на общее благо. Более того, чрезмерное погружение в то, что было оправданно века назад, может крайне негативно сказаться на жизни человека и его окружающих.
То же требование и по отношению к науке — необходимость отсутствия догм и общественная польза. Снова диалектика новых путей властно проглядывает сквозь строки ефремовских романов и рериховских утверждений.
Самое время вспомнить о двуедином названии Учения: Живая Этика/Агни-Йога. Этика впервые в истории становится йогой.
Живая Этика обосновывает необходимость Общины. Никакое личное достижение не имеет смысла вне общества и работы на общее благо. Необходимо наиболее точное для меры данного времени соотношение индивидуальности и коллективизма.
Ефремову принадлежит философское открытие, взламывающее обрядовый диамат: воспитание вкупе с образованием и психическим развитием — производительная сила общества. Он понимал, что преуспеяние общества возможно только при процветании учителей и врачей. Живая Этика постулирует, что учителя и врачи должны находиться в особом положении, так как их ценность при построении социального организма крайне велика. Восточное понятие Учителя как учителя жизни, а не преподавателя узкой дисциплины вошло в современную гуманную педагогику и было воспринято Ефремовым при создании образа будущего.
Открытие, о котором было сказано выше, стало возможно лишь после понимания исходного постулата: сознание — высшая форма материи. Соответственно, духоматерия представляет собой единую субстанцию мира в Живой Этике. Постулируется отсутствие онтологической пропасти между духовным и материальным, что снимает принципиальную отчуждённость непознаваемых высших сил от всецело зависимых от них людей.
Немало о возможностях психической энергии, заключённой в человеке, сказано в Живой Этике. Но там же неоднократны предупреждения об осторожности в привлечении новых энергий. Новое качество энергии без вредных последствий можно выдержать лишь будучи человеком всесторонне развитым и гармоническим, имеющим благородную цель.
Прежде же необходимо учиться вниманию и синтетическому мышлению, которое, как подчёркивается, ничего общего не имеет с оккультным сосредоточением.
Третья сигнальная система — естественное следствие синтетического сочетания знания и чувств, то есть мудрости. Чувствознание приветствуется и провозвещается как насущная необходимость и в Живой Этике…
В «Часе Быка» Вир Норин говорит учёным Торманса: «Вы отстранили себя от подлинного познания сложности живой природы, надев цепь односторонней и опасной линейной логики и превратившись из вольных мыслителей в скованных вами же придуманными методами рабов узких научных дисциплин. Та же первобытная вера в силу знака, цифры, даты и слова господствует над вами в трудах и формулах. Люди, считающие себя познавшими истину, ограждают себя, по существу, тем же суеверием, какое есть в примитивных лозунгах и плакатах для «кжи».
Настойчивое использование алхимической и розенкрейцерской символики сообщает произведениям Ивана Антоновича дополнительное измерение, углубляя ткань его текстов и связывая разные пласты семантических полей.
Ртуть и золото как алхимическая пара, радиация как признак трансформации элементов… Ещё в первом трактате розенкрейцеров начала XVII века говорится об открытии новых звёзд в созвездиях Лебедя и Змееносца. Излишне приводить все упоминания Ефремовым змеи (в том числе и кусающей себя за хвост, что у розенкрейцеров символизировало процесс порождения материи материей же) и созвездия Змееносца; лебедя и ворона (в алхимии — белая и чёрная стадия делания)…
Более того, согласно теософской доктрине, Уран и Нептун — планеты, обеспечивающие связь Солнечной системы с высшими мирами. Южный полюс Урана направлен на созвездие Змееносца, а северный Нептуна — на созвездие Лебедя.
Становится ясно, что недаром на письменном столе мыслителя стоял и поныне стоит закованный в серебристую броню рыцарь — статуя в локоть высотой, а на одной из известных поздних фотографий Иван Антонович запечатлён с розой на столе. Кстати, почти все изображения Елены Ивановны Рерих — с розой. Да и имя главной женщины «Часа Быка» Фай Родис на латыни означает «Роза».
Есть и тонкие параллели: например, работа алхимика есть в устах самих алхимиков «дело женщины и игра ребёнка». Важнейшей интерпретацией этого символа является развитое воображение, наиболее свойственное именно женщинам и детям. Неспроста Иван Антонович постоянно пишет о роли воображения и творческой фантазии, ставя её в основу путей восхождения из инферно.
Всё сказанное отнюдь не означает, что в лице Ефремова мы имеем дело с неким тайным посвящённым. Существующие твёрдые факты укладываются в проявление пристального интереса и понимание плодотворного начала, сокрытого в эзотерике как необходимом историческом явлении. И, конечно, это факт огромной направленной эрудиции, в том числе знакомство с недоступными для советского читателя книгами Рерихов, Блаватской, Гурджиева — о коем отзывался резко негативно, Ауробиндо, Успенского, Безант, и такими, скажем, как «Утро магов» Л. Повеля и Ж. Бержье или «Белая богиня» Р. Грейвса. Необычные интересы и необычные способности, увязанные в диалектическую пару и устремлённые к общему благу, рождают плоды с фантастически чарующим ароматом. Такова жизнь Ивана Антоновича и таковы его книги.
Огненно устремлённый. Авакара. Прислушаться бы нам всем к нему — уже пора.
Популярная палеонтология
В 1957 году школьник со станции Тайга Геннадий Прашкевич со товарищи написал знаменитому писателю Ефремову письмо. Увлечённые палеонтологией друзья спрашивали: с чего начать изучение этой науки? Что читать?
Иван Антонович ответил так: «Уважаемые юные палеонтологи! Вы, наверное, судя по письму, — молодцы, но вы задали мне нелёгкую задачу. Популярной литературы по палеонтологии почти нет. По большей части — это изданные давно и ставшие библиографической редкостью книги. <…> Для вас я имею в виду пока популярные книги, но не специальные. Надо, чтобы вы научились видеть ту гигантскую перспективу времени, которая, собственно, и составляет силу и величие палеонтологии. Если вы её поймёте и прочувствуете, то тогда найдёте в себе достаточно целеустремлённости и сил, чтобы преодолеть трудный и неблагодарный процесс получения специальности палеонтолога».[307]
Геннадий Прашкевич позже участвовал в Очёрских раскопках, побывал во многих геологических и палеонтологических экспедициях, стал известным писателем-фантастом. Сколько мальчишек мечтали о поисках динозавров, о далёких путешествиях ради науки — но не рискнули написать письмо учёному. А сколько ребят даже не слышали слова «палеонтология», а ведь могли бы загореться и полюбить эту науку, как загорелся когда-то Ваня Ефремов, прочитав книжечку «Век драконов».
Квалифицированный палеонтолог — товар штучный, так много он должен знать и уметь! Если из тысячи заинтересовавшихся хоть один изберёт эту науку своей профессией — это будет уже победа. Значит, кроме рассказов об экспедициях, нужна популярная книга о палеонтологии, написанная понятным языком, захватывающая небывалыми образами, завораживающая перспективой времени.
В свои художественные произведения Иван Антонович органично вставлял образы учёных-палеонтологов или описывал древнейших животных.
В рассказе «Голец Подлунный» путешественники обнаруживают в сердце Сибири древние изображения африканских животных — слонов, носорогов, гиен, жирафов, зебр, находят гигантские бивни слонов.
В повести «На краю Ойкумены» три отважных друга — Пандион, Кидого и Кави — сражаются с гишу, «ужасом ночей», в описании которого любители палеонтологии узнают гиенодона.
Историк палеонтологии Антон Нелихов назвал повесть «Звёздные корабли» «палеонтологическим детективом». В ней есть практически все составляющие современной научной жизни палеонтологов: рутинная жизнь учёных, обучение аспирантов, многомесячные полевые работы, порой не приносящие ожидаемого результата, азарт поисков, кропотливое исследование находок и написание научных статей. Всё это подано в увлекательной оправе приключения, выдающегося открытия, столкновения с пришедшим из космоса разумом.
В романе «Туманность Андромеды» Дар Ветер и Веда Конг попадают в гости к палеонтологам, изучающим ископаемых животных пермской эпохи.
В далёком 1938 году в Ишееве Ефремов говорил друзьям, что скоро палеонтологи будут ездить на раскопки на мощных машинах и добираться до костеносного слоя с помощью тракторов. В «Туманности…» он предположил, что можно будет изучать древнейших животных, не выкапывая их, не нарушая естественного расположения костей. «Кроты», специальные приборы, «прошивают слои горных пород голым кабелем и ткут металлическую сетку. Скелеты вымерших животных залегают в рыхлом песчанике на глубине четырнадцати метров от поверхности. Ниже, на семнадцатом метре, вся площадь подслоена металлической сеткой, подключённой к сильным индукторам. Создаётся отражающее поле, отбрасывающее рентгеновские лучи на экран, где получается изображение окаменелых костей».
С помощью этого метода удалось раскрыть загадку заселения азиатского материка в палеозойской эре.
В фантастическом произведении, посвящённом полётам в дальний космос, нашлось место и наукам об истории Земли — палеонтологии и археологии.
В «Сердце Змеи» в предощущении первого контакта людей с братьями по разуму писатель даёт сжатый, динамичный очерк развития жизни на Земле, подчёркивая мысль об ускорении эволюционного процесса:
«Миллиарды лет надо было копошиться в тёмных и тёплых уголках морских заливов крохотным комочкам живой слизи, ещё сотни миллионов лет из них формировались ещё более сложные существа, наконец вышедшие на сушу. В полной зависимости от окружающих сил, в тёмной борьбе за жизнь, за продолжение рода прошли ещё миллионы веков, пока не развился большой мозг — наисильнейший инструмент поисков пищи, борьбы за существование.
Темпы развития жизни всё ускорялись, борьба за существование становилась острее, и убыстрялся естественный отбор. Жертвы, жертвы, жертвы — пожираемые травоядные, умирающие от голода хищники, погибающие слабые, заболевшие, состарившиеся животные, убитые в борьбе за самку, во время защиты потомства, погубленные стихийными катастрофами.
Так было на всём протяжении слепого пути эволюции, пока в тяжёлых жизненных условиях эпохи великого оледенения дальний родич обезьяны не заменил осмысленным трудом звериный поиск добычи. Тогда он превратился в человека, познав величайшую силу в коллективном труде, в осмысленном опыте».
«Камни в степи» — так называется глава романа «Лезвие бритвы», в которой Иван Гирин проводит сложные опыты с сибирским охотником Селезнёвым, чтобы понять природу его галлюцинаций, проникнуть в тайну памяти поколений. Селезнёв увидел себя палеолитическим охотником, сражающимся с гигантским саблезубым тигром. По другим видёниям учёным удалось узнать похожего на слона овернского мастодонта и единорога-эласмотерия.
«Дорога ветров», посвящённая Гобийской экспедиции, — подлинная поэма, и вряд ли когда ещё появится книга, в которой более поэтично и образно показана работа палеонтолога.
Блестящими описаниями Ефремов доказывал, что наука может быть предметом художественного осмысления.
Работая над романами, Иван Антонович продолжал обдумывать тему популярной палеонтологии. Закончив «Лезвие бритвы», взялся было за неё, но внезапная болезнь — отёк лёгких — не позволила выполнить задуманное.
Однако в 1968 году в издательстве «Знание» была опубликована брошюра в 64 страницы — «Тайны прошлого в глубинах времён». Это своеобразное введение в палеонтологию. Иван Антонович сжато, просто и доступно объясняет основы, на которых строится палеонтология. Главы последовательно рассказывают о том, что такое геологическая летопись, как научились читать историю земной коры, как протекают процессы накопления осадков на поверхности Земли. Взгляд рассказчика обращается к осадочным породам — документы прошлого Земли, которые как раз и хранят в себе остатки растений и живых организмов. Земная кора изменяется, и палеонтологу важно понять общие причины этих изменений, которые в конечном итоге ведут к неполноте геологической летописи.
Кратко описав новые методы исторической геологии, Ефремов подходит к своей любимой теме: последняя глава называется «История Земли и жизни — окно в космос».
К сожалению, тираж брошюры был невелик и оформление её оставляло желать лучшего.
В 1967 году Ефремов по просьбе издательства «Наука» написал статью «Космос и палеонтология». Она предназначалась для научно-популярного сборника «Населённый космос». Выход сборника задерживали. Два года спустя оказалось, что в статью без согласования с автором внесли редакторские правки, которые частично изменили её содержание, и разгневанный Иван Антонович отказался публиковать свою работу. Напечатана она была в сокращении только в 1972 году.[308]
Друзья, конечно, читали статью в машинописи. Владимир Иванович Дмитревский писал Ефремову: «Блестящая аргументация делает Ваши выводы не только смелыми, но и почти неопровержимыми. Вот когда я понял, что палеонтология это — ого!
Глубоко философским показалось мне положение Вашей статьи, где говорится, что антропоцентризм неизбежно порождает ощущение бесцельности существования жизни. Это очень здорово у Вас получилось».[309]
Автор задаётся вопросом, который волновал всех — и фантастов, и учёных, чьи специальности были связаны с космосом, и простых читателей: «Каковы вообще могут быть жизненные формы не только на планетах отдалённых звёзд, но и на соседях Земли по Солнечной системе? Не окажутся ли эти формы настолько не похожими на наши, земные, что, даже если они будут разумны, мы никогда не найдём их и тем более не поймём друг друга?»
И тут мы словно переносимся в кабинет профессора Давыдова, героя «Звёздных кораблей»: к нему только что приехал друг и коллега профессор Шатров, чтобы увидеть «небесную бестию». Вот Давыдов открывает шкаф, чтобы достать череп, но Шатров вдруг вскрикивает: «Подождите! Закройте!» Он хочет сначала прочитать свои теоретические предположения о том, как, по мнению учёного, должен выглядеть космический пришелец.
Дорогой читатель! Открывая статью «Космос и палеонтология», представьте, что это те самые листы, где изложены догадки профессора, догадки, за которыми стоит неумолимая научная логика.
Статью можно разделить на две части. В первой изображается история отношения науки к проблеме иных обитаемых миров. Ефремов с помощью данных геофизики, астрофизики, химии, биологии показывает, что планет, где могла бы возникнуть жизнь, бесчисленное множество, что процесс возникновения жизни должен быть устойчив во времени и направлен на усложнение и усовершенствование биологических механизмов, и приходит к выводу: «Появление мысли, разумных существ есть также неизбежное следствие длительного развития живой материи».
Затем Ефремов обращается к палеонтологии: как ответит на вопрос фактическая документация пути исторического развития земной жизни? Автор утверждает, что «эволюция не идёт в любом случайном направлении», что «слепая сила естественного отбора становится «зрячей» в том смысле, что получает направленность, непрерывно действующую в течение всей органической эволюции на Земле».
Автор полемизирует с фантастами, которые представляют разумную жизнь на других планетах в самых различных видах: «…никакой скороспелой разумной жизни в низших формах в виде плесени, грибов, растений, крабов, тем более мыслящего океана быть не может. Это, впрочем, знали ещё две тысячи лет назад. «Нет разума для несобранного! — восклицает индийский поэт-философ в «Бхагават-гите». — И нет для несобранного творческой мысли…».
Баланс энергетики организма, гомеостазиса должен совмещаться с высоким уровнем физиологической организации, только так можно обеспечить работу развитого мозга, способного видеть, запоминать и анализировать информацию.
Спираль эволюционной лестницы, по мысли Ефремова, «будет широкой в основании и очень узкой в вершине». Через этот образ учёный выходит на общую закономерность развития Вселенной — борьбу с энтропией в замкнутых системах.
Итак, наша планета — гигантская лаборатория эволюции жизни. Палеонтология, изучая древнейшие организмы, способна предугадать явления пока недоступных нам других миров — так она становится «окном в космос».
…Иван Антонович не успел написать популярную книгу о любимой науке. Однако, если мы мысленно суммируем всё сделанное им, то увидим: его работа сыграла огромную роль в сегодняшнем повсеместном увлечении палеонтологией.
«Капли жизни»
«Легенда о Тайс» захватывала всё глубже. Разворачивались, оживали перед глазами страницы древней истории, как когда-то оживали картины полёта «Тантры». Мир, окружающий Тайс, приобретал объём, цвет, запах и вкус, насыщался идеями и чувствами. Осенью 1969 года Ефремова особенно захватили изыскания по древним религиям. В учении орфиков, в верхнеегипетском культе жён Иеговы, в образах трёхликой Гекаты было столько сложного, разнообразного и захватывающе интересного, что трудно было переключаться, обращаясь к текущим делам.
И вновь, как прежде, то, что представлялось писателю маленькой повестью, превращалось в масштабное полотно, воссоздающее жизнь древности во всей её полноте.
Ефремов двигался во времени, а его книги продолжали двигаться по миру. Переводчик Н. Иида сообщал, что он без сокращений перевёл на японский язык «Звёздные корабли», написанные полтора десятка лет назад, и «Туманность Андромеды» и они уже поступили в продажу. Ефремов, окунаясь в светлые воды юности, в письмах рассказывал Ииде о своём единственном посещении Японии в 1925 году, просил прислать альбомы с видами этой чудесной страны. Переводчик и друг поспешил выполнить просьбу.
Иван Антонович глубоко и искренне радовался тем дарам, которые преподносила ему жизнь — здесь и сейчас. Ценнейшие из них — творчество и общение. Это помогало преодолевать болезни, переживать сложности с публикацией «Часа Быка». Он обладал чувством юмора, в котором не было иссушающего сарказма. Однажды Ефремовы отдыхали в дачном посёлке при деревне Грязно Ленинградской области у профессора Юрия Петровича Маслаковца. Здесь же жили учёные Бышовец, Маховец и Крепе. Ефремова это сочетание фамилий неизменно приводило в шутливое расположение духа. «Вам бы сюда ещё Пружинера», — смеялся он.
Как-то Таисия Иосифовна вышла на веранду. На ступеньках сидели два профессора и серьёзно обсуждали какой-то вопрос. Иван Антонович сосредоточенно чертил схему веточкой. Женщина прислушалась и долго не могла прийти в себя: учёные вынашивали план мести агрессивному петуху. Петух был какой-то редкой породы, и Юрий Петрович, привыкший к послушанию охотничьих собак, не на шутку обиделся: как посмел он клевать своего хозяина! Было решено взять чучело глухаря, добытого на охоте, и ночью, разобрав крышу курятника, на верёвочке спустить чучело аккурат перед петухом. Узрев столь грозного доминирующего самца, петух должен был, по гипотезе профессоров, навсегда прекратить клеваться, получив на всю жизнь экзистенциальный шок и став заикой. Тася хохотала от души.
Иван Антонович был человеком, умеющим создавать удобства и продумывать мелочи быта. На даче вдовы Ферсмана, в гараже, он увидел банки из-под растворимого кофе с гвоздями. Банки были закрыты, из-под каждой крышки свисало на ниточках по одному гвоздю — чтобы не открывать банки в поисках гвоздей нужного размера. Это приспособление совершенно сразило Ефремова. Он и сам был внимателен к мелочам, но это — высший пилотаж.
А. М. Григорьев, переводчик, принятый у Ефремовых как свой человек, вспоминал: «Никогда не забуду одной нашей встречи в конце 60-х годов. Это было летом. Мы сидели в крохотной кухоньке и пили чай. Отпив чаю, мы почему-то затронули вопросы кулинарии (наверное, потому что с продуктами тогда было не ахти. Всё надо было доставать, иногда выстаивая долгие очереди). Тасенька раздумывала, что готовить на обед, и принесла поваренную книгу, о которой в те годы ходили только слухи. Это была книга Молоховец «Советы молодым хозяйкам». Она начала зачитывать вслух отрывки из книги. Услышав слова «Если вам нечем угостить…» и так далее (продолжение всем известно[310]), мы с Иваном Антоновичем начали хохотать. Остановить нас было невозможно. Каждый новый совет вызывал новые приступы хохота. А когда мы дошли до изготовления экономичных напитков бочками, пришлось чтение прекратить, иначе Ивану Антоновичу могло стать плохо с сердцем».[311]
Ефремова часто просили о помощи, причём иногда в самых неожиданных ситуациях. Однажды он учил знакомую женщину… рожать! Предыстория этого была драматической: одна знакомая, редактор, съев некачественной колбасы, заболела ботулизмом. Диагноз поставили поздно, когда нашёлся врач, сталкивавшийся с этой формой заболевания только в Западном Китае. Лечение оказалось крайне тяжёлым, организм был истощён. Тем не менее после выздоровления молодая женщина забеременела и, опасаясь за ребёнка и боясь родов, впала в депрессию. В этом состоянии и пришла она к доктору биологических наук Ефремову. Иван Антонович объяснил ей, как протекают роды, какой будет последовательность мышечных сокращений и сопутствующие им психические состояния, а затем составил индивидуальный комплекс профилактических упражнений. Теория была успешно проверена практикой, родилась здоровая девочка…
Накануне 1970 года Ефремов вновь обратился к индийским предсказаниям. 1970,1971 и 1972 годы ожидались плохими, особенно последний. Затем начнётся постепенный подъём с пиком благополучия в 1977 году. Пережить бы тяжёлый период…
Летом 1970 года, после получения из типографии «Часа Быка», Ивану Антоновичу не удалось уехать на дачу. На июль в Ленинграде было запланировано крупнейшее мероприятие — Международный анатомический конгресс. Такие конгрессы проводятся раз в пять лет, заявленная их цель — уточнение анатомической номенклатуры, но подлинное значение — в свободном общении учёных разных стран. В СССР собирались приехать около 2700 учёных из пятидесяти семи стран, в их числе — американский профессор А. Ш. Ромер, общепризнанный корифей палеонтологии позвоночных, который обязательно хотел повидаться с Иваном Антоновичем. От Ленинграда до Москвы — всего-то ночь пути! Но у Ромера было разрешение только на посещение Ленинграда, и о приезде его в Москву пришлось хлопотать особо. Э. К. Олсон, давний друг Ефремова, тоже собрался с женой в СССР в качестве туриста. Главной целью поездки, о которой он мечтал два года, была встреча с Ефремовым.
Оба гостя посетили Палеонтологический институт, днём осматривали коллекции музея, но вечерний приём был негласно перенесён в квартиру Ефремова.
Иван Антонович и Таисия Иосифовна в это время отдыхали в «Узком». Они хотели организовать обед в честь гостей прямо здесь — подобные приёмы практиковались в этом дорогом академическом санатории. Но на этот раз администрация почему-то запретила проводить такую встречу, и Ефремовы срочно вернулись в Москву.
Угощать американцев в условиях тотального дефицита продуктов и не ударить в грязь лицом — дело хлопотное и материально обременительное. Ефремов, уже больше десяти лет не считавшийся работником ПИНа, принял на себя бремя научного представительства. Тася принялась хлопотать об обеде, помня о кулинарных предпочтениях гостей. Купила на рынке парной телятины, свежих овощей и фруктов. С кухни доносились аппетитнейшие запахи — готовила она превосходно.
Иван Антонович не раз со смехом вспоминал, как в прошлый приезд Олсона они вместе обедали у Орлова. Затем с Олсоном вернулись домой, в Спасоглинищевский переулок, — голодные, и Иван Антонович с надеждой спросил:
— Поесть что-нибудь есть?
Гости с жёнами — Ромер с Руфью и Олсон с Лейлой — приехали почти одновременно. На груди у Ромера красовался значок со схематичным золотым изображением земного шара на тёмно-синей эмали, с цифрами «IX» и «1970» и названием конгресса на латинском языке. Слева, колонкой — слово «Ленинград» по-русски и латинскими буквами, справа — памятник Ленину на трибуне. Ленин-то вроде не имел отношения к анатомии, но тут уж так совпало: в год столетия вождя всё имело ленинскую атрибутику.
При тройственной встрече докторов наук присутствовал и один без пяти минут доктор — Пётр Константинович Чудинов.
На лицах гостей ощущалось довольство, которое возникает от спокойного, устойчивого существования. Ефремов же ощущал, что в его жизни многое держится на честном слове, в том числе материальное благополучие. Но достойно принять гостей — святое дело.
Беседа шла на английском языке. Ромер, внимательно присматривавшийся к своему знаменитому коллеге, спросил:
— Почему вы не бываете на зарубежных конгрессах?
— А вы как думаете? — отбил вопрос Иван Антонович.
Руфь стала цеплять Ивана Антоновича темой дискриминации евреев в СССР, о которой трубила антисоветская пропаганда. Ефремов ответил с усмешкой, что в их академическом доме он, русский, живёт на втором этаже, под ним, на первом этаже, в точно такой же квартире — русские, а на третьем — еврейская семья. Чуть выше, в их же подъезде, в четырёхкомнатной квартире — евреи.
Руфь продолжала твердить своё, и тогда Иван Антонович привёл её на кухню — с окном, выходившим во двор, где были припаркованы машины.
— Вот машины — видите, на них ездят и русские, и евреи, и все машины одинаковые.
Олсон, неплохо знавший русский язык и даже одолевший русский текст «Дороги ветров» с его образностью и речевым богатством, много шутил, Иван Антонович не отставал. Обстановка была самой непринуждённой. Прощаясь, Ромер, немного прищурившись, сказал:
— Теперь я понимаю, почему вы не бываете за границей. Вы слишком… неручной.
После отъезда американцев Иван Антонович чувствовал желание уединиться. Он осознавал, что устаёт теперь от психологической нагрузки гораздо больше, чем прежде. Хотелось вернуть рождающейся книге потерянное в хлопотах время. Не хватало сил на исполнение всех задуманных планов, и оттого в минуты тишины подкрадывалась печаль, и так ценны были часы, когда легко работалось.
Продолжали уходить из жизни друзья и коллеги. Умер антрополог Михаил Михайлович Герасимов, ушёл из жизни палеоихтиолог Дмитрий Владимирович Обручев, знакомый Ивану Антоновичу с первого дня работы в Геологическом музее.
А. Ф. Бритиков метко характеризовал время: «Волна общественного оживления пошла на убыль, и только цены на коньячно-водочные изделия да на нейлоновые сорочки напоминают, какую мышь родила гора Реформации…»[312]
То российское, что с юности было дорого и мило, исчезало, оставаясь почти на грани небытия. Привычное заменялось иным, может быть, и лучшим, но чужим и жёстким. Это тревожило, заставляло ценить каждую каплю жизни. Например, вот эти золотые берёзовые аллеи «Узкого», куда удалось поехать в сентябре, после загруженного делами лета.
В октябре человеческий вал вновь повалил в квартиру Ефремовых. Все попытки сократить количество посещений помогали мало, и работа над эллинской повестью вновь застопорилась. Задержка вызывала раздражение, предчувствие чего-то липкого, гадкого обволокло сознание.
В ноябре случилось непредвиденное: центральная пресса устроила настоящий погром журнала «Молодая гвардия», органа Центрального комитета комсомола — якобы за антиленинскую, русско-шовинистическую линию. Журнал, первым публиковавший произведения Ефремова, оказался на грани уничтожения. Угроза нависла и над выпускавшим его издательством «Молодая гвардия», с которым Ефремов тоже был тесно связан. Он переживал, обсуждая положение со знакомыми редакторами.
В начале декабря 1970 года в ЦК КПСС поступила записка за подписью шефа Комитета госбезопасности Ю. В. Андропова: «В романе «Час Быка» Ефремов под видом критики общественного строя на фантастической планете Торманс по существу клевещет на советскую действительность…»
На записке стояла резолюция «серого кардинала», главного идеолога партии М. А. Суслова.
12 декабря состоялось специальное заседание Секретариата ЦК, постановившее запретить роман, изъять его из библиотек и магазинов.
Взволнованный Ефремов по просьбе директора издательства «Молодая гвардия» обратился к Петру Ниловичу Демичеву, секретарю ЦК КПСС.
Таисия Иосифовна рассказывала: «В 1970 году «Час Быка» вышел отдельной книгой в издательстве «Молодая гвардия». И какие-то тучи нависли, предгрозовые. Было ощущение, что вот-вот разразится. Тогдашний директор издательства пришёл к Ивану Антоновичу и попросил как-то помочь. Иван Антонович написал письмо Петру Нилычу Демичеву, министру культуры. Он писал, что работает уже много лет, но не знает отношения правительства к его творчеству. Довольно скоро последовал ответ: однажды на машине к нам приехал один из редакторов издательства и сказал, что Ивана Антоновича ждёт Демичев, что эту машину за ним прислали из ЦК, что надо вставать и ехать.
Иван Антонович в то время был уже очень болен и принимал такое лекарство, после которого ему необходимо было лежать. Я и сказала: мы ничего не можем поделать. Он и не поехал, но просил на будущее если присылать машину, то не через издательство, а непосредственно ему и предупредить заранее. Так и получилось позднее — позвонили: за вами вышла машина. Мы поехали. В новое здание ЦК. У ворот Ивана Антоновича пропустили, меня — нет. Я сказала, что буду ждать. Милиционеры предупредили, что здесь стоять нельзя. Ну, а ходить можно? По улице Куйбышева? Можно. Я и ходила. Ходила около двух часов — беседа была длительная. Милиционеры интересовались: почему я так волнуюсь? Потому что у вас порядки такие, — говорю, — свою же машину только до ворот пропускаете, а не к зданию. А у меня муж сердечник, вот и не знаю, если «неотложка» понадобится, пропустите вы её или нет.
В конце концов они ко мне сочувственно стали относиться, и когда я ближе подходила, то жестами показывали: нет, мол, не идёт ещё… Потом вижу — появляется Иван Антонович и уже издали показывает мне большой палец. Значит, всё в порядке!
Беседой он остался доволен, никак не ожидал, что Пётр Нилыч читал его книги — не так, чтобы референты подготовили список литературы и краткое содержание. Демичев сказал, что облик автора, который представлялся по романам, у него совпал с «оригиналом». Разговор шёл и о «Часе Быка». Пётр Нилыч говорил, что эту книгу надо издавать миллионными тиражами. Только нужно сделать кое-какие правки, чтобы не было ненужных аналогий: вот у вас на Тормансе правление коллегиальное, Совет Четырёх, а надо бы подчеркнуть единовластие Чойо Чагаса. Ну и разные другие поправки…
Это уж не знаю, что кому пригрезилось. Иван Антонович выправил текст, но Совет Четырёх так и оставил. После той беседы как-то легче стало, посвободней дышать. И над «Молодой гвардией» тучи рассеялись».[313]
Беседа не ограничилась только вопросами литературы. Иван Антонович предложил сделать Красную площадь научным и культурным центром, а ГУМ превратить в музей естественной и социальной истории. Тогда же он высказал ещё одну идею, провидческую силу которой мы ощущаем десятилетия спустя: он предложил построить водопровод и продавать байкальскую воду за границу: в Европе, считал он, через пару десятилетий будет дефицит питьевой воды, которую будут продавать в пластиковых бутылках.
После личной встречи с Демичевым запрет на «Час Быка» сняли, и Ефремов говорил друзьям, что теперь книгу можно вновь смело пропагандировать, нападение отведено самыми высокими инстанциями. «Молодую гвардию» оставили в покое. Однако ощущение липкой паутины осталось.
Перед Новым годом Иван Антонович, рассылавший обычно десятки поздравительных открыток, почувствовал желание отказаться от этой традиции. Что-то невозвратно изменилось, и привычные слова поздравлений уже не несли той энергии, что прежде. Поздравляя с Новым годом, ты веришь, что он, этот год, будет, и будет новым, свежим, принесёт нечто незнаемое, откроет прежде замкнутое. А если этого ощущения нет?
Ефремов, глядя вперёд, видел близкое окончание повести о Тайс. Если «Молодая гвардия» примется издавать собрание сочинений, с этим будет много забот и сосредоточиться на новой исторической повести о Древней Руси, повести давно выношенной, но требующей погружения в иную реальность, уже не хватит энергии. Хочется написать популярную палеонтологию, исполнить свой долг перед теми, кто дал ему на всю жизнь заряд любви к науке. Обосновать научно принцип инферно…
2 февраля 1971 года Ефремов писал Дмитревскому: «Я всё это время чувствую себя неважно, мало выхожу, работаю хотя и с удовольствием, но медленно из-за недостаточной энергии и людей, которые прут. Я поклялся, выпивая новогодний бокал, не прочитать ни одной рукописи в 71 году и сократить посещения людей по крайней мере наполовину. Также буду сдавать свои позиции в отношении получения новых книг заграничных по фантастике и выписки журналов. Слишком много стоит это энергии, а сил всё читать не хватает, и получаются ножницы напрасного труда».
Поездка в санаторий в марте кончилась плохо. На десятый день Иван Антонович пережил приступ. Уже дома возникло нарушение мозгового кровообращения с расстройством двигательной функции гортани и языка и потерей кожной чувствительности на всей правой стороне тела. Невропатологи уложили его в постель. Восстановились функции довольно быстро.
Не желая терять ни дня, Иван Антонович, как только стало возможно, начал диктовать жене новые страницы романа и письма. В часы отдыха думал: что означает столь тяжёлый удар? Слишком много людей приходило к нему последний год, слишком многие просили советов, и проходилось-таки что-то советовать. Писал Портнягину: «Я считаю, что получил предупреждение из Шамбалы, чтобы не болтал лишнего, не выдавал себя за мудреца и помнил, что есмь простой советский человек».[314]
В начале июня Ефремовы сняли дачу в Подмосковье — в посёлке Новодарьино, станция Перхушково Белорусской железной дороги. Они не искали специально возможности выехать из Москвы. В последние годы они следовали шутливому правилу: «Пусть дорога сама о себе заботится!» Шутили они и в этот раз: «Пусть дача сама о себе заботится!» И — удивительно: дача позаботилась. Вдова академика Леонида Михайловича Сапожникова, медсестра, заботившаяся о нём последние годы жизни, сама предложила им дачу в Новодарьине, которая досталась ей по завещанию мужа.
Странным казалось Ивану Антоновичу и Тасе, что крестьяне, продававшие дачникам молоко и сметану, обносили их дом. Через несколько дней выяснилось, что прежний хозяин дачи страдал психическими расстройствами и местные жители его побаивались.
Начало лета выдалось прохладным, шли дожди, но Иван Антонович радовался возможности жить на чистом воздухе, радовался тишине и спокойной, сосредоточенной работе. Он уже приступил к последней главе эллинского романа — «Афродита Амбологера», что значит Афродита, «отвращающая старость».
…Приглашение Нидерландских королевских авиалиний совершить путешествие в Европу пришло совершенно неожиданно. Всего два дня на сборы — и вот уже Микаэла Денис летит из Найроби в Англию, затем в Москву, а Ефремовы спешат в столицу, чтобы принять у себя всемирно известную ведущую телефильмов, женщину, посвятившую себя восстановлению и сохранению дикой природы Африки.
Приземляясь в Москве, Микаэла вспомнила своего мужа, умершего всего пару месяцев назад. Он так хотел вместе с ней увидеть Россию! Теперь она словно выполняет его желание. День в Москве принёс Микаэле больше открытий, чем сотни книг, которые она могла бы прочитать о стране.
Как красив широкий Ленинский проспект, усаженный деревьями! Упорную борьбу за сохранение деревьев Микаэле и Арману приходилось вести в Кении. Каждое дерево — драгоценность, она понимает это лучше, чем кто-либо. Поворот — и вот перед Микаэлой кирпичный восьмиэтажный дом, угловой подъезд. Она выпорхнула из машины, невысокая крашеная блондинка в светло-коричневом брючном костюме, которые только входили в моду. У неё в Москве — всего день, удалось получить лишь так называемую «полицейскую визу» для внешнего знакомства с городом, и у Ефремовых она могла пробыть не больше часа.
Вот и профессор Ефремов с женой. Они оба были точь-в-точь такие, как представляла их себе Микаэла, с ними легко, как с друзьями, которых знаешь всю жизнь. Гармония их отношений напомнила о многолетней жизни с Арманом, чьё присутствие незримо ощущалось в общении.
Микаэла говорила: многие часто видят её в тех местах, где её в действительности нет, а однажды они вместе с Арманом отчётливо видели Ефремова рядом с ними, в их саду. «Вы также появляетесь в нескольких местах одновременно?»
Микаэла, подробно расспросив Ефремова о его болезни, тут же провела сеанс лечения путём наложения рук. (Врач через несколько дней отметил, что кардиограмма Ивана Антоновича неожиданно улучшилась.) Микаэла хотела приехать в страну в будущем году, чтобы провести ещё несколько сеансов: она была уверена, что сможет победить болезнь до конца. Без сомнения, она обладала большими экстрасенсорными способностями. Рассказывала, как она вместе с женщинами африканских племён участвовала в ритуальных танцах, быстро ловя нужный ритм и впадая в состояние транса.
Эта женщина — сама жизнерадостность, и удивительно было знать, что она в свой приёмный день — субботу — принимала и лечила порой до 130 человек! У неё в доме были устроены кабинет, регистратура, и по субботам дом походил на настоящую клинику. Излечение наложением рук — факт, пока не исследованный академической наукой, тема для фантастических рассказов и научных гипотез, которые мог бы выдвинуть доктор Гирин.
О подобных случаях Ефремов писал в одной из статей: «Лишь малая часть замеченных явлений, фактов, намёков природы разрабатывается методически и планомерно научными исследованиями. Гораздо большее число пока лежит втуне, может быть, храня в себе возможность самых заманчивых взлётов науки. Привлечение внимания к этим или ещё не использованным, или забытым возможностям — одна из наиболее серьёзных задач научно-фантастической литературы».[315]
Ефремов и Микаэла договорились о дне и часе заочного сеанса: в одно время он и она будут направлять мысли друг к другу. Эффект необычного лечения действительно был ощутимым, хотя и непродолжительным. Может быть, если бы Микаэле удалось приехать в СССР хотя бы на несколько дней…
Как жаль, что в Советском Союзе не знали фильмов Армана и Микаэлы Денис! Лишь однажды в передаче «В мире животных» показали небольшой отрывок.
Ивану Антоновичу так хотелось сделать Микаэле приятный подарок! Вместе с полным признания письмом Ефремовы послали ей пластинки с музыкой Чайковского, которые она полюбила слушать в саду, за чайным столом, возле пруда с золотыми рыбками и лилиями, обрамлённого деревьями с кормушками для птиц.
Иван Антонович с Тасей вернулись на дачу.
Они недолго оставались одни.
Иван Антонович уже давно искал хорошего художника: он мечтал о портрете Таси, которая была одним из прототипов Симы, Серафимы Металиной в «Лезвии бритвы». И вот Александра Алексеевна Юферова[316] посоветовала Ефремову поговорить о портрете с Алтаевым, которого звали Серафимом. Редкое имя, особенно в советское время. Какие удивительные совпадения, да не одно, а сразу два: первый настоящий художник, которого встретил Ефремов, был Григорий Иванович Чорос-Гуркин — алтаец.
Серафиму Петровичу было 40 лет. Зрелый мастер и чуткий педагог, он понимал, что важно расположить к себе модель.
Таисия Иосифовна запротестовала против своего портрета: она требовала написать портрет Ефремова. И Серафим Петрович начал работу. Беседуя в свободное время с Мастером, он стремился понять душу Ивана Антоновича, вникнуть в его мир, часто вспоминал мысли, высказанные в романах, известных всем образованным людям страны. Нарисовал выразительный карандашный портрет в профиль.[317]
После ряда набросков пришла идея для большого полотна: писатель в светлом летнем костюме на фоне звёздного неба — и больше ничего: между Мастером и звёздами нет посредников.
Ефремов послушно позировал, прислушивался к просьбам художника. Вглядываясь в черты лица Серафима Петровича, в его точные, лаконичные движения, он думал, что художник мог бы стать героем его рассказа. За его спиной, незримые, но ощущаемые явно, стояли поколения казаков — смельчаков, первопроходцев. Пращур Серафима Петровича, что входил в ватагу Ермака, видимо, неспроста носил уникальную фамилию — Алтаев. Может быть, его отец совершил трудный поход и достиг невиданных ранее мест. От самого Ермака Алтаев получил наказ: собирать в кисет семена деревьев, плоды которых понравятся. Почему именно Алтаев получил такой наказ? Может, отличался он особой сметкой, наблюдательностью и терпением, чтобы дождаться, когда семена созреют.
Когда Иван Грозный простил Ермака и подарил ему шубу со своего плеча, часть казаков осталась в Сибири, а часть вернулась домой, на Дон. Вернувшиеся высаживали в родную землю семена. Так повелось с тех пор, что и в XIX веке, возвратившись из Франции, казаки заботливо ухаживали за лозами привезённого из тёплой Европы винограда, приручая его, приучая к своей земле. Казаки сочетали в себе несоединимые, казалось бы, черты — отважных воинов, тонких наблюдателей-натуралистов и терпеливых земледельцев. Одна из этих черт — наблюдательность — ярко проявилась в потомке, превратив его в художника.
Портрет действительно получился удачным и понравился Ивану Антоновичу. Он вновь вернулся к желанию запечатлеть на полотне жену, и Алтаев остался в Новодарьине, чтобы написать портрет Таисии Иосифовны.
Работа не клеилась.
— При Иване Антоновиче вы одна, а без него — другая, — сетовал Серафим Петрович.
И действительно: при Иване Антоновиче лицо жены начинало светиться удивительным светом.
Готовая картина не понравилась Тасе. Она показалась сама себе похожей на райкомовскую тётку.
И тогда художник решил создать парный портрет.[318]
Под густыми ветвями старого дуба — узкий стол, накрытый белой скатертью. Слева видна ваза — простой глиняный горшочек с букетом синих (любимый цвет Ефремова) колокольчиков. Справа, в плетёном кресле, боком к зрителю, в светлом костюме и белой рубашке сидит Иван Антонович. Левая рука свободно лежит на подлокотнике кресла, в правой он держит, немного отстранив от себя, лист бумаги. Голубые глаза его устремлены на бумагу, он только что закончил читать вслух новые страницы эллинского романа, главная героиня которого — гетера с именем его жены — Тайс. Сосредоточенное, светлое лицо его вдохновенно и строго.
Между фигурой Ефремова и листом бумаги, лицом к зрителю — Таисия Иосифовна в тёмно-голубом платье. Она опёрлась локтями на стол, свела запястья и положила подбородок на ладони. Короткие тёмные волосы зачёсаны набок. В огромных тёмных глазах, смотрящих вроде бы на зрителя, но устремлённых вглубь души, — мечта, разбуженная фантазией, и тревога за любимого.
За её спиной угадывается поляна, поросшая жёлтыми цветами — золотое свечение, энергия жизни, которую она дарит мужу.
Рассматривая готовую работу, Иван Антонович, довольный, произнёс:
— Вишь, Тасенька, какой у нас художник оказался. А мы хотели Глазунову заказать свой портрет. Зачем?
Через несколько лет Даша, внучка Ефремова, начала заниматься в студии Серафима Петровича и стала профессиональным художником…
Пребывание на даче пошло на пользу. Стенокардия утихла, и удалось много писать: новый роман был закончен. Из «Каллиройи», короткого рассказа 1940-х годов, из простой «Легенды о Тайс» он превратился в широкое полотно (17 глав, предисловие, эпилог), и название ему потребовалось соответствующее — «Тайс Афинская».
В город Ефремовы вернулись в конце сентября. Окончательная правка романа, чистовая перепечатка — и уже журнал «Молодая гвардия» алкает публикации.
В декабре закончили вставки и последние исправления. Рукопись читали С. Г. Жемайтис, для которого эротика всегда была камнем преткновения, и затем В. Н. Ганичев, директор издательства «Молодая гвардия». Ефремов обратился к Валерию Николаевичу с письмом:
«Я написал новый роман «Тайс Афинская» — исторический, не по профилю научной фантастики, в каком я в последнее время выступал в Вашем издательстве. Я бы очень просил Вас лично познакомиться с этим романом, потому что он (как обычно бывает у меня) преследует несколько иные цели, чем уже публиковавшиеся исторические или историко-приключенческие романы. Одной из наиболее «опасных» для наших привычек чертой романа является налёт эротики, зачастую встречаемой враждебно критиканствующими товарищами.
Я, однако, убеждён, что противопоставить напору зарубежной «сексуальной революции» и, попросту, порнографии, мы можем только чистую физическую любовь и книги, подобные «Суламифи» Куприна, а не ханжеские запреты, которые всё равно ничему не помогут, как не помогли в своё время запреты Фрейда, вместо литературно-художественной борьбы с фрейдистским нигилизмом. Поэтому я попытался в своём новом романе показать религиозные корни сексуальных запретов и суеверий, приведшие, в конце концов, к сексуальному безобразию настоящего времени, едва только ослабли путы христианства. Как это у меня получилось — судите сами. На мой взгляд, эротическое напряжение романа минимально, однако, возможно, широкий читатель (а особенно — критик), окажется к этому непривычен».[319]
Ефремов решил, что убирать эротические сцены не позволит: если роман не придётся ко двору, то пусть лучше полежит. В итоге много важных фрагментов было убрано — роман издавался, когда Ивана Антоновича уже не было…
Во второй половине февраля заболела Таисия Иосифовна — сильный грипп. Иван Антонович знал, что для него любое заболевание сейчас будет губительно. За Тасей ухаживала её племянница Слава.
Приближался 1972 год — високосный, год наинизшего спада. 1971-й унёс дорогих людей — умерла сестра Ефремова Надежда, жившая на родине, в Вырице; умер профессор Одесского университета и старый друг Иван Иванович Пузанов; ушёл из жизни главный раскопщик Монгольской экспедиции, изобретательный реставратор, неутомимый Ян Мартынович Эглон.
В январе Ефремов заболел. Вестником помощи и защиты стал неожиданный подарок от Павла Фёдоровича Беликова: он прислал полученные из Америки репродукции картин Н. К. Рериха, среди которых были «Сергий Радонежский» и «Капли жизни». Порадовала Ивана Антоновича весть, что книга о Рерихе в серии «Жизнь замечательных людей» скоро должна выйти из печати.
Положение с публикацией «Тайс» долго оставалось неопределённым. Редакторы «Молодой гвардии» перекатывали роман, как горячую картошку: и вкусно, и горячо, — и всё же решились: напечатать его в журнале во втором полугодии 1972 года. Когда выйдет книга — неизвестно.
Обещали объявить подписку на собрание сочинений Ефремова, которое будет выходить в 1973–1975 годах, по два тома в год.
В апрельском номере журнала «Нева» появилась новая статья Брандиса и Дмитревского. Ясность анализа и отточенные формулировки — два биографа в концентрированном виде обобщали своё отношение к творчеству Ефремова. Позже эта статья вошла в собрание сочинений писателя.
Ленинградские друзья ждали, что Ефремов пришлёт им рукопись романа «Тайс Афинская». Но на руках у Ивана Антоновича не было ни одного экземпляра. Даже свой собственный ему пришлось отдать — негласному покровителю и одновременно личному цензору Петру Нилычу Демичеву. Уже второй его роман читал лично секретарь Центрального комитета партии. Это отношение Демичева к Ефремову вызывало у писателя смешанные чувства. Полудетская надежда на разумность власти не заслоняла ясного видения мира; Ефремов хорошо помнил, кто был личным цензором Пушкина в последние годы жизни поэта. Двойная цензура — царская и чиновничья — душила Пушкина. Душным кольцом смыкалась она и вокруг Ефремова.
«Тайс Афинская»
Подняться по склону вулкана, чтобы спуститься в его жерло, как это сделали герои Жюля Верна.
Рвануть из Петрограда во Владивосток — прочертить страну с запада на восход солнца.
Подняться к истокам северных рек и Ветлуги, впадающей в Волгу, чтобы в тот же год отправиться на юг, в низовья Волги, на гору Большое Богдо.
Годом позже подняться к вершинам Тянь-Шаня, чтобы спуститься вглубь Каргалинских рудников.
Расчертив пространство, освоить время. В палеонтологических исследованиях, в художественном творчестве — время не лежит в плоскости обыденности, мысль взлетает вверх, в будущее, исследует прошлое. Человек «должен приучиться смотреть в бездонные глубины»!
В последний период жизни Иван Антонович пишет два романа. «Час Быка» уносит нас вперёд на две с лишним тысячи лет, «Тайс Афинская» — на 2300 лет назад.
Не властны узкие границы сегодняшнего дня над миром сильной души, способной взглянуть на тысячелетия вперёд — и назад.
Роман об исторической личности — гетере Тайс из Афин, спутнице Александра Македонского, сжегшей Персеполь, Ефремов посвящает своей жене Тасе, Тайсе, Таисии: «Т И. Е. — теперь и всегда».
Теперь — в точке времени-пространства, где предугадано — в верности и преданности — сошлись линии жизни Ивана Антоновича и Таисии Иосифовны.
Всегда — в торжестве «астрофаэс» — звёздносветной красоты с вещим сердцем, «кому с детства открыты чувства и сущность людей, тонкие ощущения и знание истинной красоты».
…В 1974 году Таисия Иосифовна послала экземпляр романа Роберту Александровичу Штильмарку, писателю, доброму другу Ефремовых. Штильмарк ответил:
«Как она мне? Вы спросили…
Это непросто выразить кратко.
Ведь, ученик В. Я. Брюсова, читатель всех его больших и настоящих вещей, я уже по «Огненному Ангелу» и «Алтарю Победы» привык к серьёзному знанию далёких стран и далёких времён. Там тоже те эпохи — и IV век, и XVI век — даны без всякой стилизации и модернизации, как Русь у нашего друга В. Д. <Иванова>, и в то же время книги отчётливо как бы проецированы в наше время. Но не этим только поражает «Тайс». Конечно, знания Ивана Антоновича огромны, просто ошеломляюще точны и достоверны. Проникновение в эпоху — полное. Озарённость вещи отсветом древних, но судьбоносных времён и грозных событий — просто потрясает. Но я и без, вернее, до этой книги знал огромную научную добросовестность автора «Тайс», способность его проникать взором в глубь истории, знание им человеческой силы и слабости.
А какой гимн любви спет в этой лебединой песне!
Но самое удивительное для меня другое.
Книга потрясающе личная! Он в ней — такой живой, будто с ним сидишь и разговариваешь, будто его фигура перед тобой на диком коне или на пиру. Поражаешься именно этой силе самовоплощения. Не просто воплощение чужой эпохи, чужих жизней, нет! Здесь автор прежде всего раскрыл, воплотил самого себя, и чувства свои, и мысли, и страсти, и понимание прекрасного. И всё — с таким великолепием щедрости, великодушием, что нельзя представить себе этой самой окаянной аритмии, глодавшей его сердце, огромное и смелое!
Человечество получило прекрасный дар, и нужно чаще думать о нём, посильно говорить и писать об этом большом творческом подвиге, в свершении коего такое большое участие приняли и Вы сами».[320]
В середине 1940-х годов, сразу после окончания войны, на волне торжествующей жизни Иван Антонович написал рассказ «Каллиройя», проникнутый необычайной силой Эроса. В начале 1950-х годов задумал небольшую повесть с названием «Легенда о Тайс». Фабула «Каллиройи», переработанная, и стала основой первой главы исторического романа.
Ивана Антоновича всегда привлекала форма романа-путешествия. Так он построил обе повести дилогии «На краю Ойкумены»: путешествия Баурджеда вдоль берегов Африки и Пандиона из Греции через Крит, Египет и Африку — закольцованы, герои возвращаются туда, откуда отправились в путь.
Особенность путешествия как жанра в том, что его можно построить на авантюрном начале и легко насытить разнообразными сведениями, легендами, преданиями, придать ему не только художественную, но и познавательную ценность.
Свою новую героиню, гетеру Тайс, Ефремов тоже отправляет в путешествие: из Афин в Спарту, затем через Крит в Египет, далее, вместе с армией Александра Македонского, на восток, в Вавилон, и далее — в Экбатану. Тайс, проходя своим прежним путём, уже в другом статусе — царицы, возвращается в Египет, но, отказываясь от царствования, простой путешественницей отправляется в дорогую Грецию.
Ефремов насыщает роман сведениями, почерпнутыми из огромного количества наук,[321] органично сплавляя их в целостные картины древней жизни, однако постоянно помнит: «Взгляд в прошлое должен находить отзвук в настоящем, иначе историческую вещь будет скучно читать, как-то и случилось с романами Мордовцева, Лажечникова, Загоскина. Иными словами, исследуя историю, надо искать в ней то, что интересует нас сегодня, и, находя его, ликовать перед силой человеческого разума и чувств. Тупое перечисление событий, костюмов и обычаев, хотя и имеет известный интерес, мало для жадной души пытливого человека».[322]
Путешествие — канва романа, по которой вышит духовный путь героини, путь возрастающего знания и внутренней силы: от поклонения Афродите Урании (Небесной) и служения Эросу до обретения в Городе Неба — Уранополисе нового смысла жизни — служения Детям Неба.
Иван Антонович понимал, что при существующем в стране отношении к эросу ему нужно прочно обосновать выбор героини. Он сделал это дважды: в предисловии «От автора» — прямым текстом и в главе «Власть зверобогов» устами делосского философа: «Каждая умная женщина — поэт в душе. Ты не философ, не историк, не художник — все они ослеплены, каждый своею задачей. И не воительница, ибо всё, что есть в тебе от амазонки — лишь искусство ездить верхом и смелость. Ты по природе не убийца. Поэтому ты свободнее любого человека в армии Александра, и я выбираю тебя своими глазами». Выбор героини, её пленительный образ произвёл подлинную революцию в сознании тысяч советских читателей, изменил их взгляды на роль женщины.
Описания путешествий Тайс даны автором с замечательной географической и историко-культурной точностью. Однако сейчас мы сосредоточимся не на конкретике описаний, а на зримо очерченных этапах духовного роста женщины, каждый раз сопряжённых с пульсирующим расширением сферы познания и качественно новой ступенью осмысления мира.
Дмитревскому Ефремов писал: «Этот поворот повлёк за собой исследование некоторых малоизвестных религиозных течений, остатков матриархата, тайных женских культов, представления о художнике и поэте в эллинской культуре, столкновения Эллады с огромным миром Азии — словом, та сторона духовного развития, которая удивительнейшим образом опускается историками, затмеваясь описанием битв, завоеваний, материальных приобретений и количества убитых…»[323]
До походов Александра греки попадали в глубины Азии либо как торговцы, либо как пленники, рабы. Или наёмники — показателем тут знаменитый «Поход десяти тысяч», воспетый Фукидидом. Александр военной силой распахнул ворота в незнакомые, извечно грозящие опасностью страны, и начался стремительный обмен культур, ставший главным стержнем целого этапа развития человечества. Тогда впервые в европейском мире, несмотря на различие народов, племён, обычаев и религий, родилось представление о гомонойе[324] — равенстве всех людей в разуме и духовной жизни.
Интересовали писателя и сама фигура великого завоевателя, процессы перерождения личности, сдвигающей гигантские пласты реальности. Жизненной миссией Александра было уничтожение жёстких перегородок между народами и культурами, введение в сознание масс реальности громадных территорий, уже освоенных человечеством, но поделённых на закрытые анклавы. Аналогичные попытки на иной идейной основе совершались и ранее, начиная с катастрофического техногуманитарного кризиса первой половины I тысячелетия до н. э., спровоцированного активным освоением железа в Ассирии. Ассирийцы совершили множество завоеваний, но неразвитое сознание — совесть, то есть слабые моральные ограничители привели лишь к жесточайшему геноциду на захваченных территориях. Сходные ситуации происходили и далеко на востоке. Так началось Осевое время, и оно потребовало создания мощнейших нравственных регуляторов нового типа; коллективное переживание мифа сменялось индивидуальной рефлексией. В Элладе рождалась философия, начиная с Пифагора и Гераклита, в Иудее появились пророки, в Персии — посланцы богов, в Индии — Будда и Махавира. Даже далёкий Китай подпал под общую закономерность: Конфуций и Лао-цзы — современники Будды и Гераклита.
Создание крупных агломераций было неизбежно, вопрос стоял иначе: на каких условиях и с какими последствиями это случится. Второй реализованный имперский проект — Персидскую империю — можно считать плодотворным, немало давшим населяющим её народам и истории в целом. Но к моменту похода Александра он фактически исчерпал позитивные стороны реализации и нуждался в радикальном обновлении. Кроме этого, развившаяся семимильными шагами молодая эллинская мысль, эллинские подходы к искусству и общественной жизни таили огромный потенциал синтеза. Синтез этот мог совершиться в конкретно-исторических условиях только после насильственного объединения столь различных территорий. Для этой цели романтик, убеждённый в богоизбранности, и одновременно уникально выдающийся полководец подходил больше всего.
В этом смысле Александр Македонский — подлинный великий герой, взваливший на себя невероятное и ставший идеальным проводником законов эволюции. Но… «нельзя безнаказанно пройти через инферно». Погружение в грубую материальность раздваивает любые устремления и ожесточает неизбежным сопротивлением. И человек не может не реагировать. Тем более столь молодой. С другой стороны, только молодой человек мог очертя голову ринуться в столь поразительное предприятие, презрев осторожные расклады умудрённых советников.
Не случайна и ранняя смерть Александра — тяжело не облучиться радиацией скрытых под перевёрнутыми глыбами истории источников эволюции. Тяжело не надорваться душевно, не попасть в штопор неизбежных мелких следствий крупных дел.
Профессор Ю. В. Линник, анализируя идеи романа, проницательно пишет: «Эпоха эллинизма полна удивительных предварений. Разве нельзя Александра Македонского назвать евразийцем? Это понятие мы связываем с русской мыслью. Но обратим внимание на глубинную аналогию между Элладой и Россией: обе страны в равной степени могут называться Евразией — малоазийская колонизация в чём-то созвучна нашей зауральской экспансии. В обоих случаях европейское сознание осуществляло контакт с другим менталитетом. <…> Нам важен максимализм Александра Македонского как таковой: его способность к всевмещению — всеохватность его планов — его всечеловеческие горизонты. Он хотел превратить мир в гармонический континуум, нигде не прерывающийся локусами тьмы и зла. Пусть это утопия. И пусть маленький Уранополис, попытавшийся её осуществить, был обречён на гибель. Но человечество благодаря Александру Македонскому получило идеал невероятной красоты и притягательности. И. А. Ефремов сближал его с коммунистическим идеалом. Неправда, что на нём поставлен крест — он может обрести новую жизнь. От очередного провала ему удастся уйти лишь в том случае, если общество будет ориентироваться на таких его носителей, как Иван Антонович Ефремов».[325]
Но вернёмся внутрь романа. Из Афин вместе с подругой Тайс приплыла сначала в Спарту, затем на Крит и — в Египет. Живя в незнакомой стране, она пыталась постичь душу народа, понять его древнее искусство.
Для знаменитой гетеры, которой «кружили голову Эрос, танец, песня, поклонение мужчин, зависть женщин, неистовство скачки», встреча с делосским философом — поворот ключа, начало преображения, постижения «внутреннего смысла вещей и освобождение от страха». Храм Нейт в Мемфисе, где Тайс проходит посвящение в орфические знания, становится точкой, после прохождения которой возврат к образу легкомысленной гетеры невозможен. Через встречи, беседы, тайные слова нести мужчинам знание, стремление к прекрасному — в этом делосский философ, вторя мыслям автора, видит подлинную роль женщины.
Путешествие Тайс с армией Александра Македонского двигает вперёд фабулу. Гетера из Египта едет в Месопотамию, в Вавилон, Персеполь, а затем в качестве жены Птолемея переселяется жить в Экбатану.
Вторым этапом роста стало общение с великим скульптором Эллады Лисиппом, орфиком высокой ступени посвящения, ставшим для Тайс вторым учителем после делосского философа. В его мастерской в Экбатане собирались скульпторы, художники, поэты, философы, путешественники. По его просьбе Тайс позировала кеосцу Клеофраду для создания статуи Афродиты Анадиомены. Благодаря Лисиппу она встретилась с загадочным путешественником из безмерно далёкого Китая, с философами Индии, поведавшими гетере о древнем понимании красоты в их стране, побывала в низовьях Евфрата, в храме Эриду, где два верховных жреца посвятили орфиков в тайные знания Древней Индии, в понятие кармы. Жрецы и орфики свободно, без предубеждений, сравнивали верования разных народов, видя в них общий корень.
В Эриду, когда задул горячий ветер из Сирийской пустыни, Тайс пережила ощущение бесцельности жизни, невозможности ответить на вопрос «зачем?». Возникла потребность определить соразмерность своих сил перед выполнением новых задач жизни. По очереди с Эрис они выполнили опаснейший обряд поцелуя змея, за что Тайс получила в дар ожерелье из когтей чёрных грифов — знак «хранительницы заповедных троп, ведущих на восток за горы».
Философские главы вновь сменяются динамичными страницами — описаниями возвращения Александра из Индийского похода, встреч его с Тайс и смерти великого полководца. Тайс, соблюдая обещание, данное Птолемею, становится царицей Египта.
И вновь — в третий раз — она обретает Учителя. Им становится египтянин, жрец храма Нейт в Мемфисе, того самого, где она проходила посвящение. Дружба египетской царицы и жреца несёт людям знание: пользуясь своим положением, Тайс собирает древнейшие сведения о походах египетских войск в далёкие земли, географические сведения, описания редких зверей, камней и растений, которые стали позже основой для изучения географии чёрной страны.
Жрец помогает Тайс понять трагедию жизни Александра: почему человек, мечтавший о гомонойе, превратился в тирана, почему «вместо познания земли, умиротворения, общности в тех обычаях, верованиях и целях, в каких похожи все люди мира, возникли бесчисленные круги будущей борьбы, интриг и несчастий». Три могучих рычага: Сила, Золото и Воля — имеют оборотную сторону своего могущества, и только любовь к людям может стать заветным щитом. Любовь и мера. «Всегда держись середины, оглядываясь на края» — так советовал Тайс жрец.
Той же мудростью поделился с Тайс в Экбатане гость из Поднебесной, встретивший на своём пути последователей Будды: «И снова непобедимое очарование афинянки сломило сдержанность путешественника. Он доверительно сообщил ей, что вместо рая и Драконов Мудрости он встретил приветливых, добрых людей, живших в каменных постройках на уступах высочайших гор, в истоках самой большой реки Небесной страны — Голубой. Эти люди считали себя последователями великого индийского мудреца, учившего всегда идти срединным путём между двумя крайностями…»
Оставив роль египетской царицы, которую она играла около десяти лет, Тайс приплыла в Александрию, простилась с Птолемеем и сыном и отправилась в милую Грецию: сначала на Кипр, а затем в небесный город Уранополис, Высший Советник которого мечтал «распространить идею братства людей под сенью Урании, всеобщей любви, на всю Ойкумену». В городе, опорой которого становится любовь, только и может быть место для новой, прошедшей все испытания Тайс и её верной подруги Эрис. Город Неба — «хрупкий жертвенник небесной мечте человека» — показался Тайс обречённым в мире невежества и мрака, но она без сомнения ступила на путь служения новой нравственности — так же, как звездолёт «Тёмное Пламя» был одиноким на чуждом и далёком Тормансе, где Фай несла жителям планеты любовь и сострадание.
Тайс и Фай объединены не только одинаковыми именами, отсылающими к Таисии Иосифовне — Фаюте. Тайс плывёт в Уранополис, будучи сорокалетней. В «Часе Быка» Фай Родис — ровно 40 лет. Так и хочется назвать их инкарнациями одного и того же светлого сильного духа. И можно с грустью предположить судьбу Тайс, опираясь на уже описанную судьбу Фай…
Впрочем, есть и более экзотические версии их несомненной связи. Якобы Фай Родис, проходя на Земле необходимое для каждого историка испытание ступенями инферно, была погружена в виртуальное пространство с полным эффектом присутствия, где события разворачивались по мотивам реального исторического факта, о котором известно немного. И жизнь Тайс, описанная в романе, прожита личностью Фай в научно-исследовательском институте будущего в качестве её подготовки к работе историка. Помните? — «Очень трудна работа историка, особенно когда учёные стали заниматься главным — историей духовных ценностей, процессом перестройки сознания и структурой ноосферы — суммы созданных человеком знаний, искусства и мечты».
Роман имеет существенную особенность: при поразительной композиционной целостности и выверенности соподчинённых частей мы не находим в нём прямого лекционного материала, в изобилии представленного в «Лезвии бритвы» и произведениях о будущем. К моменту написания «Тайс…» Ефремов выразил основной корпус своих идей и теперь использовал поле исторического романа для иллюстрации их прорастания сквозь мозаику этнических стереотипов древности. Фактически он следовал собственной максиме: строение не может подниматься без конца, мудрость руководителя заключается в том, чтобы вовремя остановиться, подождать или сменить путь.
«Тайс Афинская» — заключительный роман Ефремова, которым он показывает в исторической перспективе постановку вопросов, впервые заданных человечеством, первые попытки ответов… Ответами настоящими полны его более ранние произведения. Но понять генезис поиска, начиная с первых его ступеней, — жизненно необходимо. Рассмотренное таким целокупным образом литературное творчество писателя является преломлением ещё одной эзотерической максимы: ответ предшествует вопросу.
Целостность отношения автора к миру многократно подтверждается сквозными сюжетами, выраженными на совершенно разном материале его жизни и творчества и напоминающими те самые оси кристаллов, прямые лучи, пронизывающие анизотропию мира Ефремова.
Каждая эпоха рождает свих героев, разрушающих привычные рамки Ойкумены — вовне и одновременно — внутри. Взрывными волнами они преодолевают совершенно незнакомое пространство и принимают его в себя, меняются, расширяют сознание. Линейно-психологически: через Баурджеда и Пандиона с Тирессуэном, через Александра Македонского и Тайс (объединённых в диалектическую пару как взаимообусловленное внешнее и внутреннее расширение), через Гирина и Даярама — к Тибетскому опыту и миссиям «Теллура» и «Тёмного Пламени».
Смешно на абсолютной шкале сравнивать поход туарега на балет и проникновение будущих исследователей в Тамас. Но важна другая абсолютность — напряжение поиска, глубинные переживания в момент расширения сознания. В этом единство, это безусловная ось, пронизывающая сокровенную суть ефремовского мироощущения. Он сам был таков, мечтал о будущем, где счастье расширения сознания будет главным двигателем общественной жизни. И искал аналогии в прошлом. Кстати, об этом Ефремов открытым текстом пишет в «Сердце Змеи»: героев ждёт по возвращении мир совершенно другой, но если этот мир аксиологически настроен на радость познания — то и психологически окажется дружелюбен. И это связывает не только пространства, но и времена — в своё Великое Кольцо.
Речь о кольце времени не случайна. Ефремов начал с древности и ею же закончил, словно соединив этим большой и безымянный пальцы в характерном жесте индийских и русских подвижников.
Известный писатель Е. И. Парнов писал: «Однажды Иван Антонович Ефремов — это было уже незадолго до его смерти — подарил мне зелёный от древней патины обломок буддийской статуи. Изящная бронзовая рука, пальцы которой соединились в фигуру, известную как «колесо учения». <…>
— В такой вот круг замыкаются наука и искусство, — сказал Ефремов».[326]
В такой же круг замыкаются пространство и время. И только человеку дано преодолеть его.
Кому много дано — с того многое спросится. Тайс получила в дар от природы совершенное сильное тело, чувство ритма, музыкальность и талант танцовщицы. Щедрый дар, однако, влечёт за собой обязанность служения: направлять его можно лишь на душевное и духовное обогащение других, в противном случае он иссякнет. Так дар превращается в судьбу. «Четвёртая харита» неизбежно должна вдохновлять художников, поэтов и музыкантов, служить моделью скульпторам.
Тема поиска красоты, воплощения её в искусстве пронизывает всё творчество Ефремова. Впервые она вспыхивает в рассказе «Эллинский секрет», ярким арпеджио взвивается в повести «На краю Ойкумены» и сияющим аккордом звучит в «Каллиройе». Углублённо разрабатывается в «Тамралипте и Тиллоттаме», завораживает нас танцем прекрасной эпсило-нянки и Чары Нанди в «Туманности…», красной нитью проходит через «Лезвие бритвы» — от деревянной статуи Анны в первой части до создания индийской Анупамсундарты. Своего апофеоза тема достигает в последнем романе Ефремова: нам действительно трудно представить себе количество художников и скульпторов в Элладе, их значение в общественной жизни.
Беседа о женской красоте в мастерской Лисиппа выявляет взгляды греческих скульпторов и индийских гостей, которые видят в Тайс и Эрис сочетание совершенства души, тела и танца. Общность представлений о красоте у народов разных стран ведёт к пониманию общности культур и глубокому восприятию Крита — легендарной прародины индийцев и многих народов Азии и Финикии.
Но в первоначальной редакции романа есть не только беседа о красоте. Во многих изданиях старательно вырезался важнейший эпизод, предваряющий танец со змеёй в храме Эриду. А именно — посвящение Тайс и Эрис в тантру.
Незадолго до этого молодой скульптор Эхефил, ваявший Эрис, воспылал страстью к модели. Эрис откликнулась на страсть телом, но в сердце осталась безучастна.
«— Ты погубила его, халкеокордиос (медное сердце)! — резко сказала афинянка, гневно глядя на чёрную жрицу. — Он не может теперь продолжать ваяние.
— Он губит сам себя, — безразлично сказала Эрис, — ему нужно лепить меня, точно статую, сообразно своим желаниям.
— Тогда зачем ты позволила ему…
— В благодарность за искусство, за светлую мечту обо мне!
— Но не может большой художник волочиться за тобой, как прислужник!
— Не может! — согласилась Эрис.
— Какой же для него выход?
Эрис только пожала плечами.
— Я не прошу любви!
— Но сама вызываешь её, подобно мечу, подрубающему жизни мужей.
— А что велишь мне делать, госпожа? — тоном прежней рабыни спросила Эрис. Афинянка прочла в её синих глазах печальное упрямство. Тайс обняла её и прошептала несколько ласковых слов. Эрис доверчиво прижалась к ней, как к старшей сестре, утратив на миг богинеподобный покой. Тайс погладила ей буйную гриву непослушных волос и пошла к Лисиппу».
Проблема порабощения страстью — первая на пути дисциплины чувств, очеловечивания собственной души, сотворения из внутреннего хаоса внутреннего же космоса. Эхефил обуян страстью к Эрис, его духовная выстройка недостаточна. Эрис — иной полюс, она бесстрастна, но отчуждена. Тайс, казалось бы, гармонична, но и она отравлена — её чувство к Александру вовсе не любовь, это духовная ревность о том, что он превосходно обходится без неё, что он — достойнейший из мужчин — ушёл своим путём, без неё, достойнейшей из женщин. Индийцы, искушённые в интроспекции, это почуяли вперёд самой гетеры. И предложили свою помощь, сами будучи восхищены её женским совершенством.
Жрец тантры рассказал легенду о том, как мастер укротил безумную якшини — символ женского вожделения. И предложил Тайс пройти обряд посвящения с ним.
«Слушая жреца, Тайс вдруг с изумлением, граничащим с испугом, поняла, что индиец ничего не говорит, а у неё в мыслях, подобные словам, рождаются образы происходящего при царском дворе. Безумная якшини вошла в неё, огонь дикого желания поднялся по её спине, туманя голову, расслабляя колени. Усилием воли стряхнув наваждение, афинянка резко спросила:
— Не понимаю, какое отношение имеет ко мне эта сказка?
— Легенда лишь отражение тайной истины. И ты не якшини, а высшее создание. Неужели ты испугаешься испытания и познания великой силы, о какой, я ручаюсь, ты не имеешь представления. Я полагаю, редко кто так полно создан для тантр, как ты и, пожалуй, она, — он показал на Эрис. — Ведь не боюсь же я тебя, хоть подвергаюсь немалой опасности.
— Что за опасность?
— Она всегда существует на высотах любви, куда поднимаются посвящаемые и посвящающие. Поскользнуться на пути подобно падению в пропасть. Так решаешься?
Тайс, вся дрожа, отрицательно покачала головой.
Жрец поднялся. Повелительная усмешка заиграла на белейших зубах, окружённых густой, иссиня-чёрной бородой.
— Полагал, эллины смелее, и не думал испугать знаменитую служительницу богини любви. Ты привыкла к преклонению. Сильные мужчины сгибаются, как трава, под ступнями твоих великолепных ног. Но когда могущество бога Камы сталкивается с твоей гордостью и силой Эроса, возникает пламя. Ты не потушишь его сама. Неужели тебе не стала ещё ясной неотвратимость скрещения наших с тобой путей? Не зря же приехала ты в Эриду, не зря совет круга посвящённых избрал меня для тебя и моего собрата для неё, — он указал на Эрис. — Пойдём же, не противься судьбе, не гневи Кали и Каму. Послушайся внутреннего голоса, который говорит тебе — иди.
Прерывисто дыша, Тайс встала как во сне, слегка запнулась на соскользнувшем покрывале. Жрец обнял её, подхватив рукой, точно отлитой из бронзы. Другой он поднял к себе её лицо и поцеловал в губы с такой силой, что Тайс застонала. Эрис вспрыгнула, как подброшенная катапультой, и кинулась на индийца. Не опуская Тайс, жрец выбросил вперёд раскрытую ладонь, и этот простой жест остановил ярость чёрной жрицы. Она зашаталась, поднося руку к глазам. Индиец издал свист, похожий на шипение змея Нага, и в келью вошёл высокий жрец. Он безбоязненно обнял Эрис за талию, шепча ей на ухо какие-то слова, и увёл без сопротивления.
В непонятном влечении Тайс положила руку на его плечо и заглянула в могущественные, чёрные как ночь глаза. Он улыбнулся, и губы её сложились в ответную улыбку, а в душе проснулось гордое сознание своей женской силы и неистовое желание выпустить её на волю. <…>
Тогда она, в роли царицы амазонок, сидела рядом с Александром и великий царь нежно заглядывал в её лицо, играя влюблённого… Играя? Да, конечно да! Только играя! С тех пор прошло много времени, и все её друзья и сам Александр ушли к пределам ойкумены. Александр нашёл себе царицу — Роксану. Да, мудрецы — Лисипп и этот властный жрец — правы. Отравленное копьё должно быть вырвано! Иначе чего стоят её убеждения и мечты о любви свободной и лёгкой, радостной и светлой, как у богов, как возвещает Афродита Урания!»
Гордость и смирение — взаимодополняющие противоположности. Подвергнувшись дисторсии отчуждения, лишённые меры, они превращаются во взаимоотрицающие полюса — гордыню самомнения и слепую покорность. Мастер тантры выстраивает для Тайс пространство преображения, проводя её по пути осознания. Подошёл, поговорил, взял за руку и увёл. И это не право силы, а право и долг знания, перед коим следует склониться, как перед ручьём в засушливый день. Гетере было необходимо прожить опыт безусловной подчинённости мужчине, чтобы освободиться от незаметных пут гендерного высокомерия и ощутить свою подлинную силу. И она её ощутила. Индиец был силён, как Менедем, мудр, как Лисипп, и властен, как Александр. И всё это он отдал в дар Тайс. Он стал проводником в высшее проживание и высшее осознание. Показал путь и не замкнул его на своей личности, тем самым освободив в Тайс схлопнувшееся было кольцо познания.
Но посвящение прошла и Эрис, и это имеет не меньшее значение для понимания ефремовской мысли.
«Впоследствии, когда она снова соединилась с Эрис и обе сравнили случившееся с каждой из них, ощущения оказались очень сходны, за одним исключением. Высокий индиец, посвящавший Эрис, в конце концов ослабел и, видимо, заболел, так как его унесли в забытьи, бормочущим непонятные слова. У Эрис не было «отравленного копья» в сердце, и она сразу «выпустила себя».
Акценты ставятся очень жёстко, радикально. Эрис проще и потому целостнее, но она из-за равнодушия не желает управлять своей силой, не может целить ею — это страшная беда для окружающих, недаром Тайс так рассердилась. Эрис ни одного мужчину не может сделать счастливым и даже для специально подготовленного представляет смертельную опасность. Эрис — самурай, готовый к жертве и убийству одновременно. Вдуматься только: она просто выпустила себя, и мастера тантры унесли! Что же такого она выпустила? Без Тайс Эрис стала бы страшной убийцей. Недаром она так прикипела к афинянке, ибо подле неё почуяла жизнь и единственно плодотворное воплощение судьбы. Говоря диалектическим языком: отчуждённая борьба не может вставать вперёд божественного единства.
Дальнейшее участие подруг в обряде поцелуя со змеем вне этого эпизода выглядит бездумной ловкостью пресыщенных танцовщиц и лишено судьбоносного содержания. После же описания тантрического посвящения — становится важным экзаменом, символическим воплощением новообретённого контроля над змеем кундалини. Следует отметить, что Эрис и здесь проявила себя так, что змей в итоге кинулся на другого человека.
В эросе идёт взаимопроникновение не только тел, но и душ, и духовных средоточий. И взаимная передача этой информации. Эрос, каким бы жёстким он ни был, — это сочувствие, а не «дальше, выше, сильнее» безотносительно к половой силе партнёра. Индийцы были экстрасенсами, психически гораздо могущественнее Тайс и Эрис. Поэтому, скорее всего, жрец добровольно принял в себя страшные кармические изломы женщины, которую посчитал достойной.
Если у молодого скульптора, влюбившегося в образ Эрис, было роковое влечение и его излечили интенсивным сексом налитые безличной женственностью жрицы любви, то в случае самой Эрис мастер тантры облегчил её роковую великую судьбу, пожертвовав собой. Тантра — лишь путь, а цель — любовь. Недаром в последних главах чёрная красавица проявляет себя совершенно по-новому, поднимаясь до сопереживания путям всего человечества: «Слабые молят о чудесах, как нищие о милостыне, вместо действия, вместо того, чтобы расчищать путь собственной силой и волей. Бремя человека, свободного и бесстрашного, велико и печально. И если он не стремится взвалить его на бога или мифического героя, а несёт его сам, он становится истинно богоравным, достойным неба и звёзд!»
Можно описать происшедшее в образе внутрипсихического парада планет, когда энергия сверхсистемы может беспрепятственно втечь в низшие по размерности системы через зыбкую во времени шахту, канал, акупунктурную точку. Это ведь тоже нуль-пространство — точка изживания старой кармы и рождения новой судьбы.
Словами Тайс Ефремов говорит нам о краеугольной категории эстетики, сплавляемой с этикой — понятии Прекрасного: «Без него нет душевного подъёма. Людей надо поднимать над обычным уровнем повседневной жизни. Художник, создавая красоту, даёт утешение в надгробии, поэтизирует прошлое в памятнике, возвышает душу и сердце в изображениях богов, жён и героев. Нельзя искажать прекрасное. Оно перестанет давать силы и утешение, духовную крепость. Красота преходяща, слишком коротко соприкосновение с ней, поэтому, переживая утрату, мы глубже понимаем и ценим встреченное, усерднее ищем в жизни прекрасное».
Предупреждение об искажении прекрасного звучит особенно актуально в нашей стране сейчас, в начале XXI века, в эпоху постмодернизма, который стремится разъять целостность любого образа. Ещё одно предупреждение этого же рода — о низведении таинства любви до фиглярства, базарного зрелища. Любовь мужчины и женщины — великий дар богини-матери, возносящий человека до служения высшему. Нарушение завета молчания, привычка смотреть на женщину как на добычу ведут к утрате способности ощущать любовь как величайшую драгоценность, к низведению чувства, равняющего человека с богами, на уровень похоти.
Ефремов прослеживает жизнь Тайс от сияющей юности до уверенной мудрости. Во время написания романа он постоянно обращается к мысли об автобиографии, внутренним взором отмечая границы своей жизни — юности, зрелости и мудрости. Отточены и универсальны формулировки.
Делосский философ считает страсти и желания, обуревающие человека в юности, преходящими знаками его силы.
Лисипп говорит Тайс о её зрелости: «С каждым годом ты будешь отходить всё дальше от забав юности. Шире станет круг твоих интересов, глубже требовательность к себе и людям. Обязательно сначала к себе, а потом уже к другим, иначе ты превратишься в заносчивую аристократку, убогую сердцем и умом…» Происходит перекличка с диалогом Фай Родис и Таэля о высших ступенях восприятия и самодисциплины, когда думаешь прежде о другом, потом о себе.
От Лисиппа же Тайс слышит о мудрости: «Мудрых людей мало. Мудрость копится исподволь у тех, кто не поддаётся восхвалению и отбрасывает ложь. Проходят годы, и вдруг ты открываешь в себе отсутствие прежних желаний и понимание своего места в жизни. Приходит самоограничение, осторожность в действиях, предвидение последствий, и ты — мудр. <…> Не следует много рассуждать о знании богов и людей, ибо молчание есть истинный язык мудрости».
Мудрый видит обе стороны бытия — «красоту мечты и неумолимую ответственность за содеянное». Чем выше дар, чем ярче мечта, тем строже взыщет судьба.
Об этом законе помнил сам Иван Антонович, каждый час своей жизни посвящая работе. Он успел дописать свой последний роман и подготовить его к публикации. Как ваятель Клеофрад, он ушёл из жизни, завершив свой труд.
Замечательно высказывание Тайс, удивившее делосского философа: боги из зверей становятся людьми. Тайс понимает, что это процесс очеловечивания самого человека. Чем большую власть в психике имеют животные накопления, чем меньше осознана собственно человеческая уникальность и значение этой уникальности — тем большее значение имеет природный мир. Но афинянка не делает (и пока не может сделать) следующего вывода, направленного уже в будущее: о том, что с развитием абстрактного мышления позже в разных частях света родится идея богочеловека с ясным пониманием второй части этого утверждения: Царство Божие внутри нас… Но даже тогда останется традиция символически изображать божественных персонажей в виде тех или иных зверей.
Тема меры активного противодействия злу занимала Ефремова из романа в роман. Продемонстрированный в «Часе Быка» рафинированно-эзотерический подход представляет собой фактическое решение тех проблем, что стоят перед Лисиппом и орфиками в целом. Осознание диалектики мира выводит из потока бездумного действия, рождает понимание оборотной стороны медали. Если каждое действие вызывает противодействие и рано или поздно цепочка следствий ведёт к результату, противоположному первичному импульсу, рисуя круг, то проще всего не действовать вовсе. Прекратить поток причин и следствий, выйти за пределы кармы. Так поступили индийцы — и в «Лезвии бритвы» Гирин критикует их за это, выступая перед посвящёнными йогами. Да, они не умножили зло, но их диалектика пассивна, апофатична. И она бессильна справиться со страданием в остальном мире. Сам собой распускает гранёные лепестки в сознании Ивана Антоновича кристалл диалектической триады: бездумное действие, одностороннее, без понимания системности мира (тезис), отрицается умным бездействием восточной мудрости (антитезис). Каждое движение рождает круги на воде, замутняет зеркало сознания, погружает в сансару. Таковы максимы в индуизме, буддизме, даосизме. Очевидно, размышлял Ефремов, существует путь синтеза, когда понимание взаимосвязанности и многоплановости мира рождает сплав качеств действия и ума. Но путь этот требует исключительных личных качеств всеохватности и жертвенности ради общего блага. Таких, какими обладала Фай Родис, и выше. Лисипп понимает преграды, но не находит в окружающей его действительности практического решения. Об этом же пылко говорит Эрис. Этот вопрос будет веками решаться качанием маятника от тезиса к антитезису, накапливая опыт безысходности.
Древние культы, представляющие для мыслителя ещё один пласт интересующих его вопросов, — в эпоху Александра и Тайс лишь угасающие остатки мощных очагов матриархата. Чаша и Клинок — так метафорически назвала идущее сквозь века гендерное взаимодействие антропологиня Риан Айслер, исследовавшая культуры Малой и Передней Азии в эпоху неолита. Во времена Ефремова становился известен огромный археологический материал, раскрывающий интереснейшие детали существования матрицентрической доарийской культуры Чатал-Хююк. Этот город — древнейший на планете, наряду с Иерихоном, возник на заре неолита. О нём автор пишет в предисловии к роману.
Три основные божественные ипостаси — владычица природы, богиня плодородия и символ единства бытия — имеют женскую суть.
На протяжении десятков веков — полное отсутствие насильственных смертей. Экономическое равенство и отсутствие жёсткой иерархии. Чрезвычайно высокий уровень жизни, превышающий многие показатели Древнего мира. Полное отсутствие сцен насилия в сюжетах многочисленных произведений искусства. Полное отсутствие такого специфического явления, как воровство.
Зато: система снабжения города с населением до десяти тысяч жителей. Частые праздники, лишённые мрачной религиозной семантики: танцы (сразу вспоминается праздник Пламенных Чаш), торжественные и игровые церемонии, посвящённые плодородию и женщине как его носителю. Знаменитые акробатические игры с быком…
Игры с быком, позже широко распространённые на Крите и в других местах вплоть до Индии, дали основания Ефремову говорить о гипотетической крито-индийской цивилизации. Укрощение мужской природы считалось важным сакральным действием, символизирующим победу над внутренней и внешней агрессией. Позже бык станет надменным царём Азии на тысячи лет, а спустя ещё тысячи лет сначала Ефремов, а после и русский народ назовут быками физически сильных, нечутких и агрессивных людей, не думающих об окружающих.
Общество Чаши просуществовало в Малой Азии несколько тысяч лет. Тысячелетний Чатал-Хююк был лишь одним из наиболее крупных центров (а сейчас — один из наиболее исследованных) цивилизации социального партнёрства или, проще говоря, первобытного коммунизма, предполагаемого ещё Энгельсом.
Эта цивилизация пришла в упадок в середине VI тысячелетия до н. э. В частности, был покинут жителями Чатал-Хююк. Вероятно, это связано с катастрофой образования Чёрного моря, которое до того момента представляло собой существенно меньшее по площади пресноводное озеро с большим количеством земледельческих поселений вокруг.
Длительный процесс таяния льдов в северо-западной Атлантике повысил уровень Средиземного моря на 120 метров. Ефремов косвенно упоминает об этом в эпизоде, когда Тайс и Неарх ныряют в глубину у строящейся Александрии и обнаруживают на дне остатки подводного города, удивляясь тому, что раньше люди жили там, где сейчас море.
Приблизительно семь с половиной тысяч лет назад вода стала выливаться из Средиземного моря, как из переполненной чаши, и нашла себе новый проход — будущий пролив Босфор. Образовался гигантский водопад, избыток солёной воды в течение года низвергался в плодородные долины, уничтожив все поселения, пресноводную фауну и неузнаваемо изменив рельеф местности. Вода ежедневно отодвигала берег на километр, разделила русла Дуная и Днепра и остановилась только у подножия горной страны на севере, которая стала Крымом. Уровень воды поднялся на 140 метров.
Это была страшная экологическая и гуманитарная катастрофа, явившаяся прообразом мифа о потопе. Резко изменился климат, разрушились торговые и культурные связи. Передвижения агрессивных патриархальных племён скотоводов в последующие века вытеснили прежних хозяев. Учёные предполагают, что вытесняемые жители могли постепенно переселяться на острова Эгейского моря, на родственный Крит, расцвет которого в III–II тысячелетиях до н. э. стал пиком уходящего матрицентризма.
По странному совпадению столь любимая Иваном Антоновичем эпоха Крита, полная преклонения перед женским началом, астрологически является эрой Тельца, а сам он по знаку зодиака — не кто иной, как Телец. Управляет же знаком Тельца планета любви Венера, ваяющая своей радостной властью принадлежащую ему стихию — Землю…
Любовью вознести тёмную плотную материю в сияющий космос — именно такова была высочайшая миссия Ивана Ефремова.
«От влажной, тёплой, недавно перепаханной земли шёл сильный свежий запах. Казалось, сама Гея, вечно юная, полная плодоносных соков жизни, раскинулась в могучей истоме. Птолемей ощутил в себе силу титана. Каждый мускул его мощного тела приобрёл твёрдость бронзы. Схватив Тайс на руки, он поднял её к сверкающим звёздам, бросая её красотой вызов равнодушной вечности».
Любовь и вечность дуальны, как время и смерть. Только человек, проходя невероятно долгим путём духовного развития, обязан научиться находить тончайшее кружево линии синтеза.
Почти в каждом крупном произведении Ефремова возникает тема эвтаназии. Ефремов был большой жизнелюб, но яркие чувства его были осияны мудрым осознанием. Поэтому он остро ощущал оборотную сторону жизни — смерть. Жизнь современного человека — это постоянное бегство от темы смерти. Вся западная культура построена на услаждении низших потребностей человека и возведении их в культ, погружение инфантильного человека в бесконечную комнату игрушек, провокацию искусственно разжигаемых потребностей туловища. Стремление любой ценой задрапировать реальность смерти есть факт глубочайшей незрелости поступающего так человека или — шире — общества. Отказ от признания реальности физической смерти непреложно приводит к смерти духовной. Осознавать жизнь не саму по себе, но рефлексировать её как переход из одного качества в другое — насущная экзистенциальная необходимость, цель индивидуации, согласно К. Г. Юнгу и юнгианцам группы «Эранос». Отказ от осознания вектора смерти уничтожает время (вектор времени и вектор смерти — полярности, описанные Вернадским), укутывает жизнь разноцветной многослойной упаковкой, превращая её в Матрицу.
Поэтому подлинное жизнелюбие (говоря языком Фромма — биофилия) не отрицает смерть как факт и не испытывает ужас перед ней. Что вовсе не означает борьбы с ней, преодоления её как главного элемента инферно.
Жить полнокровно, полноценно, ярко — значит отрицать не смерть, а вялое угасание, бесцельное дление биологического существования. Такова логика Ефремова, близкая интуиции древних эллинов и в очищенном виде перенесённая им в будущее. Можно вспомнить и иную параллель: «Если бы ты был холоден или горяч… Но ты тёпл…»
Друг Ефремова Филипп Вениаминович Бассин, выдающийся психолог и нейрофизиолог, исследовавший проблемы бессознательного, психологической защиты и состояния предболезни, после выхода книги писал Таисии Иосифовне:
«В чём причина того очарования, которое неизменно охватывает читающего книги И. А. и, в частности, читающего «Тайс»? Я назвал бы три причины.
1. Я не знаю ни одного произведения ни в художественной, ни в научной литературе, которое с такой ослепительной яркостью воспроизводило бы жизнь ушедших эпох. Какое сочетание глубины знаний и мощи изобразительного таланта нужно для этого! Ему в этом отношении нет равных.
2. Чувство красоты. Оно, это чувство, которое есть вместе с тем чувство строжайшей меры, даёт о себе знать на каждой странице. Я вспоминаю единственное произведение, которое я мог бы в этом (только в этом!) отношении поставить рядом. Это «Стихотворения в прозе» Тургенева. Вся «Тайс» — это тоже цепь таких стихотворений в прозе.
3. Его благородство. Только он мог в чуждом, варварском непонятном мире, в который он нас погружает, увидеть искры человечности, которым не дано было погаснуть. А мог он их видеть потому [что] сам был озарён их позднейшим светом, нёс этот свет в своей душе».[327]
«Последние зубцы»
Солнце взбесилось, испорченная людьми природа мстила.
В Подмосковье пылали леса, выгорали целые деревни. Чад от торфяников днём и ночью висел в воздухе. Едкий дым щипал глаза. С одной стороны Москвы-реки не разглядеть другого берега. На борьбу с пожарами были брошены армейские подразделения. Три месяца жестокой засухи 1972 года, самой сильной за весь XX век, уничтожили урожай; страну ждал продовольственный кризис. Обыватели вздыхали: вот он, високосный год…
Речка Медведенка, протекающая возле дачного посёлка Новодарьино и впадающая в Москву-реку, пересохла. Поля вокруг щетинились сухими короткими стеблями овса и ржи. Леса, в июне ещё хранившие свежесть, к августу совсем пожухли. Воздух казался сухим и одновременно вязким, так что стук поездов почти не долетал со станции Перхушково Белорусской железной дороги до дачи № 69, принадлежащей вдове академика Ферсмана. И всё же на даче было намного легче, чем в раскалённом асфальтовом пекле города.
Иван Антонович, мечтавший обратиться к давно задуманной популярной книге по палеонтологии, не мог работать. Он сильно похудел, чувствовал себя неважно. Изношенное сердце тяжело переносило жару, а кардиальная астма могла в любой момент обостриться из-за смога. Таисия Иосифовна часто просыпалась по ночам, прислушивалась к дыханию мужа. Шприц и нужные лекарства были всегда наготове.
Но не только в природе было тяжко. Странным образом отягчилась атмосфера вокруг Ивана Антоновича, казалось, что вокруг сгустился колышащийся сумрак. Ефремовы замечали, что за ними следят.
Ещё при отъезде на дачу шофёр Семён Михайлович Соболев, всегда приходивший на помощь, возивший Ефремовых не только на дачу, но и в Ленинград, сказал:
— Иван Антонович, в вашем доме кого-то «пасут».
— Ну уж точно не нас!
Они жили на виду, ничего не скрывали.
Однако Таисия Иосифовна помнила, как однажды во время телефонного разговора вмешался со своими комментариями мужской голос. «Возмущённые, мы с сестрой позвонили на телефонный узел и в конце концов получили раздражённое разъяснение: «У вашего телефона подсадка».[328]
Иван Антонович беспокоился за жену.
В журнале «Молодая гвардия» начал печататься роман «Тайс Афинская». Сначала хотели публиковать его целиком, и это помешало Ефремову отдать несколько глав в другие журналы, которые просили об этом. Затем, когда роман был уже анонсирован, «Молодая гвардия» потребовала сокращений. Иван Антонович текстуально сокращать отказался, просто вынул из романа три главы. При этом даже предварительного договора с автором заключено не было, соответственно не было и предоплаты, хотя Ефремов сам оплатил редакторскую перепечатку романа. В августе из очередного номера журнала внезапно исчезло продолжение. Ефремова даже не предупредили об этом. В ответ на возмущённое письмо главный редактор А. С. Иванов ответил нечто невразумительное, прислал договор и в сентябре обещал возобновить публикацию.
Неясен был вопрос и с изданием «Тайс» отдельной книгой. При этом роман исключили из готовящегося собрания сочинений: якобы в собрание можно включать только те произведения, которые «имеют прессу». Ефремов возражал: к тому времени, как выйдет собрание сочинений, роман будет уже не один раз напечатан и прессы будет достаточно. Но чиновников от литературы заботил только страх за свою карьеру.
Итак, сначала собрание сочинений хотели издавать в шести томах. С исключением «Тайс» оставалось пять. Шесть томов обязаны были по обычаям того времени выпускать в течение трёх лет — по два тома в год. Ежели томов пять, то их печатали за два года. Иван Антонович грустно и одновременно иронично думал: что ж, больше шансов дожить…
Словно серая пелена обтягивала всё, что было дорого Ефремову. Последнее десятилетие писатель, знакомый практически со всеми произведениями не только отечественной, но и мировой фантастики, посвятил разработке её философских основ, опубликовав множество статей, ратовал за популяризацию этого жанра, за создание посвящённого ей отдельного журнала, за организацию её изучения.
Фантастическая литература вкупе с приключенческой была самой востребованной в СССР 1960-х годов, книги даже малоизвестных авторов раскупались как горячие пирожки. Однако власть, от которой зависело учреждение нового журнала, делала вид, что не замечает этой необходимости. Резко сократилось количество выпускаемых фантастических книг, уменьшились тиражи. В многочисленных институтах огромной страны официально изучением фантастики занимались только два профессиональных филолога-литературоведа — Наталья Ильинична Чёрная (Институт литературы им. Шевченко АН УССР) и Анатолий Фёдорович Бритиков, сотрудник ИРЛИ АН СССР, автор монографии о советской фантастике, старый друг Ефремова. Его стараниями в Пушкинском Доме был создан фонд писателя, куда Бритиков сдавал на хранение ефремовские рукописи и целые мешки читательских писем, привозимых им в Ленинград из московских командировок.
В 1972 году на переаттестации руководитель Бритикова профессор В. А. Ковалёв запретил ему заниматься изучением фантастики. Это, по сути, полностью закрывало возможности научных публикаций по этой теме. Фантастика заставляла думать, смотреть далеко вперёд — и через это яснее видеть современность.
Ефремов, будучи негласным руководителем этого направления в советской литературе, отчётливо осознавал положение, в которое попадали десятки писателей и миллионы читателей, любивших этот жанр. Летом 1972 года он готовил в ЦК партии записку о необходимости обратить особое внимание на развитие научной фантастики, на необходимость государственной поддержки, ибо фантастике принадлежит особая роль в воспитании молодёжи. Заглядывая вперёд, в ближайшее будущее, он предвидел нравственный упадок общества, говорил о «весёлых девяностых», которые, к счастью, не застанет. Но при этом, словно кшатрий, исполненный воинского духа, делал в своё время и на своём месте всё, что мог.
Утешали ласка Таси — дорогого Зубрёнка, — письма друзей, перепечатанные Портнягиным книги «Агни Йоги», любимые поэты Серебряного века. Утешала мысль о том, что его верный ученик Пётр Константинович Чудинов дописал наконец свою докторскую диссертацию. Вот она, рукопись, на дачном рабочем столе — уже с пометками Ефремова.
Иван Антонович понимал, что уже несколько лет он стоит на пороге смерти. В романе «Леопард с вершины Килиманджаро» Ольга Ларионова исследовала психику человека, который знает о дате своей смерти. Как он живёт, как ощущает скоротечность каждого мгновения, как находит силы радоваться каждой минуте, когда в глаза ему глядит вечность… Ефремов написал предисловие к её книге. Ему роман был близок: он также ощущал дыхание иного, но не загонял себя в теснины страха, а продолжал жить полно, ярко, радоваться миру и людям.
В 1965 году в письме К. Г. Портнягину он размышлял: «Если вечное столкновение духа с косной материей волнует океан мировой души, то отдельные её всплески, разбивающиеся на миллионы капель, существуют как отдельные капли только здесь, перед Пределом. Падая обратно в запредельность, они неминуемо сливаются с океаном Атмана и не существуют как отдельные капли».[329] Эти мысли были созвучны высказанным за век до того идеям гения индийского народа Рамакришны; книгу популярного в СССР Ромена Роллана «Жизнь Рамакришны» Иван Антонович наверняка читал.
Мысль о бессмертии человеческого духа, вливающегося в океан мировой души и в то же время сохраняющего капли памяти о своих человеческих воплощениях, волновала Ивана Антоновича. Он чувствовал, что «недалеко время, когда его позовут в «долгий путь домой».[330]
Домой — куда? И ответ выскальзывает из рук…
Его любимые герои-эллины — спартанец Менедем, тессалиец Леонтиск, скульптор Клеофрад — встречали смерть улыбкой. Что видели греки в минуту прощания?..
19 сентября, когда установилась нормальная осенняя погода, Ефремовы переехали в город.
Спартак Ахметов, геолог, поэт, писатель-фантаст, записал впечатления о последней встрече с Иваном Антоновичем — 4 октября 1972 года, в день запуска первого искусственного спутника Земли, когда вся страна отмечала пятнадцатилетие космической эры. Рассказ «Последний день» вошёл в неопубликованный роман «Чёрный шар».
«К Таисии Иосифовне Ефремовой я стараюсь ездить на трамвае, чтобы не подходить к дому со стороны Ленинского проспекта. Изредка забываюсь, сажусь в троллейбус, и тогда приходится сходить перед универмагом «Москва». Едва ноги касаются жёсткого тротуара, как я снова попадаю в то равнодушно-серое утро, придавленное свинцовыми облаками. Даже осенние листья клёнов кажутся пепельными, даже лёгкие фигурки берёз имеют мышиный оттенок.
Весь мир стал серым и тусклым.
И я бегу наискосок через улицу Губкина, продираюсь сквозь серые кусты, оскальзываясь, огибаю углы дома. Воздух обжигает лёгкие, сердце гонит по телу расплавленный свинец, тяжелеют ноги. Бегу изо всей мочи, но всё-таки не успеваю. Дверь квартиры Ефремовых уже страшно распахнута, в кабинете сидят и стоят люди с исковерканными лицами, на полу валяются обрезки бумаги и кислородные подушки. Взвизгивает телефон. Кто-то берёт трубку: «Да, правда… Сегодня утром…»
В спальной комнате мебель вжалась в углы. Необыкновенно длинная постель протянулась от стены до стеллажей, разделив мир пополам, и на ней лицом в зенит лежит Иван Антонович, кривя губы в едва заметной усмешке. Будто спрашивает: «К-как я вас разыграл?..»
Он лежит и улыбается…
…Часть отпуска с женой и сыном я провёл в Феодосии. В Москву мы вернулись первого октября. Могли бы задержаться ещё на неделю, но у сына случился приступ астмы, и врачи посоветовали быстрей уезжать от моря. В Москве я сразу позвонил Ефремову. Иван Антонович был весел, мало заикался, сказал, что они с Таисией Иосифовной только вчера вернулись из Перхушкова, где провели лето.
— Не слишком мучились от жары? — спросил я.
— Ничего, выдюжил… Таисии Иосифовне пришлось со мной повозиться. Что же вы нас на даче не навестили?
— Наш институт колхозу помогал. Сенокос, уборка зерна… Потом торфяники загорелись, от них — лес. Почти все мужчины были брошены на борьбу с пожарами. А потом мы с Галей и Камиллом поехали в Феодосию.
— Что вы говорите?! И в Коктебеле были?
— Конечно! У волошинского дома гуляли! — похвастался я.
— К Марии Степановне не заходили? Впрочем, об этом при встрече. Как здоровье Галины Леонидовны и Камилла?
— Сынок малость приболел… А с Галей — что сделается? Она всегда здорова.
— Как вы выражаетесь… Иметь такую жену — всё равно, что выиграть миллион рублей.
— Да я знаю, Иван Антонович. Просто шучу так, ну — острю вроде.
— Ладно оправдываться! Небось прийти хотите?
— Если можно…
— Сейчас мы с женой заняты подготовкой собрания сочинений. А вот среда — свободна.
— Как обычно, вечером?
— Ну да. С трёх до шести моя жена заставляет меня отдыхать.
И после двадцати лет совместной жизни он со вкусом говорил: «Мы с женой, моя жена…»
Два дня пролетели. Четвёртого октября мы поехали к Ефремовым.
Стояла блистательная осень 1972 года. После невыносимо жаркого — с дымовой завесой лесных пожаров — лета наступили ясные тёплые дни. Дожди почти не тревожили, листья на деревьях и под ногами пересохли. На Ленинском проспекте пылала красно-жёлтая часть спектра, осень от этого казалась ещё теплей. А когда троллейбус утыкался в запретные огни светофоров, можно было уловить шуршание опавших листьев под ногами пешеходов.
Ровно в шесть мы стояли у дверей квартиры № 40. Собрались с духом, четырежды прижали чёрную кнопку звонка. Навстречу улыбнулась маленькая Таисия Иосифовна с ножницами в руке. Я вручил ей букет, оправленный в жаркие листья клёна:
— Вам.
— Какие чудесные астры! — восхитилась она. — Сейчас поставлю в вазу… Проходите, пожалуйста, не обращайте на меня внимания — кончаю расклейку.
— Как Иван Антонович? — шёпотом справилась Галя.
— Хорошо… Можете сидеть допоздна, только не слишком его волнуйте. Волчек, это Галочка и Спартак Фатыхович.
Волчек, он же Иван Антонович Ефремов, доктор биологических наук, профессор, лауреат Государственной премии, основатель новой науки — тафономии и автор романа «Туманность Андромеды», стоял у входа в кабинет, заполняя собой дверной проём. Он громаден и массивен, словно броненосец. Из глаз, как из прожекторов, исходят столбы голубого света.
У дверей квартиры Ефремовых мы всегда робели и напрягались. И зря — нас встречал не корифей всех наук, а добродушный мужик Иван, интеллектуал Иван Антонович, с которым равно можно пойти на медведя, посмаковать тонкости стихов Бунина или Волошина. А ещё он так мило заикался. А ещё он мог выхватить воображаемый кольт и п-пристрелить незадачливого спорщика — из жалости. А ещё он мог вот так сильно и мягко утопить в общем-то немалую мою кисть в своей огромной ладони.
Нас усадили на диван под паруса чайного клипера на большой фотографии. Рядом, на низеньком столике, заваленном бумагами, стояла пишущая машинка с латинским шрифтом («Пишу письмо одному американскому учёному», — объяснил Ефремов). На другом столе — громадном, с множеством отделений, ящичков, шкафчиков и застеклённых плоскостей — помещалась другая машинка. Таисия Иосифовна прошла к ней и принялась что-то печатать.
— Собрание сочинений на полном ходу, — сказал я, оглядывая две стенки стеллажей с книгами.
— Да, пока всё слава богу. — Ефремов улыбнулся. — Мой курносый секретарь заканчивает подготовку третьего тома.
— А в каком издательстве выйдет собрание?
— Как обычно — в «Молодой гвардии».
— Вы говорили, что всего будет шесть томов…
— Нет, остановились на пяти. Это даже лучше. Издание шести томов растянулось бы на три года, а так — только два. Больше шансов дожить.
— Иван Антонович, я недавно познакомился с одним врачом-кардиологом. Очень дельный специалист. Он ваш страстный почитатель и хочет быть полезным.
— У меня на каждую болезнь сердца по врачу. — Смеётся Ефремов очень красиво, голубые зайчики прыгают в глазах. — Несколько профессионалов. Но всё-таки они не стоят единственного ангела-хранителя. — Он посмотрел на жену.
— А как сейчас?
— Живу и прислушиваюсь. Иногда ночью просыпаюсь оттого, что сердце остановилось. Как будто завод кончился. Жду — пойдёт, не пойдёт? Оно шевельнётся и опять застучит. С-слава богу, пронесло! Я похож на броненосец с пробоиной под ватерлинией. Судно ещё на плаву, но машинное отделение заполняет вода…
Таисия Иосифовна подняла очень деловые глаза, поправила прядку волос на лбу.
— Извините, я вас прерву, — и, обращаясь к мужу: — Ты не сказал — соглашаешься ли со снятием фразы об олигархическом социализме китайцев?
Густые фигурные брови Ефремова поползли вверх, глаза сощурились, вокруг рта собрались лукавые морщинки:
— Г-г-г…
— Сейчас ведь пакостишку скажет, — улыбнулась Ефремова.
— Г-господь с ними, — махнул рукой Иван Антонович. — Пусть виляют. Выкинули не так уж много. Я считаю, мы обошлись малой кровью.
— Тогда я кончила. Только страницы перенумеровать.
— А что вошло в остальные тома? — спросила Галя.
— В двух первых — рассказы, четвёртый том — «Дорога ветров» и «Туманность Андромеды», пятый — «Лезвие бритвы».
Пока Таисия Иосифовна горделиво загибала пальцы, я вспомнил, как Иван Антонович рассказывал о своей писательской работе. <…>
— Жалко, экземпляра «Дороги ветров» не нашли, — пожаловался Иван Антонович. — Перепечатывать долго, а для расклейки нужны две одинаковые книги.
Настала минута моего торжества. Я вытащил из портфеля томик с летящими оленями на сером переплёте:
— Вот! Достал по случаю.
— Вы — колдун! — ахнула Таисия Иосифовна.
— Не колдун, — весело возразил Иван Антонович, — а отец родной и благодетель. Теперь я ваш должник.
— Рассчитаетесь подпиской на собрание, — корыстно сказал я. — Из авторских экземпляров.
— К-какие авторские экземпляры? — сердито сдвинул брови Иван Антонович. — У нас их не бывает. Это один из видов хамства при реализации авторских прав! Себе бы достать парочку для будущих переизданий… Вы «Тайс Афинскую» читаете?
— Конечно, — встрепенулась Галя. — Все номера «Молодой гвардии» собираем — для переплёта.
— 3-заметили, что в восьмом номере был перерыв?
— И очень испугались. Думали — запретили «Тайс», как это часто бывает… А что — в «сферах» не понравилось любование женским телом?
— Нет, всё проще. Надо было напечатать какого-то прозаика, вхожего в эти «сферы». Вот меня и потеснили, не предупредив…
— Жалко, в собрание «Тайс» не войдёт.
— Хоть бы отдельной книгой издать! Но за это ещё надо бороться. Не говоря уже о так называемом редактировании… Сколько напортили! И то им слишком откровенно, и это чересчур соблазнительно. Почти все любовные сцены испохабили… Например, у меня герой целует возлюбленную в ложбинку между грудей. Вымарали, оставили абстрактный поцелуй.
— Им и воздушного много! — неприлично смеялся я.
— Видимо, редактору всё человеческое чуждо, — вставила Таисия Иосифовна.
Тут я не выдержал и сострил в том смысле, что раньше мужчины были — у-у-у! — сперматозавры, а теперь так себе — Импо-70. От могучего хохота Ефремова задребезжали стёкла в стеллажах, испуганно глянула антилопа с картины, а чайный клипер понёсся так резво, будто в его паруса ударил шквал. Таисия Иосифовна встревоженно подошла к мужу и коснулась его плеча:
— Так нельзя.
— Ладно, не б-буду. — Ефремов понемногу успокоился, одёрнул просторный домашний костюм, поправил галстук. — Ну и как вам «Тайс Афинская»?
— Роман о женщине, написанный рыцарем!
— Жалко, в собрание «Тайс» не войдёт, — сказал я.
— Сперва надо отдельной книгой издать. Кстати, о настоящих женщинах… Расскажите, как вы были в Коктебеле.
— Мы на теплоходе туда поехали, — начал я. — Камилла, конечно, укачало. Пришлось остаться. Вот и погуляли около Волошина…
— А в дом зашли?
— Нет…
— И Марию Степановну не видели?
— На балконе сидела очень старая женщина — наверное, она.
— Надо было зайти, передать от нас привет. Вас бы и ночевать оставили, и показали бы всё.
— А мы и не знали, — с сожалением протянула Галя.
— Неужели я не говорил, что знаком с вдовой Волошина?.. Это поразительная женщина! Сорок лет сражается с хамством. Максимилиан Александрович завещал свой дом Союзу писателей. Власти превратили его в дом творчества, но вдове много лет ни копейки не платили. Мало того — задумали устроить в студии Волошина биллиардную. Это рядом с его акварелями! Мария Степановна согласилась: хорошо, мол, пожалуйста. Только сначала вам придётся мой труп из петли вытащить. Отступились… В войну она немцев не испугалась. Всё уберег-л а — вещи, картины. А огромный гипсовый муляж египетской царицы Таиах в саду закопала. Уд-дивительная женщина, настоящая женщина!
Когда Ефремов волновался, он немного бледнел и сильнее заикался.
— Надо выпить элениум, — строго сказала Таисия Иосифовна.
— Т-ты расскажи, к-как добиралась с Марьей Степановной в Коктебель, а я отыщу всё сам.
Оказывается, лет десять назад Волошина гостила у Ефремовых. Потом они летели в Симферополь — причём Мария Степановна впервые села в самолёт. Рейс не задался, их сажали на запасные аэродромы, не кормили. В Симферополе не подали автобус, пришлось заночевать в стоге сена. Очень неудобно и голодно. И всё-таки Волошина не унывала и восторгалась полётом, как девочка!
Бесшумно, словно слон из джунглей, появился Иван Антонович. Улыбаясь и кивая, дослушал рассказ жены.
— Теперь видите, какое знакомство упустили?
— Что ж делать… В будущем году исправим ошибку.
— Ну что вы! До будущего года она может и не дожить. Очень уж старенькая… Вы Волошина-то читали?
— Где его достанешь?
— Ладно, я дам. Волошина следует читать. Вот вы всё плачетесь, что не печатают. А Максимилиан Александрович по этому поводу сказал примерно так: «Хорошо при жизни быть не толстым томом, а переписываемой от руки тетрадкой».
— Так это ж — Волошин…
— А вы — Ахметов. Фамилия ничуть не хуже. Было бы что сказать… На могилу Волошина до сих пор ходят местные татары и привязывают пёстрые лоскутки, как святому..
— А Галя ездила в Старый Крым на могилу Грина.
— Я на ней была лет пятнадцать назад, — оживилась Таисия Иосифовна. — Еле отыскала… Там ещё алыча молоденькая росла.
— Теперь на могиле чугунная ограда, простой прямоугольный обелиск, портрет в овале. Алыча разрослась в громадное тенистое дерево. Ягоды созрели, я сорвала несколько. И вам привезла.
Галя развернула пакетик и передала Ивану Антоновичу. Тот с любопытством потрогал тёмную ягодку, показал жене.
— Вот бы высадить косточку. Алыча с могилы Грина!
— Холодно здесь, — посомневался я, — не будет расти…
— Да, жалко…
— А рядом могила какого-то Охотникова, — продолжала Галя. — На обратной стороне роскошного памятника — длиннейший перечень книг.
— Знаю его, — равнодушно обронил Ефремов. — Холуй. Мы в Крыму отдыхали, когда Пастернака исключили из Союза писателей. В столовой дома творчества все сидели молчаливые. А пьяный Охотников кричал, что Пастернак — барин. Мол, во время обеда любит смотреть пляски полуголых баб.
— Ну их, холуёв, — махнула рукой Таисия Иосифовна. — Мне пора на кухню, а вы лучше говорите о Грине. И за Иваном Антоновичем присмотрите, доверяю его вам.
— Вот шлёпну сейчас, — пригрозил Ефремов.
— Заслужила — шлёпни! — засмеялась Таисия Иосифовна.
И ушла.
Рядом с огромным шумным мужем она казалась ещё меньше и тише. В разговор вступала редко, больше молчала, слушала. У неё очень милое округлое лицо, коротко остриженные волосы, которые, как и у Ивана Антоновича, начинаются сразу над треугольничками бровей. Вообще они очень похожи — как отец и дочь. И всё-таки громадный мужик Иван в присутствии жены кажется расшалившимся сыном, балованным мальчишкой. Он требует постоянного внимания и контроля. И Таисия Иосифовна следит за ним. От неё словно исходит силовое поле жизни, которое поддерживает на поверхности броненосец с пробоиной под ватерлинией. Десять лет назад она буквально спасла мужа. И он написал ещё три романа — «Лезвие бритвы» и «Час Быка» для всех и «Тайс Афинскую» для неё. И о ней.
— Ещё мы были в галерее Айвазовского. Кстати, там выставлены некоторые акварели Волошина.
— А музей Грина уже открыт?
— Да! Мы заходили в него несколько раз.
— Не очень там наворочено?
— Что вы, нам понравилось! — воскликнула Галя. — Ведь всё сделано по эскизам Саввы Бродского!
— Не люблю его, — поморщился Иван Антонович. — По-моему, он незаслуженно превознесён. Будто других художников нет, культ личности какой-то. Грина-то он безобразно иллюстрировал!
— Почему же, — не согласился я. — Нам нравится.
— Что там может нравиться? Корявые, изломанные люди, трупы какие-то… Бродский и как человек плох — никаких принципов, слишком гибок… А художник он вообще никудышный. Ассоль — весёлая здоровая девочка. Носится по побережью, хорошо плавает. А на картинках — бледный тщедушный призрак.
— Но ведь она и у Грина такая, — попробовал возразить я. — Изгой, тихоня. Сидит у моря и ждёт принца.
— Г-грин неправильно понят. Вспомните Ахматову! Она тоже выросла у моря, плавала в шторм, ничего не боялась… Настоящая приморская девчонка!
— Ассоль скорее не девчонка, а облако в юбке.
— Вот и целуйтесь со своим облаком! А мне нравятся здоровые к-красивые женщины. — Иван Антонович помолчал, успокаиваясь. — Впрочем, чёрт его знает, может, вы и правы. Грина можно толковать и так, и этак. Вообще он не совсем додумал эту вещь. Фантастика какая-то — сидеть и ждать принца семнадцать лет.
— Кстати, о фантастике. Вы уже прочли… — Я назвал книгу известного фантаста.
— Видите ли, — серьёзно сказал Ефремов, — надо прежде всего договориться о терминах. Научная (это прилагательное в последнее время стали забывать!) фантастика призвана экстраполировать развитие науки и техники, человеческого общества на неопределённое количество лет в грядущее. Призвана будить воображение молодёжи, готовить её к самым парадоксальным открытиям. В этом смысле научными фантастами были Жюль Верн, Уэллс и наш Беляев. А названный вами писатель использует фантастику как литературный приём для построения критиканских произведений. Причём вкус у него не безупречен…
Мы с женой сидели, опустив головы. Нам нравились произведения критикуемого писателя, написанные с кинематографическим блеском. Мы почти не задумывались — насколько они научны. Ефремов же в своих книгах прежде всего учёный. Он напрочь отвергает всё развлекательное и смешное. И в то же время, как человек, он неистощим на выдумки, прозвища, дружеские розыгрыши. Об этом часто вспоминают его соратники по экспедициям.
— Чего приуныли? — усмехнулся Иван Антонович. — Я не против юмора, я против зубоскальства. Писатель должен выдавать информацию, а не острить. Если же он вдобавок топчется на месте, варьирует без конца одну и ту же расхожую мысль, множит слова, а не идеи, стремится каким-нибудь вывертом ошарашить читателя — то это не писатель. Когда-то он писал подлинно научно-фантастические повести, и они мне нравились. К одной книге я даже предисловие написал. Но потом он сбился с научно-фантастической дороги, отчего у меня и произошёл с ним разлад. К сожалению, он не одинок.
Иные писатели — как та собачонка, что выскочит из подворотни, тявкнет и, поджав хвост, назад. Ну, бог с ними. Как ваши научные дела?
В своём институте мы занимаемся выращиванием и исследованием кристаллов. Первые опытные образцы всегда приносим показать Ивану Антоновичу, который очень любит всё тяжёлое и каменное. На этот раз я вытащил из портфеля отливающий перламутром обломок фторфлогопита.
Иван Антонович поспешно взял его и долго разглядывал, далеко отставив от глаз. Поколупал пальцем.
— Да-а-а… — повернулся к двери и громко позвал жену.
Прибежала взволнованная Таисия Иосифовна в голубом фартуке.
— Что случилось? Тебе плохо?
— Посмотри, какую прелесть нам принесли.
Ефремова сначала осмотрела мужа, успокоилась и осторожно приняла в руки большой кристалл.
— Очень, очень красиво! Приятный блеск, благородный цвет — вполне декоративный камень.
Кристалл водрузили в центре столика, расселись вокруг, как язычники, и долго любовались мягкими переливами света на чешуйках слюды.
Ефремов встал.
— Посидите, пожалуйста. Мне надо позвонить.
— Только недолго, всё уже на столе.
— Я мигом, — кивнул Ефремов и вышел.
Неловко помолчали.
— Прекрасная слюда, — сказала Таисия Иосифовна, прислушиваясь к голосу мужа. — Очень рада за вас, очень.
— Вы читали…
— Не стала читать, больше по сплетням знаю.
— По сплетням?
— Иван Антонович очень подробно делился с ним замыслами. Потом «Час Быка» и этот роман появились почти одновременно. Вот и стали говорить, что книгу написал он, а Ефремов только подписал. Окончательно мы разошлись после того, как он принялся ругать «Крестный ход» Солженицына.
— А как Иван Антонович относится к Солженицыну?
— Уважаю его бесстрашие, — сказал бесшумно появившийся Ефремов. — Александр Исаевич выбрал трудный путь, он отчаянно одинок. Но за ним правда.
— Что — попьём чайку? — спросила Таисия Иосифовна.
— Конечно! — весело сказал Ефремов.
Перешли в кухню, даже не кухню, а уютную нарядную комнатку с удобными встроенными шкафами (вся меблировка квартиры — по эскизам Ивана Антоновича). Ели тыквенную кашу по-ефремовски, паштет из гусиной печёнки. Пили чай с сыром и яблочным пирогом (фирменное блюдо Таисии Иосифовны). Иван Антонович усиленно угощал Галю миндальными козинаками. Это, мол, любимое лакомство эллинских женщин. Я читал свои стихи. Иван Антонович слушал хорошо: с большим вниманием и доброжелательно.
Таисия Иосифовна тоже слушала, но смотрела только на мужа. Двадцать лет она смотрела только на мужа, словно боялась, что стоит отвести взгляд — и тот исчезнет. Будто это не материальный могучий Ефремов, а голографическое изображение, созданное лазерным лучом её взгляда. Взгляд соединял их, как пуповина соединяет мать и дитя. Все животворящие соки — здоровье, сила, нежность — переливались через пуповину в больного мужа. А все грехи и болезни она брала на себя.
И ещё в её взгляде было — прощание. Двадцать лет она прощалась с мужем, насыщалась его дыханием, движениями, запахом, заиканием. Ибо он был болен и конечен. Ибо разрыв пуповины означал не рождение, а смерть.
Потом Иван Антонович опять говорил о всеобщей притягательности жанра научной фантастики, о молодых писателях Сибири, подающих большие надежды, о своей книжке «Алмазная труба», которую якутские геологи таскали в рюкзаках. Читал стихи Волошина и Ахматовой, читал очень хорошо, без всякой внешней аффектации. А бунинские строки произнёс так, будто к себе примерял:
И цветы, и шмели, и трава, и колосья, И лазурь, и полуденный зной… Срок настанет — Господь сына блудного спросит: «Был ли счастлив ты в жизни земной?» И забуду я всё — вспомню только вот эти Полевые пути меж колосьев и трав…— Поэт есть поэт, — вздохнул Ефремов. — Он призван синтезировать из хаотичной шихты мыслей, желаний, стремлений народа драгоценные кристаллы стихов.
— Которыми никто не полюбуется?
— Нытик вы, Спартак Фатыхович, — возмутился Ефремов. — Писать надо, а не ныть.
— Надоело писать в корзину.
— Тогда вы не поэт. Настоящий поэт подобен щенной суке, которой пришла пора рожать. В корзину ли, в печать ли — всё равно! Она не может не разродиться.
— Не слушайте вы его, — заступилась за меня Галя. — Он же притворяется.
— Настоящий поэт подобен проститутке, — эпатировал я.
— Проститутке трудней, — принял игру Ефремов. — Ей и себя надо прокормить, и сутенёра. Плюс — одеваться и краситься. А если не повезёт, то и заживо гнить от сифилиса. Пушкин же, невольник чести, получил пулю в живот — и всё.
— О Пушкине я стала думать плохо, — вошла в разговор Галя. — Вольнолюбивый поэт призывал к безжалостному подавлению польского восстания.
— Не надо искать на солнце пятен, — мягко возразил Иван Антонович. — Мало ли что может написать поэт под влиянием чувств. Для него конкретное событие — лишь повод, толчок для работы мысли, для обобщений. Вот Пастернак написал стихи о вожде, потерявшем любимую жену. Их немедленно опубликовала пресса, они легли на письменный стол Сталина. Эти стихи и спасли Пастернака. После смерти своей жены Аллилуевой вождь уничтожил много народа, а поэт уцелел: «Не трогайте этого юродивого!» И всё-таки это стихи не о Сталине, а об идеальном, обобщённом вожде, потерявшем возлюбленную…
— Но Пушкин писал именно о поляках: «Их надобно удушить!» — тихонько заметила Галя.
— Ну и что?
— Своё отношение к декабризму он выразил словами: «И я бы мог, как шут, висеть», — ввязался я.
— Ну и что? Только эволюционное развитие приводит к стабильному улучшению общества. Взрывы, скачки — это грязь и кровь. На трупах не построить светлое будущее. Д-де-кабристы, экстремисты — одним миром мазаны… А Александра Сергеевича всё-таки не трогайте. Это же — П-пушкин!
— Как Камилл воспринял море? — опытный лоцман Таисия Иосифовна забеспокоилась за свой броненосец и решила увести его в спокойные воды Феодосийского залива.
— Как должное. А Феодосия понравилась очень.
— Ещё бы! Не зря её любили Грин и Волошин.
— Города следует оценивать по количеству купленных в них книг, — сказал я. — В Феодосии я ничего не приобрёл, а вот в Ворошиловграде нашёл одну довоенную фантастику и четыре тома толкового словаря.
— И словарь уже укомплектован? — вскинулся Ефремов.
— Что вы! Половины нет.
— Тогда наша квартира должна цениться выше Ворошиловграда, — заторжествовал Иван Антонович, — потому что я вам подарю по меньшей мере шесть томов словаря.
— Всё-таки он немного перевозбудился, — попеняла Таисия Иосифовна, когда муж вышел.
— Моя вина, — покаялся я.
— Пойдём, поздно уже. — Галя поднялась. — Ивану Антоновичу надо отдыхать.
Прошли в кабинет, где Иван Антонович пеленал толстенную стопу книг.
— Вы что? — вскинул он огромные продолговатые глаза.
— Нас Камилл заждался, спать не ляжет.
— Если так — не удерживаю.
Я достал книжку и протянул её Ефремову.
— Опять автограф? — засмеялся он.
— Если можно…
— Кому на этот раз?
— Сыну.
— Ему не смею отказать.
Сел за стол, выбрал ручку и стремительным почерком начертал: «Камиллу Ахметову на добрую память от автора. 4 октября 1972 г.».
Пошли одеваться. Иван Антонович ревниво следил, как я снимаю огромных размеров тапки.
— Не велики?
— В самый раз — сорок четвёртый.
— Неужели у нас одинаковые ноги?
Принялись меряться. Узкой ступне Ефремова с необыкновенно высоким подъёмом я противопоставил нечто лаптеобразное. Оправдывался:
— Нога геолога.
— Плебейское происхождение! — насмешничал Иван Антонович. — П-пристрелить из жалости!
Помог Гале надеть плащ. Заметил заботливо:
— Пора переходить на пальто, вечером холодновато. У нас на Воробьёвых горах резкие ветры. Царь Алексей Михайлович даже повелел, чтобы людишки не селились на юру. Ветрено, дескать. Заботился государь о подданных.
— А господь бог наоборот, — улыбнулась Таисия Иосифовна. — Так неудобно расположил женскую грудь — на юру. Всегда мёрзнет.
Мы топтались у дверей. Не хотелось уходить от этой лёгкости и раскованности. Обидно даже — только пришли и уже прощаться. У лидера советских фантастов даже время течёт иначе. Ещё раз утопили ладошечки в огромной кисти Ивана Антоновича. Во дворе помахали руками провожавшим из окна Ефремовым — маленькая жена на фоне громадного, контражуром, мужа.
— Слушай, старуха, — молвил я. — Давай в пятницу устроим им пельмени по-татарски? И Камилла прихватим…
— Как чудесно ты придумал, — порадовалась Галя».
…После ухода гостей Иван Антонович подсел к телефону: надо было поговорить с академиком Владимиром Васильевичем Меннером: хотелось бы, чтобы кафедра палеонтологии МГУ взялась рецензировать докторскую диссертацию Чудинова. Меннер согласился. Иван Антонович тут же позвонил Петру Константиновичу. В голосе его звучали удовлетворение и радость: наконец-то он довёл своего ученика до ума. Они разговаривали долго, около получаса. Стрелка часов приближалась к одиннадцати, когда Иван Антонович наконец положил трубку.
В это время на другом конце Москвы Галина Ахметова читала машинописные страницы романа «Тайс Афинская».
Спартак Фатыхович писал:
«А потом наступило 5 октября. Кто знает, как это было? Может быть, и так…
В четыре часа утра Иван Антонович проснулся оттого, что остановилось сердце. Несколько секунд лежал без движений, выжидая. Сердце молчало. Он хотел подтолкнуть его, как толкают не вовремя остановившиеся часы, но не смог поднять руку. «Всё, — мелькнула мысль, — броненосец пошёл ко дну… Как будет жить Таютик?..»
Он повернул голову к постели жены и постарался улыбнуться, чтобы та, проснувшись, не испугалась его неподвижного лица.
Он лежал и улыбался…»
Грани кристалла
Примчался на своём «запорожце» Аллан, прибежали Мария Фёдоровна и Чудинов, приехали друзья. Но уже не изменить случившегося: Ефремов умер так, как уходили из жизни его любимые греческие герои, — с улыбкой.
5 октября в почтовом ящике Таисия Иосифовна нашла письмо от французской школьницы. Девочка просила прислать ей роман «Туманность Андромеды» с подписью автора, чтобы поставить на полку среди книг любимых писателей.[331]
Письма, адресованные Ивану Антоновичу, приходили ещё долго. Свет погасшей звезды мчался в пространстве. В ноябре увидела свет фундаментальная статья «Космос и палеонтология»…
6 октября в Центральном доме литераторов прошла гражданская панихида, организованная Союзом писателей. Тело Ефремова кремировали, и Таисия Иосифовна горько удивлялась, почему так быстро, на второй день, вопреки обычаю хоронить на третий день.
Спешка объяснялась до боли просто: 6 октября пришлось на пятницу, рабочий день, 7-е и 8-е соответственно — на субботу и воскресенье. Те, кто отдавал правлению Союза писателей СССР распоряжение о панихиде, знали, что на похороны выдающегося писателя (в XXI веке его бы назвали культовым) в выходные соберётся огромное количество народа. Какие настроения будут высказываться и подогреваться в этой толпе? А так — раз, и панихида, и опомниться никто не успел. Вот и ленинградцы, собравшиеся было выехать в пятницу вечером, не успели проститься с другом.
Разбирая бумаги мужа, в ящике стола Таисия Иосифовна нашла два прощальных письма Ивана Антоновича. Одно было написано 1–7 мая 1966 года в больничной палате после отёка лёгких, второе — летом 1972 года. И записная книжка с советами ей, жене, — как жить дальше.
Из книжечки советов: «Помнить, что все письма не экспедиционные, не семейные, фото, записи, адреса — ничего не сохранилось с периода 1923–1953 гг. Я всё уничтожил, опасаясь, что в случае моего попадания в сталинскую мясорубку они могут послужить для компрометации моих друзей. По тем же причинам я сам не вёл никаких личных дневников…
…Но вот на что обращай самое тщательное внимание, соблюдай самую максимальную осторожность. Одно дело, пока ты со мной — в случае чего тебя не тронут из-за меня, если конечно самого не тронули бы. Оставаясь одна, ты подвергаешься опасности любой провокации и при твоей доверчивости и прямоте можешь пострадать… Может прийти сволочь, прикинувшись твоим и моим другом или поклонником, вызвать тебя на откровенный разговор… а потом обвинить тебя в какой-нибудь политической выходке, схватить, а то и засудить. Всё это памятуй всегда, не пускай неизвестных людей, а впустив, никогда не говори запальчиво или откровенно с неизвестным человеком. Немало шансов, что это окажется дрянь, подосланная или просто решившая воспользоваться беззащитностью».
Письмо 1966 года:
«Я должен тебе это написать. Состояние моего сердца такое, что может быть всякая случайность практически в любой момент. Это совсем не значит, что я живу сейчас, когда пишу это, под страхом или предчувствием, или не хочу жить. Вовсе нет. Мне хотелось бы пожить для тебя как можно дольше, конечно, более или менее здоровым, во всяком случае, в приличном состоянии. Я так крепко и глубоко люблю тебя, что весь без остатка привязан к тебе, но было бы не мудро и трусливо не видеть возможности внезапного конца, на который, в силу болезни, больше шансов, чем у других людей. Так вот, на случай внезапности, когда я и сказать-то тебе ничего не успею, а ты будешь так нуждаться в том, чтобы я тебе посоветовал, как быть, я и написал эти советы: конечно, меня надо сжечь, а урну или похоронить <…> хорошо бы на Карельском перешейке на <…> маленьком кладбище. Это не спешно… Помогут Дмитревский, Брандис, вообще ленинградцы. Если это трудно, то неплохо попросить лётчиков, летающих над горами Киргизии или в Казахстане, в районе Иссык-Куля бросить с вертолёта над скалистыми вершинами Тянь-Шаньских гор. В этом может помочь Андрей Меркулов, даже О. К. Антонов, если ему написать. Но Карельский как-то лучше, ближе к тебе…
…Мои прежние записи сохранить у себя, будет время — разобрать. Может, там будут мысли, полезные Стругацкому или нужные для какого-нибудь очерка».
«Литературные записи по Монголии и Китаю можно отдать в ИРЛИ, если им нужно. При пеоепечатании моих книг или переводов ничего не позволяй сокращать. Издавать только полностью, по уже изданным текстам… Если успею написать ещё две-три книги сверх «Лезвия», тогда останешься моим издательским представителем и хранителем материалов. Я очень виноват <…> что не сумел тебя обеспечить, но это требует много времени в нашей скверно устроенной стране. А вот времени-то нам и не вышло».
«Не говори никому, что после меня остались какие-нибудь литературные рукописи, чтобы не привлекать ничьего внимания. Зато говори, что осталось много архивов, писем, научных фотографий, которые надо разбирать, расклеивать по альбомам, так же, как и научную литературу. Всё это поможет оборонять квартиру, хотя, может, и не будут выталкивать».
«Очень опасайся всяких высказываний. Ты вспыльчива и можешь наговорить чего-нибудь, а может быть, люди будут тебя сами провоцировать, [чтобы] или донести, или воспользоваться каким-либо добром. Особенно, если считают, что у тебя 30 шубок и миллион на сберкнижке. Никто не поверит, что мы с тобой ничего не накопили, кроме разве книг. Вообще помни, что пока тебя будут рассматривать как вдову писателя И. Ефремова, к тебе могут лезть с разными вопросами и воспоминаниями. Но ты уже знаешь цену корреспондентам».
«Люди, чтобы ощутить своё превосходство, стараются унизить «ближних». Поэтому, если будут болтать или даже осмелятся сказать тебе, что вот, мол, она ничего собой не представляла, а Ефремов сделал из неё человека, не поддавайся и не возмущайся. Никто не мог «сделать» тебя такую, какая ты есть, твоя индивидуальность и есть неповторимая и неоспоримая драгоценность. Естественно, что, прожив со мной столько лет, ты многому научилась просто из-за энциклопедичноети моих знаний. Но ведь и я многому научился от тебя, и, прежде всего, стал гораздо лучше в постоянном свете и тепле твоей любви. Поэтому знай себе цену и никогда не обращай внимания на подобную болтовню».
«С 1955 года ты непрерывно оберегаешь меня, как ребёнка, отдавая все свои силы <…> чтобы было спокойно и светло, оберегаешь как человека, как писателя от психов и подлецов, лезущих ко мне, и всё это вместе с помощью мне в рукописях, почти бесконечных телефонах… Я, конечно, устал от жизни, от своих постоянных болезней, от большой работы и от частой своей беспомощности и, не будь тебя со мной, уже окончил бы свой жизненный путь. Но сейчас, пока ты со мной, я (и это чистая правда) счастливей, чем когда бы то ни было, потому, что милостивые боги послали мне такую чудесную, любимую, как ты, моя Фаюта… В это трудно поверить кому другому, но каждый день и, особенно, вечер, проведённый без тебя, кажется бесконечно пустым. Я могу читать, писать, размышлять о чём угодно, но нужно, чтобы ты была тут же. Иначе даже трудно описать, какое беспросветное чувство одиночества и тоски овладевает мною. Никогда ещё не было в жизни так, и это не от слабости и болезни, хотя, конечно, они усиливают это ощущение. То, что не могу, если уж очень хочется, встать и одеться и удрать к тебе. Помнишь, как писал Толстой о Телегине и Даше — той единственной двери, до которой бы дотащиться, даже умирая…»
Двадцать лет спустя Таисия Иосифовна впервые открыла два прощальных письма ученику и другу Ивана Антоновича Петру Константиновичу Чудинову, позволила опубликовать отрывки.[332]
Дачным летом 1972 года Иван Антонович мужественно предчувствовал близкую смерть. Из второго прощального письма:
«Уходя, больше всего беспокоюсь о том, что не смог создать тебе даже необходимого, на несколько лет, скажем, десять, запаса денег, словом, ничего. И горько ещё, что не умею я писать как следует, чтоб передать миру всю неувядаемую прелесть твоей души, заботы и добра, которыми ты окружила <…> последние, болезненные годы моей жизни. Я никогда не чувствовал себя, несмотря на неизлечимую болезнь, ни одиноким, ни больным, так нежно и добро ты обставила мою жизнь… Прости меня, маленькая, это не чувство вины <…> а досада на судьбу, которая не дала мне возможности хотя бы собственным творчеством показать тебе всю драгоценность твоей души… Если бы ты только знала, насколько лучше я стал в жизни с тобой, ты бы поняла, что созданием самых лучших своих произведений я обязан только тебе, тому высокому огню души, который ты сумела зажечь и поддерживала его во всех болезнях и невзгодах нашей с тобой жизни».
«В этом же конверте письмо, написанное <…> давно, в 1966 году во время болезни. Там я прошу тебя о разных способах похорон, но всё это от больного одиночества. В моём теперешнем нормальном состоянии всё это кажется ненужным, остаётся лишь просьба сжечь… рассыпать где-нибудь в степи или в горах, невозделанных, непаханых… а в общем, как сама захочешь…»
«Мне бы хотелось, чтобы ты побывала в тех местах, где мы были с тобой и где я мечтал побывать с тобой вместе. Съезди, конечно, в Ленинград и на Карельский, пройдись по ботаническому саду и Кировским островам, посмотри на Буддийский храм и на озеро Красавица, съезди в Крым, посмотри на Ай-Петри, погуляй в Никитском саду под нашими любимыми кедрами и секвойями, съезди в Гурзуф и особенно в Уютное, где Генуэзская крепость и «Фаютин сад». Искупайся в Новом Свете, побывай в Феодосии и дойди до Берегового. И во всех этих местах я буду с тобой, потому, что мои глаза смотрят на всё это рядом с тобой и большое счастье нашей любви жило здесь вместе с нами».
Как много чёрных сплетен гналось за Тасей в первые годы её общения с Иваном Антоновичем! Но они сумели найти чистый путь, прожив не чужую, навязываемую инфернальным обществом жизнь, а свою, яркую, стремительную, мощную.
Два прощальных письма — самая большая драгоценность Таисии Иосифовны.
Из Коктебеля — телеграмма: «Плачу вместе с вами. Маруся».
Евгений Брандис написал вдове доброе, светлое письмо поддержки, понимая, что предстоит огромная работа по сохранению наследия Ефремова, собирался вместе с Дмитревским готовить новую версию книги «Через горы времени». (Она так и не была переиздана, несмотря на хлопоты авторов.)
Неожиданно Брандис получил посылку из Свердловска. Имя отправителя было незнакомым: Андрей Ильич Багаев. В посылке Евгений Павлович нашёл полную библиографию научных трудов, художественных произведений и всех зарегистрированных в книжной, журнальной, газетной летописях выступлений Ивана Антоновича в печати, а также статей и рецензий на его сочинения. Переписанная от руки, чётким почерком, библиография содержала 382 записи и включала издания по всей территории СССР. Будучи сам дотошным библиофилом, Брандис поразился её полноте, найдя много названий, которые он невольно пропустил в своих исследованиях. Свердловчанин, молчаливый почитатель творчества Ефремова, вложил в составление и переписку библиографии немалый труд. Получение этой огромной, бескорыстно проделанной работы до слёз тронуло Брандиса и поразило Таисию Иосифовну.
В осиротевшую квартиру, чтобы не оставлять вдову наедине со своим горем, временно переселилась Мария Фёдоровна Лукьянова. Каждую ночь она видела, как Тася вскакивала с постели и бежала в тревоге к кровати мужа, не сразу осознавая, что она пуста.
Таисии Иосифовне пришлось взять на себя тяжёлую работу — разослать всем корреспондентам Ивана Антоновича сообщения о его смерти. Принимать соболезнования было тяжело, но утешало ощущение любви, которое друзья и обычные читатели испытывали к её мужу.
Через месяц ей пришлось вспомнить о тех советах, которые оставил Иван Антонович в своей книжечке.
Спартак Ахметов со слов Таисии Иосифовны рассказал о произошедшем 4 ноября в очерке «Обыск» (входит в роман «Чёрный шар»):[333]
«Четвёртого числа, в преддверии великого праздника Октября, в квартиру № 40 позвонили. Тасенька и Мария Фёдоровна проснулись поздно, только сели за чай. Открывают дверь — домоуправ.
— Доброе утро. У вас в квартире тепло?
— Здравствуйте. Спасибо, батареи горячие.
— Вот и хорошо…
Мнётся у двери, не уходит. И тут мимо него друг за другом быстро прошли неприметно одетые пареньки. Один из них, голубоглазый и круглолицый, ловко раскрыл перед глазами Таисии Иосифовны красненькую книжечку:
— Капитан…
— И что?
— По имеющимся у нас сведениям, вы храните идеологически вредную литературу. Предлагаю её сдать.
— Простите, вы ошиблись. Это квартира писателя Ефремова.
— Мы знаем, куда пришли.
— Но…
— Сдадите ли вы добровольно антисоветскую литературу?
— Не понимаю…
— В таком случае ознакомьтесь с ордером на обыск.
Ещё документ. Потом представил понятых (стеснительный домоуправ в домашнем и интеллигентного вида мужчина в пенсне). Потом предложил Таисии Иосифовне и Марии Фёдоровне пройти в спальню, и здесь их обыскала специально для этого приспособленная бабёнка.
И пошло. Девять пареньков, восемнадцать прилежных рук, выстроились гуськом и закружили по комнате. Один берёт книгу, просматривает, передаёт второму, тот просматривает, передаёт третьему… Восемнадцать глаз контролируют друг друга. Роются в стеллажах, ковыряются в шкафах, шарят в тумбочках, копаются в белье (и в грязном белье?), кудахчут в ванной, повизгивают в туалете. Особенно уважают тетради, блокноты, рукописи, фотографии. Простукивают стены и полы, просвечивают картины.
Собачьей стаей окружили письменный стол.
— Покупной или по заказу?
— По заказу.
— Тайников нет?
— Зачем они?
— Посмотрим… Это что?
— Не знаю.
— Значит, так. Со слов Ефремовой Т. И., содержание тайника ей неизвестно. Вскрыть!
Отыскали-таки потайной ящичек, в который столяр спрятал дубликаты ключей. Тасенька и не знала о нём.
— От чего ключи?
— От письменного стола, — присмотрелась Таисия Иосифовна.
Попробовали — действительно.
И опять — гуськом по комнате, как перелётные птицы, как собачья свадьба. Корректные, деловые. Всё ставят на место. Подравнивают книги на полках, аккуратно укладывают грязное бельё, прикрывают сливной бачок в туалете. Всё на местах, но квартира умирает. Возьмите человека, разберите на атомы, а потом сложите, как было. Будет жить человек? Квартира тоже не будет…
Читают письма.
— Кто такие Фаюта, Таюта, Тасенька, Зебра?
— Это я.
— Кто такой Волчек?
— Иван Антонович.
— Почему?
— Одно из домашних имён.
— Волк — это тоже он?
— Да.
— Довольно-таки зловещая кличка.
— Почему же? В сказках этот умный зверь помогает героям.
— А почему — Волк?
— Потому что я — Красная Шапочка!
Вдруг покраснела Тасенька, выхватила одно письмо, спрятала на груди.
— Это моё. Вам читать нельзя…
Урна стоит в шкафу, завёрнутая в полотенце. Прикрыла маленьким телом урну. Не смейте трогать.
Повернула портрет мужа лицом к стене:
— Не смотри на это, Волчек!
Тасенька-Таюта, как ты всё это вытерпела? Где нашла сил вынести двенадцать часов разглядывания, ощупывания, перетряхивания? Ты плакала и опять зажимала сердце. Ты топорщила пёрышки, бросаясь навстречу ощеренным пастям. Ты защищала своего Волчека…
А ищейки притомились. Бегают по очереди к оставленной за углом машине подкрепиться бутербродом и чашечкой кофе. Опустили уши и нюхают вполноздри. Разочарованно переглядываются.
— Типичный ложный вызов.
— Да-а-а…
— А ничего книжечки, правда?
— Я «Туманность Андромеды» с детства люблю.
— Читал? На тридцать шесть языков переведено.
— Первый фантаст — что ты хочешь?
— Простите, Таисия Иосифовна, чьи это такие прекрасные рисунки?
— Читательница одна прислала.
— Как здорово! Она что — профессиональный художник?
— Нет. Поступала два раза — не приняли.
— Да… Такое у нас бывает.
— Золото и другие драгметаллы имеются? — нарушает идиллию капитан.
— Ищите, — бьёт копытом Зебра.
Приволокли металлоискатель, заелозили по комнатам. Нашли коробку с металлическими рублями. Вздохнули и поставили на место.
Мария Фёдоровна понимает — работа есть работа. В нашей стране всякий труд почётен. Даже советует:
— Вы бы разделили квартиру на участки — быстрее бы дело пошло. Геологи так всегда работают. У каждого — свой маршрут.
Не послушались пареньки. Двенадцать часов искали то не знаю что и складывали в кучу изъятые предметы: том Брема (переплёт подозрительно толст), коллекцию минералов (зачем?), ампулку с лекарством (почему?), фотографии Ефремова в юности и зрелости, документы, железный штырь с набалдашником (Иван Антонович подобрал на улице — любил тяжёлые предметы), последнее письмо… Итого, сорок девять наименований…
Вели протокол, каждый предмет дотошно описывали.
— Вот вы обыскиваете, — сказала Таисия Иосифовна, — а сейчас готовится собрание сочинений Ефремова.
— Ну и что, — сказал капитан, — одно другому не мешает.
Двенадцатичасовая пытка…
А по улицам Москвы развешивали флаги и выставляли портреты вождей. И цены на красные гвоздики подскочили. Вся страна готовилась к празднованию Великой Октябрьской социалистической революции…
Иван Антонович был готов к обыску. Он давно сжёг все старые дневники, все письма читателей, слишком уж недовольных жизнью, вернул рукописи, которые никогда не станут книгами. И если действительно его душа сорок дней оставалась на земле, то ей весело было глядеть на бессмысленное топтание пареньков, вооружённых новейшей аппаратурой обыска, на их тягчайший труд по перелистыванию тысяч книг.
Вот только прогнать кагебешников она не могла. Псы-материалисты в человечьи души не верят.
Закончили в полночь. Особенного беспорядка не было, но для Тасеньки всё мироустройство оказалось нарушенным: каждой драгоценной бумажки касались их руки. Кто-то привёз индийские сандаловые свечи, мы — можжевеловые веточки. Окурили каждый уголок, и ей полегчало — изгнан кагебешный дух».
Следственная группа изъяла 41 предмет, в том числе фотографии Ефремова разных лет, квитанции, несколько писем, гомеопатические препараты в баночках, деревянную разборную трость, металлическую палицу (две последние вещи не вернули, классифицировав их как холодное оружие).
Вскоре Таисии Иосифовне позвонил редактор «Молодой гвардии» Сергей Жемайтис и сказал, что собрание сочинений Ефремова запрещено к выходу 17 ноября писатель-фантаст Александр Казанцев обратился в Политбюро ЦК КПСС — в письме он возмущался против обыска в квартире Ефремова.
22 января 1973 года Управлением КГБ при Совете министров СССР по Москве и Московской области по факту смерти Ефремова возбуждено уголовное дело.
По городу поползли подлые слухи, что Ефремов — не Ефремов, а английский шпион, которого подменили в Монголии. «Будто во время обыска нашли радиостанцию, восемь мешков антисоветской литературы и иностранное золото» (С. Ахметов).
Многие ломали голову: что именно искали в квартире писателя?
В любом случае интерес спецслужб был закономерен. Во-первых, месторождения золота искал? Искал. Во-вторых, обширная переписка с иностранцами. В-третьих, визиты этих самых иностранцев в Москву. Да что там иностранцы! Вы посмотрите повнимательнее, с кем он общался!
И. М. Майский, дипломат, академик — английский шпион, по версии Берии.
Н. Ф. Жиров — спецхимик, его ещё в 1930-х годах за границу работать приглашали. Атлантиду изучал — а где Атлантида, там и оккультизм.
Г. К. Портнягин — разведчик в Харбине. Да, советский, но вот брат его, Михаил, был некоторое время у Семёнова, атамана Сибирского войска. Да и мало ли каких идей в Харбине нахвататься можно!
Г. Г. Пермяков, он же Ланин. Писатель, да. Но при этом — личный переводчик последнего китайского императора Пу И. На закрытых объектах бывал.
П. Ф. Беликов — написал биографию Н. К. Рериха, который долгое время считался английским шпионом. К тому же Беликов переписывался не только со всеми Рерихами, но и с их представителями в Нью-Йорке.
Б. Л. Смирнов — не только переводчик Махабхараты, но и нейрохирург, ставивший опыты по непосредственной передаче мысли.
В. И. Дмитревский — до войны за границей работал и осуждён был как «враг народа». Правда, реабилитирован, но ведь сидел!
В. Д. Иванов — писатель, оно конечно, Древняя Русь. Только вот его роман «Жёлтый металл» был изъят из продажи: тема нелегальной добычи, скупки и перепродажи золота в СССР вызвала жуткий скандал в партийном руководстве. И от «Русского клуба», членом которого он состоял, национализмом попахивает…
Иван Антонович хорошо знал, что такое Лубянка. Не случайно в романе «Лезвие бритвы» появляется образ «геолога-эксплуатационника». Но писатель не мог даже предугадать, что удостоится посмертного обыска.
Имя Ефремова стали изымать из печатных работ; из палеонтологических докладов исчезли упоминания его трудов. Журнальные некрологи сняты. Два доклада об Иване Антоновиче на предстоящей конференции по тафономии запрещены. Внутренний цензор усомнившихся и испугавшихся был настороже. Даже из кроссвордов вымарывалось имя ставшего вдруг неугодным писателя.
В январе 1973 года оказалось, что фамилия Ефремова во всех каталогах подписных изданий аккуратно заклеена, подписка на собрание сочинений прекращена (в итоге она так и не состоялась). Почти все друзья, ученики, знакомые перестали звонить и навещать квартиру Ефремовых. Остался едва ли десяток близких…
В мае 1973 года Таисия Иосифовна писала Анатолию Фёдоровичу Бритикову в Ленинград: «Я уверена, что не «нелепое недоразумение», а скорее гнусная подлость скоро выяснится. Ивана Антоновича имя не смогут запачкать, как бы завистники и клеветники этого ни хотели. Читатели не дадут его в обиду, слишком много добра и света даёт он своими книгами. Я это увидела 22 апреля — в день его рождения. Ему принесли много великолепно красивых цветов, а ещё больше — благодарности. Видимо, кому-то показалось, что у него мало популярности. Теперь, кто и не читал его, обязательно прочтёт. Грустно, конечно, что мне пришлось во многих людях разочароваться. Вы единственный из ленинградцев, т. е. литераторов, кто написал мне после всего этого. Спасибо Вам большое. А читатели не оставили меня в моём горе. У меня появились новые друзья, верящие в Ивана Антоновича и его будущее.
Сегодня я отвезла в «Молодую Гвардию» «Тайс Афинскую». Должны выпустить её в этом году. Вот и ответ на мои письма и письма читателей».[334]
В июне 1973 года вдова отправилась в Ленинград, чтобы исхлопотать место для могилы мужа на кладбище в Комарове. Когда разрешение было получено, Таисия Иосифовна похоронила урну с прахом.
Иван Антонович завещал часть праха развеять у берегов Греции, и если удастся, над озером Иссык-Куль, где побывал в 1929 году, — в восточной части этого озера могила Николая Михайловича Пржевальского. Первое пожелание выполнить удалось.
Таисия Иосифовна отважно вела борьбу за честное имя мужа, звонила и писала в Совет министров А. Н. Косыгину, в прокуратуру по надзору за следствием КГБ, в Московское отделение КГБ.
Таисия Иосифовна рассказывала:
«В 1974 году, 4 марта, в понедельник, в Ленинграде должна была открыться юбилейная сессия, посвящённая тафономии. Должны быть два доклада: М. В. Куликов — о тафономии, Л. И. Хозацкий — доклад об Иване Антоновиче. В пятницу вечером, 1 марта, мне позвонил Куликов и сказал, что открытая сессия состоится, но два эти доклада об Иване Антоновиче сняты. В программе сессии доклады и имя Ефремова были не зачёркнуты, а выбелены. И все выступления были без имени автора «Тафономии».
В это же время вышла книжка Г. Г. Мартисона «Загадки пустыни Гоби», где начальником палеонтологической экспедиции ПИН стал директор института Ю. А. Орлов, а имя Ефремова вообще отсутствовало.
Утром 4 марта я позвонила в КГБ, разговаривала с В. В. Каталиковым и рассказала о Сессии ВСЕГЕИ и о снятии докладов. Каталиков сказал, что КГБ не имеет к этому отношения. И это перестраховка. Тогда же он сказал, что я могу писать наверх, ссылаясь на них. Вот тогда я написала Брежневу. Взятые при обыске вещи мне вернули позже, летом, со словами, что мы-де Ивана Антоновича ни в чём не обвиняли и не обвиняем, и в самых высоких инстанциях можно на это ссылаться».
На письмо Л. И. Брежневу из Центрального комитета партии пришёл ответ: всё разобрано, все недоразумения будут сняты. Буквально на следующий день позвонил директор издательства «Молодая гвардия» В. Н. Ганичев — вновь запускают подготовку трёхтомника. Это была победа.
Таисия Иосифовна долго раздумывала о проекте памятника на могиле мужа. Старые ленинградские друзья — художница Ирина Владимировна Вальтер и пианистка Алла Петровна Маслаковец — считали, что памятник должен отражать многогранность личности Ефремова. Таисия Иосифовна стала ходить по кладбищам — смотреть, какими бывают памятники, и вспомнила пустынный многогранник, который Иван Антонович привёз из Монголии. Если увеличенную копию его высечь из лабрадорита — благородно-чёрного, с радужным сиянием синего — любимого цвета Ефремова… В этом помог товарищ Аллана.
Памятник получился лаконичным и выразительным.[335] В светлом сосновом лесу из гранитной плиты словно вырастает небольшой кристалл, блестящий чистыми гранями. Надпись проста: «Иван Ефремов. 1908–1972».
В 1975 году «Молодая гвардия» выпустила первые два тома собрания сочинений — тиражи по 200 тысяч экземпляров, в 1976 году вышел третий том и — в серийном оформлении, но без номера тома — роман «Тайс Афинская», тираж которого в 100 тысяч был мал для огромной страны (вскоре последовали допечатки тиража). В 1980 году в таком же оформлении был выпущен том с гобийскими заметками — «Дорога ветров». Лишь одна книга пока не переиздавалась — «Час Быка».
В октябре 1976 года, перед празднованием семидесятилетия писателя, в Московской писательской организации была создана комиссия по творческому наследию Ефремова, председателем стал А. П. Казанцев, членами избрали П. К. Чудинова и Е. П. Брандиса. Евгений Петрович был удивлён, почему в неё не включили Дмитревского, хотел с помощью этой комиссии возобновить хлопоты об издании исправленной и дополненной книги «Через горы времени». Однако выпускать её без упоминания «Часа Быка» было бы нечестным, но на этом романе лежало табу.
Весной 1977 года в Союзе писателей СССР торжественно отметили семидесятилетие Ефремова. Хотя сам Иван Антонович и чуждался пышных празднований, но сейчас юбилей приобретал особый смысл. Это не было возвращением писателю доброго имени — Ефремов этого имени никогда не терял. Это было победой его друзей и читателей над собственными страхами, заставившими многих несколько лет не упоминать Ефремова, восстановлением веры в светлый мир будущего, который он описывал. Заседания проходили в разных городах, залы были полны, и Таисия Иосифовна, скромно остававшаяся в тени, радовалась, слыша добрые слова в адрес мужа.
Много для сохранения памяти писателя сделали советские космонавты, особенно Владимир Александрович Джанибеков и Георгий Михайлович Гречко.
Таисия Иосифовна привела в порядок бумаги, собрала и сдала с помощью А. Ф. Бритикова рукописи и большую часть читательских писем в Пушкинский Дом РАН, в созданный ещё при жизни писателя Личный фонд И. А. Ефремова (Ф. 681). Путь Ефремова в науку начинался на Васильевском острове, на Тучковой набережной: Геологический музей располагался в доме номер два, первом здании справа от Биржи. В доме четыре, следующем за ним, в здании бывшей петровской таможни, где сейчас размещается Пушкинский Дом, хранится его архив.
Через «Литературную газету» Таисия Иосифовна обратилась к многочисленным корреспондентам Ефремова с просьбой выслать ей копии его писем. Систематизировала и сохранила значительную часть переписки с коллегами, друзьями, редакторами, литературоведами, иностранными учёными-палеонтологами и славистами — более 1200 писем.[336]
«Тайс Московская» выполнила основные пункты завещания мужа. Уже в начале XXI века она разрешила опубликовать рассказ «Каллиройя» и повесть «Тамралипта и Тиллоттама», которые ждали своего часа несколько десятилетий.
После смерти Ивана Антоновича ей пришлось пойти на службу: нужны были деньги на жизнь, кроме того, по закону нельзя было быть безработной. Стаж у неё по трудовой книжке к 1972 году насчитывал всего семь лет, и при наступлении пенсионного возраста она могла рассчитывать лишь на минимальную пенсию. По совету Елены Дмитриевны Регель Таисия Иосифовна поступила в Институт морфологии животных Академии наук, в лабораторию эмбриологии, основанную И. И. Шмальгаузеном. Став лаборантом, она готовила препараты для исследований H. С. Лебёдкиной и И. М. Медведевой. Однако через некоторое время возникла возможность заняться секретарской работой — в Институте физики Земли, в отделе В. И. Кейлиса-Борока. Институт возглавлял академик М. А. Садовский, однокашник Ивана Антоновича, с которым они в петроградской школе вместе показывали ученикам диафильм о палеонтологии. Он приказом разрешил Таисии Иосифовне работать на дому. Под начальством В. И. Кейлиса-Борока она оставалась и после 1989 года, когда он создал Международный институт прогноза землетрясений и математической геофизики. На пенсию вышла в 1999 году.
После развала Советского Союза страна переживала тяжёлые годы. Нелегко было и Таисии Иосифовне, однако она не продала ни одной книги из библиотеки мужа, ни одной ценной вещи.
Сорок лет в квартире писателя всё хранится так, как было при его жизни: мебель, предметы искусства, экспедиционные материалы и уникальная библиотека из сотен томов — не только свидетельство широты интересов Ефремова и источник его творческой мысли, но и подлинный памятник культуры XX века.
Сорок лет — каждый год — 22 апреля — в квартире на улице Губкина собираются люди, чтобы отдать дань уважения великому мыслителю. Сначала это были друзья и близкие, затем стали появляться молодые читатели, на формирование которых повлияли книги Ефремова. Ежегодно проводятся чтения, посвящённые дню рождения.[337] В Вырице, в библиотеке, энтузиастами создан маленький музей Ефремова.
Читатели стремятся не только углубиться в книги, но и побывать в тех местах, где путешествовал сам писатель или его герои. Самой масштабной стала экспедиция 1997 года в честь девяностолетия Ефремова: старшеклассники физико-математической гимназии города Сарова под руководством Николая Малышева отправились в Южную Якутию, в бассейн Чары. Там, в северной части хребта Удокан, они разыскали голец Подлунный и установили на нём памятную доску в честь Ефремова, первым из исследователей поднявшегося на эту вершину в 1934 году.
5 октября — день памяти. Так случилось, что в этот день с разницей в 17 лет ушли из жизни два человека: в 1955 году — Елена Ивановна Рерих, в 1972-м — Ефремов. Космос Ивана Антоновича раскрыт для будущего, для молодых умов и творческих исканий.
Антропология ефремовского космизма
Мышление Ефремова было особенным не только в силу строгой научности. Он стремился рассматривать все проблемы, сопрягая их с существованием мироздания в целом. Взгляд на Землю как на космическое тело, подчинённое общим для вселенной законам, и на человека как на активный фактор происходящих во вселенной изменений называется космизмом.
Космизм — порождение Серебряного века русской культуры и науки. Научный космизм — естественная ступень понимания происходящих во вселенной процессов. Неудивительно, что это явление зародилось именно в России. Русскому человеку всегда были свойственны целостность восприятия мира и стремление доискаться до последней истины. Сто лет назад в нашей стране революционные процессы захватили все стороны жизни. Потребность в общественных преобразованиях привела к социальной революции. Чуткое искусство ещё раньше откликнулось на взрывы нового качества феноменом Серебряного века. Прорыв в научно-философских знаниях привёл к появлению русского космизма.
Имена таких учёных, как В. И. Вернадский, К. Э. Циолковский, А. Л. Чижевский, широко известны и сегодня. Каждый из них явился энциклопедистом, основоположником нескольких синтетических наук и предсказывал активное взаимодействие человека с окружающим его мирозданием.
Вернадский создал учение о живом веществе, ставшее квинтэссенцией новой науки биогеохимии. В нём человек представлен мощной геологической силой, созидающей новую планетную оболочку — ноосферу, иначе — сферу разума.
Циолковский — творец своеобразной космической философии, предвосхитивший конечный переход разума в фазу «лучистого человечества» (о чём позже стали писать многие фантасты — от Кларка до Головачёва), родоначальник ракетостроения и пророк современной космонавтики. Он писал задолго до первых опытов в освоении межпланетного пространства: «Я свободно представляю первого человека, преодолевшего земное притяжение и полетевшего в межпланетное пространство… Он русский… По профессии, вероятнее всего, лётчик… У него отвага умная, лишённая дешёвого безрассудства… Представляю его открытое русское лицо, глаза сокола». Каждый из нас видел Юрия Гагарина.
Циолковский утвердил единство мира в работе «Монизм вселенной», был убеждён в специфической разумности атомов, и в этом его материализм сочетается с панпсихизмом.
Чижевский посвятил значительную часть своей жизни изучению Солнца и его влияния на земную жизнь. Он стал основателем гелиобиологии, открыл зависимость земной истории от одиннадцатилетнего цикла солнечной активности, обнаружил лечебные свойства отрицательных аэроионов (знаменитая «люстра Чижевского»).
Существовало и много других мыслителей и деятелей искусства, обратившихся в первой половине XX века к взаимодействию человека, Земли и космоса. Фёдоров, Флоренский, Скрябин, Волошин, Рерихи…
Фундаментальная черта всего русского космизма — идея спасения человечества путём активного преобразования природы при переживании единства человека с космосом. Русский космизм вводит космическое измерение в бытиё человеческого общества и его высшей ценности — творящей личности.
Нынешняя теория самоорганизации (синергетика) стоит на идее многовариантности эволюционных направлений и возможности выбора в точках разветвления этих направлений, причём сам этот выбор и будущий провидимый его результат, так сказать, «зов» будущего, формирует настоящее, сам тип развития, — как бы вводит предопределение в процесс. Так рефлекс высшей цели, необходимость которого постулировали все космисты, входит в современную науку.
В отличие от иных академиков, горделиво утверждавших чуть ли не законченность знания, говоривших об исчерпанности законов природы и тем самым отвергавших возможность появления принципиально новых знаний о мире, космисты ясно понимали всю бесконечность пути познания и всю неисчерпаемость бытия.
Космисты осознали, что наблюдаемые ими самими радикальные преобразования жизни знаменуют собой только самое начало великих изменений в человеческой истории, подобных Осевому времени. Но теперь начинается обратный процесс — сведения воедино фрагментарного знания. Возникла идея о синтезе науки, религии и искусства — как далёкая перспектива. Поначалу процесс синтеза должен охватить промежуточные целостности. Учёные-космисты отметили, что внутри науки со всей неизбежностью происходит антропологический поворот, прежнее жёсткое деление на научные дисциплины оказалось сдерживающим фактором. Рождался процесс, имеющий огромную важность: применение методов одних наук к другим и синтетическое объединение наук воедино.
Логика развития науки подтолкнула исследователей, и на стыке разных областей знания возникли новые направления. При этом впервые была осознана роль человека, проявлен интерес к его возможностям. Возник вопрос: что собой представляет существо, накопившее столь громадный потенциал? Важнейшая составляющая русского космизма — гуманистическая, то есть человеческая, которая в рамках глобального рассмотрения становится антропологической характеристикой явления. Речь идёт об особом предназначении разума, становлении его явлением сначала геологическим, а после в полной мере космическим. Вселенная изменится, если из неё исчезнет человек. А раз человек важен для вселенной, то велика его ответственность перед её эволюцией.
Перелом научного понимания Космоса совпал с одновременно идущим глубочайшим изменением наук о человеке. С одной стороны, эти науки соединились с науками о природе, с другой — их объект изменился. Этот перелом произошёл именно потому, что «человек охватил своей жизнью, своей культурой всю верхнюю оболочку планеты» (Вернадский). Из-за этого и оказалось невозможным по-прежнему ограничиваться специализацией при изучении природных явлений. Обобщённое мышление стало для человечества вопросом насущного выживания. Выстраивать стратегию поведения теперь можно, лишь учитывая взаимосвязь природных явлений.
«Всякое проявление… организма должно рассматриваться в связи с теми процессами, которые имеют место в окружающей организм среде… Автономных организмов, вне связи с Землёй, в природе реально не существует. И потому понимание жизненных проявлений организма единственно возможно лишь при условии совокупного изучения проявлений этого организма и его материальной локализации — Земли», — пишет Чижевский. В другом месте он уточняет: «Мы привыкли придерживаться грубого и узко антифилософского взгляда на жизнь как на результат случайной игры только земных сил. Это, конечно, неверно. Жизнь же, как мы видим, в значительно большей степени есть явление космическое, чем земное. Она создана воздействием творческой динамики Космоса на инертный материал Земли. Она живёт динамикой этих сил, и каждое биение органического пульса согласовано с биением космического сердца — этой грандиозной совокупности туманностей, звёзд, Солнца и планет».
Вернадский чеканно сформулировал основной постулат новой науки: «Научно понять — значит установить явление в рамки научной реальности — космоса».
Антропоцентризм прежней науки невозможен при изучении космоса и включении этого космоса в представления об окружающей человека среде. А это включение получается само собой, непроизвольно, потому что характеристики жизни согласуются с космическими законами и необходимы для целого. Без живого такого космоса бы не было, он не мог бы существовать.
«Первородным грехом» человеческой мысли назвал антропоцентризм академик Н. Г. Холодный, считая необходимой замену его антропокосмизмом. Выстраивается диалектическая триада: космоцентризм мифологического сознания — антропоцентризм научного сознания эпохи модерна — антропокосмизм как синтез человека Земли и космоса.
Мысли у космистов придаётся исключительное значение. Чижевский тоже пишет о том, что сознание, присущее человеку, явилось тем геологическим и геохимическим фактором, который внёс новые процессы в ход химических реакций Земли. Разум человека уже включён в процесс самоорганизации материи, и этот факт должен быть использован с предельной эффективностью.
Активная роль разума — не умозрительное положение, но природная закономерность, новый компонент эволюции планеты и всего космоса.
В далёком будущем, по словам Циолковского, миссия человека — быть садовником космогенеза. Так что «взрыв в научной мысли в XX столетии подготовлен всем прошлым биосферы и имеет глубочайшие корни в её строении. Он не может остановиться и пойти назад. Ноосфера — биосфера, переработанная научной мыслью, не есть кратковременное и преходящее геологическое явление. Процессы, подготовляемые миллиарды лет, не могут быть преходящими, не могут остановиться» (Вернадский).
Краеугольный принцип диалектики — «всё связано со всем» — наполняется в мировоззрении космистов самым практическим смыслом. Научные результаты, ими полученные, позволили не только умозрительно декларировать давно известные истины, но и на языке точных наук описать некоторые практические аспекты. Надо сказать, что современные работы в области эволюционики совершенно с другой стороны подбираются к тем же самым вопросам и к тем же трактовкам, хотя работают в ином семантическом поле.
Исключительно ответственное отношение к собственной жизни при понимании чудовищной цены, которая за неё заплачена, сознательное сотрудничество со вселенной, оказывающейся далеко не безразличной к судьбам человечества и зависимой от него, — вот гуманистический пафос, озвученный русскими космистами пол века назад. Рождалось новое, антропологическое понимание вселенной, чем-то напоминающее пантеистическую мифологию Древнего мира, но насыщенное научным анализом современности.
Гусеница превращается в бабочку, бутон — в розу, межзвёздный газ становится звёздами, расплавленные минералы — кристаллами. Будучи подобен остальным созданиям, человек тоже развивается по определённому внутреннему плану (в биологии это утвердил Л. С. Берг). Каждому из нас нужно пытаться выявить свой внутренний, изначальный план развития, свой замысел, цель своей жизни. И здесь понимание продлевалось во внутренний космос каждого человека и человечества в целом.
«Даже учитывая исключительное планетное явление человеческой мысли и сознания, как это вскрывает для нас геохимия, такое решение мировой загадки оставляет чувство неудовлетворённости. Из всех решений может быть наиболее глубокое решение метемпсихоза в её буддийском решении — с боготворчеством путём возвышения поколений — отдельных из них личностей — к сверхчеловеческому состоянию. Но это состояние, очевидно, и намечается с ходом планетного времени», — размышлял Вернадский.
«Потенциал человеческой фантазии неисчерпаем. Но совершенно невообразимо, какую энергию должна будет развить психика, чтобы приучить себя к бездонным просторам Космоса, к его черноте с колючими звёздами, к беспредельному одиночеству в нём», — предсказывал Чижевский. Н. К. Рерих: «Ясно одно, что эволюция повелительно устремляет человечество к нахождению тончайших энергий».
Нетрудно увидеть, на каком мощном фундаменте покоится творчество Ивана Антоновича Ефремова и насколько хорошо с ним согласуется. Но, используя литературные формы, в чём-то он пошёл дальше своих учителей. Он разработал грандиозную концепцию мироздания, которая напрямую увязана со структурами человеческой психики. Сегодня, когда открыто многое из архивов мыслителя, понятен круг его чтения и общения, его слова наливаются особой глубинной зрелостью. Можно оценить объём ефремовской мысли, её самобытность и при этом увязанность с традицией русского космизма и радикального гуманизма в целом.
Примечательным в плане резонанса идей является также учение Калачакры, чей специфический календарь представлен в «Часе Быка». Основа Калачакры — доктрина единства бытия, отождествление макро- и микрокосма. Внешние явления прямо увязываются с психофизикой, так что, изменяя себя, человек непосредственно изменяет мир. Согласно легенде, буддийский учитель Атиша принёс учение из Шамбалы в 1027 году. Нетрудно увидеть концептуальную общность Калачакры с наиболее радикальными идеями Ефремова. Сейчас сходными вопросами занимается квантовая психология.
Мы подходим к вопросу гендера в мире Ефремова. Вообще говоря, гендер принято переводить как социальный пол. Когда социальный и биологический пол диссонируют, не совпадают — после накопления некоего критического количества рождаются извращённые результаты в целом по обществу. Поэтому в гендерном самоопределении каждого человека важно радикально следовать гуманистически понятой природе двуполого (а не трёх-, четырёх- и т. д. полого) человека.
Ничего этого сейчас нет. Нет, потому что женщины захотели добиваться успеха в мире, построенном по мужским законам. А не менять мир по-женски. И это иссушает их, уничтожает их пол. Наша современная культура — это один огромный гермафродит. Извращённая женскость, забывшая шакти и потопившая в своём тамасе доблесть и мужество, бьющаяся в непонимании и ужасе одиночества. Гермафродит — ребёнок Гермеса и Афродиты. Гермес — это слово, игра, иллюзия. Афродита — любовь. Ещё эллины понимали, что сочетание любви с виртуалом даст нечто странное. Нам стоило бы чаще оглядываться. Весь мир утоплен в виртуальных играх с любовью… А ведь ещё древние греки предупреждали!
Женщина с Клинком вместо животворящей Чаши — и есть духовный гермафродит. А после гибели женственности гибнет — что вполне естественно — и мужской пол, утерявший в женщине своё чистое асимметричное отражение. Рождается богомерзкая толерастия постмодерна с десятком гендерных самоидентификаций, отрицающая весь диалектически организованный космос. Расплата за своеволие — утеря жизненной силы, равнодушие к жизни, фатальное отчуждение. Это страшно. Женщина, пытающаяся стать мужчиной и подтвердить этим изначально неверный (по отношению к осевой норме) фрейдистский постулат, становится чёрной дырой, уничтожающей мир. Жизни не на чем обосноваться, никто её больше не бережёт.
«Мифы — это события, которые никогда не случались, но постоянно происходят» (Саллюстий).
Процесс экзистенциального познания мира необходимо суметь понять как взаимодействие мужского и женского начал — и никак иначе. В этом и есть синтез гендера.
Идея не нова. Но никто не расшифровывает, в чём состоит познание через это взаимодействие — обычно ограничиваются смутными представлениями, что-де мужчина и женщина, держась за руки и делая друг другу реверансы, благодарят за то, что не мешают друг другу жить.
В итоге на это боятся даже смотреть, табуируют и разрывают целостность на Единое и гендерное, после чего ищут целое уже вне гендера. Единое тогда спасительно предстаёт абстрактным, выведенным за рамки конкретного действия, зато погружённым в марево деклараций и общих слов, в то время как диалектическая биполярность гендера и есть проявление Единого на нашем плане бытия. Обретение внутренней целостности называется индивидуацией, и она лишь усиливает гендер, рождая часто внезапное чистое притяжение полярности, с которой теперь можно начинать творческий танец взаимодействия. Только между мощными полюсами рождается вихрь притяжения-отталкивания.
Природа черновиков не пишет. За нарушение законов мира современный человек расплачивается жестоко. Но так было не всегда. Ефремов говорит о будущем, опираясь на прошлое. Из прошлого, несмотря на его инфернальность, он вытаскивает возможность светлого и здорового будущего.
Неолитическое общество Чаши, о котором уже шла речь, как и будущее Ефремова, было гармонически гендерно организовано. Можно вспомнить, что Афродита первоначально была женой Гефеста, но об этом в мифах сохранились лишь воспоминания. Уже во времена Гесиода об этом говорится в прошедшем времени. Мужем богини любви уже тысячи лет является Apec. Любовь ушла от мирного творческого труда и сочеталась с войной…
Но ведь были Афродита с Гефестом!
Ведь именно Чатал-Хююк и поселения, подобные ему, имел в виду писатель, когда писал о новой породе широкобёдрых женщин в условиях осёдлого земледелия. Именно это, кстати, дало положительный опыт вынашивания и рождения; именно это способствовало исчезновению жуткого невроза палеолита, возникшего в том числе из-за родовых травм, связанных с образом жизни и нерациональной физиологией. Открытия Грофа показали степень влияния перинатального периода развития человека на способ его взаимодействия с миром в течение всей жизни. При постоянном передвижении палеолитических племён неизбежно формировался более вытянутый, узкобёдрый тип женщин, а вынашивание столь же неизбежно подвергалось угнетению и существенно большим опасностям. Сложные роды при беременностях, полных превратностей, — внешнее условие для появления в массовом порядке людей с повышенной тревожностью. Её было необходимо заклинать фиктивно-демонстративной деятельностью, как то: создавать сложнейшую обрядовую структуру, отступление от которой ломало хиленький внутренний космос. Образно выражаясь, мы можем наблюдать в этих процессах эволюцию психологического скелета на стадии хитинового панциря, расположенного снаружи, а не внутри организма. Аналогии, отсылающие к номогенезу, догоняют нас в разном обличье.
Разумеется, это глобальное обобщение, и локальные флюктуации неизбежны. Но в целом картина такова. Был и второй, уже чисто психологический зажим. Сознание явилось фактором отрицания инстинктивной природы, и не только в формулировках абстрактной философии.
Зачерпнём времени.
Несколько миллиардов лет развития жизни на нашей планете происходили в рамках одних и тех же закономерностей. Вектор эволюции — движение ко всё большей свободе от внешней среды и постоянству внутренней среды. Такое постоянство позволяет живому существу жить в разных условиях. Пример: динозавры — пресмыкающиеся, они были не столь совершенны, как первые млекопитающие, несмотря на всю свою мощь. Резкое изменение климата привело к гибели динозавров, в то время как мелкие, ничем не примечательные внешне существа смогли выжить и породить всё современное разнообразие зверей.
Вторым вектором является постоянное усложнение нервной системы, которое неизбежно привело к появлению мозга, а после и человека. Именно поэтому изначально самые приспособленные к любым условиям существа — одноклеточные и вирусы — не остановились в своём развитии.
Эти два вектора направлены в разные стороны, и удерживать баланс, точку нуля между ними оказалось возможно только через невероятное разнообразие, разветвление эволюционного древа.
Поэтому эволюция жизни, проходящая через беспрестанный разрыв противоположными тенденциями, становится путём смерти и страдания, инферно. Всякий вид живых существ стремится лучше приспособиться к окружающим условиям, преуспеть. Если ему это удаётся, если приспособление очень успешно — это гарантия уничтожения вида при изменении внешних условий. Стоит пересохнуть болоту, как погибнут все лягушки. Зарастёт луг — погибнут мыши. Медведи и лоси не смогут жить на открытой местности, а гепарды — в горах. Даже человеку сложно сориентироваться в ситуации, где все вокруг говорят на другом языке, едят другую пищу, носят другую одежду, делают другие жесты, смеются и негодуют по другим поводам.
Каждый вид животного занимает определённую экологическую нишу. Ниша исчезает — исчезает и животное. Такова цена за великолепное, но узкое приспособление. Тело горного козла великолепно приспособлено для передвижения по наклонным и сыпучим неровным поверхностям, по камням. Антилопа или зебра сразу сорвётся в пропасть, переучить их нельзя — надо менять форму тела и врождённые инстинкты. Также и козерог никогда не сможет убежать от хищника на равнине. Охотничьи приёмы снежного барса, рыси, которая прыгает с деревьев на добычу, и львов — категорически разнятся. У каждого вида оказывается своё приспособление.
Но закрытая система аналогична водоёму без проточной воды или никогда не проветриваемому помещению. Она превращается в болото, в место, непригодное для жизни. То же самое мы можем наблюдать у замкнувшихся на себе и своём узком национализме народов, отдельных людей, отгородившихся от остального мира. Это универсальный принцип, развитие в такой системе невозможно, только — до поры до времени — консервация с медленным сползанием.
Человек появился на стыке ареалов, он не привязан жёстко к определённой экологической нише. Человек — открытая система. Его тело универсально, и платой за это стала его слабость и незащищённость в биологическом смысле. Он может бежать долго и быстро, но недостаточно быстро, чтобы убежать от степных хищников. Он может лазать по горам и деревьям, но обезьяны, рыси или козероги делают это лучше. У него хорошее зрение, но он не может, как орёл, увидеть мышь с 20 километров или, как антилопа, видеть почти панорамным образом — на 360 градусов. Он стоит прямо, и это даёт ему возможность увидеть опасность издалека, но этим же он открывает самое уязвимое место — живот — и теряет устойчивость. Руками без когтей он может совершать много мелких операций, но они в итоге становятся намного слабее ног и не могут остановить хищника.
Человек идеальное (для дальнейшего развития нервной системы и мозга и свободы от внешней среды) и оттого несовершенное (в каждой конкретной экологической нише) животное. Он появился на стыке противоречий — частного, тактического приспособления здесь и сейчас (а дальше — тупик развития) и общего, стратегического приспособления, дающего потенциал на будущее развитие, но создающего вначале серьёзные сложности. Минус часто оборачивается плюсом в будущем. «Тяжело в ученье — легко в бою» — эта пословица Суворова идеально подходит для любой подобной ситуации.
Многофункциональность приспособлений тела — значит незавершённость их, возможность надстраивать новые способности.
Поведение всякого животного жёстко задано чёткими внутренними программами — инстинктами. Инстинкты бывают врождёнными (безусловными) и приобретёнными (условными). Это первая сигнальная система. У человека инстинктивная (программная) база оказалась слаба. Человек постоянно сталкивался с принципиально различными, порой противоположными условиями, так как существовал в очень широком диапазоне климатических и природных зон, мог менять их в течение жизни. Когда в компьютере начинают реализовываться противоположные программы, он зависает. В жизни такое зависание означало бы быструю смерть.
Следовательно, стало необходимо выходить из положения иным образом. Креативность, то есть способность преодолеть неожиданное препятствие совершенно новым способом, и передача этой жизненно важной информации — личного опыта — стали решающим фактором. Креативность не успевала закрепляться на уровне инстинктов. Стало необходимо делиться новым опытом с подрастающим поколением. Когда животное играет с детёнышем, показывая приёмы охоты, оно лишь включает уже существующую программу. Когда человек пытается передать свой опыт, он делится тем, что не заложено в программную базу человека. Когда сталкивается с принципиально новым и находит решение — он творит новое, чего до этого не было никогда.
Так возникла необходимость в усиленном развитии коммуникативных навыков (речи). Этому же способствовали и длительная беспомощность человеческого ребёнка, необходимость общаться с ним, передавая накопленный опыт. Особое внимание к подрастающему поколению, забота о нём привели к закреплению общественного альтруизма, когда человеку важнее были интересы всей группы, нежели свои собственные — вплоть до подавления инстинкта самосохранения.
Речь — это признак появления сознания, то есть второй сигнальной системы, которой свойственно воображение, представление о времени, абстрактное мышление уровня, недоступного животному. Сознание — это уже надприродное образование, оно отражает биполярную природу (мир вокруг и мир бессознательного) в образных представлениях и слове. Возникает участок словно бы освещённого сознанием пространства. Возможность увидеть природу со стороны — значит, выделить себя из природы. Животное бессознательно, инстинктивно, оно целиком растворено в заданной от рождения программе существования. Для человека такой программы нет, и природа всякий раз выступает в новом обличье. Поэтому, чтобы выжить, необходимо от природы психологически дистанцироваться, увидеть со стороны все эти изменения, чтобы подстроиться под них.
Сознание подобно фонарю в тёмном лесу. Психика человека становится тоньше, чутче. Тени, обступающие небольшой светлый участок, кажутся демонами хаоса. Животное, если использовать эту метафору, полностью слепо, но ориентируется в темноте за счёт прекрасного слуха и обоняния, которое у человека не развито.
На основе специфически человеческого восприятия мира (в слове и воображении) возникает образ мира, с которым он отныне имеет дело. Так рождается Матрица, миф. Мир отделён от человека стеной его представлений о мире. Человек оказался раздвоен. Сознание отделяет человека от мира, но преодолеть его возвращением в природное состояние невозможно. В этом трагедия человеческого существования.
Таким образом, качественное отличие человека от животного — созданная им самим вторая реальность, то есть сознание и порождённая им культура, выражающая Матрицу тех или иных представлений. Целостность животного превращается в раздвоенность человека, осознавшего выделенность из природы и попытавшегося заглянуть в будущее. Всякое достижение имеет оборотную сторону. Человек только стал человеком и сразу же бросился отыгрывать обратно — через отрицание нового, через невроз железной ритуализации, призванной заменить уходящие программы инстинктов. Психологический регресс в дородовое состояние — до сих пор извечная опасность человечества как системы и каждого конкретного человека. На бытовом уровне это закреплено в поговорках типа: «Мама, роди меня обратно». Недаром Эвда Наль заострила внимание на том, что «никогда возвращение не достигает цели». Недаром выход на новую ступень понимания мира во всех культурах назывался вторым рождением — социальным и духовным.
В среде исследователей Ефремова родилась шутка. Под стилизованным изображением первобытного человека надпись: «Мы сознательно задерживаем развитие второй сигнальной системы». Это парафраз слов Эвды Наль о сознательной задержке развития третьей сигнальной системы в ЭВК. Но это лишь отчасти шутка. Через всю историю проходит отчаянное неприятие новых идей и фактов, не укладывающихся в привычные представления. И сегодня можно наблюдать точно такой же невроз неприятия внутрипсихических перемен со всеми особенностями того, первобытного этапа — например, по отношению ко всяким необычным способностям человека. Путём многословия и забалтывания очевидных фактов воспроизводится первобытный ритуал заклинания злого духа в месте разрыва собственного пси-космоса, в рамках которого человеку уютно. Вся история — в нас самих, поэтому история — вершина науки у Ефремова.
Важнейшая эволюционная часть человеческой психики — способность к саморефлексии. Фактически это отличает человека от животного. Саморефлексия — это очень непросто. Проще всего, разумеется, это делать в общении с другим человеком. Другой человек в этом плане является антропологическим зеркалом. Чем более этот человек продвинулся в своём внутреннем развитии, чем более в нём проявлено то, что Иван Антонович называл оптимальным сочетанием знаний и чувств, то есть мудростью, тем более наше отражение адекватно. Но оно ещё и непостоянно. Недаром Ефремов подчёркивает, что самое сложное в природе — человек. Сложнее всех головоломных задач творцов науки и искусства. Это действительно так, поскольку человек нов каждое мгновение. Что-то меняется, а мы порой лишь задним числом видим пороги, которые проходим, и в состоянии отрефлексировать вехи своего пути лишь спустя какое-то время. Конечно, это свидетельство слабости нашего общего эволюционного уровня. Нам неимоверно тяжело налаживать диалог даже с самыми близкими людьми, даже сами от себя мы чаще всего прячемся за системой внутренних зеркал и проекций. Сквозь сны доносятся до нас голоса из глубин нашего же естества, и мы склонны презрительно отбрасывать их как «мистику». Что говорит Гирин в своей знаменитой лекции? — Сознательная жизнь человека ничтожно мала по сравнению с бессознательной; так тонка земная кора рядом с магматическими глубинами Земли. Как им взаимодействовать?
Бессознательное всё время пытается разговаривать с нашим сознательным «Я». Оно нас не оставит, всегда будет предупреждать, поскольку схватывает целостно ситуацию вокруг. Если мы не слышим, не готовы находиться в состоянии диалога с самим собой, то оказываемся в ситуации расщеплённости, дуальности. Оказываемся в ситуации, когда нечто в нас самих, занимающее огромный объём, становится нам враждебно. Но при этом мы от него остаёмся зависимы. Наша зависимость от этого колоссального объёма никуда не девается. Необходимо налаживать взаимодействие, искать точку диалога.
Как Ефремов определяет здоровую личность? В «Лезвии бритвы» он пишет, что нормальный, здоровый человек — это человек с очень тонкой психической регулировкой, постоянно балансирующей на грани сознания и подсознания. В «Часе Быка» оказывается, что человеческая психика устроена аналогично всему мирозданию, и это принципиально для понимания философии Ефремова. Во-первых, это диалектика микро- и макрокосма; во-вторых — число объяснений всякого явления безгранично, пишет Ефремов, ссылаясь на Пуанкаре, поэтому надо уметь выбирать объяснения, перспективные для полноты человеческого счастья. Иван Антонович очень хорошо понимал взаимозависимость выводов науки и качеств познающего субъекта.
Многие выдающиеся мыслители последнего времени недаром ставят вопрос о душевной смерти человека. Фромм, Рерихи, де Сент-Экзюпери… Вот и Иван Антонович писал об уничтожении подлинного «Я» через самовозносящееся умствование, через погружение индивидуальности во власть рассудка с его языковым формализмом. Слово изначально магично, оно ткёт ткань реальности, в которой пребывает человек. Но слово — всегда форма, и это всегда иллюзия. Погружённый в иллюзию теряет душу.
Ефремов недаром пишет про то, что тяжесть восхождения прямо пропорциональна конечному достижению. В этом смысле инферно должно преодолеваться человеком, вышедшим за пределы законов грубой материи. Человек — наречённый строитель, творец. И внутри каждого из нас таится своё инферно, которое также необходимо вытаскивать наружу и преодолевать радостью знающего. «Не доверяю я сентиментальным гусеницам, которым мнится, что они влюблены в полёт. Мне нужно, чтобы гусеница пожрала самоё себя в пекле пересотворения. Нужно, чтобы ты пересёк свою пустыню» (Сент-Экзюпери). Радость знания — прежде это осознание того простого факта, что истинная структура мироздания — целостная беспредельность, а не сжатая воспалённая опухоль инферно. Инферно таится в зеркальном отражении сиюминутности, чем больше накапливается зеркального времени в отражении — тем ближе выход за пределы линейности. И если бы человек не отступал всякий раз, то давно вышел бы за пределы инфернальной зависимости — так как его психика отражает всю глубину и изменчивость природных процессов, и он готов вступать с природой в диалог равных. Пока — лишь потенциально.
У Ефремова одушевлён не только человек, но и космос, и одушевлён очень специфическим образом — Великим Кольцом. Сейчас много говорят о диалоге культур. Ефремов пишет о диалоге ноосфер. Ноосфера Земли, единой, цельной, объединённой Земли вдруг начинает рефлексировать самоё себя! Необходимость этого постулируется имплицитно. Другой как зеркало. Раз мы говорим о бессознательном отдельного человека, которое влито в океан коллективного бессознательного, то можем говорить и о коллективном сознании человечества — это и будет важнейший элемент ноосферы. Тут и уровни зеркал: человек напротив — иная культура — инопланетная цивилизация.
Ефремов много пишет о подлинном взаимодействии между мужчиной и женщиной. Ефремовский космос биполярен, по сути дела — гендерно ориентирован. Это очень сложная перепластованная спиральная структура; Вселенная — Антивселенная. Светлый мир Шакти, в котором мы живём все; Тамас — мир энтропии, остановки всяческого движения. Но что-то происходит и там. Эти миры связаны, они не существуют в отрыве один от другого. Есть связь, сложная, нелинейная, через квазары, коллапс звёзд, через чёрные дыры. Энергия взаимопроникает. Что лежит между Шакти и Тамасом? — Возможность мгновенного перемещения, нуль-пространство.
Здесь мы возвращаемся к такому показательному антропологическому моменту, как отличие между европейской и индийской математикой: в Европе не было нуля. Латинские цифры для этого не предназначены.
Европа находилась под властью идеи так называемого онтологического дуализма, когда мир расщеплён на две крайности, никак друг с другом не связанные. Это ещё манихейская философская традиция (недаром Ефремов упоминает манихейство), и в христианском богословии за долгие века борьбы с манихейством выработалась попытка преодолеть её: Бог и человек в христианстве не связаны ничем, кроме милости Божией. На практике дуализм пронизывал все сферы жизни европейского человека. И отношение к нулю как к чему-то отвратительному и непристойному долго преследовало европейское сознание. Арабское слово, обозначающее нуль — «сыфр», — несколько веков было ругательством. Пустота, ничто — в этом для европейца таилось нечто сатанинское. Прямолинейное бесконечное увеличение количества — вот математически выраженная европейская идея прогресса, а также накопления духовной благодати и приближения к недостижимой величине — бесконечности, Богу. Однако так как в рамках бесконечности любая конечная величина стремится к исчезновению, то приближение к Богу всегда может оказаться фиктивным и оставляет сомнение и тревогу.
В Индии изобрели нуль.[338] Арабы это изобретение быстро подхватили, когда завоевали пол-Индии. Арабы были очень смышлёные и активно пользовались чужими изобретениями. В Китае не было числовой записи нуля (в Индокитае была), но существовала такая интересная категория, которая вполне может быть к нему отнесена. Основу китайской философии составляет качание и вечное перемещение Инь-Ян, двух полюсов мира: пассивности и активности, на балансе которых находится путь каждого из нас в этом мире, то есть Дао.[339]
Таким образом, изобретённое Ефремовым нуль-пространство является космологическим Дао, космологическим нулём, соединяющим совершенно разные полярности.
Последствия для принятия идеи нуля были для восточного сознания колоссальны. Если истина в нуле, а микрокосм есть макрокосм, то любая часть нуля является нулём же. Человек, входя в это состояние, становится равен Вселенной и гипотетически может стяжать всю её мощь. Он, находясь в покое, становится центром спирального мироздания, закручивает вокруг себя ураган сил. Если мы выбираем европейскую парадигму познания, то идём путём наращивания вокруг себя бесконечного количества протезов, без которых сейчас никто из нас существовать не может. Объединить эти пути — задача далёкого будущего. Сейчас для нас актуально, что эта задача — наша с вами внутрипсихическая задача, потому что если мы не постараемся найти единство внутри себя, то у нас не будет почвы, не будет оснований, чтобы найти это единство в окружающей Вселенной.
Необходимо оговориться. Математика родилась именно как философия в знаках и была сакральна. Нуль придумали философы. Говорить о нуле как о не имеющем протяжённости можно для математики, но не для гуманитаристики, где также существуют зоны перегибов, но они составляют немало времени по часам непосредственных участников. Например, исторически внезапно появляются на мировой арене все этносы. Вот их нет, а через 100–200 лет они уже захватили пол-мира. Но всегда есть нулевой, пренатальный, инкубационный период, не замечать который — просто отказываться понимать причины происходящего и остановиться на описании внешних событий и внешних связей — то есть без генетической критики. В лучшем случае тогда перечисляется ряд внешних, социально-экономических и политических факторов, всё объясняющих якобы, но по факту их всегда недостаточно. Надо заглянуть вглубь, понять внутреннюю программу развития. Это уже мифология, историческая психология и антропология. Аналогия с трансперсональной психологией и медициной тут почти полная.
Для западной цивилизации является открытием последнего полувека тот факт, что у ещё не рождённого человека есть своя психология, в то время как на Востоке порой даже практикуется такая вещь, как уговоры ребёнка не развиваться и не рождаться, если условия проживания обещают быть невыносимыми. Это вообще абсолютно иной мир и иная каузальность. И нуль там — зона самого мощного взаимодействия. Ведь идея восточной медицины и боевых искусств с их акупунктурными точками, энергетическими меридианами и слоями пульсов тоже невозможна без идеи нуля в том или ином виде.
В «Часе Быка» говорится о методике косых (геликоидальных) врезов в равновесные системы противоположных сил. Речь не только об исследовании, но и о воздействии. Можно понять это как обязательное исследование всякого факта в контексте системы (аксиома космизма и диалектики). Косой врез означает учитывание живой иерархической связи, преодоление идеи равенства как математического тождества, но также и асимметрию, придаваемую временем. Ответ не должен быть абсолютно симметричен вопросу, потому что тогда диалог окажется формально исчерпан, едва начавшись, и схлопнется, а содержательно — и не начнётся вовсе, так как сложная нелинейная система не замирает, она ежемгновенно меняет конфигурации элементов и сущностно верный ответ во времени будет меняться, а формально верный — приведёт к ошибке. До определённого момента можно редуцировать, создавая модели с простыми обратными связями (например, действие равно противодействию), но подлинное решение проблемы — это всегда выход за пределы качающегося маятника, бинарности. Превышение полномочий вмешательства как утеря меры при действии, основанном на формальном моделировании, — суть Стрелы Аримана. Время меняет параметры, всякая проблема должна решаться не абстрактно, будучи изолирована от реальности в сознании субъекта действия, но в самой жизни. И это будет отражением высшей структуры макрокосма — системы Шакти/Тамас, которая также нелинейна.
Инверсия ефремовских образов, возможность философски плодотворно понимать литературные метафоры раскрывает огромный исследовательский и читательский потенциал. Получается, глядя на череду испытаний, которые проходят герои во внешнем мире, во многом мы можем переложить эти закономерности на свой внутренний мир. Фактически это те испытания, которые все мы должны проходить и проходим с той или иной степенью успешности во внутренних ландшафтах своей души.
Говоря, может быть, не вполне корректно, просто заостряя на этом внимание — для ясности точек и траекторий притяжения (аттракторов), — романы Ефремова являются своего рода трансперсональными путеводителями по нашим собственным судьбам. Проводниками, аналогичными тибетской или египетской Книге Мёртвых. Только в данном случае это Книга Живых.
Нетривиальный взгляд на проблему зачастую таит в себе значительный потенциал. Читая Ефремова, нам стоит держать в уме взаимоувязанность совершенно разных компонентов его творчества. Разных настолько, что, казалось бы, и не соединимых. Тем не менее силой своего слова, силой самой своей личности он их сплавлял, синтезировал.
Ефремовские поиски красоты как наиболее яркого выражения его антропологического интереса фактически являются поисками нуль-пространства для эстетики. Между безднами фотографического реализма, ничего не отражающего, сухого, бездушного позитивизма, и расплывающимися надуманными категориями постмодерна — как найти эту меру? Она непостоянна, скользит, как лунный луч на поверхности моря. В слове не найти меру конкретного действия. Философский анализ помогает понять общее, а для перекодирования его на язык поступка и выстраивания судьбы необходима сердечная интуиция. Мудрость.
Неизбежно с красотой связано чувство любви.
Дремучее невежество в этой области нынче столь велико, что впору вести речь о гигантской гуманитарной катастрофе. При этом отнюдь не стоит идеализировать старшие поколения. Из хорошего вдруг, откуда ни возьмись, плохое не появляется. Всему есть основания, причины. Важно понимать их, чтобы осознанно менять следствия. «Карму сознательно исправляет для себя мудрец» — так сказал Витаркананда. Но карма планеты довлеет над ним, и её исправление — общее дело землян.
Сейчас нам с детства навязывают мысль, рождённую в недрах западной цивилизации и концептуально выраженную в романтизме: любовь, во-первых, слепа; во-вторых, отчуждена от человека — в том смысле, что она человеку не помогает, а мешает, приводит его к жизненным катастрофам, поэтому зачастую её необходимо преодолевать. Она эгоистична. В школьной литературе гениальными произведениями о любви чаще всего называют цикл рассказов Бунина «Тёмные аллеи» и купринский «Гранатовый браслет». В них — торжество тёмных страстей, перверсий, слепых и катастрофических привязанностей, ведущих к смерти.
Вечно так продолжаться не может, должен быть перейдён рубеж, когда произойдёт интеграция современного рассыпанного человека в целостное «Я», и оно будет связано со всеми слоями собственной психики, открыто миру. Ефремовское понимание любви концептуально противостоит инерции инфернальной культуры. Любовь — высшее знание и высшая радость. Любовь — свидетель беспредельности.
Как и всё в нашей Вселенной, любовь вырастает вместе с душой человека. Первоначально это тёмная страсть, которая осветляется длительным эволюционным путём, начинает изливать свет, но отражённый, подобно Луне. Тёмная сторона её (выражаемая через ревность) ставится под контроль, после — изживается. Остаётся радость сексуальной страсти. Но высшая любовь находится за пределами страсти как таковой, подобно тому как потенциал человека должен преодолеть инфернальные законы живой природы. Это Солнце, у которого не может быть тени. Выход в любви за пределы биологии в несовершенном мире реализуется через жертву. Таков путь всякого совершенствования: шаг вперёд, девять десятых назад.
В «Часе Быка» устами Вир Норина излагается замечательная идея: никогда нам не выйти в большой космос, пока не допустим внутри себя беспредельность. Мы не поймём беспредельность мира, пока внутри нас конечность, закапсулированность. Мы во внешний мир транслируем свой внутренний опыт. Вир Норин поражает тормансианских учёных, которые убеждены, что эти вещи никак не связаны, что психологические установки учёного — вообще табуированная тема, не подлежащая обсуждению, дескать, это его личное дело, а вот то, что он делает в науке, — это дело общественное, и это они готовы обсуждать.
Здесь видятся корни отношения к науке, корни онтологической диалектики ефремовского будущего. Страсть Запада к «объективности» доводит любое исследование до такой стерильности, что всё живое загибается, разъятое на фрагменты в полной уверенности, что целое есть механическая сумма частей. И это проявляется во всех сторонах жизни.
Каждый миф несёт потенциалы плодотворного воплощения. Но он же ставит и жёсткие блоки на пути познания. Миф античности не мог выйти к идее промышленности, поэтому паровой двигатель, изобретённый в I веке Героном Александрийским, так и остался игрушкой. Миф даосско-конфуцианский не позволял планомерно думать над созданием сопромата — ради огнестрельного оружия. Мезоамериканский миф не позволил просто перебить отряд Кортеса в джунглях — необходимо было прежде взять в плен лошадей и принести их в жертву. Понадобился миф протестантизма, чтобы зажатое в ужасе человеческое сознание заметалось в панике, ища способ заглушить страшнейшую экзистенциальную тоску от разрывов и блоков в структуре бессознательного. И заглушало её в сумасшедшей деятельности, приведшей к промышленной революции и всему современному миру.
В этом диалектика истории, процессы перестройки сознания и структуры ноосферы.
Сейчас иное время и возникают иные, особые требования. Наука 100 лет учится рефлексировать самоё себя. И это не прихоть — это неизбежность, без которой нам не жить. Поэтому современная наука постулирует вещи, невозможные для классической парадигмы. Но наука сама по себе — это абстракция. Есть конкретные люди, которые или проходят испытание переменами, или нет. Исследователь обязан рефлексировать свой миф и пытаться ослабить его воздействие на свои установки. Он их вообще может использовать, как актёр, надевая и снимая. Они ему принадлежат, а не он им. Иначе мы имеем дело с Матрицей, которая захватывает в плен сознание человека и живёт его энергией, словно паразит. Человеку-то это зачем?
Ситуация хорошо описывается концепцией психосинтеза, когда та или иная субличность начинает диктовать высшему «Я» линию поведения. Маркс эти вещи тоже очень хорошо понимал, когда написал, что идеология — ложная форма сознания. Его тоже интересовала чистая практика.[340]
Необходимо рефлексировать горизонты мифа, границы применимости. И одеваться по погоде. Нет субъекта, нет объекта на линии перегиба; Атман есть Брахман…
Связь между Шакти и Тамасом, Инь и Ян, сознанием и подсознанием — зыбкая и неустойчивая. Недаром всем известный восточный символ — дельфинята, которые друг вокруг друга кружатся, — волнообразен. Путь нелинеен. Поэтому даже нуль-пространство нелинейно, скручено, подобно слоям Тамаса и Шакти. Прямой Луч у Ефремова не абсолютен, потому что он не даёт полного выхода за пределы подчинённости законам этого мира. Мыслитель это понимал, поэтому расставлял вехи перспективного исследования.
Между Шакти и Тамасом происходит активный обмен энергиями: стекание энергии в воронки чёрных дыр как осаживание в подсознание опыта жизненного пути, квазары как полные энергии архетипы, побуждающие к действию. Интересно наблюдать, как пограничье в разных системах является порталом в иные реальности.
В Агни Йоге воспроизводящийся на различных уровнях организации материи фрактальный образ спирального кружения и есть внешнее выражение ритма пульсации Космического Магнита — сердца мира и одновременно его источника. У Ефремова Шакти и Тамас тоже закручены в спираль, слоями, на всех уровнях. Тамас тут эквивалент юнговской Тени.
В психологии ЭВР важно преодолеть анимальную, теневую сущность психики — так же как много раньше в «Туманности Андромеды» океаны очищаются от кровожадных хищников. Океан — это не только буквально понятая экосистема. Ефремову целью был прежде всего человек, и его художественные приёмы сообразны цели. Океан — символическое отображение бессознательного.
Это суть различные проявления морфологически единого подхода. Тут мы видим сочетание идей света, вскипающего огнём и концентрирующегося в лазерный луч, и идеи прозрачности, понимаемой как безопасность и открытость информации. Огонь очищает и оживляет. Недаром звездолёт Прямого Луча называется «Тёмное Пламя». Он выполняет очистительную функцию на Тормансе и одновременно идёт по границе светлого и тёмного миров. По этим же причинам оказывается на определённом этапе становления необходимой деятельность Серых Ангелов — это внутрисистемная попытка терапии, в то время как «Тёмное Пламя» — эмиссар сверхсистемы.
Тень-Тамас должна быть выведена под свет сознания не только интровертно, но и экстравертно. Проникновение в Тамас и освоение его неизбежно. Можно сказать, это крайняя точка техно-гуманитарного баланса. Попытка освоения может быть катастрофична, пока анимальная сущность не преодолена полностью. Недаром в хронологии ефремовского мира стоит странная пауза почти в 500 лет между временем проведения Тибетского опыта и полётом первого ЗПЛ. Дело не в технологиях, дело в той же максиме, что используется в ЭВК относительно третьей сигнальной системы, — она притормаживается искусственно, чтобы люди не сгорали от избыточной эйдетики. Ефремов писал о мудрости и умении ждать или выбирать другой путь, не ломиться прямолинейно. Получается, что проект ЗПЛ потребовал уравновесить новую сверхтехнологию соответствующим человеческим фактором — то есть активным массовым включением Способностей Прямого Луча (СПЛ), что резко делать было нельзя.
В итоге всё шло своим чередом, по дао-ориентированному принципу: время не уходит, время приходит. Техно-гуманитарный баланс был успешно соблюдён. Но переход на новый этап тут же породил новый вызов — Тамас.
И снова стало необходимо совершить следующий шаг в развитии самого человека — дотрансмутировать остатки линейного, поверхностного восприятия мироздания. В ЭВР идёт осознанное противостояние анимальной сущности и безграничья ноосферы вселенной. Фактически речь идёт о последнем бастионе Матрицы.
Человек, преодолевший Матрицу, — бодхисатва, он вне Тени, её в нём вообще нет. И его внимание — это уже не луч избирательного внимания, рождающий тень, но сфера света, не имеющая жёсткой привязки к координатам пространства и времени. Это квантовый мир, выведенный на макроуровень.
Люди без внутренней Тени словно из планет становятся звёздами, источниками непрерывного света, для Земли это Махатмы. Сама рефлексия для таких людей-звёзд будет не хватательной, аналитической, а обнимательной, континуальной. Точка зрения атомарного «Я» уступит место дуге или сфере зрения соборного «Мы». Это Чаша и Клинок, переложенные в иную систему. Мы снова приходим к гендеру и наступающей эпохе Матери Мира. Следует отметить, что для Торманса эту роль сыграли люди, ещё обусловленные внешним физическим пространством-временем и лишь находящиеся в процессе его преодоления. Данная тема детально рассмотрена в работе современной исследовательницы Е. Б. Егоровой.[341]
Тамас — последняя загадка человечества Земли, всего Великого Кольца. Все, кто осваивает Тамас, — Махатмы. И они покидают Великое Кольцо — чтобы осуществлять дальнейшую эволюцию в Великой Спирали. Поэтому никто из сверхцивилизаций не использует ЗПЛ до Тибетского опыта и не прилетает на Землю. Разумеется, существует некий «нулевой» зазор, и какое-то время такие контакты происходят, но без явного нарушения техно-гуманитарного баланса.
В астрологии, интерес к которой был у Ефремова не случаен, есть представление о самопознании как прохождении светлой и тёмной стороны Луны, Селены и Лилит. Луна символизирует женское начало. Тёмная сторона — Лилит — невидимая, не выведенная на свет сознания, и потому разрушительная.
Человек, пройдя до конца тёмную сторону Луны как внутри себя (Тень), так и снаружи (Тамас), завершает Кольцо и размыкает его. Потому и названо так Великое Кольцо, что необходимо сделать в познании этот круг и разомкнуть его, выйти за пределы света и тени и уйти в духовный ультрафиолет лучистого человечества.
Тамас — это ведь ещё и женщина. Эпоха женщины должна реализовать себя полностью — объять абсолютные глубины женщины, осветлить их, сделать осознанными. Вот в чём значение освоения Тамаса. Вот какова диалектика подступов к этой корневой для земного человечества загадке.
Е. И. Рерих писала, что на плане высшем не мужчина, но женщина психически оплодотворяет мужчину, являясь активным началом. Прямая параллель проводится к необычному на первый взгляд утверждению Ефремова об активности женского начала. Ведь активная Шакти — это ян рядом с инертным Тамасом, но это ещё и женщина. Чистая, янская противоположность тамаса в индуизме — раджас, а вовсе не шакти. Такие вещи случайно не пишутся. Ефремову важно было подчеркнуть женственность вселенной. Скорее речь идёт о том, что Единое тело Шакти/Тамаса — сознание и бессознательное женщины. Ефремовская вселенная имеет пол, и есть она София Премудрая, гипотетическая четвёртая ипостась в трудах последователей исихазма — имяславцев Серебряного века. Свидетельств того, что Ефремов активно интересовался православной философией, нет, но знаменитую книгу Роберта Грейвса «Белая Богиня» он читал с пристальным вниманием. Все позднейшие представления о божественной женскости — развитие идеи Великой Богини матрицентрических цивилизаций. Сейчас широко доступны работы выдающейся археологини Марии Гимбутас.
Ефремов не одинок в интуиции женственного характера нашей вселенной. Интересное сопоставление существует в творчестве замечательного фантаста В. В. Головачёва. В романе «Посланник», построенном по мотивам «Розы Мира» Даниила Андреева, Веер Миров (Роза Мира) — Шаданакар — тоже женщина.
Неумолимая философская логика подводит нас к выводам, которые в открытом виде нигде Ефремов не прописывал, но которые с неизбежностью вытекают из всего строя авторской мысли, словно белые пятна в таблице философских элементов. Человек как микрокосм выступает тоже как носитель этой оппозиционной диады: сознание — подсознание. Соответственно, в силах человека оставить себя в расщеплённом, дуалистическом состоянии, лишённом связей между сознанием и подсознанием, либо же найти мост связи, обрести целостность. Во вселенной этот мостик представляет собой нуль-пространство, лезвие диалектического синтеза.
Ефремовская антропология автоматически предполагает способности Прямого Луча, сверхсознание как синтез в оппозиции: инстинкт — интеллект. И самым большим даром он полагает большую любовь. Любовь тут выступает непременным условием и атрибутом истинного знания, в отличие от современного понимания любви как ослепляющей, эгоистической и роковой силы. Таковы же и поиски неуловимой, но явственной красоты как наивысшей целесообразности в эстетике и этике, которые категориально соответствуют форме и содержанию.
Подведём итоги.
Нуль-пространство — ось мира, аналог мужчины, вокруг которого женщина-вселенная ведёт свой тантрический танец. Летающие внутри женщины анамезонные звездолёты имеют мужскую форму. Входящие в мужское пространство ЗПЛ — форму женскую (исходя из этого, кстати, можно предположить, что спиралодиск из галактики Туманность Андромеды является потерпевшим крушение ЗПЛ).
Женщина — пространство, символически выражаемое через мандалу — сакральное изображение вселенной в восточной философии. Мужчина-время только тогда вступает с ней в плодотворное взаимодействие, когда входит в сердцевину — в центр мандалы, в точку стяжения всех энергий. Глаз урагана. Пустое для заполнения пространство. Нуль-пространство. То есть ЗПЛ — ещё и обживание вселенной самой себя, включение энергии анимуса. ЗПЛ и СПЛ актуализируют анимус Софии — Матери Мира. Осветляют его, что является моментом вселенской индивидуации, необходимой перед освоением и осветлением Тамаса. Эра Водолея, начавшаяся только что и заканчивающаяся во время действия «Часа Быка», должна смениться янской Эрой Козерога, и это может означать как раз вышеописанный процесс. Вероятно, к концу Эры Козерога должен произойти квантовый переход за пределы биологии. К состоянию космотворчества, зашифрованному в посланиях из центра Галактики.
Неполнота определений такого рода и их взаимоперетекание совершенно неизбежны, потому что слово пытается схватить и определить, сфотографировать положение вещей и процессов. Это его функция и наша беда и слава. В этом корпускулярно-волновой дуализм — именно дуализм — сказанного слова. Противоположности конвертируются одна в другую столь же быстро, как подъём и опускание волны, которые лишь стороны одного процесса движения масс воды.
Недаром Ефремов пишет о ненужности сверхтщательных определений. Во времени они превращаются в описание своей изначальной противоположности. Поэтому диалектика предельно конкретна, в этом её сложность, зависимость от использующего её силу человека и… вечное неувядание.
Вероятно, сейчас, полагая наше время во многом переломным, можно гипотетически вести речь о нарождении нового блока архетипов, на базе которых созреют люди ЭВК и ЭВР. Это фантастическое допущение оказывается необходимо для исследования путей становления ефремовского человечества. Подобно тому, как космизм и диалектика стали эпифеноменами, порождёнными первобытной архетипикой, на их основе должны сформироваться возможности выхода за рамки отструктурированного в сознании пространства-времени — к СПЛ и ЗПЛ. Например:
Архетип Звезды, выражаемый через образы: путеводной звезды, аттрактора, сияющих глаз, светящейся ауры, пылающего солнца;
Архетип Прямого Луча, выражаемый через меч-кладенец, лазерный луч, стрелу в полёте, мгновенную мысль в познании, ракету, фаллос;
Архетип Спирали, выражаемый через чашу (Грааль?), галактику, чёрную дыру, деторождение и смерть как порталы перехода, сердце, цветок, мандалу.
Предвидения и предсказания
В предисловии к роману «Туманность Андромеды» Иван Ефремов писал: «Ещё не была закончена первая публикация этого романа в журнале, а искусственные спутники уже начали стремительный облёт нашей планеты. Перед лицом этого неопровержимого факта с радостью сознаёшь, что идеи, лежащие в основе романа, правильны».
Случайность, совпадение — пожмёт плечами иной читатель. Ведь к тому времени СССР и Америка уже вели напряжённую ракетную гонку, впрочем, надежно скрытую от посторонних глаз плотной завесой секретности. Но не стоит торопиться с выводами…
Вот другой пример. Звездолёт «Тантра», описанный в романе, был надёжно укрыт от космических стихий защитным покрытием из боразона. Боразон — красивое, фантастическое название… Но что же это за материал? Удачная выдумка автора или нечто иное?
Боразоновое покрытие упоминается в романе несколько раз в качестве защиты ракетных двигателей, конструкций орбитальных станций и антенн дальней космической связи. В романе защита встречается в виде боразоно-циркониевого лака, зеленоватого боразонового сплава и чистого боразона.
Из текста романа нетрудно догадаться, что этот материал используется в качестве космической защиты благодаря своей уникальной прочности и термостойкости. Из названия материала можно предположить, что в его состав входят бор и азот. Но других пояснений о природе и свойствах боразона в романе нет. Автор не счёл необходимым их давать.
Над романом «Туманность Андромеды» Иван Антонович работал в 1955–1956 годах. Публикация романа началась в первом номере журнала «Техника — молодёжи», то есть в январе 1957 года.
А всего месяц спустя, в феврале 1957 года, сотрудник американской компании «General Electric» Роберт Венторф впервые в мире сумел синтезировать новый материал — кубический нитрид бора. По прочности и твёрдости он соперничал с алмазом, но при этом многократно превосходил его по термостойкости. Работа по синтезу кубического нитрида бора велась в рамках исследовательских работ по синтезу искусственных алмазов и других искусственных минералов. Надо ли говорить, что все подобные работы велись тогда в обстановке строжайшей секретности. Например, шведы, первыми синтезировавшие искусственные алмазы в 1953 году, настолько засекретили свои работы, что даже отказались от патентования своего изобретения. Впоследствии им пришлось долго судиться с американцами, доказывая свой приоритет… Только в 1969 году компания «General Electric» зарегистрировала новый кристалл под торговой маркой… «боразон»! Опять случайность? Вряд ли…
Соединения бора и азота ко времени написания романа уже были знакомы науке, и Иван Антонович мог о них знать из публикаций. Самое известное из них носило название «белый графит», так как имело свойства, очень близкие к обычному графиту. Обладая обширными знаниями в области геологии и потрясающей научной интуицией, Ефремов вполне мог спрогнозировать возможность создания нового материала, подобно тому, как обыкновенный графит превращается в сверхтвёрдый алмаз. К 1969 году «Туманность Андромеды» получила всемирную известность, и не исключено, что именно идея Ефремова повлияла на решение компании «General Electric» зарегистрировать новый бренд «боразон».
Способностью делать точные научно-технические прогнозы и предсказывать события будущего обладали многие выдающиеся писатели-фантасты, и не только…
После гибели «Титаника» в 1912 году мир обратил внимание на фантастический роман малоизвестного писателя Моргана Робертсона «Тщетность», изданный в 1897 году. В этом романе описана история гибели пассажирского лайнера, один в один совпадающая вплоть до мельчайших технических подробностей с гибелью «Титаника».
В книге «Открой в себе талант»[342] Альберт Фаритович Сайфутдинов (Новосибирск) анализирует предположения, гипотезы Ефремова, высказанные им в художественных произведениях, и показывает, как идеи учёного-фантаста находят воплощение в современности.
1. В статье для журнала «Geologische Rundschau» (1929) высказано предположение, что дно океанов, подобно поверхности континентов, представляет собой многочисленные системы подводных горных хребтов, разломов, впадин и зон вулканической активности. Известный немецкий геолог Отто Пратье дал резко отрицательный отзыв на статью: в то время считалось, что океанское дно — равнина, покрытая толстым слоем осадков.
Подтверждение. Последующие океанографические исследования подтвердили предположение И. А. Ефремова. В наше время это аксиома, не требующая доказательств.
2. Рассказ «Голец Подлунный» (1944).[343] Высказано предположение, что в Центральной Сибири жили первобытные люди — современники древнейших обитателей Африки, считавшейся тогда прародиной человечества, а также высказано предположение о прямых связях между древними жителями этих регионов.
Подтверждение. В 1982 году археолог Ю. А. Молчанов в устье ручья Диринг-Юрях, что неподалёку от Якутска, открыл стоянку первобытных людей, живших здесь 2,5 миллиона лет назад! Орудия труда первобытных людей Сибири по типам и технологии изготовления практически не отличались от аналогичных орудий, открытых в Восточной Африке археологом Л. Лики и датируемых возрастом в 2,6 миллиона лет. Некоторые конструкции по своей архаичности оказались даже древнее африканских.
Поразительность предвидения и открытия заключается ещё и в том, что климат Центральной Сибири того времени, в отличие от тепличных условий Африки, суровостью мало чем отличался от современного!
3. Рассказ «Голец Подлунный» (1944). Роман «Лезвие бритвы» (1963). Высказано и обосновано предположение о высоком интеллектуальном уровне первобытных людей.
Подтверждение. Предвидение подтверждается открытием первобытной стоянки в Якутии: чтобы выжить в суровых климатических условиях, люди должны были не только владеть огнём, но и строить жилища, шить одежду… Известны и другие факты. Так, в 1972 году во время раскопок неподалёку от Ачинска был найден «жезл» из бивня мамонта, покрытый спиральным узором из 1065 лунок. В результате многолетних исследований выяснилось, что «жезл» представляет собой очень точный лунно-солнечный календарь, изготовленный первобытными охотниками на мамонтов 20 тысяч лет назад!
4. Рассказ «Атолл Факаофо» (1944). Высказана идея подводного телевидения (впервые идея была высказана Ефремовым ещё в 1929 году в статье для геологического журнала «Geologische Rundschau»).
Подтверждение. Спустя три года, в 1947 году, на атолле Бикини была испытана первая система подводного телевидения.
5. Рассказ «Озеро горных духов» (1944). Высказано и обосновано предположение о существовании на Алтае месторождений самородной ртути.
Подтверждение. Позднее самородная ртуть была там найдена. Долгие годы на Алтае велась промышленная добыча ртути, и только недавно рудник в Акташе был законсервирован. Но запасы ртути на Алтае по-прежнему не исчерпаны.
6. Рассказ «Алмазная труба» (1945). Высказано и обосновано предположение о существовании в Сибири месторождений алмазов. Описаны возможные геологические условия залегания алмазов. Дан метод их поиска — по наличию в породе красных пиропов.
Подтверждение. В августе 1954 года в Сибири было открыто первое месторождение алмазов — алмазная труба «Зарница». Метод поиска, предложенный Ефремовым, стал основным при поиске новых месторождений.
7. Рассказ «Тень Минувшего» (1945). Повесть «Звёздные корабли» (1947). Высказана идея о возможности создания объёмных изображений. Даны описание объёмного изображения и условия, при которых его можно наблюдать.
Подтверждение. В том же году Д. Габор сформулировал основные принципы голографии. В 1962 году советский физик Ю. Н. Денисюк и сотрудники Мичиганского университета Э. Лейт и Ю. Упатниекс получили первые голографические изображения.
8. Повесть «Звёздные корабли» (1947). Высказано предположение, что во время бурных геологических процессов прошлого на поверхность Земли могли прорываться мощные пучки ионизирующих излучений, оказывавших заметное влияние на ход биологической эволюции (мутации, массовые вымирания и т. п.).
Подтверждение. В 1980-е годы геолог С. Г. Неручев, обобщив множество данных, пришёл к выводу, что на Земле с определённой периодичностью происходило резкое повышение радиоактивности, служившее причиной глобальных катастроф и изменений в ходе биологической эволюции. Вспышки радиоактивности учёный объясняет усиленным выбросом урана на поверхность Земли при раздвижении океанских плит, которое, в свою очередь, происходит под влиянием глобальных космических факторов.
9. Повести «На краю Ойкумены» (1949) и «Путешествие Баурджеда» (1953); роман «Тайс Афинская» (1972). В предисловии к роману Ефремов написал: «Я убеждён, что торговые и культурные связи древности гораздо шире, чем мы представляем по неполной исторической документации». Древние герои в произведениях Ефремова пересекают континенты, плавают по морям и океанам, встречают на пути представителей различных древних цивилизаций.
Подтверждение. Мысль, высказанная Ефремовым и отражённая в его произведениях, всё больше подтверждается современными археологическими данными. Особенно много для доказательства обширнейших связей между древними цивилизациями сделано выдающимся путешественником, этнографом и археологом Туром Хейердалом. Он переплыл Тихий океан на бальсовом плоту «Кон-Тики», подобно древним жителям Южной Америки, преодолел Атлантику на папирусных лодках «Ра» и «Ра-2», построенных по древнеегипетскому образцу. До него сама мысль о древних путешествиях через океаны считалась еретической, антинаучной. Экспедиции и исследования Хейердала доказали возможность контактов между древними цивилизациями Южной Америки и Полинезии, Египта и Южной Америки, Месопотамии и Индии.
10. «Тафономия и геологическая летопись» (1950). Высказана и научно обоснована мысль: «…Внезапные погружения материков под уровень моря, как, например, легендарной Атлантиды, в действительности никогда не имели места». И. А. Ефремов считал Атлантидой остров Крит, где существовала высокоразвитая минойская цивилизация, погибшая тысячи лет назад вследствие сильнейшего извержения вулкана на острове Санторин.
Подтверждение. В наше время многие исследователи склоняются к этой гипотезе. Например, очень убедительные доводы в её пользу получены подводной археологической экспедицией известного исследователя моря Ж. И. Кусто.
11. Повесть «Дорога ветров» (1955). Во время палеонтологической экспедиции на юге Монголии было обнаружено множество окаменевших стволов ископаемых деревьев — кордаитов. В палеозойскую эру кордаитовые леса простирались вдоль климатических поясов на огромные территории, образовав в будущем мощные каменноугольные пласты. Точно такие же геологические пласты были давно известны в Сибири и Индии. Следовательно, в конце палеозойской эры, к которой относилась находка, широкая полоса кордаитовых лесов проходила с севера на юг в районе умеренного климатического пояса. Противоречие! Известно, что климатические пояса всегда располагаются параллельно экватору, а не перпендикулярно. Отсюда Ефремов сделал смелое предположение, что около трёхсот миллионов лет назад ось вращения Земли лежала в плоскости солнечной орбиты! И затем некая глобальная катастрофа привела к перевороту земной оси на 90 градусов. По этому поводу он писал в книге: «Астрономы, пока упорно верящие в незыблемость планетных осей, будут находить всяческие возражения и авторитетно «опровергать» нас, геологов…»
Подтверждение. Современными средствами космической геодезии удалось обнаружить факты смещения земной оси в результате сильнейших землетрясений, таких как землетрясение на Суматре (2004 год), чилийское землетрясение (2010 год). Наиболее сильное смещение в последнее время произошло в результате землетрясения в Японии, произошедшего в марте 2011 года. Тогда земная ось сместилась на десять сантиметров. Так что «незыблемость» земной оси в наше время научно опровергнута. Одной из наиболее вероятных причин такого переворота оси вращения считается раскол древнего суперконтинента Пангеи, произошедший в палеозойскую эру на границе пермского и триасового периодов. В результате этого раскола образовались современные материки. Предполагают, что в то время погибло до 95 процентов всех живых существ на планете. Гипотеза по-прежнему остаётся гипотезой, но вера в «незыблемость земной оси» уже безвозвратно разрушена, причём экспериментально. Каков будет следующий шаг на пути подтверждения гипотезы Ефремова?
12. Роман «Туманность Андромеды» (1957). Высказана идея геологической бомбы, сбрасываемой со звездолёта на исследуемую планету для получения направленного выброса грунта в верхние слои атмосферы, что позволяет вести дистанционный сбор проб грунта.
Подтверждение. Идея дистанционного взятия проб грунта без посадки на поверхность была реализована в конструкции автоматических межпланетных зондов «Фобос-1» и «Фобос-2». Только в данном случае вместо бомб предполагалось использовать мощный лазерный луч.
13. Роман «Туманность Андромеды» (1957). Высказана идея наблюдательной станции-робота, сбрасываемой на исследуемую планету для передачи данных о её физических условиях.
Подтверждение. Начиная с 1060-х годов автоматические станции побывали на поверхностях Луны, Венеры, Марса, а также спутниках планет и астероидах.
14. Роман «Туманность Андромеды» (1957). Высказана идея силиколла — прозрачного материала из кремнийорганических соединений.
Подтверждение. Подобные материалы уже синтезированы и широко применяются в промышленности и в быту.
15. Роман «Туманность Андромеды» (1957). Высказана идея искусственного разведения в океане хлореллы для получения белковой пищи.
Подтверждение. В настоящее время существуют подобные проекты, имеющие серьёзное обоснование.
16. Роман «Туманность Андромеды» (1957). Высказана идея электромеханического «прыгающего скелета», одеваемого поверх скафандра для облегчения передвижения на планетах с увеличенной силой тяжести.
Подтверждение. Первый экзоскелет был совместно разработан американскими компаниями General Electric и United States military в 1960-е годы, и назывался он Hardiman. Экзоскелеты в наше время не только стали привычным атрибутом научно-фантастических фильмов, но также перспективным объектом разработки многих военно-технических лабораторий.
17. Роман «Туманность Андромеды» (1957). Высказана идея радиационных электродвигателей и ионно-триггерных моторов для космических кораблей. В таких двигателях реактивная тяга создаётся потоком ионов.
Подтверждение. В наше время ионные двигатели уже начинают применять на спутниках для коррекции орбиты.
18. Повесть «Сердце Змеи» (1959). Высказана идея насекомообразного хирургического микроробота-«сколопендры», способного самостоятельно проводить операции во внутренних полостях организма.
Подтверждение. Уже в наше время эта идея становится реальностью. Еще в конце XX века в лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института были созданы первые «интеллектуальные» насекомообразные микророботы-«клопы». В начале XXI века ведутся разработки нанотехнологических механизмов, способных выполнять аналогичные задачи.
19. В 1960 году в интервью журналу «Библиотекарь» Ефремов высказал идеи о создании в будущем электронных библиотек.
Подтверждение. В эпоху Интернета, всеобщего распространения компьютеров и высокоскоростных сканирующих устройств электронные библиотеки уже стали неотъемлемой частью нашей жизни.
20. Роман «Лезвие бритвы» (1963). Высказана идея лазера, способного излучать под действием солнечного света, то есть работать за счёт даровой энергии Солнца.
Подтверждение. Такие лазеры созданы. Например, лазер с накачкой излучением Солнца, изобретённый в 1984 году в Институте высоких энергий АН СССР (а.с. № 1 208 591).
21. Рассказ «Пять картин» (1965). Высказана идея использования льдов Антарктиды в качестве источника пресной воды для орошения засушливых районов планеты.
Подтверждение. В настоящее время существует множество подобных технически обоснованных проектов.
22. Роман «Час Быка» (1968). Высказана идея скрепления сломанных костей и их мелких осколков специальными крючками, чтобы обеспечить их правильное срастание.
Подтверждение. Учёными Сибирского физико-технического института разработаны и внедрены в практику крючки из сплавов с памятью формы (сплавы никеля с титаном), обеспечивающие правильное скрепление костей без накладывания гипсовых повязок. С их помощью можно лечить самые сложнейшие переломы, не поддающиеся другим методам лечения.
23. Роман «Час Быка» (1968). Высказана идея конструкции телескопической башенки, выдвигаемой из свёрнутой в рулон металлической ленты.
Подтверждение. В настоящее время подобные конструкции уже изобретены. Так, в изобретениях по патенту США № 3 451 182, по а.с. № 536 308 предлагаются подобные раздвижные телебашни, мачты, антенны, опоры и т. п.
24. Роман «Час Быка» (1968). Высказана идея миниатюрных твёрдотельных кристаллических информационных накопителей — «звёздочек».
Подтверждение. Флешки, карты памяти, твердотельные жёсткие диски и т. п. — незаменимая часть нашей жизни с начала XXI века.
25. Роман «Час Быка» (1968). Высказана идея существования в космическом пространстве областей с «отрицательной гравитацией», способных бесследно поглощать звездолёты.
Подтверждение. В современной астрофизике давно укрепилось понятие о чёрных дырах, способных поглотить не только звездолёт, но и целые планетные системы. Из теоретического объекта чёрные дыры перешли в разряд реальных космических объектов. В наше время их научились регистрировать инструментальными способами.
А. Ф. Сайфутдинов пишет: «Здесь перечислена только часть научно-фантастических идей Ефремова, которые уже в наше время стали реальностью. По проценту «сбываемости» высказанных идей Ефремов находится среди таких выдающихся писателей-фантастов, как Жюль Верн и Герберт Уэллс. Секрет дара предвидения Ефремова во многом объясняется его выдающимся умом, энциклопедическими знаниями и поразительной научной интуицией. Он умел тонко чувствовать новейшие тенденции в развитии науки и техники, смело шагал вперёд, опираясь на них. Но если бы всё было так просто… Его дар навсегда так и останется для нас великой, неразгаданной тайной.
Еще больше в произведениях Ивана Антоновича содержится идей, теорий и гипотез, которые пока не сбылись, но которые в близком или дальнем будущем также, возможно, воплотятся в реальность.
Некоторые идеи Ивана Антоновича, до сих пор воспринимаемые как фантастика, ещё долго будут служить путеводными маяками для многих будущих поколений учёных и инженеров, зовя их за собой и направляя их творческие поиски. Их много, крупных и мелких, кажущихся близкими или пока ещё несбыточными, но они уже сейчас влияют на умы и сами по себе породили волны идей, подобно камню, брошенному в тихий пруд.
Идея Великого Кольца вдохновила учёных на создание SETI — проекта поиска внеземных цивилизаций, появившегося в 1959 году.
Идея направленной эволюции, неизбежно приводящей к возникновению мыслящей формы жизни, независимо от биологической и физико-химической основы, уже вышла за рамки фантазии и прочно укрепилась в теории эволюции в виде «слабого антропного принципа». Причём этот принцип затронул не только биологию, но и даже астрофизику и геологию.
Идея о неизбежной дружественной природе первого контакта высокоразвитых цивилизаций порождает попытки послать в космос сигналы и символы Земли в надежде на будущую встречу с собратьями по разуму.
Идея существования генной памяти, высказанная в рассказе «Эллинский секрет», подробно развита в романе «Лезвие бритвы». В связи с работами в области расшифровки генома человека существует вероятность подтверждения и этой теории.
Идея опыта Мвена Маса и звездолёта Прямого Луча, способного мгновенно пронзать пространство и время, породила целый пласт идей в том же ключе — от фантастического нуль-пространства (сам термин тоже введён Ефремовым) до научно обоснованных «кротовых» дыр… Да и так ли уж фантастична идея Прямого Луча?
В основе теории Прямого Луча лежит гипотеза о строении мира, состоящего из светлой и тёмной материи, которые составляют сложную спирально-слоистую структуру и образуют единое целое. Идея существования тёмной материи из романа сначала перекочевала в современные научные теории астрофизики и физики элементарных частиц. Теперь тёмную материю пытаются обнаружить с помощью высокочувствительных датчиков, которые размещают в глубоких подземных шахтах или выводят на космическую орбиту. По Ефремову, основа тёмной материи — антиматерия, антивещество. Современные научные теории имеют несколько разных точек зрения на природу тёмной материи, и антивещество — одна из них. Весной 2013 года были опубликованы первые результаты исследований космического пространства с помощью высокочувствительного детектора AMS-02, установленного на борту международной космической станции. Прибор предназначен для улавливания следов аннигиляции тёмной материи. Согласно теории, при аннигиляции тёмной материи должен образовываться поток нейтрино и позитронов. Позитроны являются антиподами электронов, то есть представляют собой частицы антивещества. Жизнь их коротка, при встрече с электронами они бесследно аннигилируют. Тем не менее вероятность того, что позитроны могут долетать до Земли, всё же существует. Вот их-то и должен был зарегистрировать прибор AMS-02. Пик энергии позитронов в определённом диапазоне энергий действительно удалось зарегистрировать. Раз в космосе имеются потоки позитронов, то где-то относительно близко должен быть их источник! И это первое серьёзное подтверждение теории Ефремова. Реальные физические исследования тёмной материи только начинаются, и кто знает, возможно, в далёком будущем они действительно приведут к созданию звездолёта Прямого Луча.
Одна из самых выдающихся и глобальных теорий, выдвинутых и детально проработанных Ефремовым, относится к области социальных отношений и развития человеческого общества. Это теория инферно, изложенная Иваном Антоновичем в романе «Час Быка». Инферно в переводе с латинского означает «ад». Теория рассказывает о возможных опасностях, подстерегающих человечество на пути своего развития, о ловушках, толкающих общество к порабощению, и показывает пути, ведущие со дна этого ада наверх, к свободе, способы преодоления этой «дурной» неизбежности.
В романе Иван Антонович словами Фай Родис говорит о возможности для каждого из нас внести свой, пусть самый малый, вклад в борьбу со злом: «Если уж находиться в инферно, сознавая его и невозможность выхода для отдельного человека из-за длительности процесса, то это имеет смысл лишь для того, чтобы помогать его уничтожению, следовательно, помогать другим, делая добро, создавая прекрасное, распространяя знание. Иначе какой же смысл в жизни?»
Подобные слова дают опору и силы жить, именно жить, а не существовать и нести посильный свет, добро и любовь людям, несмотря на море тьмы, окружающей нас. Так и жил сам Ефремов.
Диапазон писателя и учёного Ивана Ефремова был настолько широк, настолько значительны его достижения в науке и литературе, что это ставит его на одну планку с такими гениями человечества, как Леонардо да Винчи, Никола Тесла, Циолковский и другие. Для таких людей нет пределов познания мира. Их мысль безгранична.
Недаром существует легенда, будто такие люди являются добрыми посланниками из будущего. Они осторожно, полунамёками, чтобы не нанести вреда, делятся с нами своими знаниями о будущем и помогают человечеству проложить туда правильную дорогу. Это всего лишь легенда, но красивая легенда…»
Сам Иван Антонович считал, что можно открыть всё что угодно, предугадать многое в беспредельно сложной Вселенной: «Мы можем верно предсказать действительно всё, если только удастся достаточно чётко сформулировать параметры события внутри общих параметров физической вселенной. Наподобие того, как из снежной глыбы мы можем вырубить любую фигуру — от куба до Афродиты».[344]
Итак, главное — точно сформулировать параметры события, составить образ объекта. Так Ефремов, будучи убеждённым материалистом, выходит за пределы вопроса о первичности материя/идея.
Размышляя об обществе будущего, Иван Антонович подчёркивал особую роль духовного сознания. В письме американскому палеонтологу Эверетту Олсону он говорит: «Очень широкое использование формулы Маркса «бытие определяет сознание» в этом виде является действительно метафизическим, потому что ей недостает 2-й части: «сознание определяет бытие». Теперь до марксистов доходит, очень медленно, что духовное сознание является вполне реальной силой, особенно в приспособлении, выживании и «пути вверх» в целиком материалистических процессах. Кстати, если дух является высшей формой материи, то что тогда? Почему он не может быть реальной силой и неизбежной «оборотной стороной» в диалектическом мире?»[345]
Путь в мир будущего лежит по струне духа, на этом пути насущной необходимостью становится практическое использование диалектической философии.
Глубоко понимавший действие механизмов причин и следствий, Ефремов никогда не был прекраснодушным мечтателем. Он писал: «Я всё более и более убеждаюсь, что наша цивилизация со своим формальным подходом идёт вперёд всё более и более неверным путём к некоторым катастрофическим вещам. Но я надеюсь, что эта дорога перед долгим возвращением домой…»[346]
Иван Антонович знал, что 1972 год станет нижним пиком периода упадка психических и физических сил для обитателей Земли. В его архиве хранится диаграмма, основанная на данных Николая Константиновича Рериха (1937). Они согласуются со старыми индийскими и тибетскими пророчествами о пиках упадка и подъёма, ведущих отсчёт с 1027 года, когда в Тибете была принята система отсчёта времени — Калачакра («Колесо времени»).
В примечании к диаграмме сказано: «Малые периоды «упадка» и «возвышения» повторяются каждые 11 лет.[347] Большие периоды чередуются через каждые 111 лет, во время которых бывают две сильнейшие фазы «возвышения» и «упадка», то есть через каждые 55,5 лет. Числа 11 и 111 — священные».
Согласно диаграмме, в 1942 году происходила последняя битва, которая ознаменовала конец эпохи Кали-Юги. В 1944 году, когда победа СССР в Великой Отечественной войне стала несомненной, закончилась Кали-Юга и началась Агни-Юга, которая продлится 2160 лет.
Время делится на большие — по 60 лет — циклы, каждый из которых состоит из пяти двенадцатилетних циклов. Каждому году двенадцатилетнего цикла соответствует своё животное по тибетско-китайскому календарю.
Иван Антонович пользовался хронологической системой, на которую намекнул читателям в романе «Час Быка», в беседе звездолётчиц с Фай Родис о земной истории. Исследователь творчества Ефремова А. И. Константинов составил таблицу,[348] точность которой подтвердилась записями самого Ивана Антоновича, сделанными в одной из «Премудрых тетрадей»:
XVI круг, белый (железный) цикл 1963–1974.
XVI круг, чёрный (водяной) цикл 1975–1986.
XVII круг, синий (дерев.) цикл 1987–1998.
XVII круг, красный (огневой) цикл 1999–2010.
Битва демона Мара (2005) будет 19 год 17 круга, т. е. год красной (огненной) курицы.
Год красного тигра… — 2010.
XVII круг окончится в 2046 году.
Перечитаем упомянутую беседу: «Когда на Земле распространился мистицизм? — спросила Эвиза.
— В синем цикле семнадцатого круга. Историки для тех времён пользуются периодизацией, принятой в хрониках монастыря Бан Тоголо[349] в Каракоруме. Уединившиеся там летописцы беспристрастно регистрировали мировые события ЭРМ,[350] пользуясь двухполосной системой сопоставления противоречивых радиосообщений. Удалённость буддийского монастыря — причина, почему там сохранились летописи, — в те времена множество исторических документов в других странах погибло. В Бан Тоголо уцелела самая полная хронология, и мы пользуемся её календарём.
— Великое сражение Запада и Востока, или битва Мары, было тоже в семнадцатом круге? — спросила Чеди.
— В год красной, или огненной, курицы семнадцатого круга, — подтвердила Фай Родис, — и продолжалось до года красного тигра.
— Забавная хронология! — сказала Эвиза. — Звучит архаически нелепо.
— Она не так уж нелепа, как кажется на первый взгляд. Каждый круг соответствует средней продолжительности человеческой жизни и потому воспринимается не только разумом, но и чувствами.
— А в Бан Тоголо сохранились летописи более раннего периода? — спросила Эвиза.
— Они уходят далеко в глубь времён, за Эру Смешения Формаций.
— В Тёмные Века? Тогда они приходятся между пятым и тринадцатым кругами. ЭРМ началась в пятнадцатом, — произвела быстрый расчёт Чеди.
— А кончилась в чёрном цикле семнадцатого круга, — добавила Родис.
— Не пора ли прекратить изыскания, в каком бы круге мы ни находились? — предложила Эвиза. — Мы замучили Фай.
— В год синей лошади пятьдесят первого круга, — рассмеялась Родис. — Пойдёмте ко мне. Мы много размышляли в последнее время. И даже забываем потанцевать…»
Вернёмся к архиву Ефремова. Диаграмму надо прочитать, то есть наполнить цифры и отрезки волны конкретным содержанием.
Итак, мистицизм начинает распространяться «в синем цикле семнадцатого круга», то есть в 1987 году. Действительно, именно тогда в нашей стране вспыхнуло увлечение оккультными, а чаще псевдооккультными знаниями, примитивными гороскопами и различными гаданиями, вызванное размыванием и крушением господствовавшей прежде морали и стабильной системы жизни.
Слова, написанные Ефремовым в 1969 году в письме профессору Олсону, написаны будто бы в начале 1990-х годов:
«Некомпетентность, леность и шаловливость «мальчиков» и «девочек» в любом начинании является характерной чертой этого самого времени. Я называю это «взрывом безнравственности», и это мне кажется гораздо опаснее ядерной войны. Мы можем видеть, что с древних времён нравственность и честь (в русском понимании этих слов) много существеннее, чем шпаги, стрелы и слоны, танки и пикирующие бомбардировщики. Все разрушения империй, государств и других политических организаций происходят через утерю нравственности. Это является единственной действительной причиной катастроф во всей истории, и поэтому, исследуя причины почти всех катаклизмов, мы можем сказать, что разрушение носит характер саморазрушения.
Когда для всех людей честная и напряжённая работа станет непривычной, какое будущее может ожидать человечество? Кто сможет кормить, одевать, исцелять и перевозить людей? Бесчестные, каковыми они являются в настоящее время, как они смогут проводить научные и медицинские исследования?
Поколения, привыкшие к честному образу жизни, должны вымереть в течение последующих 20 лет, а затем произойдёт величайшая катастрофа в истории в виде широко распространяемой технической монокультуры, основы которой сейчас упорно внедряются во всех странах, и даже в Китае, Индонезии и Африке…»[351]
1994 год обозначен на диаграмме как начало очередного — наиболее глубокого с 1942 года — упадка, а отрицательный, пиковый 1997 год помечен как «Последняя битва «Змия». Россия, аккумулировавшая с этой точки зрения судьбу цивилизации, пережила в эти годы тяжелейшие события: череду крупных межнациональных войн, расстрел Белого дома в октябре 1993 года и гиперинфляцию, закончившуюся дефолтом 1998 года. Тотальная потеря нравственных ориентиров сопровождалась разгулом бандитизма.
1999 год — подъём, владычество «Всадника на белом коне (Майтрейи)».
Следом, в 2005 году, идёт упадок с отрицательным пиком в 2008–2009 годах.
По словам Фай Родис, «великое сражение Запада и Востока, или Битва Мары», продолжалось с года курицы до года тигра красного цикла семнадцатого круга, то есть с 2005 по 2010 год.
Олсон пишет, что Ефремов подарил ему подобную диаграмму и в беседе говорил об очень большом провале с гигантскими войнами между 1998 и 2005 годами, соответствующими времени Белого всадника.
Для России это время характеризуется относительной стабилизацией: снижением инфляции, затуханием криминальных и приграничных войн и переводом их в разряд спецопераций. Но снижение напряжённости явилось следствием не столько лечебного, сколько замораживающего, консервирующего эффекта. В эти годы на население страны наводили ужас террористические акты, в которых гибли сотни мирных жителей.
«Великое сражение Запада и Востока» проявило себя, по словам Хантингтона, в столкновении цивилизаций, между которыми произошёл разлом — прежде всего в области культурных констант, сопровождающийся резким усилением традиционализма. 11 сентября 2001 года, войны на Ближнем Востоке, резкое усиление Китая, волнения в Европе, постепенно меняющей свой этнический состав из-за притока мигрантов-мусульман — суть проявления цивилизационных разломов, ставящих всё человечество перед глобальным вызовом.
Есть и ещё одно, глубоко внутреннее значение предсказанного. Много раз обращалось внимание на единство для Ефремова экстравертной и интровертной сторон жизни. Мара — не кто иной, как бог иллюзий, владыка Матрицы. И главное из заблуждений, насылаемых им, — иллюзия реальности смерти и торжество земных условностей в сознании человека. Если вспомнить об этом, то битва Мары оказывается решающей битвой бога иллюзий за людские души. А Восток и Запад тогда — полярные символы противостояния в разуме каждого человека. И имеют отношение они как к готовности обратиться к глубинной саморефлексии и самодисциплине и отразить внешне неблагоприятные условия, не сломавшись, так и к перестройке коллективного сознания, и прежде всего — научной парадигмы, чему полностью соответствует нарождение постнеклассики с её синергетикой, трансперсональными и квантовыми взглядами на природу реальности. Согласно буддийской традиции, Мара имеет власть ровно настолько, насколько мы ему это позволяем. И в этом наша воля и наш человеческий выбор…
Этот вызов современные эволюционисты называют «точкой сингулярности», венчающей собой пятимиллиардный конус развития всей истории планеты.
Пойми простой урок моей земли: Как Греция и Генуя прошли, Так минет всё — Европа и Россия. Гражданских смут горючая стихия Развеется… Расставит новый век В житейских заводях иные мрежи… Ветшают дни, проходит человек. Но небо и земля — извечно те же.[352]Иван Антонович знал, что поэт-философ прав. И он не был одинок. Выдающийся современник Ефремова, основоположник теории этногенеза Лев Николаевич Гумилёв, иллюстрируя понимание древними диалектических законов развития, перевёл стихотворение китайской принцессы VI века, захваченной врагами:
Предшествуют слава и почесть беде, Ведь мира законы — трава на воде. Во времени блеск и величье умрут, Сравняются, сгладившись, башня и пруд. Пусть ныне богатство и роскошь у нас, Недолог всегда безмятежности час. Не век опьяняет нас чаша вина, Звенит и смолкает на лютне струна…Сочетание теории пассионарности Гумилёва и коммунистического будущего, по Ефремову, — отдельная плодотворная тема; можно констатировать: разные вершины одинаково тянутся ввысь.
Даты перехода к ЭМВ могут показаться произвольными, но неожиданно находят необычное подтверждение. В последнее десятилетие появилась теория сингулярной точки эволюции, разрабатываемая прежде всего физиком-эволюционистом А. Д. Пановым, активно занимающимся, помимо прочего, проектом по обнаружению внеземных цивилизаций SETI.
Панову удалось эмпирически обнаружить закономерность во времени при наращивании иерархической сложности материи, начиная с момента Большого Взрыва. История Земли выступила частным случаем и при этом логическим следствием предшествующих космологических эволюционных процессов. Были сведены в единую систему данные разных наук, отмечены революционные события в истории планеты, повлёкшие за собой наиболее глубокие, качественные перемены в её облике и существовании тех структур, что находились на пике эволюции в тот или иной период. Таким образом, возникновение холодной материи из реликтовой плазмы, жизни из холодной материи, разума из жизни — предстали звеньями одной цепи, гигантскими и закономерными оборотами единой спирали эволюции. Спираль эта оказалась стремительно и неуклонно стягивающейся с определённым коэффициентом, примерно равным 2,63. Если геологические эпохи, тесно связанные с развитием древних форм жизни, длились десятки и сотни миллионов лет, то в историческое время полные циклы составляют сначала тысячи, затем сотни и десятки лет, подходя к точке экстремума к двадцатым годам нашего века, когда временные промежутки сливаются. Завершается процесс миллиардолетней длительности, необходимо рождение чего-то совершенно нового.
Стоит вспомнить констатацию Вернадским того факта, что человек уже стал геологической силой, и прогнозы других космистов о переходе человечества из пассивного состояния объекта эволюции в состояние её субъекта, то есть активного, творящего начала, от деятельности которого напрямую зависит дальнейшая судьба эволюции Вселенной.
Переход человечества к ноосферному коммунизму (а сейчас ясно, что он только таким и может быть; идея коммунизма имеет потенциал только тогда, когда приобретает онтологичность космизма) становится необходимостью для наилучшего исполнения миссии разума — длить эволюцию сознательно. Нет предрешённости прошлых этапов земной эволюции, она или начнёт плодотворно выплёскиваться в космос, или утопнет в болоте самовоспроизводства отживших этапов, подобно конечной фазе жизни этногенезов у Гумилёва — обскурации.
В архиве Ефремова хранятся два листка: «Расчёт тибетских лет для «Часа Быка» и «Хронология (общая с «Туманностью…»)». В своём стремлении проникнуть за горы времени писатель концентрировался на ближайших пятидесяти годах — и одновременно смотрел далеко вперёд.
По расчётам писателя, Эра Разобщённого Мира, которую сейчас проживает Земля, а вместе с ней «Век смятения и голода» должны закончиться в чёрном цикле семнадцатого круга, между 2035 и 2046 годами.
Как же видит Ефремов будущее Земли?
С 2047 года начинается Эра Мирового Воссоединения: Век Союза Стран, Век Разных Языков, Век Борьбы за Энергию, Век Общего Языка.
В Эре Общего Труда (начало в 2287 году) чередуются Века Упрощения Вещей, Переустройства, Первого Достатка, Звёздного Космоса.
Эра Великого Кольца (начало в 2826 году) состоит из Веков [Подобия?] Разума, Великого Взлёта, Беспредельности и Тибетского опыта, начавшегося в 408 году ЭВК (3234 год) и продлившегося полтысячелетия.
Апофеозом этой хронологии звучит начавшаяся в 3700 году ЭВР — Эра Встретившихся Рук: Век Раскрытия Пространства, Век Прямого Луча, Век Свободных Встреч. События «Часа Быка» на Тормансе, согласно этим записям, произошли в 4030 году, пролога и эпилога — приблизительно в 4160 году.
Время уплотнилось. Ефремов-учёный, оглядываясь в прошлое, созерцал миллионы лет эволюции живых организмов. Вперёд он заглядывает на две тысячи лет. Годы, проживаемые человеком, по интенсивности могут сравниться с тысячелетиями развития органической жизни. Силой своего воображения и мысли, словно Прямым Лучом, пробивает он панцирь лет, показывая нам прекрасные картины будущего. Великий Кристалл Разума сверкает ярко, освещая дорогу нам, сегодняшним жителям Земли.
2009–2013
ПРИЛОЖЕНИЯ[353]
Иван Ефремов и Живая Этика Текстологические параллели
Всегда перед Светом тьма застилает горизонт (Б, 577).
Самое тёмное время — перед рассветом (ЧБ).
Строгая дисциплина свободы пересоздаст жизнь лишь при новом осознании реальности психической энергии, которая войдёт в обиход жизни (ЗнАЙ, 199).
По-видимому, эра Великого Кольца будет эрой развития третьей сигнальной системы человека, или понимания без слов (ТА, «Стальная дверь»).
Нужно проявить дисциплину духа, без неё не сумеете стать свободными. Для раба она будет тюрьмою, для свободного она будет садом прекрасным — целебным.
Понимающий дисциплину духа поймёт направление огня и дойдёт до кооперации Общего Блага. Конец пути может быть освещён тысячью огней Общего Блага (НВ, 42).
Нужно с малых лет твердить о свободе дисциплины духа (НВ, 121).
Свободная воля служит предметом наибольших противоречий. Для одних она превращается в своеволие, для других в безответственность, для третьих в безумие самомнения. Только прошедший дисциплину духа может осознать, как сурова действительность подлинной свободы (ЗнАЙ, 222).
Действительность свободы сурова, но вы подготовлены к ней дисциплиной вашего воспитания и учения. <… >
Перед человечеством, объединившим колоссальные массы людей, стоял реальный выбор: или подчинить себя общественной дисциплине, долгому воспитанию и обучению, или погибнуть — других путей для того, чтобы прожить на нашей планете, хотя её природа довольно щедра, нет! <… >
Перед человеком нового общества встала неизбежная необходимость дисциплины желаний, воли и мысли.
(Эвда Наль, ТА, «Школа третьего цикла»).
Около понятия труда накопилось много наветов. Ещё недавно труд презирался и считался вредным для здоровья. Какое оскорбление заключается в признании труда вредным! Не труд вреден, но невежественные условия труда. Только сознательное сотрудничество может оздоровить священный труд. Не только качество труда должно быть высоко, но должно окрепнуть обоюдное желание сделать условия работы яснопонятными. Нельзя проклинать трудом, нужно отличать лучшего работника (О, 11).
Скоро люди поняли, что труд — счастье, так же как и непрестанная борьба с природой, преодоление препятствий, решение новых и новых задач развития науки и экономики. Труд в полную меру сил, только творческий, соответствующий врождённым способностям и вкусам, многообразный и время от времени переменяющийся — вот что нужно человеку (Веда Конг, ТА, «Эпсилон Тукана»).
Чувство отсутствия специальности — Наше чувство, ибо Мы живём для всего комплекса жизни (О, 14).
Рассудок и ум специальный суть углы будущего дома. Человек, имеющий специальный ум, готовить может себе блестящее будущее, но он будет воплощаться, пока ум не потеряет специальность. Когда интеллект теряет специальность, он уже мудр. Каждая специальность предназначена для условий Земли. Синтез духа открывает все сферы (ЗнАЙ, 508).
В эпоху Великого Кольца считалось неполезным держать людей подолгу на одной и той же работе. Притуплялось самое драгоценное — творческое вдохновение, и только после большого перерыва можно было вернуться к старому занятию
(ТА, «Река времени»).
Йог не имеет привычек, ибо они не более как гниение жизни, но йогу свойственно иметь определённый образ действий. Не трудно йогу разрубить узы привычек, ведь напряжение зоркости открывает ему постоянно новые подходы к обстоятельствам. Но неподвижность есть скелет невежества. Сколько царств обрушилось от неподвижности! (ЗнАЙ, 198).
Дар Ветер — заведующий внешними станциями Великого Кольца, археолог, рабочий рудника, орбитальный инженер.
Радость работы есть лучшее пламя духа. Явление радости сопровождается усилением работы центров. Много подвигов совершено явлением радости (ЗнАЙ, 459).
Мы учим вас гораздо большему счастью отказа, счастью помощи другому, истинной радости работы, зажигающей душу
(Эвда Наль, ТА, «Школа третьего цикла»).
Условия строительства — полная соизмерность мысли и выражения — это оплот правды и красоты. Упражняться в жизни легко без умолчания и преувеличения. Пристально следит Вождь за сотрудниками, чтобы выражение их соответствовало значению (НВ, 49).
При отсутствии самоограничения нарушается внутренняя гармония между индивидом и внешним миром, когда он выходит из рамок соответствия своим возможностям и, пытаясь забраться выше, получает комплекс неполноценности и срывается в изуверство и ханжество
(ЧБ, «В садах Цоам»).
Явления должны быть принимаемы в полной реальности. Для материалистов это условие особо обязательно. Но именно материалисты более других подкрашивают разнородные явления в свой цвет, тем самым затрудняя эволюционный процесс. Мы, как опытные Строители — реалисты, можем видеть вред нетерпимости, основанной на грубейшем незнании. Где же реальность, когда мышление стеснено, вместо тысячи знаков знает лишь пять?! Утверждение становится искажением, если заранее скован стереотип условностей. Улыбка знания опрокидывает шлюзы намеренных заграждений. Строитель не может фантазировать о почве под зданием. Такое положение тем более преступно, что материальное воззрение даёт самые неограниченные, законные возможности.
Фетишизм по существу своему ограничен. Но именно материя уявляет победу при понимании свободы. Реалисты должны быть свободными, иначе свет реализма погрузится во тьму фетишизма. Прозрение природы духа материи, как сияющий венец человечества, создаёт камень жизни.
Спешите сбросить рухлядь! (О, 196).
Явления необычности приходят, как ошибки природы. Формы законов скованы малодушием. Фетиш или отрицание по-прежнему стоят стражами человека. Учение жизни находится или в условности биологии, или погашается ладаном храмов (ЗнАИ, 400).
Сектант мечтает забрать власть для подчинения всего своему негибкому сознанию. Суевер больше всего боится, как бы случайным движением не напомнить чужое знамение, и очень много думает о себе. Суеверие и сектантство являются признаком очень низкого сознания, ибо потенциал творчества ничтожен у тех, кому чужд принцип вмещения.
Необходимо всячески обнаруживать суеверие и сектантство. Не стесняйтесь останавливаться на этих вопросах, тем самым будете уничтожать ложь и страх (О, 237).
Чародей даже самое обычное действие окутывает покровом необычности. Йог даже самое необычное явление вправляет в пределы обычности, ибо он знает, как целесообразна природа (ЗнАЙ, 180).
Вы отстранили себя от подлинного познания сложности живой природы, надев цепь односторонней и опасной линейной логики и превратившись из вольных мыслителей в скованных вами же придуманными методами рабов узких научных дисциплин. Та же первобытная вера в силу знака, цифры, даты и слова господствует над вами в трудах и формулах. Люди, считающие себя познавшими истину, ограждают себя, по существу, тем же суеверием, какое есть в примитивных лозунгах и плакатах для «кжи»
(Вир Норин, ЧБ, «Хрустальное окно»).
Кто-то недомыслящий полагает — деды жили безо всякого огня и сошли на кладбище как почтенные граждане. Какое мне дело до огня! Пусть о нём думает мой повар (ЗнАЙ, 492).
Это ваша правда! А наша — это ограничение знаний, ибо они открывают человеку чудовищную пропасть космоса, на краю которой он сознаёт своё ничтожество, теряет веру в себя. Разрушается ценность простых и прекрасных ощущений жизни. Счастье человека — быть в ладу с теми условиями, в каких он рождён и будет пребывать всегда, ибо выход из них — это смерть, ничто, погасшая на ветру искра
(Чойо Чагас, ЧБ, «В садах Цоам»).
…Мыслящий думает — откуда необъяснимые эпидемии, иссушающие лёгкие, гортань и сердце? Поверх всех причин есть ещё нечто, не предусмотренное врачами. Не условия жизни, но нечто извне косит толпы. Этим путём внимательных наблюдений можно прийти к заключению без предрассудков (ЗнАЙ, 441).
Агни-йога приходит ко времени. Кто же иначе скажет, что эпидемии инфлюэнцы должно лечить психической энергией? Кто же обратит внимание на новые виды душевных, мозговых и сонных заболеваний? Не проказа, не старая форма чумы, не холера страшны, к ним имеются предохранительные меры, но следует задуматься над новыми врагами, созданными современной жизнью. Нельзя к ним применять старые средства, но новый подход создастся расширением сознания.
Можно проследить, как в течение тысячи лет шли волны болезней. По этим таблицам можно составить любопытную таблицу человеческих уклонов, ибо болезни, естественно, показывают негатив нашего существования.
Надеюсь, что живые умы вовремя помыслят. Поздно строить насос, когда дом пылает (ЗнАЙ, 492).
Отбивая мелкие вылазки природы, учёные проглядели массовые последствия. Подавляя болезни, но не исцеляя заболевших, они породили чудовищное количество аллергии и распространили самую страшную их разновидность — раковые заболевания. Аллергии возникали и из-за так называемого иммунного перенапряжения, которому люди подвергались в тесноте жилищ, школ, магазинов и зрелищ, а также вследствие постоянного переноса быстрым авиатранспортом новых штаммов микробов и вирусов из одного конца планеты в другой. В этих условиях бактериальные фильтры, выработанные организмом в биологической эволюции, становились своей противоположностью, воротами инфекции, как, например, миндалины горла, синусы лица или лимфатические узлы. Утрата меры в использовании лекарств и хирургии повредила охранительные устройства организма, подобно тому как безмерное употребление власти сокрушило охранительные устройства общества — закон и мораль.
Существо врачевания, основанное на старых представлениях, отстало от жизни. Когда в процессе развития общества погибли религия, вера в загробную жизнь, в силу молитвы и в чудо, миросозерцание отсталого капиталистического строя зашло в безнадёжный тупик неверия, пустоты и бесцельности существования. Это породило повальные неврозы пожилого поколения. Нагнетание угрозы тотальной войны как приём политической агитации, постоянное напоминание об этом в газетах, радио, телевидении способствовали психозам молодой части населения — противоречивым отрешениям скорее испытать все радости жизни и уйти от её реальности. Насыщенность развлечениями, накал искусственных переживаний создали своеобразный «перегрев» психики. Люди всё упорнее мечтали уйти в другую жизнь, к простым радостям бытия предков, к их наивной вере в ритуалы и тайны. А врачи пытались лечить по старым канонам прежних темпов, другой напряжённости бытия (ЧБ, «Стрела Аримана»).
При начале болезни применяема операция, но она будет бессмысленна, если человек после выздоровления вернётся к прежней жизни. Конечно, ультразвук может разбивать опухоль, но какое значение это имеет, если причина отравления не устранена! Жизнь должна быть оздоровлена. Не мудро выдумывать лечение мертвецов! Но следует обратить внимание на качество жизни заболевающих (ЗнАЙ, 495).
Врачи, озадаченные наплывом заболеваний, оперировали без конца, кляня скучную рутину «простых случаев» и не подозревая, что встретились с первой волной бедствия. А когда вслед за общим ослаблением людей всё чаще стали встречаться болезни испорченной наследственности, лишь немногие передовые умы смогли распознать в этом Стрелу Лримана (ЧБ, «Стрела Аримана»).
Высший опыт есть опыт над собою. В нём и центробеж-ность и центростремительность. Эти простые истины нужно твердить. Именно, в положении духа своего за человечество заключается и жертва и приобретение (ЗнАЙ, 501).
Мвен Мае и Рен Боз. И — Бет Лон, ставящий опыты над другими.
Чувствознание есть мудрость… (ЗнАЙ, 508).
…Мудрость — это сочетание знания и чувств (Чара Нанди, ТА, «Остров Забвения»).
Нужно научиться сочетать знание прошлого со стремлением к будущему (ЗнАЙ, 575).
«Космос и палеонтология».
Нужно преобороть робость и почуять вихрь спирали, и в стержне вихря иметь мужество спокойствия (О, 89).
Полёт на ЗПЛ.
Коллективизм и диалектизм — два пособия при мышлении о материализме. Существо материализма являет особую подвижность, не минуя ни одного явления жизни. <…> Нужно до такой степени обосновать материализм, чтобы все научные достижения современности могли войти конструктивно в понятие материализма одухотворённого (О, 123).
Всё творчество Ефремова.
Не обращайте внимания на ныряния и взлёты духа, ибо это могут быть лишь кольца спирали движения. Хуже ровная невнимательность и самомнение (ЗнАЙ, 163).
Не обращайте внимания на спады после взлётов души, потому что это такие же закономерные повороты спирали движения, как и во всей остальной материи (Эвда Наль, ТА, «Школа третьего цикла»).
Космическая жизнь состоит из действия притяжения и отталкивания, иначе говоря, из ритма взрывов и накоплений (ЗнАЙ, 311).
Вы знаете, что вся жизнь состоит из притяжения и отталкивания, ритма взрывов и накоплений, возбуждения и торможения (Веда Конг, ТА, «Школа третьего цикла»).
Мудро понимать спираль движения, ибо приложение энергии устремляет струю высоко, но закон тяготения осаждает уровень. Так слагаются ступени (ЗнАЙ, 328).
Главный центр торможения — Совет Экономики, переводящий всё на почву реальных возможностей общественного организма и его объективных законов. Это взаимодействие противоположных сил, сведённое в гармоническую работу (Веда Конг, ТА, «Школа третьего цикла»).
Ритм спирали возрастает пропорционально с восхождением (Б, 114).
Последний известный нам в истории виток спирали развития жизни оказывается очень туго скрученным… («Космос и палеонтология»).
Поняв случайность, мы пришли к абсолютной необходимости дальнейшего, теперь уже сознательного скручивания спирали в смысле ограничения индивидуального разброса чувств и стремлений, то есть необходимости внешней дисциплины как диалектического полюса внутренней свободы (Вир Норин, ЧБ, «Кораблю — взлёт!»).
Истинно, человек есть высшее проявление Космоса. Истинно, он выбран наречённым строителем и собирателем всех сокровищ Вселенной. Истинно, название «человек» означает утверждение творчества (Б, 25).
Конечно, на высших планах легко духу устремляться, но низший, земной полюс утверждается как решающий путь (Б, 538).
Чем совершеннее дух, тем неизбежнее сознаёт он всё глубокое страдание земной жизни, между тем Сам Я твержу вам о радости. Такая радость может быть в осознании дальних миров (ЗнАЙ, 152).
…Одному лишь человеку дано понимать не только красоту, но и трудные, тёмные стороны жизни. И одному лишь ему доступна мечта и сила сделать жизнь лучше! (Дар Ветер, ТА, «Река времени»).
Умеренность вползла в самые широкие круги. Те, которые являются как бы поборниками добра, — предаются духовной умеренности. Существует сказка, как дьявол встретил Ангела. Светлый сказал: «Горьки слуги твои!» Но дьявол ответил: «Мои горьки, зато твои кислы, оба мы должны искать сладких». И Ангел поник головою, ибо он не мог указать, где они, непрокислые (НВ, 142).
В Тёмные Века на Земле родилась легенда о великом сражении Бога и Сатаны, добра и зла, неба и ада. На стороне Бога бились белые ангелы, на стороне Сатаны — чёрные. Весь мир был расколот надвое до тех пор, пока Сатана с его чёрным воинством не был побеждён и низвергнут в ад. Но были ангелы не белые и не чёрные, а серые, которые остались сами по себе, никому не подчиняясь и не сражаясь ни на чьей стороне. Их отвергло небо и не принял ад, и с той поры они навсегда остались между раем и адом, то есть на Земле (ЧБ, «Маски подземелья»).
Явление жертвы можно понять как приобретение права на скорейший вход (ЗнАЙ, 350).
— Если мы вторгаемся в жизнь Торманса, применяя древние методы — столкновение силы с силой, если мы нисходим до уровня их представлений о жизни и мечте… — Родис умолкла.
— Тем самым принимаем и необходимость жертвы. Так?
— Так, Рифт… (ЧБ, «Отзвук инферно»).
Когда говорим об образовании психической энергии в сознательное оружие, могут спросить — с чего начать? Нужно начать с осознания присутствия её. Для этого осознания необходимо дотронуться до одного из самых основных понятий. Иногда это называли, неудачно, верою, но лучше назвать доверием. Вера отвечает самогипнозу. Доверие соответствует самоанализу. Вера неопределённа в существе. Доверие подтверждает непреложность.
Идём путём непреложности. Нет суеверия осознать мощь человеческого аппарата (О, 221).
Хуже всего люди, которые не умеют верить и не знают мощи доверия — тени преходящие! (ЗнАЙ, 140).
Родис и её спутники восстановили в тормансианах две гигантские общественные силы: веру в себя и доверие к другим. Ничего нет более могучего, чем люди, соединённые доверием. Даже слабые люди, закаляясь в совместной борьбе, чувствуя, что на них полагаются полностью, становятся способными на величайшее самоотвержение, веря в себя, как в других, и в других, как в себя… (учитель, ЧБ, эпилог).
Можно вещи уважать, но нужно опасаться перепроизводства. Самое вредное мышление наступает среди ненужных вещей. Как тенёта, протягиваются усталые мысли о применении и распределении вещей (ЗнАЙ, 249).
Основное условие требует улучшения условий и упрощения подробностей жизни (ЗнАЙ, 427).
Лишь целесообразное упрощение может вносить достоинство жизни и сберечь естественные богатства (ЗнАЙ, 427).
Если зодчий видит прочность основания, он пользуется им для нового здания. Нужна мировая экономия средств. Роскошь разрушения отошла на страницы истории. Мир нуждается не в новых элементах, но в новых сочетаниях. И путь нового завоевателя озарён не заревом пожаров, но искрами вновь привлечённой энергии (О, 214).
Но требование дать каждому всё вызвало необходимость существенно упростить обиход человека. Человек перестал быть рабом вещей, а разработка детальных стандартов позволила создавать любые вещи и машины из сравнительно немногих основных конструктивных элементов подобно тому; как всё великое разнообразие живых организмов строится из небольшого разнообразия клеток, клетка — из белков, белки — из протеинов и т. д. (Веда Конг, ТА, «Эпсилон Тукана»).
Мы прошли через непосильное усложнение жизни и предметов быта, чтобы прийти к наибольшей упрощённости. Усложнение быта приводило к упрощению духовной культуры. Не должно быть никаких лишних вещей, связывающих человека, переживания и восприятия которого гораздо тоньше и сложнее в простой жизни (учительница, ТА, «Школа третьего цикла»).
Утрите слёзы благости, нам нужны искры возмущения духа! (О, 59).
Лучшую песнь поём дерзновению (ЗнАЙ, 10).
Ошибочно думать, что восхождение сознания совершается сверхъестественными восхищениями. Как внизу, так и наверху — везде труд и опыт (ЗнАЙ, 225).
Не молитва, но суровая работа нужна. И это нужно твердить (ЗнАЙ, 249).
Мечты о тихой бездеятельности рая не оправдались историей, ибо они противны природе человека — борца (Эвда Наль, ТА, «Школа третьего цикла»).
Истинное стремление к осознанию высших возможностей должно бы наполнять большую часть жизни как самое насущное и увлекательное занятие. Но свет познания заменён условными формулами религий, и человек, призванный мыслитель, кланяется тёмному углу и увешивает себя амулетами, даже не зная символа изображения. Повторяйте это всем спящим в темноте обычности…
Когда человеку нет опоры в обществе, когда его не охраняют, а только угрожают ему и он не может положиться на закон и справедливость, он созревает для веры в сверхъестественное — последнее его прибежище (Фай Родис, ЧБ, «Скованная вера»).
…Никаких половинчатых путей не существует — или устремление, или окоченение смерти. Притом устремление, полное радости осознания космических сознаний, и смерти окоченение, полное ужаса (ЗнАЙ, 158).
Гриф Рифт скупо улыбнулся, тихо постукивая пальцами по пульту.
— Всегда один и тот же вопрос: даёт ли счастье знание или лучше полное невежество, но согласие с природой, нехитрая жизнь, простые песни?
— Рифт, где вы видели простую жизнь? Она проста лишь в сказках. Для мыслящего человека извечно единственным выходом было познание необходимости и победа над ней, разрушение инферно. Другой путь мог быть только через истребление мысли, избиение разумных до полного превращения человека в скота. Выбор: или вниз — в рабство, или вверх — в неустанный труд творчества и познания (Соль Саин, ЧБ, «Глаза Земли»).
Нужно предупредить молодёжь о наступлении Йоги жизни (ЗнАЙ, 158).
…Если искать путь, то, как Вы очень хорошо сказали в начале письма, он в наше время лежит через общественную йогу («агни-йогу»), йогу служения человеку и обществу, йогу уничтожения страдания и войны со злом и несчастьем (не забывая, что всё в этом мире имеет две стороны). Для всего этого нужно и самоусовершенствование и самоограничение, но в иной мере и иных целях, чем в личной йоге, которой начинают увлекаться многие, мечтая получить особую власть и силу. Если бы они знали, что не получат ничего, кроме ответственности и заботы, самопожертвования и долга, то они даже близко не пытались бы познакомиться с высшей йогой. Если бы они знали, что на самых высших ступенях «посвящения» человек не может жить, не борясь с окружающим страданием, иначе он погибнет…
От души желаю Вам и Вашим товарищам твёрдо стать на путь — это самое большое счастье, какое есть на Земле, кроме большой любви…
(из письма В. Россихину).
…Удача не есть плавание в домашней лоханке в заросшем пруду.
Когда Мы говорим — плывите! Значит испытайте океан. Громады волн дадут вам радость. Испытание крепости не есть ли просто рост сил?
<…>
Отвага есть лишь знание пути, иначе каждый открывающий запертую дверь уже храбрец. Что ждёт его за порогом? Но Агни Йог при этом улыбается (ЗнАЙ, 257).
В старину основой бесстрашия чаще всего являлись тупая нервная система и самоуверенность, исходившая от невежества. Коммунистическое общество породило иную, высшую ступень бесстрашия: самоконтроль при полном знании и чрезвычайной осторожности в действиях (ЧБ, «Стрела Аримана»).
Всякое отчаяние есть предел. Сердце есть Беспредельность (Сердце, 591).
Там, где люди сказали себе: «Ничего нельзя сделать», — знайте, что Стрела поразит всё лучшее в их жизни (ЧБ, «Стрела Аримана»).
Явление горения духа так многоразлично. Но пусть лучше ошибётесь, пусть преувеличите возможности блага, лишь бы не умалить (ЗнАЙ, 310).
Каждую иллюзию можно дополнить до действительности. Поэтому надо смотреть на иллюзии, как на светящиеся мухи. Кто же захочет уничтожить нечто, приносящее свет.
Умейте поразить тьму лицемерия, но каждый лепесток искренности пусть живёт (ЗнАЙ, 252).
Романтика — роскошь природы, но необходимая в хорошо устроенном обществе! От избытка телесных и душевных сил в каждом человеке быстрее возрождается жажда нового, частых перемен. Появляется особое отношение к жизненным явлениям — попытка увидеть больше, чем ровную поступь повседневности, ждать от жизни высшую норму испытаний и впечатлений (Дар Ветер, ТА, «Совет Звездоплавания»).
Также: романтика устремления Эрга Ноора к Веге, вылившаяся в реализм подвига полёта к Ахернару, и романтика устремлённости Мвена Маса к Эпсилон Тукана, вылившаяся в любовь к Земле и написание исследования об эмоциях.
Трудно посылать людям токи особой удачи, когда они избегают особых путей (ЗнАЙ, 262).
Удача лишь там, где проявлено полное мужество. Мелкие сомнения родят рабскую боязливость (НВ, 46).
Закон предварительного преодоления препятствий.
Там, где целыми годами упражнялись в утончении и нагнетении тела, там сердце может подвинуть дух почти немедленно. Конечно, нужно воспитание сердца, но это лежит в сфере чувств, но не механики. Так спешно призовём сердце на служение Новому Миру (Сердце, 446).
…Я не могу стать идеально здоровым среди болезненных людей своей планеты. Не могу потому, что знаю, как много времени и сил надо тратить на себя, чтобы держаться на этом уровне. Я ведь не получил идеального тела как наследство от предков. Одно приближение к вашей силе потребует столько времени и внимания для себя, что меня не хватит на более важное: доброту, любовь, жалость и заботу о других, в чём я вижу свой долг. Мало любви и добра в нашем мире! Мало людей, одарённых и не растративших свои душевные силы на пустяки вроде карьеры — жизни, богатой материально, или власти. Я родился слабым, но с любовью к людям и не должен уходить с этого пути (Таэль, ЧБ, «Скованная вера»).
Прежде осознания психической энергии нужно научиться внимательности. <…> Невнимательный, ненаблюдательный не может следить за расцветом психической энергии. Совет наблюдать есть совет друга, ибо будущее требует внимания (ЗнАЙ, 551).
Чуткая внимательность ко всему была характернейшей чертой людей эпохи Кольца (ТА, «Совет Звездоплавания»).
Притупление внимания к природе — это, собственно, остановка развития человека, так как, разучаясь наблюдать, человек теряет способность обобщать (ТА, «Школа третьего цикла»).
Нет личного желания, но непреложность законов материи. Не хочу, но знаю (ЗнАЙ, 32).
Изучение законов природы и общества, его экономики заменило личное желание на осмысленное знание. Когда мы говорим: «Хочу», — мы подразумеваем: «Знаю, что так можно» (Эвда Наль, ТА, «Школа третьего цикла»).
Явление неравенств создаёт качели. Большой подъём одного создаёт лишь большой подъём другого. Единственный выход избавиться от расшатывания основ есть равенство.
Находятся циники, которые говорят — пусть качаются, тем более энергии в пространстве. Замечание, не лишённое смысла, но, именно, дело строительства настолько нуждается в заботливости, что явление истинной экономии сил должно быть допущено. Самый экономный принцип — равенство, оно уничтожает преимущество и своекорыстие (НВ, 59).
— Знаете ли вы, что исторический процесс подобен маятнику, качающемуся взад и вперёд, проходящему пики противоположностей и глубокий спад. С нашей победой маятник качнётся в пик экономической интенсивности жизни — и тогда…
— Но это же неверно! Фактический ход истории иной. Маятник всего лишь образ, придуманный людьми однолинейного мышления, не знающими диалектики. Образ родился из страданий в массах людей при мелких изменениях системы управления, без коренной её перемены. Ведь ничего не изменится, если принять доктрину, противоположную предыдущей, перестроить психологию, приспособиться. Пройдёт время, всё рухнет, причиняя неисчислимые беды.
(Змееносец и Фай Родис, ЧБ, «Маски подземелья»).
Подвижность будет лучшим выходом из ловушки жизни. Йог мгновенно взвешивает, как ценна целесообразность. Если для обнаружения его йогизма ему предложат съесть кусок мяса, конечно, он предпочтёт съесть кусок мяса, нежели выдать тайну. Последствие мяса он очистит легко, но последствие тайны в предательских руках непоправимо, и иногда нужно употреблять разящий луч, что допустимо лишь редко…
Обман Фай Родис (ЧБ).
…Также хочу напомнить о значении творчества для Агни-Йоги. Вам было дано познать два музыкальных произведения в противоположном исполнении, и дух понял, какая разница воздействия. Так поднимается сознание при касании Истины (ЗнАЙ, 192).
Танец Фай Родис с Эвизой Танет и Оллы Дез (ЧБ).
Люди любят явления не меньше слона и звук не тише грома. Но в тишине совершается воздействие тонких энергий (ЗнАЙ, 339).
Шум Торманса, постоянное желание уединиться у землян.
Именно, качество психической энергии значительно. Правильно предполагать, что потенциал психической энергии разлит даже в низших организмах. Он даёт инстинкт, но не сознание. Он отвечает низшим слоям атмосферы и вращается в них. Он будет затрагивать центры низшей половины организма. Потому надо уметь управлять психической энергией, посылая её на подвиг. Психическая энергия утончается образом мышления (ЗнАЙ, 471).
Мы получили от природы большой исследовательский мозг, хотя вначале он был предназначен только для поисков пищи и исследования её съедобности (ТА, «Школа третьего цикла», учительница).
Самое трудное в жизни — это сам человек, потому что он вышел из дикой природы не предназначенным к той жизни, какую он должен вести по силе своей мысли и благородству чувств (учитель, ЧБ, пролог; Вир Норин, «Кораблю — взлёт!»).
В чём будет заключаться утончённость и возвышенность мышления, обожжённого на священном огне? Неужели в нагромождениях искусственной логики и в ужасающих силлогизмах? Конечно, мышление будет устремляться к оценке лучшего и прекрасного и к изысканию наибольшей полезности. Можно предвидеть, как накопление Чаши даст течение ясных мыслей, сопоставляя прошлое с будущим (ЗнАЙ, 550).
Когда-то и у нас на Земле велось множество дискуссий по миллионам вопросов, издавались миллионы книг, в которых люди спорили со своими противниками. В конце концов мы запутались в тонкостях семантики и силлогизмов, в дебрях миллионов философских определений вещей и процессов, сложнейшей вязи математических изысканий. В литературе шёл аналогичный процесс нагромождения изощрённых словесных вывертов, нагромождения пустой, ничего не содержащей формы (Вир Норин, ЧБ, «Хрустальное окно»).
Звучать может лишь натянутая струна (Б, 24).
Люди Ян-Ях не подобны туго натянутым струнам, как мы, земляне, и легче переносят инфернальные условия. У них нет другого выхода. Мы бы очень скоро расплатились здесь за нашу быстроту реакций, напряжённость чувств и нагрузку памяти (Вир Норин, ЧБ, «Хрустальное окно»).
Ласковая, почти нежная осторожность земной женщины сменилась грозной решительностью, неуловимой быстротой движений и мыслей. Воля, словно туго натянутая струна, вибрировала в ней, отзываясь на чувствах окружавших людей (ЧБ, «Кораблю — взлёт!»).
Жаление есть лужа, где скользит верная нога. Жалеющий опускается до уровня жалеемого. Сила жалеющего растворяется в сумерках жалеемого — следствие самое плаксивое.
Не нужно смешивать жаление с состраданием. В сострадании ничто не растворяется, но нарастают кристаллы действия. Сострадание не плачет, но помогает (О, 134).
Родис впервые поняла, как далека она ещё от подлинного духовного совершенства. Следствием ничтожества её сил в океане горя неизбежно возникала жалость, отклоняя от главной цели. Её помощь здесь не соответствовала задаче, отныне лежавшей на людях Земли: помощи народу Ян-Ях в уничтожении инфернальной общественной системы целиком и навсегда (ЧБ, «Три слоя смерти»).
…Чеди будто запуталась в сетях неопределённой вины. Она ещё не понимала, что к ней пришла жалость — древнее чувство, теперь так мало знакомое людям Земли. Сострадание, сочувствие, желание помочь владели человеком Эры Встретившихся Рук. Но жалость, которая родится из бессилия отвратить беду, оказалась внове для Чеди Даан и заставила её тревожно осмысливать своё поведение (ЧБ, «Стрела Аримана»).
Йог проходит мимо кажущегося несчастья, ибо ему ясны причины и следствия случаев. Люди обычно называют случаем следствие упорного векового воздействия…
Экология Торманса, которая поставлена землянами в зависимое положение от экологии души.
…Йог усматривает истинные возможности там, где люди прошли спесиво…
Советы Фай Родис диктатору.
…Не удивляйтесь, если сердце йога выберет самую жалкую собаку, если в ней он увидит задатки верности и неожиданно позовёт самого скромного мальчика, как будущего сотрудника…
Фай Родис и Таэль.
…Не успеют люди прозвать йога суровым и холодным, как он неожиданно совершает действие истинной любви и сострадания (ЗнАЙ, 187).
— Могучая Змея, как прекрасна Эвиза! — сказала она. — Даже сердце замирает, как у маленькой, когда слушала сказку.
— Что же в ней особенного? — улыбнулась Чеди.
— Всё! Ты тоже хороша, но она!.. Только почему она такая жёсткая, почему мало в ней любви и сострадания?
— Цасор! Как ты могла найти столько пороков у Эвизы? На Земле нет таких людей.
— Нет уж! Хотя, — девушка призадумалась, — сначала и ты мне показалась такой же (ЧБ, «Стрела Аримана»).
Правильное соотношение между взрывами индивидуальности и непоколебимостью закона даёт золотой путь, который мерцает в глубине каждого расширенного сознания (ЗнАЙ, 398).
Тонка граница между угождением себе и трудом на развитие мира. Лишь большое сознание может различить внутреннее побуждение (ЗнАЙ, 261).
Диалектический парадокс заключается в том, что для построения коммунистического общества необходимо развитие индивидуальности, но не индивидуализма каждого человека. Пусть будет место для духовных конфликтов, неудовлетворённости, желания улучшить мир. Между «я» и обществом должна оставаться грань (Фай Родис, ЧБ, «Глаза Земли»).
Йог всё может, не всё йогу дозволено. Где же условия отграничения? Ответственность своим духовным достоянием, лишь это имущество достойно йога (ЗнАЙ, 223).
Руководясь достойными намерениями, я смею всё (Фай Родис, ЧБ, «Скованная вера»).
Спросят — как защищать Учение, не отвечая на нападки? Лучшая защита будет развитие действия в сторону невраждебную. Можно разбить враждебные утверждения созиданием новых оплотов. Знаете, как Мы не избегаем врагов, но нельзя на них тратить силы (ЗнАЙ, 469).
Часто Нас спрашивают, почему мы не торопимся уничтожать вредное существо? Это действие нужно пояснить, тем более, что вы сами имеете орудие такого же уничтожения. Поясню на примере врача. Нередко врач готов удалить пучок негодных нервов, но реакция симпатического центра останавливает его нож. Ни одно существо не обособлено. Неисчислимы слои паутины кармы, связывающие самые разнородные существа. По пути течения кармы можно ощутить нити от самого негодного до достойного. Поэтому разящий должен, прежде всего, омертвить каналы, соединяющие струи кармы. Иначе, отдельно справедливое уничтожение может повлечь массовый вред. Потому средство уничтожения должно быть употребляемо очень осторожно (ЗнАЙ, 115).
Нельзя уничтожать зло механически. Никто не может сразу разобраться в оборотной стороне действия. Надо балансировать борьбу так, чтобы от столкновения противоположностей возникало движение к счастью, восхождение к добру. Иначе вы потеряете путеводную нить. <… > Искоренять вредоносных людей можно с очень точным прицелом, иначе вы будете бороться с призраками (Фай Родис, ЧБ, «Маски подземелья»).
После общины к дальним мирам! (О, 133).
Есть только один настоящий путь в космос — от избытка сил, с устроенной планеты на поиски братьев по разуму и культуре (Гирин, ЛБ, «Звенья цепи»).
О качестве путешествий. Необходимо усвоить, как нужно путешествовать! Не только надо оторваться от дома, но надо преобороть само понятие дома. Точнее сказать — нужно расширить дом. Там, где мы, — там и дом. Эволюция свергает явление дома — тюрьмы. Успех раскрепощения сознания даст возможность стать подвижным. И не подвиг, не лишения, не возвеличение, но качество сознания отрывает от насиженного места. В насиженном месте столько закопчённости, столько кислоты и пыли. Мы против затворничества, но маленькие домики, с проплесневевшей атмосферой, хуже пещер. Зовём тех, кто может дать простор мысли (О, 93).
Одна из главных радостей человека — стремление путешествовать, передвигаться с места на место (Веда Конг, ТА, «Эпсилон Тукана»).
— …Зачем нас переводят с одного места в другое каждые четыре года, от цикла к циклу?
— Ты же знаешь, что психика утомляется и тупеет в однообразии впечатлений.
<…>
— Но ведь разделение циклов — они учатся и живут отдельно, их постоянные переезды с места на место — тоже большая трата сил?
— С лихвой окупающаяся обстановка восприятия, полезного эффекта обучения, которые иначе с каждым годом неизбежно падают.
(Эвда Наль и Реа, ТА, «Школа третьего цикла»).
Дело йога разрушать почитание смерти. Можно дойти до такой ограниченности, что переезд в соседний город начнёт казаться событием. После придётся не переменять жилища и представит трудности перемена одежды. Неподвижные люди более всего боятся смерти (ЗнАЙ, 240).
…Смерть страшна и заставляет цепляться за жизнь лишь тогда, когда жизнь прошла в бесплодном и тоскливом ожидании непрожитых радостей (Эвда Наль, ТА, глава «Тибетский опыт»).
Жизнь не носит признаков зарождения, но являет разложение явное. Таким образом, можно погрузиться в разложение и легко миновать ценности зарождения. Процесс зарождения скрыт сознательно, иначе стихии уничтожили бы зёрна возможности. Инертность есть основное свойство стихий, и для сообщения им эволюционной энергии нужен удар духа того состояния, которое может вместить мысль. Так мысль является корреспондентом стихий (ЗнАЙ, 22).
Люди прошлого привыкли воспринимать явления односторонне и прямолинейно — они создали теорию разбегающейся или взрывающейся Вселенной, ещё не понимая, что видят одну сторону великого процесса разрушения и созидания. Именно одна лишь сторона — рассеяния и разрушения, то есть переход энергии на низшие уровни по второму закону термодинамики, воспринималась нашими чувствами и построенными для усиления этих чувств приборами. Другая же сторона — накопления, собирания и созидания — не ощущалась людьми, так как сама жизнь черпала свою силу из энергии, рассеиваемой звёздами — солнцами, и соответственно этому образовалось наше восприятие окружающего мира. Однако могучий мозг человека проник и в эти скрытые от нас процессы созидания миров в нашей Вселенной (ТА, «Красные волны»).
Не нравы народов нужно исследовать, но сущность сознания. Когда научимся ощущать провод из Беспредельности, тогда люди вместо молитвы будут приказывать элементам. Не «Бог» за нас трудиться будет, но трудом и психической энергией себе поможем (Б, 9).
Очень трудна работа историка, особенно когда учёные стали заниматься главным — историей духовных ценностей, процессом перестройки сознания и структурой ноосферы — суммы созданных человеком знаний, искусства и мечты (ЧБ, «Миф о планете Торманс»).
Основное правило нашей психологии предписывает искать в себе самом то, что предполагаете в других. Всё та же трудно истребимая идея о сверхсуществах живёт в вас. Боги, сверхгерои, сверхучёные… (Вир Норин, ЧБ, «Кораблю — взлёт!»).
Сколько нужных наблюдений можно вести даже без утончённых аппаратов! (ЗнАЙ, 398).
Метод Нашего Учения обычно осуждается с двух сторон. Приверженцы старины не могут простить Наше внимание к западной современной науке. Последователи Запада не могут простить почитание явлений древнейшей Мудрости. <…> Символика древнейшей Мудрости основана на сличении Макрокосма с микрокосмом. Потому в самых отвлечённых образах ищите человеческий организм с его возможностями (ЗнАЙ, 399).
Земной физик, о котором я вспомнил, имел в виду гигантские внутренние силы человеческой психики, её врождённую способность исправлять дисторсию мира, возникающую при искажении естественных законов, от недостаточности познания. Он имел в виду необходимость дополнить метод внешнего исследования, некогда характерный для науки Запада нашей планеты, интроспективным методом Востока Земли, как раз полагаясь только на собственные силы человеческого разума (Вир Норин, ЧБ, «Кораблю — взлёт!»).
Творчество духа не трудно явить, когда мышление хочет представить себе Вселенную не как замкнутую область (Б, 46).
Космогония должна вызывать величественные мысли. Если Бог несознательного народа сидит на краю ничтожного шарика, то высокий дух взирает в Беспредельность, украшаясь радостью познания без границ. Не унижайте Беспредельность! (ЗнАЙ, 88).
…Один из очень важных психологических устоев творческой жизни — сознание бесконечности пространства с его недостижимыми границами и неисчислимыми, ещё не открытыми человеком мирами (ЧБ, «Скованная вера»).
Самым трудным было побороть представления о замкнутости вселенной в себе, в круге времени, замыкающемся на себя и вечно, бесконечно существующем (Вир Норин, ЧБ, «Кораблю — взлёт!»).
Какова посылка, такова получка. Можно создать дождь лучистых посылок, но и можете насытить пространство саранчой — таков закон сотрудничества мыслей и пространства (Б, 3).
Эманации сфер создаются человеческими порождениями, токи этих порождений рождают свои формы, и человечество недоумевает, как происходит кара земная. Непреложен закон сфер; и творчество является высшим импульсом (Б, 423).
Все предрассудки, стереотипы и присущий человеку консерватизм мышления властвуют над высшим человеком в государстве. Мысли, думы, мечты, идеи, образы накапливаются в человечестве и незримо присутствуют с нами, воздействуя тысячелетия на ряд поколений. Наряду со светлыми образами учителей, творцов красоты, рыцарей короля Артура или русских богатырей были созданы тёмной фантазией демоны — убийцы, сатанинские женщины и садисты. Существуя в виде закрепившихся клише, мысленных форм в ноосфере, они могли создавать не только галлюцинации, но порождать и реальные результаты, воздействуя через психику на поведение людей (Фай Родис, ЧБ, «Скованная вера»).
Только сознание до трёх лет вместит легко общину. Как ошибочно думать, что ребёнку нужно дать его вещи, ибо ребёнок легко поймёт, как могут быть вещи общими (О, 102).
Общественное воспитание в ЭВК начинается с 1 года.
Школы должны быть оплотом познания во всей полноте. Каждая школа от самой начальной должна быть живым звеном среди всех училищ до самого высшего. Познание должно пополняться всю жизнь. Должно обучать прикладному знанию, не отрывая от науки исторической и философской. Искусство мышления должно быть развито в каждом работнике. Только тогда он поймёт радость совершенствования и сумеет использовать досуг (О, 103).
Ныне человек воспитывается и учится всю жизнь, и восхождение общества идёт быстро (Эвда Наль, ТА, «Школа третьего цикла»).
Занятия в каждом цикле школы чередовались с уроками труда (ТА, «Школа третьего цикла»).
Нововведения во всех областях науки и в школах необходимы. Со старой наукой в будущем мире далеко не уедешь. С одной стороны, надо искоренить все ненужные нагромождения, с другой — нужно глубже вникнуть в явления, прибавляя современные достижения. Слишком много лет проходит сейчас, пока достижения лабораторий, исследования и открытия доходят до школы и народа. Нужно при школах устроить информационные отделы с популярным изложением новейших достижений. Явление ускорения сообщений сведений очень необходимо, ибо газеты не дают важнейших сведений (Б, 492).
Никто не дерзает восстать против школы, но мало кто думает о её улучшении. Школьные программы не просматриваются целыми годами, между тем, открытия спешат. Новые данные устремляются отовсюду, и воздушные сферы, и глубины океанов, и горные сокровища рассказывают о себе чудесные сведения. Нужно спешить, иначе раскопки изменят данные условной истории. В новых школах нужно убрать запреты, чтобы видели действительность, которая чудесна, если правдиво показана. Широко поле умственных состязаний! (О, 115).
— Школа всегда даёт ученикам самое новое, постоянно отбрасывая старое. Если новое поколение будет повторять устарелые понятия, то как мы обеспечим быстрое движение вперёд? И без того на передачу эстафеты знания детям уходит так бесконечно много времени. Десятки лет пройдут, пока ребёнок станет полноценно образованным, годным к исполнению гигантских дел (Эвда Наль, ТА, «Школа третьего цикла»).
Скажем молитву Шамбале: «Ты, позвавший меня на путь труда, прими умение и желание моё. Прими труд мой, Владыка, ибо видишь меня среди дня и ночи. Яви, Владыка, руку Твою, ибо тьма велика. Иду за Тобою!»
Можете идти как на гору радости. Завидны размеры борьбы за обновление сознания человечества. Учитель радуется решимости (ЗнАЙ, 104).
«Вы, старшие, позвавшие меня на путь труда, примите моё умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь, и я пойду за вами» (Эвда Наль, ТА, «Школа третьего цикла»).
Нами принято сперва закалить на чередовании неожиданностей, затем уничтожить чувство личной собственности, затем дать поручение особой опасности, и после этих очищений принято обратить к земле, где среди кажущихся обычных условий происходит высшая необычность (ЗнАЙ, 453).
Вся система воспитания в ЭВК и ЭВР.
Можно заметить у детей странные быстрые взгляды, точно они видят нечто необъяснимое. Впрочем, иногда они говорят что-то о пожаре, о звёздах и об огоньках. Конечно, воспитательницы считают это болезнью или глупостью, но именно на таких детей нужно обратить внимание. Как известно, дети младшего возраста легко видят астральные образы, кроме того, особенно чуткие видят пространственные огни. Подобные организмы следовало бы заботливо наблюдать с первых дней. Будьте уверены, что в них заложены возможности Агни-Йоги, и если их поместить в чистую обстановку, они дадут пример возможностей. Главное, не засорить и не запугать их (ЗнАЙ, 457).
«Смотрите, как повсюду окружают нас непонятные факты, как лезут в глаза, кричат в уши, номы не видим и не слышим, какие большие открытия таятся в их смутных очертаниях». <… > «Нельзя просто поднять завесу неизвестного — только после упорного труда, отходов, боковых уклонений мы начинаем ловить истинный смысл, и новые необъятные перспективы раскрываются перед нами. Не избегайте никогда того, что кажется сначала бесполезным и необъяснимым» (ТА, «Совет Звездоплавания»).
Для старых духов, испытавших многие воплощения, будет довольно тягостно состояние после семи лет и особенно тяжко после четырнадцати. После четырнадцати лет психическая энергия пришла уже в действие. Дух уже оторвался от прежних существований, тягость нового, неизвестного пути подавляет, смутно волнуют накопленные ценности, сущность порывается обратно, где возможности сознания были велики.
Правильный надзор над нервными центрами детей нужен для будущего. <…>
Забота о нервных центрах детей может считаться заботой для будущей расы (ЗнАЙ, 539).
Упоминал о стержне духа посреди спирали — это построение запомните, ибо непреклонность, окружённая центробежным движением, может противостоять всем волнениям. Построение Нашей Общины напоминает такие же стержни, окружённые мощными спиралями. Лучшее построение для борьбы, конец которой предрешён. Так нужно понять Наши построения материально. И зачем нужно непонятное отвлечение, когда принцип Космоса один? (О, 90).
Звездолёты Прямого Луча идут по осям геликоидов, вместо того чтобы разматывать бесконечно длинный спиральный путь. И воображение учёного, основанное на логически-линейных методах изучения мира, подобно той же спирали, бесконечно наматывающейся на непреодолимую преграду Томаса. Только в раннем возрасте, до кондиционирования Человека системой устоявшихся взглядов, прорываются в нём способности Прямого Луча, ранее считавшиеся сверхъестественными: например, ясновидение, телеакцепция и телекинез, умение выбирать из возможных будущих то, которое совершится. Мы на Земле стараемся развить эти способности в возрасте, когда ещё не кондиционирована величайшая сила организма — Кундалини, сила полового созревания (Вир Норин, ЧБ, «Кораблю — взлёт!»).
И система нарастания кристаллов показывает, как многообразен мир тяготения (0, 90).
…Гравитационные поля в нашей вселенной имеют очень разнообразную форму, чаще всего волчков, воронок, сильно сплющенных конусов, протянувшихся цепями в направлениях анизотропии пространства — времени (ЧБ, «По краю бездны»).
Опасна мёртвая буква. Но готово ли сознание, чтобы понять границы созидания? (ЗнАЙ, 364).
Мудрость руководителя заключается в том, чтобы своевременно осознать высшую для настоящего момента ступень, остановиться и подождать или изменить путь (Гром Орм, ТА, «Совет Звездоплавания»).
Мы не говорим против овладения и применения энергий, но Мы озабочены предупредить о своевременности иммунитета в отношении призыва новых энергий (ЗнАЙ, 540).
…Поэтому мы задерживаем пока развитие третьей сигнальной системы человека, — согласилась Эвда Наль. — Чтение мыслей очень облегчает общение индивидуумов между собой, но требует большой затраты сил и ослабляет центры торможения. Последнее — самое опасное… (Эвда Наль, ТА, «Тибетский опыт»).
Часто вы говорите о несовершенстве существующих книг. Скажу больше — ошибки в книгах равны тяжкому преступлению. Ложь в книгах должна быть преследуема, как вид тяжкой клеветы. Ложь оратора преследуется по числу слушателей. Ложь писателя — по числу отпечатков книги. Занимать ложью место народных книгохранилищ тяжкое преступление. Нужно почуять истинное намерение писателя, чтобы оценить качество его ошибок. Невежество будет худшим основанием. Страх и подлость займут ближайшее место. Все эти особенности непозволительны в общине. Устранение их нужно осуществить в новом строительстве. Запретительные меры, как всегда, непригодны. Но открытая ошибка должна быть удалена из книги. Необходимость изъятия и перепечатка книги образумят писателя. Каждый гражданин имеет право доказать ошибку. Конечно, нельзя препятствовать новым взглядам и построениям, но неверные данные не должны вводить в заблуждение, потому что знание есть панцирь общины и защита знания ложится на всех членов.
Не позже года должны быть проверены книги, иначе число жертв будет велико. Особенно надо беречь книгу, когда достоинство её потрясено. На полках книгохранилищ целые гнойники лжи. Было бы недопустимо сохранять этих паразитов. Можно бы сказать — переспите на плохой постели, но невозможно предложить прочесть лживую книгу.
Зачем обращать лучший угол очага во лживого шута! Именно книги засоряют сознание детей. Должно отметить вопрос книги! (О, 94).
Сила печатного слова ныне возросла в небывалой степени. Колоссальные тиражи книг, всеобщая грамотность, любовь к книге и, главное, вера в литературу, в подлинность её отображения жизни и правду её поисков — всё это привело к такому влиянию литературы, о каком художники слова прежних времён даже не смели мечтать. Но эта сила подразумевает и столь же большую ответственность писателя за каждую мысль, каждую идею своего произведения. Никакой небрежности здесь не может быть допущено, ничего мутного, двусмысленного, никакой безответственной игры красными словами! В древнеиндийской философии возникло понятие кармы — вселенского механизма, якобы карающего за зло, брошенное в мир не только в форме проступков, но и плохих мыслей у ибо индийцы расценивали влияние мысли равным действию. Только теперь мир пришёл к тому, что действительно мощь мысли у облечённой в печатное слово, не только равна, но и во много раз превосходит поступок, действие. А это значит, что к писателям, как ни к кому другому; приложимо понятие кармы — моральной кары за то вредное, тупое и злобное, что выступает в их произведениях («Наклонный горизонт»).
Вспомним легенду Грааля. Преданный Учению Титурель получил мощь света. Преемник его пал во тьму и кровоточил неисцелимою раной. Для напоминания лучших времён останки Титуреля были выставлены на виду. Слова великого мертвеца твердились, тем не менее чаша Истины потухла. Нужен был приход нового героя, чтобы взять из рук недостойного преемника Титуреля чашу Истины, и тогда засиял огонь мира. Эта легенда достаточно известна на Западе, хотя первоначально она возникла на Востоке. Не напоминает ли вам она некоторое современное нам положение? (ЗнАЙ, 57).
Больше двух тысяч лет назад некоторые нации на Земле верили, что политические программы, будучи применены в экономике тоталитарной властью, могут изменить ход истории без предварительной подготовки психологии людей. Не умея улучшить судьбу народов, догматики очень сильно влияли на судьбы отдельных личностей. Стрела Аримана разила без промаха, потому что необоснованные перемены нарушали исстари и дорогой ценой достигнутую устойчивость общества (ЧБ, «Стрела Аримана»).
Выходя за пределы обычного, человек становится лёгким, но по грубости чувств теряет сознание ответственности. Кто может летать со скоростью четырехсот миль в час или взлетать выше других, приобретает психологию кулачного чемпиона, и сознание духовной ответственности покидает его.
Облагородить завоевание можно, лишив всякой спортивности и направив на труд. Мчись на спасение несчастных, лети на соединение человечества! (О, 16).
При отсутствии самоограничения нарушается внутренняя гармония между индивидом и внешним миром, когда он выходит из рамок соответствия своим возможностям и, пытаясь забраться выше, получает комплекс неполноценности и срывается в изуверство и ханжество (ЧБ, «В садах Цоам»).
Явления должны быть принимаемы в полной реальности. Для материалистов это условие особо обязательно. <…> Где же реальность, когда мышление стеснено, вместо тысячи знаков знает лишь пять! Утверждение становится искажением, если заранее скован стереотип условностей (О, 196).
Явления необычности приходят, как ошибки природы. Формы законов скованы малодушием. Фетиш или отрицание по-прежнему стоят стражами человека. Учение жизни находится или в условности биологии, или погашается ладаном храмов (ЗнАИ, 400).
Суеверие и сектантство являются признаком очень низкого сознания, ибо потенциал творчества ничтожен, кому чужд принцип вмещения.
Необходимо всячески обнаруживать суеверие и сектантство. Не стесняйтесь останавливаться на этих вопросах, тем самым будете уничтожать ложь и страх (О, 237).
Чародей даже самое обычное действие окутывает покровом необычности. Йог даже самое необычное явление вправляет в пределы обычности, ибо он знает, как целесообразна природа (ЗнАЙ, 180).
Вы отстранили себя от подлинного познания сложности живой природы, надев цепь односторонней и опасной линейной логики и превратившись из вольных мыслителей в скованных вами же придуманными методами рабов узких научных дисциплин. Та же первобытная вера в силу знака, цифры, даты и слова господствует над вами в трудах и формулах. Люди, считающие себя познавшими истину, ограждают себя, по существу; тем же суеверием, какое есть в примитивных лозунгах и плакатах для «кжи» (Вир Норин, ЧБ, «Хрустальное окно»).
Символика некоторых ефремовских имён и названий
Существует мнение, что имена и названия Ефремов подбирал исключительно из эстетических предпочтений, по понравившемуся сочетанию звуков. В ряде случаев это, вероятно, так и есть. Иван Антонович любил красивую звукопись. «Послушай, как красиво звучит — Мирзакон Боймирзоев!» — сказал он как-то восхищённо Таисии Йосифовне. Но есть целый пласт плодотворных ассоциаций и прямых отсылок, связывающих в одно целое сразу несколько произведений.[354]
В «Звёздных кораблях» речь идёт о черепе инопланетянина. Названо тибетское нагорье Кам (важно, что именно туда стремился, но не добрался Пржевальский, бывший для Ивана Антоновича во многом знаковой фигурой). Кам находится недалеко от столицы Тибета Лхасы. По древнееврейским преданиям, череп первого человека похоронен на Голгофе — в символическом религиозном центре христианской Земли. Ветхий Завет именует древних израильтян «народом в шатрах», а герои повести — Шатров и Давыдов, чьими прототипами послужили Быстров и сам Ефремов. Шатёр Давида?
Синед Роб. В ЧБ говорится про закон Синед Роба, иначе «порог Роба», где речь идёт о том, что докоммунистические цивилизации, находящиеся, соответственно, на невысоком уровне этики, выйти в космос не могут. Либо самоуничтожаются, либо, подобно Тормансу, капсулируются в инферно. Синед Роб — анаграмма имени изобретателя голографии и футуролога Дениса Габора. Голограмма — символически очень ёмкое явление. Это наглядная демонстрация виртуальной иллюзии, образов, сотканных воображением человека. Возможность, но и опасность. Цивилизационный рубеж нашей эпохи, погружённой в виртуальность: порог Роба, испытание контроля над способностью использовать воображение во благо.
Эрф Ром. В ЧБ — «мудрец пятого периода», создатель теории инферно. По утверждению Таисии Иосифовны, это сам Иван Антонович, называвший себя иногда «старый Эфраим». Можно отметить и сходство с именем Эриха Фромма — выдающегося психолога, чьи идеи и способ изложения исключительно сходны с ефремовскими.
Дар Ветер — главный герой ТА. Его имя имеет самое непосредственное отношение к имени «Иван Ефремов». Иван в переводе с древнееврейского — «Дар Бога», а Ефрем — «плодородная земля», причём библейский персонаж с таким именем гонялся за восточным ветром.
Низа Крит — астронавигатор (ТА). На Крите орфики трансформировали культ Диониса. Дионис — родом из Нисы. Ниса или Низа — мифологическое место происхождения его культа. Астероид 44 Низа назван в честь этой местности, локализация которой не вполне ясна. Предположения варьируются от Индии до Эфиопии (вспоминаем любовь Ефремова к Криту и Индии). Выходит, «Низа — Крит» — маршрут, по которому культ Диониса пришёл в Грецию.
«Тантра» — звездолёт в ТА. Тантра — не только система практик для достижения высшей духовной реализации, но ещё и «нить» в переводе с санскрита. Нить Ариадны, если разворачивать критский сюжет.
«Парус» — в ТА звездолёт, погибший на Железной звезде и нёсший весть о необитаемости миров Веги. Это ещё один мотив критского сюжета. Чёрный парус должен был означать гибель греков и Тезея.
Сах Ктон — погибший механик «Паруса», его имя напоминает, что люди столкнулись с хтоническими силами ужаса и страха.
«Тинтажель» — в ТА звездолёт, отправленный на планету Железной звезды. Так назывался замок, в котором находился, по одной из версий, легендарный Грааль. Там же разворачивается история Тристана и Изольды, которых иногда отождествляют с Тезеем и Ариадной. Иными словами, корабль должен вернуться в мир мрака и неведомых опасностей. Для подвига нужен отважный герой. Если вспомнить, что именно в замке Тинтажель (Тинтагил) родился король Артур, то лучше названия не подобрать. Ещё на планете Железной звезды находится таинственный и влекущий к себе звездолёт из другой галактики, по форме напоминающий чашу и «охраняемый» ядовитыми крестами.
«Лебедь» — звездолёт в ТА, направленный к планете Зелёного солнца с целью колонизации. Многообразнейшая символика: от Брахмы и его супруги Сарасвати до розенкрейцерских трактатов и сказок про Царевну Лебедь. И всё подходит к миссии этого корабля. Лебедь — птица, обладающая волшебной способностью отделять молоко из смеси молока с водой (зёрна от плевел, если говорить прозаически). Потому лебедь олицетворял справедливость и был символом истины.
«Альграб» — звездолёт в ТА, погибший во время спасательной экспедиции к Зирде, планете в созвездии Змееносца, которая также оказалась погибшей. Альграб — анаграмма «Грааль Б». Второй Грааль? Прямое значение — звезда Дельта Ворона, в переводе с арабского альграб — «ворона». Невольно напрашивается противопоставление: Ворон — Лебедь. Ворон как символ горестных вестей наряду с «чёрным» «Парусом». Удачный же полёт осуществляется совсем на другой «птице» — Лебеде.
Герои романа совершают ряд путешествий «за Граалем» (в поисках истины, знаний, нового рая). Первые проходят под знаком «чёрного паруса». Миры Веги безжизненны, а Зирда погибла. Информация добывается при помощи тантры — опасного и тернистого, но быстрого пути по нити Ариадны. И герои, владея новым знанием, вторично отправляются за новым раем — к зелёному Ахернару. Кто-то находит «чашу Грааля» — любовь — на празднике Пламенных Чаш. Потенциальной «чашей Грааля» предстаёт также спиралодиск — носитель неведомых знаний. Важно, что эта символика не противоречит прямому текстовому содержанию ТА. Она его закрепляет, углубляет и обогащает.
«Тёмное Пламя» — звездолёт Прямого Луча в ЧБ. Тёмное пламя, иначе тайный огонь, исстари был символом эзотерического знания.
Созвездия Змееносца и Лебедя, постоянно фигурирующие в творчестве Ефремова, начиная с ранних рассказов, есть в знаке «Ордена Лебедя», учреждённого в XV веке как — внимание! — «свободное общество мужчин и женщин всех званий и вероисповеданий, имеющее целью соединёнными силами облегчать физические и нравственные страдания». В одном из первых манифестов розенкрейцеров — «Исповедании Братства Розы и Креста» (начало XVII века) — содержится странная фраза о двух новых звёздах, открытых незадолго до того в созвездиях Лебедя и Змееносца. Символы этих двух созвездий не раз встречаются в текстах розенкрейцеров.
Существуют интереснейшие указания на то, что созвездие Змееносца является тринадцатым зодиакальным созвездием, играя особую эволюционную роль. Якобы именно энергия Змееносца превращает колесо зодиака в спираль, а тринадцать — это свобода, а не хождение по симметричному зодиакальному кругу. Можно вспомнить Иисуса и его двенадцать апостолов, а также Фай Родис, возглавляющую экипаж из двенадцати землян.
«Аэлла» — звездолёт в ТА, носящий имя древнегреческой гарпии. Это женщина с крыльями или огромная птица с женской головой. Переводится как «ветер, буря».
«Амат» — планетолёт в ТА, исследующий Плутон. Амат — в египетской мифологии чудовище подземного царства, совмещавшее черты крокодила и льва. «Они нырнули на дно преисподней, под густую неоново-метановую атмосферу Плутона. Летели в бурях аммиачного снега, ежесекундно опасаясь разбиться во тьме о колоссальные иглы прочного, как сталь, водяного льда».
Кам Амат — учёный, расшифровавший послания Великого Кольца (ТА). Кам, как уже говорилось, — нагорье на юго-востоке Тибета. Это обширный регион, населённый четырнадцатью разными народами — ассоциация с огромным миром Великого Кольца, объединившим многие планеты, где нет войн и угнетения. Амат на суде Осириса пожирает сердца грешников, если они тяжелее пера богини Маат. Подчёркивает стремление к безупречности. Одновременно Кам Амат — двойная любовь (телесная и духовная?). Индийский Кама — аналог эллинского Эроса. Амат как анаграмма Тама — желание. Двойное прочтение замечательно укладывается в постоянное подчёркивание Ефремовым сложного пути к любви и свету. «Заря, в которой ещё много тьмы. Но несомненная заря» (ЛБ, о Тиллоггаме).
Белло Галь — имя артистки, статуэтку которой хранил Дар Ветер (ТА), потому что она была похожа на Веду Конг. Белль — «прекрасная». Галь — «чайка». Иван Антонович называл Эльгу Вадецкую (прототип Веды Конг) Чайкой или Галь.
Лума Ласви — врач (ТА). Лума — вечнозелёное растение со съедобными ягодами, произрастающее в Южной Америке. Ягоды местные жители используют в лекарственных целях. Также в переводе с латыни Лума — «яркость». Вполне подходит для врача как для дающего свет-жизнь.
Бина Лед — геолог 37-й звёздной экспедиции (ТА). Бина в каббале — «разум, интеллект, понимание». Также называется раем. Лед-лёд — в трудном космическом путешествии быть холодноватой и рассудительной необходимо.
«Теллур» — звездолёт (СЗ), встретившийся в космосе с инопланетянами. В основе названия лежит латинское tellus — «земля».
Мут Анг — капитан «Теллура» (СЗ). Мут — египетская богиня, жена Амона, была выражением «божественной предвечности». Её именовали «владычицей неба». Анг, ангел — «вестник, посланец».
Афра Деви — биологиня (СЗ), которая позировала перед фторными людьми, демонстрируя красоту землян. Деви на санскрите «богиня». Афра — можно было бы предположить, что это имя происходит от «африканка». Но, скорее всего, основой тут Афродита. Кто, кроме богини любви и красоты, мог удостоиться чести представлять совершенство человеческого тела перед прекрасными и холодноватыми фторными людьми?
Айода — ученица (ЧБ). Её товарищи предполагали, что именно такие девушки в стародавние времена хранили в причёсках кинжалы и пользовались ими для защиты чести. Имя содержит санскритский корень, означающий бой или ведение войны, и может быть переведено как «непобедимый».
Мента Кор — астронавигатор (ЧБ). Мента (мята), иначе Минфа — персонаж эллинской мифологии. Сделалась наложницей Аида и была растоптана Корой, а затем превращена ею в садовую мяту. Гора Минфа находилась к востоку от Пилоса, рядом с ней священный участок Аида. Также мента означает мысль, а кор — сердце. Имя в обоих случаях — объединение противоположностей. Астронавигатор прокладывает курс по лезвию нуль-пространства, находя точку равновесия противоположностей. Мяту используют для профилактики сердечной недостаточности.
Нея Холли — инженер биологической защиты (ЧБ). «Растительное» имя, выбранное не случайно. Нея — река в глубине костромских лесов. Холли на английском — падуб, род кустарников. Падубы представляют интерес в качестве ветрозащитных насаждений, растений для морских побережий и как живые изгороди. Североамериканские индейцы использовали их листья в качестве противоядия.
Тор Лик — астрофизик и планетолог, погиб на Тормансе (ЧБ). Тор — круг, лик в переводе с готского — тоже круг. Сдвоенный круг на символ двойного инферно. Тор также — имя скандинавского бога.
Яс Tин — лингвист (СЗ). Яс и Тин — боги у этрусков.
Див Симбел — инженер-пилот (ЧБ). Дивы или дэвы в индийской мифологии боги или полубоги, победившие асуров (отрицающих солнце). С приходом христианства на Западе и зороастризма, а затем ислама на Востоке божественные дэвы превращаются в злых дивов, дьяволов. Симбел — колосс по-арабски. Смысл имени связан с трансформацией Добра во Зло. Это и Стрела Аримана, и миссия землян на Тормансе, где они выглядели в глазах местных жителей богами, сошедшими с небес и погрузившимися в инферно. Нелишне тут вспомнить, что индийские дэвы имели виманы — летающие колесницы, на которых передвигались по небу.
Чара Нанди — знаменитая танцовщица (ТА). Чара — как притяжение, очарование и одновременно название реки, в бассейне которой шла одна из самых тяжёлых и длительных экспедиций Ефремова. Нанди («счастливый» на санскрите) — бык Шивы в индуистской мифологии, его зооморфный образ. Выражает идеи сексуальной мощи, деторождения и плодородия, что напрямую перекликается с образом танцовщицы. Шива — танцующий бог.
Эвда Наль — психолог (ТА). Ноль — индийский царь, персонаж Махабхараты. Второй вариант англосаксонский — «пчела». Знаменитая женщина действительно должна была быть трудолюбивой, как пчела, учитывая масштабы её деятельности. Развивая тему пчелы и связи внешности Эвды с египетским Сфинксом, правомерно добавить образ богини мирового порядка и истины Маат — её священным животным была именно пчела.
Миико Эйгоро — ныряльщица (ТА). Миико по-японски — «жрица». Недаром девушка с японскими корнями, предки которой были ловцами жемчуга, представляется Дар Ветру такой загадочной. Эйгоро — современная японская фамилия, вполне вероятно, что Ефремов увековечил в романе свою мимолётную японскую подругу, благодарную память о которой пронёс через всю жизнь.
Юта Гай — героиня ТА. Предложила создать искусственную атмосферу Марса. Юта — штат в США, полный каменистых пустынь оранжевого цвета. Гай в южнорусских говорах и в украинском языке — «дубрава, роща, чернолесье».
Ива Джан — героиня ТА. Эта женщина предложила радикально смягчить климат Земли. Джан (точнее, «чжэн») на китайском означает «январь». Также на хинди и в тюркских языках это «душа». Получается — «душа ивы» или «душа дерева», преодолевающая январь, зиму.
Хеб Ур — почвовед (ТА). Хеб, Геб — египетский бог земли. Ур — свет в семитских корнях. «Осветляющий землю».
Пур Хисс — астроном (ТА). Был неуровновешен и мнителен. Пур на латыни «чистый», на персидском «полный». Хисс — «шипение» по-английски.
Карт Сан — художник (ТА). Картар — санскритское «творец». Сан — на латыни «здоровый».
Гур Ган — наблюдатель спутника 57, обеспечивающего связь с Великим Кольцом (ТА). Гана в индуизме — свита Шивы, главный же атрибут Шивы — чёрный луч, пронизывающий вселенную. По-персидски гур означает «оживлённый» или «могила» (тюркское «курган»). Вероятно, в Тибетском опыте принимал участие и Гур Ган как сотрудник этого спутника. Связь с диалектикой Шивы-разрушителя.
Мвен Мае — начальник внешних станций Великого Кольца, вдохновитель Тибетского опыта (ТА). Мвене Мутапа — крупное средневековое государство на территории современного Зимбабве. Переводится как «Господин рудников». Мае на африкаанс — «мачта». Мвен Мае — «господин мачты», полностью соответствующая значению героя метафора.
Зиг Зор — композитор, создатель симфонии зарождения жизни (ТА). Зиг — по-немецки «победа», Зор — отсылает к славянскому «заря», «зори». Зиг Зор — Заря Победы.
Фрит Дон — заведующий морской археологической экспедицией (ТА). «Водное имя», подходящее к должности персонажа. Фрит отсылает к английскому произношению слова «лиман». Дон — название реки, кроме того, праиндоевропейский корень со значением «вода».
Веда Конг — историк, возлюбленная Дар Ветра и Эрга Ноора (ТА). Веда — знание, конг — иное наименование шуньяты, божественной пустоты в буддизме. «Познавшая нуль, истину».
Чеди Даан — социолог (ЧБ), изначально должна была стать главной героиней. Чеди — древнеиндийское царство, упоминаемое в Махабхарате. Китайский даань — городской район центрального подчинения (это логично, если учитывать миссию Чеди в столице Торманса). В кельтской мифологии боги разделены на два враждующих лагеря, причём обе группы возглавляли не боги, а богини. Добрыми управляла богиня Дану, её команда имела название «Туата Де Данаан» (народ богини Дану). В данной смысловой нагрузке и Чеди как царство вполне обоснованно.
Фай Родис — фактически это Тайс Роза. Роза — символ сердца мира, чаша как образ женственного мироздания, Софии. Кроме этого, родис на латыни — стержень. Превосходно описывает сразу несколько моментов — и её роль в экспедиции, и внутреннюю несгибаемость и мужество, а также углубляет такой интересный момент, как сравнение её Таэлем с ЗПЛ. ЗПЛ имел чашевидную, иньскую форму, притом что передвигался по Прямому Лучу, стержню, воплощению ян. Родис — это и роза и стержень одновременно. Так что слова самой Фай, сказанные по иному поводу: «Нередкое совпадение при глубоком чувстве», применимы и к ассоциации Таэля.
Бан Тоголо — выдуманный монастырь в Каракоруме, где сохранились летописи раннего времени (ЧБ). Бан, пан — от санскритского пандит — учёный. Также это тюркское «удар звуком» (в ЧБ упоминаются тибетские гонги). Тоголо по-тюркски — круг, звенья цепи, календарь. Дословный перевод с тибетского: «Вестник, ведущий учёт лет».
Основные даты жизни и творчества И. А. Ефремова
1908, 9 апреля (22 апреля по новому стилю) — в посёлке Вырица Царскосельского уезда Петербургской губернии в семье купца 2-й гильдии Антипа Харитоновича Ефремова и Варвары Александровны, урождённой Ананьевой, родился сын Иван.
1914 — переезд Ефремовых в Бердянск в связи с болезнью младшего сына Василия. Начало учёбы Ивана в гимназии.
1917 — развод родителей И. А. Ефремова.
1918 — переезд матери с детьми в Херсон.
1920–1921 — участие И. А. Ефремова в Гражданской войне.
1921–1923 — учёба в 23-й единой трудовой школе Петрограда.
1923 — встреча с П. П. Сушкиным, начало занятий палеонтологией.
1924 — плавание по Охотскому морю, посещение Японии. Поступление на биологическое отделение физико-математического факультета Ленинградского университета.
1925 — орнитологическая экспедиция в Азербайджан, плавание по Каспийскому морю. Начало работы препаратором в Геологическом музее.
1926 — Тургайская палеонтологическая экспедиция. Палеонтологическая экспедиция на гору Большое Богдо.
1927 — палеонтологическая экспедиция на реки Ветлуга и Шарженьга. Прекращение учёбы в университете.
1928 — вторая экспедиция на реки Ветлуга и Шарженьга. Вторая экспедиция на гору Большое Богдо.
1929 — экспедиция в Среднюю Азию. Экспедиция в Каргалинские рудники.
1930 — Урало-Двинская геологическая экспедиция. Ефремов становится сотрудником Палеозоологического института АН СССР.
1931 — Нижне-Амурская геологическая экспедиция.
1932 — Олёкмо-Тындинская геологическая экспедиция. Начало учёбы в Ленинградском горном институте.
1934 — Волжско-Камская палеонтологическая экспедиция. Верхне-Чарская геологическая экспедиция.
1935 — палеонтологические раскопки у села Ишеево, Татария. Присуждение Ефремову учёной степени кандидата биологических наук за совокупность работ по палеонтологии. Переезд Палеозоологического института АН СССР в Москву.
1936 — палеонтологические раскопки у села Ишеево, Татария. Женитьба Ефремова на Елене Дометьевне Конжуковой. Рождение сына Аллана.
1937 — получение диплома об окончании Ленинградского горного института с отличием. Участие в XVII Международном геологическом конгрессе.
1938–1939 — палеонтологические раскопки у села Ишеева.
1941 — защита докторской диссертации по биологии на тему «Фауна наземных позвоночных средних зон перми СССР».
1941–1942 — участие в Экспедиции особого назначения.
1942–1943 — эвакуация (Алма-Ата, Фрунзе). Написание первых рассказов. Присвоение профессорского звания.
1943 — возвращение в Москву.
1944 — публикация первых рассказов, книга «Пять румбов». Избрание членом Союза писателей СССР.
1945 — написана историческая дилогия «Великая Дуга» (повести «На краю Ойкумены» и «Путешествие Баурджеда»). Ефремов награждён орденом Трудового Красного Знамени за заслуги в палеонтологии.
1946 — первая палеонтологическая экспедиция в Монголию.
1948 — вторая палеонтологическая экспедиция в Монголию.
1949 — третья палеонтологическая экспедиция в Монголию.
1950 — опубликована монография «Тафономия и геологическая летопись (захоронение наземных форм в палеозое)».
1952 — работа «Тафономия и геологическая летопись» удостоена Сталинской (Государственной) премии СССР 2-й степени.
1954 — Ефремов опубликовал капитальное научное исследование «Фауна наземных позвоночных…». Совместно с Б. П. Вьюшковым подготовил и опубликовал «Каталог местонахождений пермских и триасовых наземных позвоночных на территории СССР». Написание повести «Тамралипта и Тиллоттама».
1955 — обострение болезни сердца, переход на временную инвалидность.
1956 — написание романа «Туманность Андромеды». Публикация книги «Дорога ветров».
1957 — журнальная публикация «Туманности Андромеды».
1958 — поездка в Китай.
1959–1962 — работа над романом «Лезвие бритвы».
1961 — смерть Е. Д. Конжуковой, жены И. А. Ефремова.
1962 — женитьба на Т. И. Юхневской.
1963 — журнальная публикация романа «Лезвие бритвы».
1964–1968 — работа над романом «Час Быка».
1968 — журнальная публикация романа «Час Быка». Ефремов награждён вторым орденом Трудового Красного Знамени за заслуги в развитии советской литературы и активное участие в коммунистическом воспитании трудящихся.
1969–1971 — работа над романом «Тайс Афинская».
1972 — журнальная публикация романа «Тайс Афинская».
5 октября — смерть И. А. Ефремова.
Краткая библиография
Произведения И. А. Ефремова
Ефремов И. А. Пять румбов. Сборник. М., 1944.
Ефремов И. А. Встреча над Тускаророй. Сборник. М.; Л., 1944. Ефремов И. А. На краю Ойкумены. М., 1949.
Ефремов И. А. Тафономия и геологическая летопись. М., 1950. Ефремов И. А. Фауна наземных позвоночных в пермских медистых песчаниках Западного Приуралья. М., 1954.
Ефремов И. А. Великая Дуга. М., 1956.
Ефремов И. А. Дорога ветров. М., 1958.
Ефремов И. А. Туманность Андромеды. М., 1958.
Ефремов И. А. Лезвие бритвы. М., 1964.
Ефремов И. А. Тайны прошлого в глубинах времён. М., 1968.
Ефремов И. А. Час Быка. М., 1970.
Ефремов И. А. Тайс Афинская. М., 1973.
Ефремов И. А. Сочинения. В 3 т. (6 кн.). М., 1976.
Ефремов И. А. Собрание сочинений. В 5 т. М., 1987.
Ефремов И. А. Собрание сочинений. В 6 т. М., 1992.
Ефремов И. А. Собрание сочинений. В 8 т. М., 2009.
Литература о И. А. Ефремове
Ахметов С. Ф. Тридцать пять лет рядом с И. А. Ефремовым // Сверхновая. 2008. № 41–42.
Брандис Е. П., Дмитревский В. И. Через горы времени. М.; Л., 1963. Геккер Р. Ф. Иван Ефремов // Сверхновая. 2008. № 41–42.
Устименко Б. Свет маяка в житейском море. Воспоминания о И. А. Ефремове. Белгород-Днестровский, 2010.
Чудинов П. К. Иван Антонович Ефремов. М., 1987.
Примечания
1
А. X. Ефремов родился на реке Керженец (левый приток Волги), в окрестностях уездного города Макарьево (ныне посёлок) в Нижегородской губернии. Вероятнее всего, его родина — село Богородское. Волгу и паромную переправу с левого берега на правый, из Макарьева в Лысково, в конце 1920-х — начале 1930-х годов И. А. Ефремов описал в первой главе романа «Лезвие бритвы».
(обратно)2
Названия улиц сохранились и по сей день.
(обратно)3
По старому стилю.
(обратно)4
Антип Харитонович сменил имя вскоре после крещения Ивана, выбрав более модное. Вероятно, это связано с его вхождением в деловые круги Петербурга.
(обратно)5
Суйдинской Воскресенской церкви, Царскосельского уезда метрической книги на 1908 год, часть первая о родившихся. Выписка хранится в личном архиве И. А. Ефремова и Т. И. Ефремовой.
(обратно)6
Ныне улица Рубинштейна, 23.
(обратно)7
Здание школы стоит до сих пор.
(обратно)8
В оригинале Консель — обычный слуга-подросток. Русский переводчик сделал из него начитанного и образованного человека средних лет, который постоянно пытается классифицировать увиденное. В результате русский перевод книги заметно отличается от оригинала.
(обратно)9
Любич-Кошуровъ И. Векъ драконовъ. М.: Библиотечка А. А. Ступина, 1914.
(обратно)10
Пржевальский H. М. Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Жёлтой реки. Третье путешествие в Центральной Азии. 1879–1880 гг. М., 2011.
(обратно)11
Пржевальский Я. М. Монголия и страна тангутов. Первое путешествие в Центральной Азии в 1870–1873 гг. М., 2010.
(обратно)12
Много лет спустя во время поездки на юг Ефремов нашёл эту пушку и сфотографировался с ней.
(обратно)13
По некоторым сведениям, этой родственницей была внебрачная дочь А. X. Ефремова, сводная сестра Ивана Антоновича.
(обратно)14
И. А. Ефремов, будучи подростком, прибавил себе год и стал указывать не 1908-й, а 1907 год рождения.
(обратно)15
Белинда — искажённое название немецкого дизеля «Болиндер», так в Херсоне называли шаланды с дизельными моторами этой фирмы.
(обратно)16
Супруненко П. П. Куда зовёт мечта. Беседа с писателем И. А. Ефремовым. Авторизованная машинопись, 1968. Из архива И. А. Ефремова.
(обратно)17
Мучи — набедренная повязка.
(обратно)18
Ассегай — зулусское метательное копьё с широким наконечником.
(обратно)19
Номер был присвоен школе в 1919 году. Ныне это общеобразовательная школа № 206 (этот номер был присвоен ей в 1940 году).
(обратно)20
Школой второй ступени в 1918–1934 годах в советской России и затем в СССР называлась средняя общеобразовательная школа в составе шестых — девятых (с 1923 года — пятых — девятых) классов.
(обратно)21
А. И. Андреев впоследствии стал членом-корреспондентом Академии наук СССР.
(обратно)22
Машина американской компании «White Motor Согр», один из самых распространённых грузовиков в России 1920-х годов.
(обратно)23
Ефремов И. Л. Путь в науку // Ефремов И. Л. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 7. М.: ТЕРРА — Книжный клуб, 2009. С. 268–269.
(обратно)24
Брандис Е., Дмитревский Вл. Через горы времени. Очерк творчества И. Ефремова. М.; Л., 1963.
(обратно)25
Сушкин П. П. Северо-Двинская галерея Российской Академии наук // Наука и её работники. 1922. № 5. С. 3–6. Сам Ефремов говорил о статье П. П. Сушкина в журнале «Природа» (Сушкин П. П. Эволюция наземных позвоночных и роль геологических изменений климата // Природа. 1922. № 3–5. С. 3–32).
(обратно)26
В начале 1920-х годов Ефремов сменил отчество с «Антиповича» на «Антоновича», на основе записи в метрической книге: «Определением Санкт-Петербургского окружного суда от 18 декабря 1910 г. значится в сей статье Иоанн, признан законным сыном титулярного советника Антона Харитоновича Ефремова и жены его Варвары Александровны» (Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф. 19. Оп. 127. Д. 2183. Л. 177–178). Выписка сделана санкт-петербургским историком В. Я. Никифоровым. Цит. по: Иван Антонович Ефремов. Переписка с учёными. Неизданные работы // Научное наследство. Т. 22. М., 1994.
(обратно)27
Нелихов А. Е. Научно-технический сотрудник Геологического музея Академии наук Иван Ефремов. Доклад на IV Ефремовских чтениях-фестивале. Москва, 2012. Видеозапись.
(обратно)28
Нелихов А. Е. Указ. соч.
(обратно)29
Иванов А. А. Памяти Петра Петровича Сушкина // Орнитологический сборник. К 100-летию со дня рождения академика П. П. Сушкина. Труды Зоологического института АН СССР. T. XLVII. Л., 1970. С. 7.
(обратно)30
Козлова Е. В. Расселение фазана Phasianus colchicus L. в пустыне Центральной Азии // Орнитологический сборник. К 100-летию со дня рождения академика П. П. Сушкина. Труды Зоологического института АН СССР. T. XLV1I. Л., 1970. С. 16–18.
(обратно)31
Портенко Л. А. П. П. Сушкин как фаунист и зоогеограф // Орнитологический сборник. К 100-летию со дня рождения академика П. П. Сушкина. Труды Зоологического института АН СССР. T. XLVII. Л., 1970. С. 25.
(обратно)32
Там же. С. 21.
(обратно)33
Иванов А. И. Памяти Петра Петровича Сушкина // Орнитологический сборник. К 100-летию со дня рождения академика П. П. Сушкина. Труды Зоологического института АН СССР. T. XLVII. Л., 1970. С. 8.
(обратно)34
Ефремов И. А. Переписка с учёными. — В кн.: Ефремов Я. А. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 7. М., 2009. С. 462.
(обратно)35
Лухманов Д. А. Под парусами. М., 1999. С. 125–128.
(обратно)36
«Катти Сарк» в сборниках называется рассказом, но по существу это повесть.
(обратно)37
Лухманов Д. А. Под парусами. М., 1999. С. 231.
(обратно)38
Брандис Е., Дмитревский Вл. Через горы времени. Очерк творчества И. Ефремова. М.; Л., 1963.
(обратно)39
Цит. по: Устименко Б. Свет маяка в житейском море. Воспоминания о И. А. Ефремове. Бел город-Днестровский, 2010. С. 48–49.
(обратно)40
Чудинов П. К. Иван Антонович Ефремов. М., 1987.
(обратно)41
Ефремов И. Л. Путь в науку. — В кн.: Ефремов И. Л. Собрание сочинений: В 8 т. Т 7. М., 2009. С. 269–270.
(обратно)42
Оклад академика АН СССР в 1925 году составлял 50 рублей в месяц.
(обратно)43
Ефремов И. Л. Путь в науку. — В кн.: Ефремов И. Л. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 7. М., 2009. С. 270.
(обратно)44
В романе И. А. Ефремова «Туманность Андромеды» Веда Кон г ведёт археологические раскопки «Ден-оф-куль» (буквально с англ. «Берлога куль[туры]»). Возможно, название появилось под влиянием указанной аббревиатуры, считает исследователь творчества Ефремова А. И. Константинов.
(обратно)45
Так в тексте.
(обратно)46
Коровайка, или каравайка (Falcinellusigneus) — птица из семейства ибисовых тёмно-бурого цвета, широко распространённая на юге России.
(обратно)47
Всесоюзный кооперативный союз охотничьего промысла, или Всероссийский союз промыслово-охотничьих кооперативов.
(обратно)48
В честь В. Л. Комарова, президента АН СССР в 1936–1945 годах, назван посёлок Комарово Ленинградской области (бывший Келломяки), где был построен дом отдыха Академии наук.
(обратно)49
УБЕКО — управление безопасностью кораблевождения. Служба подчинялась ГПУ Азербайджанской ЧК.
(обратно)50
По словам Т. И. Ефремовой, Иван Антонович обратился к академику А. Л. Яншину с просьбой обратить внимание на полотно. Картину реставрировали, но плохо. Данная автокопия в настоящее время по-прежнему хранится в санатории «Узкое».
(обратно)51
Г. И. Чорос-Гуркин «Алтай и Катунь».
(обратно)52
http.y/iae.newmail.ru/Bvstrow/coprolit.htm
(обратно)53
Река Джиланчик на современных картах именуется Улу-Жыланшык, а озеро Челкар-Тениз — Шалкар-Тениз. Они находятся в Актюбинской области Казахстана.
(обратно)54
Записал А. И. Константинов.
(обратно)55
Так у Ефремова. На современных картах — Шунгули.
(обратно)56
Ныне станция Нижний Баскунчак.
(обратно)57
Ефремов вообще любил и ценил оружие. В 1927–1928 годах ему принадлежали медвежий нож работы «Егора Самсонова в Туле», винтовка Манлихер-Шенауэр, наган, духовое ружьё 12-го калибра.
(обратно)58
Борисяк Л. Л. Русские охотники за ископаемыми. — В кн.: Штернберг Ч. Жизнь охотника за ископаемыми. Л., 1930. С. 296–300.
(обратно)59
Запись беседы с Ефремовым, сделанная в июле 1960 года писателем Е. П. Брандисом.
(обратно)60
Брандис Е., Дмитревский Вл. Через горы времени. Очерк творчества И. Ефремова. М.; Л., 1963.
(обратно)61
Малой Двиной называется отрезок Северной Двины от слияния Сухоны и Юга до впадения в Двину реки Вычегды.
(обратно)62
Борисяк А. А. Указ. соч. С. 300–302.
(обратно)63
В дневниках Ефремова название этой реки пишется без мягкого знака.
(обратно)64
Борисяк А. А. Указ. соч. С. 302–303.
(обратно)65
В 1991 году постановлением президиума областного Совета народных депутатов Вологодской области геологические отложения по реке Шарженьги в полукилометре к востоку от деревни Вахнево площадью 175 гектаров объявлены геологическим памятником природы.
(обратно)66
Ефремов И. А. Путь в науку. — В кн.: Ефремов И. А. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 7. М., 2009. С. 271.
(обратно)67
Портенко Л. А. П. П. Сушкин как фаунист и зоогеограф // Орнитологический сборник. К 100-летию со дня рождения академика П. П. Сушкина. Труды Зоологического института АН СССР. T. XLVI1. Л., 1970. С. 29.
(обратно)68
Брандис Е., Дмитревский Вл. Указ. соч. С. 24.
(обратно)69
Косниковский H. Н. Палеонтологический старт // Сверхновая. 2008. № 41–42. С. 118.
(обратно)70
Паузок — судно для разгрузки и погрузки в мелководных местах.
(обратно)71
Северная экспедиционная группа. Дневник Ефремова Аллана Ивановича // Палеомир. 2009. № 1. С. 36–48.
(обратно)72
Козлова Е. В. Расселение фазана Phasianus colchicus L. в пустыни Центральной Азии // Орнитологический сборник. К 100-летию со дня рождения академика П. П. Сушкина. Труды Зоологического института АН СССР. T. XLVII. Л., 1970. С. 18.
(обратно)73
Ныне город Бишкек, столица Киргизии. До 1925 года — посёлок Пишпек.
(обратно)74
Ферсман Л. Е. Путешествия за камнем. Л., 1956. С. 312–313.
(обратно)75
Ефремовым будет опубликована статья «Динозавровый горизонт Средней Азии и некоторые вопросы стратиграфии» (Известия АН СССР. Серия геологическая. 1944. № 3. С. 40–58).
(обратно)76
Отчёт о деятельности АН СССР за 1929 г. T. II. Отчёт о командировках и экспедициях. Л., 1930. С. 167.
(обратно)77
Личный архив семьи Борисяк и Бодылевских. Материал предоставлен И. В. Бодылевской.
(обратно)78
Из письма И. А. Ефремова Л. С. Кучковой от 29 апреля 1961 года. Письмо предоставлено Приморским государственным объединённым музеем им. В. К. Арсеньева (Владивосток).
(обратно)79
Уран баш — посёлок в Оренбургской области. Хутора Горный ныне не существует. Место, где он был, находится между хутором Новенький и посёлком Комиссарово.
(обратно)80
Коллектор — младший техник, низшее звание в геологии.
(обратно)81
В 1950-х годах местные краеведы установили в посёлке Горном на доме Самодуровых мемориальную доску с надписью «В 1929–1930 гг в этом доме останавливался известный геолог и писатель Иван Антонович Ефремов». До нашего времени дом Самодуровых не сохранился.
(обратно)82
Савельзон В. Путями старых горняков // Уральский следопыт. 1977. № 4. С. 54–55.
(обратно)83
Запись беседы с Ефремовым, сделанная в июле 1960 года писателем Е. П. Брандисом.
(обратно)84
Савельзон В. Указ. соч. С. 54–55.
(обратно)85
Ныне создан ландшафтно-исторический заповедник «Каргалинские рудники». Он расположен в юго-западной части Октябрьского района Оренбургской области и охватывает ряд урочищ в верховьях реки Каргалки и её притоков общей площадью 1298 гектаров. Проект разработан Оренбургским филиалом Русского географического общества. С 1990-х годов на этой территории работает экспедиция Института археологии РАН.
(обратно)86
И. А. Ефремов обычно писал диноцефалы, сейчас принято написание дейноцефалы.
(обратно)87
Копия статьи и ответ Отто Пратье не сохранились. Позже, когда сложность рельефа морского дна была доказана, Иван Антонович любил при случае вспоминать эту историю.
(обратно)88
Впоследствии Палеозоологический институт АН СССР был переименован в Палеонтологический. Располагался по адресу: Ленинград, набережная Тучкова, 2.
(обратно)89
Институт цветных металлов и золота им. М. И. Калинина, созданный в Москве в 1917 году.
(обратно)90
Цит. по: Бодылевская И. В. Академик А. А. Борисяк и Палеонтологический институт в годы войны. 1941–1943 гг. М., 2008. С. 26.
(обратно)91
Письмо И. А. Ефремова Зенову. Москва, 3 мая 1965 года. Из личного архива И. А. Ефремова.
(обратно)92
По мнению В. П. Бури, Ефремов прибыл в Хабаровск не ранее 10 июня.
(обратно)93
Чар Г. В. Приступаем к изучению богатств края // Тихоокеанская звезда (газета). 1931. JSfe 141. 28 июня. Цит. по: Буря В. 77. Экспедиция в 1931 год. Штрихи к биографии Ивана Антоновича Ефремова. Рукопись.
(обратно)94
Семченко Н. Бывший нанаец — писатель-фантаст Иван Ефремов. –24
(обратно)95
3алом — завал на реке.
(обратно)96
Ефремов И. А. Предисловие к кн.: Осипов В. Тайна Сибирской платформы. М., 1958. С. 3–4.
(обратно)97
Цитата из рассказа И. Ефремова «Алмазная труба».
(обратно)98
Каны — у нанайцев низкие нары вдоль стен. Под ними обычно проходит дымоход, по которому идёт дым от очага.
(обратно)99
На фотографии слева направо изображены: Самар Урэктэ Игиатиевна, Самар Олони (Владимир) Иннокентьевич, Самар Ермиш Владимирович и Самар Наталья Алексеевна. — См.: Буря В. П. Таёжные тропы фантаста. Штрихи биографии учёного и писателя И. А. Ефремова //Дальневосточный Комсомольск (Комсомольск-на-Амуре). 1988. № 197. 11 октября. С. 4. — fan/burva 4.htm
(обратно)100
Т. И. Ефремова, вдова писателя, передала олочи в Музей истории БАМа в Тынде, где они и хранятся в настоящее время.
(обратно)101
Здесь и далее цитаты приводятся по экземпляру, хранящемуся в Музее истории БАМа в Тынде.
(обратно)102
Цитата из рассказа И. А. Ефремова «Алмазная труба».
(обратно)103
Ефремов И. А. Лена-Алданская геологическая экспедиция Академии наук СССР. Предварительный (полевой) отчёт Олёкмо-Тындинской партии. — В кн.: Ефремов И. А. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 7. М., 2009. С. 276.
(обратно)104
На трассе Большой Невер — Тында ходил шведский полугусеничный автобус со съёмными гусеницами «Scania-Vabis 3241». В 1926 году СССР закупил для Сибири шесть таких автобусов.
(обратно)105
Цитата из рассказа «Афанеор, дочь Ахархеллена».
(обратно)106
Ольга Михайловна Мартынова, сотрудница ПИНа.
(обратно)107
Исси И. В. О моём дяде, Алексее Петровиче Быстрове. — http:// iae.newmail.ru/Bvstrow/issi.htm
(обратно)108
Цитата из романа «Лезвие бритвы».
(обратно)109
Воспоминания Н. И. Новожилова, коллектора Верхне-Чарской экспедиции, сотрудника ПИНа с 1935 по 1973 год, были опубликованы в журнале «Студенческий меридиан».
(обратно)110
Цитата из рассказа А. Грина «Корабли в Лиссе».
(обратно)111
А. Грин «Корабли в Лиссе».
(обратно)112
Воспоминания Н. И. Новожилова.
(обратно)113
Авторы благодарят гидрогеолога А. Б. Егорову за предоставленные материалы.
(обратно)114
Из письма И. А. Ефремова А. А. Борисяку от 16 сентября 1934 года. Личный архив семьи Борисяк и Бодылевских. Материал предоставлен И. В. Бодылевской.
(обратно)115
Цитата из рассказа «Голец Подлунный».
(обратно)116
Цит. по: Шмулович С. Их имена должен знать весь коллектив Академии наук // За социалистическую науку (газета). 1935. Воспроизводится по экземпляру, хранящемуся в Музее истории БАМа в Тынде.
(обратно)117
«На левом берегу р. Алдан, в 310 км выше устья, между посёлком Крест Хальджай Титтинского района и устьем р. Татты, расположено уникальное местонахождение комплекса среднемиоценовых растительных остатков и остатков среднеплейстоценовых млекопитающих. Разрез Мамонтова Гора является опорным д ля неоген-четвертичных отложений Верхояно-Чукотской области; входит в маршруты международных геологических экскурсий. Предлагается в качестве палеонтологического ГПП (ГПП — геологический памятник природы) мирового ранга с заповедным режимом охраны. По мнению ряда геологов, объект заслуживает статуса палеонтологического заказника». — Карпунин Л. М. и др. Геологические памятники природы России. СПб., 1998.
(обратно)118
Ефремов И. А. Прибайкальская геолого-петрографическая экспедиция, Верхне-Чарская партия. Отчёт о работах в Верхне-Чарской котловине в 1934–1935 гг. — В кн.: Ефремов И. А. Собрание сочинений: В 8 т. Т.7. М., 2009. С. 288–312.
(обратно)119
Трубачёв Л., Котельников Л. Забайкальские маршруты писателя Ефремова // Читинский рабочий. 1982. 2 июля. Печатается по экземпляру, хранящемуся в Музее истории БАМа в Тынде.
(обратно)120
Выписка из протокола № 24 заседания Постоянной междуведомственной комиссии по географическим названиям от 21 сентября 1978 года. Машинопись. Хранится в Музее истории БАМа в Тынде.
(обратно)121
Меннер ВЯншин А. Фантаст прокладывал тропу // Советская Россия. 1980. 29 октября. № 298. Печатается по экземпляру, хранящемуся в Музее истории БАМа в Тынде.
(обратно)122
Трубачёв А., Котельников А. Указ. соч.
(обратно)123
Косниковский Н. Палеонтологический старт // Сверхновая. 2008. № 41–42. С. 119.
(обратно)124
Раутиан А. С. Ефремов Иван Антонович. — / about /Rautian.htm
(обратно)125
Работа над книгой была закончена, однако война помешала осуществить издание.
(обратно)126
Чудинов П. К. К портрету современника. — / iefremov/Academv/pred.htm
(обратно)127
Чудинов П. К. Иван Антонович Ефремов. М., 1987. С. 101–103.
(обратно)128
Чудинов П. К. Иван Антонович Ефремов. М., 1987. С. 101–103.
(обратно)129
Сын Ефремова Аллан Иванович вспохчинал, что в подвалах их дома было сложено множество чертёжных досок. По-видимому, учреждение, располагавшееся здесь, занималось инженерными проектами.
(обратно)130
Ныне райцентр Днепропетровской области Украины.
(обратно)131
По неизвестным причинам отчество Елены записано как «Дометьевна», а не «Дементьевна».
(обратно)132
А. И. Ефремов рассказывал, что первое его младенческое воспоминание — две молодые женщины, одна из них в русском деревенском сарафане. Они держат его на руках, и от них вкусно пахнет манной кашей.
(обратно)133
Письмо И. А. Ефремова А. Н. Рябинину от 22 сентября 1936 года. — В кн.: Ефремов И. Л. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 7. М., 2009. С. 355.
(обратно)134
Текст письма в архиве писателя не сохранился. Возможно, его ещё удастся найти среди документов Политбюро ЦК КПСС, ныне хранящихся в Архиве Президента Российской Федерации.
(обратно)135
Ныне в этом здании располагается Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана РАН.
(обратно)136
Ахметов С. Ф. Тридцать пять лет рядом с И. А. Ефремовым // Сверхновая. 2008. № 41–42. С. 148–149.
(обратно)137
Прототип Мартына Мартыновича — Ян Мартынович Эглон.
(обратно)138
Н. И. Свитальский был арестован 29 июня 1937 года. По обвинению в участии в контрреволюционной организации («Академический центр» на Украине) приговорён к высшей мере наказания. Расстрелян 15 сентября 1937 года.
(обратно)139
Из этой истории возникла легенда, что Гартман-Вейнберг подала в суд на Ефремова, захватившего место её раскопок, и что суд признал её правоту. Благодаря записи беседы Спартака Ахметова с М. Ф. Лукьяновой, очевидцем событий, мы можем восстановить истинную картину.
(обратно)140
Ахметов С. Ф. Указ. соч. С. 150–151.
(обратно)141
Ахметов С. Ф. Указ. соч. С. 151–152.
(обратно)142
Полный текст размещён на сайте Рязанского епархиального женского училища: -reu.narod.ru/seminaristen/seminaristen.htm
(обратно)143
Осипова А. И. Немногое об Иване Антоновиче Ефремове. Машинопись. Хранится в личном архиве И. А. Ефремова и Т. И. Ефремовой.
(обратно)144
Предположение высказано А. И. Константиновым.
(обратно)145
Цитата из рассказа «Последний марсель».
(обратно)146
М. В. Баярунас скончался на этапе от болезни сердца в 1939 или 1940 году.
(обратно)147
Воспоминания А. И. Ефремова. — -mariki/index.htm
(обратно)148
Книга так и не была издана.
(обратно)149
Опубликован в 1954 году в соавторстве с Б. П. Вьюшковым.
(обратно)150
Геккер Р. Ф. Иван Ефремов // Сверхновая. 2008. № 41–42. С. 114.
(обратно)151
Цит. по: Бодылевская И. В. Академик А. А. Борисяк и Палеонтологический институт в годы войны. 1941–1943 гг. М., 2008. С. 26.
(обратно)152
Письмо Е. Д. Конжуковой А. А. Борисяку. — Цит. по: Бодылевская И. В. Академик А. А. Борисяк и Палеонтологический институт в годы войны. 1941–1943 гг. М., 2008. С 28.
(обратно)153
Письмо И. А. Ефремова А. А. Борисяку от 3 марта 1942 года. — Цит. по: Бодылевская И. В. Академик А. А. Борисяк и Палеонтологический институт в годы войны. 1941–1943 гг. М., 2008. С. 28.
(обратно)154
Письмо И. А. Ефремова Д. В. Обручеву. Фрунзе, 8 июля 1943 года.
(обратно)155
Ахметов С. Ф. Тридцать пять лет рядом с И. А. Ефремовым // Сверхновая. 2008. № 41–42. С. 153.
(обратно)156
Цит. по: Бодылевская И. В. Указ. соч. С. 47.
(обратно)157
Цит. по: Бодылевская И. В. Указ. соч. С. 47–48.
(обратно)158
Цит. по: Бодылевская И. В. Указ. соч. С. 49.
(обратно)159
Цитата из рассказа «Обсерватория Нур-и-Дешт».
(обратно)160
Цит. по: Бодылевская И. В. Указ. соч. С. 50.
(обратно)161
Опубликована в журнале «Природа» в 1954 году.
(обратно)162
Ахметов С. Ф. Указ. соч. С. 155.
(обратно)163
Личный архив И. А. Ефремова и Т. И. Ефремовой.
(обратно)164
Подготовлено В. В. Дубатоловым, прислано Д. Г. Наумовым.
(обратно)165
Измайлов А. Туманность// Нева. 1990. № 5. — / about fan/efremov 4.htm
(обратно)166
Впоследствии — «Олгой-хорхой».
(обратно)167
Письмо А. П. Быстрова И. А. Ефремову от 24 ноября 1944 года. — В кн.: Ефремов И. Л. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 7. М., 2009. С. 372–374.
(обратно)168
Письмо А. П. Быстрова И. А. Ефремову от 22 февраля 1945 года. — В кн.: Ефремов И. Л. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 7. М, 2009. С. 384.
(обратно)169
В 1945 году рассказ публиковался под названием «Тени Минувшего».
(обратно)170
А. И. Ефремов считает, что прообразом Веры Борисовны стала Еле на Дометьевна Конжукова.
(обратно)171
Цитата из повести «Звёздные корабли».
(обратно)172
Лицкевич С. Роман на пожелтевших страницах. М., 2002. — http:// /
(обратно)173
Иванов В. Д. Об Иване Антоновиче Ефремове. — В кн.: Иванов В. Д. Златая цепь времён. Статьи, этюды, письма. М., 1987. С. 46–50.
(обратно)174
Подробнее см.: Нелихов А. Звёздный охотник, или Шутка палеонтолога // Охотничий двор. 2010. № 4. С. 106–107.
(обратно)175
Письмо А. П. Быстрова И. А. Ефремову от 25 мая 1945 года. — В кн.: Ефремов И. А. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 7. М., 2009. С. 389.
(обратно)176
НазаретянА. П. Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной Истории. (Синергетика — психология — прогнозирование.) М., 2004.
(обратно)177
Письмо И. А. Ефремова А. П. Быстрову от 20 февраля 1947 года. — В кн.: Ефремов И. А. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 7. М., 2009. С. 395.
(обратно)178
Денисюк Ю. Н. Мой путь в голографии. — http://3d-holographv.ru/ mov put у goloerafii
(обратно)179
Из письма И. А. Ефремова А. П. Быстрову от 9 июня 1950 года.
(обратно)180
Здесь и далее в этой главе цитируется книга «Дорога ветров».
(обратно)181
Со щитом или на щите! (лат.).
(обратно)182
Ахметов С. Ф. Указ. соч. С. 157.
(обратно)183
В наши дни экспонаты, добытые и подготовленные сотрудниками экспедиции, а также несколько картин К. К. Флёрова хранятся в Музее природы Монголии в Улан-Баторе. Этот музей является самым популярным в стране.
(обратно)184
Цитата из рассказа «Тень Минувшего».
(обратно)185
Из письма И. А. Ефремова А. П. Быстрову от 30 июля 1947 года.
(обратно)186
Ефремов И. А. На пути к роману «Туманность Андромеды». Статья.
(обратно)187
Там же.
(обратно)188
Из письма И. А. Ефремова А. П. Быстрову от 2 декабря 1947 года.
(обратно)189
Из письма И. А. Ефремова А. П. Быстрову от 10 февраля 1948 года.
(обратно)190
Из письма И. А. Ефремова Ю. А. Орлову от 19 февраля 1948 года.
(обратно)191
Из письма И. А. Ефремова Ю. А. Орлову от 13 апреля 1948 года.
(обратно)192
Из письма Ю. А. Орлова И. А. Ефремову. Октябрь 1948 года.
(обратно)193
Из письма И. А. Ефремова А. П. Быстрову от 14 ноября 1948 года.
(обратно)194
Из письма Ю. А. Жемчужникова И. А. Ефремову. Не позднее 25 декабря 1950 года.
(обратно)195
Л. Ш. Давиташвили — палеонтолог, академик АН Грузии, последователь Т. Д. Лысенко.
(обратно)196
Из письма И. А. Ефремова А. П. Быстрову от 20 ноября 1949 года.
(обратно)197
Ахметов С. Ф. Указ. соч. С. 156.
(обратно)198
Из письма И. А. Ефремова И. И. Пузанову от 20 мая 1952 года.
(обратно)199
Ныне город Тугаев, который образовался из двух старинных городов Романова и Борисоглебска, стоявших на разных берегах Волги.
(обратно)200
Из письма И. А. Ефремова И. И. Пузанову от 1 июля 1951 года.
(обратно)201
Чудинов П. К. Три времени Ивана Ефремова. — -efremov.ru/ Chudinov/2.htm
(обратно)202
Из письма И. А. Ефремова И. И. Пузанову от 17 мая 1954 года.
(обратно)203
Альмукантарат — малый круг небесной сферы, параллельный истинному горизонту наблюдателя. Альмукантарат, проходящий через данное светило на сфере, называется альмукантаратом данного светила. Используется в навигации.
(обратно)204
Только в 1957 году роман К. Г. Паустовского «Романтики» вошёл в собрание сочинений в шести томах.
(обратно)205
Цитата из романа «Лезвие бритвы».
(обратно)206
Отец — Иосиф Иванович Юхневский, поляк, мать — Евфимия Алексеевна, родом из-под Можайска.
(обратно)207
Цитата из романа «Туманность Андромеды».
(обратно)208
Цитата из рассказа «Каллиройя».
(обратно)209
В 1953 году Ефремову и Тасе удалось купить машинку «Рейнметалл», ставшую незаменимой в писательской работе. Таисия Иосифовна с улыбкой вспоминала сообщение сарафанного радио, после которого они вместе отправились на Колхозную площадь: там в подвальчике был маленький магазин, продававший печатные машинки и канцтовары. Вот они, машинки, упакованные.
— Только поступили, продавать будем завтра!
Иван Антонович хотел уйти, но Тася упрямо сказала:
— Завтра мы придём, а их уже не будет.
Иван Антонович зашептал:
— Ну что ты такое говоришь!
Однако продавщица, смутившись, тут же выписала чек. Машинка прослужила более полувека и до сих пор находится в рабочем состоянии.
(обратно)210
Моисеев Ю. С. Фантастика и дисторсия мира. Интервью с Иваном Антоновичем Ефремовым. Машинопись. Семейный архив И. А. Ефремова и Т. И. Ефремовой.
(обратно)211
Ефремов И. Л. На пути к роману «Туманность Андромеды».
(обратно)212
Письмо И. А. Ефремова И. М. Майскому от 19 августа 1956 года.
(обратно)213
Большинство этих писем хранится сейчас в Пушкинском Доме (ИРЛИ РАН) в Санкт-Петербурге, в архиве И. А. Ефремова.
(обратно)214
Имеется в виду эзотерика.
(обратно)215
Письмо И. А. Ефремова Г. К. Портнягину от 4 ноября 1970 года.
(обратно)216
Ефремов И. Л. Некоторые соображения о биологических основах палеозоологии // Сорок лет советской палеонтологии (1917–1957). Труды IV сессии Всесоюзного палеонтологического общества. М., 1961.
(обратно)217
Чудинов П. К. И. А. Ефремов. М., 1987. С. 54.
(обратно)218
Книга вышла в свет в 1958 году.
(обратно)219
Оглоблин И. О литературной деятельности учёного-палеонтолога // Знание — сила. 1957. № 7. С. 30–33.
(обратно)220
Шишкин М. А. Вьюшков Борис Павлович // Московские герпетологи / Ред. О. Л. Россолимо, Е. А. Дунаев. М., 2003. — / science/colleague/Vi.htm
(обратно)221
А. И. Ефремов в личной беседе комментировал это так: «Хулиганы были для них свои, старые знакомые, а это кто такой? Интеллигент, в очках, да ещё и возмущается».
(обратно)222
К 1954 году В. Д. Иванов был автором романа «Энергия подвластна нам» и нескольких повестей. Свои главные романы о Древней Руси он написал позже.
(обратно)223
Штильмарк-Володкевич Е. Р. Предисловие. — В кн.: Штильмарк Р. А. Наследник из Калькутты. Л., 1989.
(обратно)224
Рассказ не был написан.
(обратно)225
Из письма Т. И. Юхневской В. И. и Н. А. Дмитревским, 1959 год.
(обратно)226
Выборка из дневников А. П. Быстрова, посвящённая «Дискуссии о колене», предоставлена внучатым племянником А. П. Быстрова Д. Г. Наумовым.
(обратно)227
Быстров А. П. Заметки. Ч. 4. 1955–1956. С. 33–34. Авторизованная машинопись. Материал подготовлен Д. Г. Наумовым. — -mail.ru/Bvstrow/notes/13 precepts.htm
(обратно)228
Эта скульптура передана Б. А. Арендтом в дар Палеонтологическому музею РАН.
(обратно)229
Юрии Андреевич Арендт — сын А. А. Арендт и А. И. Григорьева, с 1957 года — научный сотрудник ПИНа.
(обратно)230
Арендт А. О Юрии Николаевиче Рерихе. — В кн.: Воспоминания о Ю. Н. Рерихе. М., 2002.
(обратно)231
Арендт А. О Юрии Николаевиче Рерихе. — В кн.: Воспоминания о Ю. Н. Рерихе. М., 2002.
(обратно)232
Ефремов А. И. Воспоминания об отце // / allan.htm
(обратно)233
Беликов П. Ф. Рерих: опыт духовной биографии. М., 2011.
(обратно)234
Эта женщина стала прототипом старой балерины из романа «Лезвие бритвы». В романе она смело высказывается относительно ханжеского взгляда на женщин.
(обратно)235
Дьяков Б. А. Повесть о пережитом. М., 1966. С. 228.
(обратно)236
Роман «Мы мирные люди» вышел в свет в 1960 году в Лениздате.
(обратно)237
Брандис Е. Разведчик трассы — Иван Ефремов//Уральский следопыт. 1982. № 4. С. 65.
(обратно)238
Брандис Е. П., Дмитревский В. И. Через горы времени. М.; Л., 1964 (реальная дата выхода — 1963 год).
(обратно)239
Из письма И. А. Ефремова В. И. Дмитревскому от 29 марта 1961 года.
(обратно)240
Роман не был написан.
(обратно)241
Из письма И. А. Ефремова В. И. Дмитревскому от 3 марта 1959 года.
(обратно)242
Имеются в виду Александр Васильевич Елисеев, русский врач и путешественник, посетивший в 1885 году Ливию, входившую в то время в состав Оттоманской империи, и писатель Василий Иванович Немирович-Данченко, старший брат известного театрального деятеля Владимира Немировича-Данченко.
(обратно)243
Роман «Простой смертный» (1950).
(обратно)244
Повесть «В морях твоя дорога» (1945) об адмирале Ф. Ф. Матюшкине; повесть «Обретение счастья» (1956) о первооткрывателях Антарктики мореплавателях Ф. Ф. Беллинсгаузене и М. П. Лазареве; повесть «Сказание о флотоводце» (1958) об адмирале П. С. Нахимове.
(обратно)245
Воспоминания Э. Б. Вадецкой. Из частного письма, 2012 год.
(обратно)246
Воспоминания Э. Б. Вадецкой. Из частного письма, 2012 год.
(обратно)247
Вадецкая Э. Б. Древние маски Енисея: научно-популярное издание. СПб.; Красноярск, 2009.
(обратно)248
Лицкевич С. Роман на пожелтевших страницах. — / post/26296/
(обратно)249
Из письма И. А. Ефремова В. Д. Дмитревскому от 7 января 1960 года.
(обратно)250
Маршрут поездки: Москва — Прага — Женева — Рим — Стамбул — Абадан — Аурингабад — Дели — Джайпур — Агра — Амритсар — Шринагар — Дели — Лахор — Кабул — Сталинабад — Ташкент — Москва. Карта с начерченным на ней маршрутом хранится в архиве А. И. Ефремова.
(обратно)251
Из письма И. А. Ефремова В. И. Дмитревскому от 25 августа 1961 года.
(обратно)252
Из письма И. А. Ефремова В. И. Дмитревскому от 20 июня 1961 года.
(обратно)253
Из письма И. А. Ефремова В. И. Дмитревскому от 16 ноября 1962 года.
(обратно)254
Позже дачу № 39 купил академик С. В. Яблонский. Сейчас она принадлежит его потомкам, сохранилась почти в изначальном виде.
(обратно)255
Цит. по: Чудинов П. К. Иван Антонович Ефремов. М., 1987. С. 183.
(обратно)256
-vak.ru/file/archive-philology—2012–4/2-mvzniko-va.pdf
(обратно)257
Интересно, что многие ясновидцы (например, Ванга) просят приносить с собой хотя бы кусочек сахара для того, чтобы войти в резонанс и считать необходимую информацию. Это тоже косвенное указание на родство устройства кристалла, человеческой психики и мироздания. Напомним, что Вселенная по Ефремову анизотропна, что противоречит современным физическим данным.
(обратно)258
Катха-упанишада, III, 14.
(обратно)259
См., например: Самохвалова В. И. Красота против энтропии. М., 1990.
(обратно)260
Как уже упоминалось, прототипы супругов Андреевых — супруги-археологи С. В. Киселёв и Л. А. Евтюхова.
(обратно)261
Из письма И. А. Ефремова В. И. Дмитревскому от 5 ноября 1963 года.
(обратно)262
Чудинов Л. К. Иван Антонович Ефремов. М., 1987. С. 202.
(обратно)263
Из письма И. А. Ефремова В. И. Дмитревскому от 29 июня 1964 года.
(обратно)264
Из письма И. А. Ефремова читателю А. Г. Алексееву от 30 августа 1964 года.
(обратно)265
Письма И. А. Ефремова Б. Устименко опубликованы в книге: Устименко Б. Свет маяка в житейском море. Воспоминания о И. А. Ефремове. Белгород-Днестровский, 2010.
(обратно)266
Биографии Н. Ф. Жирова посвящена статья: Воронин Л. Жиров — основатель науки атлантологии. Через тернии — к Атлантиде. — В кн.: Жиров Н. Ф. Атлантида. Основные проблемы атлантологии. М., 2004.
(обратно)267
Существовала ли Атлантида? Изложение беседы с И. А. Ефремовым об Атлантиде // Техника — молодёжи. 1956. № 12. С. 16–17.
(обратно)268
Из письма Н. Ф. Жирова И. А. Ефремову от 14 августа 1964 года.
(обратно)269
Ахметов С. Ф. Указ. соч. С. 155.
(обратно)270
Чудинов П. К. Иван Ефремов. Из писем и записных книжек // Чудеса и приключения. 1992. № 7–8. С. 33–35.
(обратно)271
Книга о палеонтологии «Тайны прошлого в глубинах времён» была издана в 1968 году издательством «Знание». Объём — 64 страницы.
(обратно)272
Из письма И. А. Ефремова В. И. Дмитревскому от 8 мая 1966 года.
(обратно)273
Из письма Г. К. Портнягина И. А. Ефремову от 4 сентября 1966 года.
(обратно)274
Гроф С. Психология будущего: Уроки современных исследований сознания. М., 2001.
(обратно)275
Из письма Г. К. Портнягина И. А. Ефремову от 16 сентября 1967 года.
(обратно)276
Из письма H. Н. Косниковского И. А. Ефремову от 2 октября 1967 года. 16
(обратно)277
Из письма Г К. Портнягина И. А. Ефремову от 10 ноября 1967 года.
(обратно)278
Из письма И. А. Ефремова В. Д. Дмитревскому от 11 июля 1968 года.
(обратно)279
Из письма Е. П. Брандиса И. А. Ефремову от 25 сентября 1968 года.
(обратно)280
Из письма В. И. Дмитревского И. А. Ефремову от 15 ноября 1968 года.
(обратно)281
Из письма В. А. Сухомлинского И. А. Ефремову от 11 июля 1970 года.
(обратно)282
Время действия основной части романа происходит «в год лошади синего цикла 51-го круга» — это 4030 год. Пролог и Эпилог, как указано в тексте, описывают события спустя 130 лет.
(обратно)283
Ефремов использовал в романе календарь Калачакры, отсчёт которого начинается с 1027 года.
(обратно)284
Представление о сверхсознании ввёл в психологию Р. Ассаджоли в своей концепции психосинтеза. О знакомстве Ефремова с его работами ничего не известно.
(обратно)285
Прообразом Сю-Te послужила Таисия Иосифовна Ефремова, а звездолётчику Вир Норину Иван Антонович, как нетрудно заметить, подарил многие свои мысли и переживания.
(обратно)286
Юферова Л. Л. Иван Ефремов и Агни Йога // Наука и религия. 1991. № 4.
(обратно)287
Обсуждение велось на форуме сайта «Нооген», в соответствующей группе «Вконтакте», в ЖЖ и на других интернет-ресурсах. Итоги выносились в качестве докладов на Ефремовские чтения в Вырице и на Ефремовские чтения-фестиваль в Москве.
(обратно)288
Так психологи называют консервативную способность восприятия исключать из увиденного то, что не соотносится с опытом или ожиданиями.
(обратно)289
См. приложение «Иван Ефремов и Живая Этика», где частично воспроизведены эти параллели.
(обратно)290
Из письма И. А. Ефремова Г. К. Портнягину от 8 мая 1965 года.
(обратно)291
Непрерывное восхождение. К 90-летию со дня рождения Павла Фёдоровича Беликова (1911–1982). T. 1. М., 2001. С. 160–161.
(обратно)292
Там же. С. 166–167.
(обратно)293
Из письма И. А. Ефремова Г. К. Портнягину от 4 ноября 1970 года.
(обратно)294
Из письма Г. К. Портнягина И. А. Ефремову от 28 апреля 1971 года.
(обратно)295
«Община», параграф 3180.
(обратно)296
П. Ф. Лукин — сын создателя и первого председателя Латвийского общества им. Н. К. Рериха Ф. Д. Лукина, переписывался с Е. И. Рерих.
(обратно)297
Из письма И. А. Ефремова Г. К. Портнягину от 8 мая 1965 года.
(обратно)298
Из письма от 8 декабря 1969 года.
(обратно)299
Из письма от 4 декабря 1970 года.
(обратно)300
Из письма И. А. Ефремова Г. К. Портнягину от 18 февраля 1970 года.
(обратно)301
Из письма от 20 декабря 1967 года.
(обратно)302
Из письма от 5 января 1970 года. Речь идёт о первой перепечатке книги «Братство». Параграф 142 звучит следующим образом: «Не уводите шатающихся людей на дальние планеты. От невежества они споткнутся. Пусть сперва укрепят сознание на примере земном. Пусть поймут о сотрудничестве, о доверии, о дисциплине. Можно дать полезное задание народу об улучшении жизни. Не будем пресекать народные задания, чтобы не привести его к новому смущению. Нужно принимать в соображение не исключения, но множества, и потому дадим сперва самое неотложное. Без основ какое же Братство?» Тут прослеживается параллель с бегством с Земли предков тормансиан.
(обратно)303
Из письма И. А. Ефремова Г. К. Портнягину от 26 ноября 1971 года.
(обратно)304
Из письма И. А. Ефремова В. В. Россихину от 6 марта 1971 года.
(обратно)305
См., например, книгу А. Ф. Лосева «Диалектика мифа».
(обратно)306
См. фундаментальную монографию Е. А. Торчинова «Опыт запредельного: религии мира. Трансперсональные состояния и психотехники», в которой произведён синтез религиоведения и трансперсональной психологии.
(обратно)307
Из письма И. А. Ефремова Г. М. Прашкевичу от 23 апреля 1957 года. Личный архив Г. М. Прашкевича.
(обратно)308
Ефремов И. А. Космос и палеонтология // Сборник научной фантастики. Вып. 12. М., 1972.
(обратно)309
Из письма В. И. Дмитревского И. А Ефремову от 27 февраля 1967 года.
(обратно)310
Варианты продолжения: «…пошлите кухарку в погреб, и пусть ей выдадут…», «…спуститесь в подвал и возьмите свиной окорок», «…возьмите жареную индейку» и т. д.
(обратно)311
Григорьев А. М. Иван Ефремов — учёный, писатель, наставник. — В кн.: Ефремов И. А. Собрание сочинений: В 8 т. Т 2. М., 2009. С. 504–505.
(обратно)312
Из письма А. Ф. Бритикова И. А. Ефремову от 13 июля 1970 года.
(обратно)313
Измайлов А. Туманность. — andrev/tumannost/read 1
(обратно)314
Из письма И. А. Ефремова Г. К. Портнягину от 27 апреля 1971 года.
(обратно)315
Ефремов И. А. Наука и научная фантастика. — В кн.: Ефремов И. А. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 7. М., 2009. С. 240–241.
(обратно)316
А. А. Юферова — искусствовед, автор работ о Н. К. Рерихе.
(обратно)317
Этот карандашный портрет хранится в Государственном историческом музее.
(обратно)318
По сообщению Т. И. Ефремовой, в девяностых годах XX века С. П. Алтаев продал парный портрет в частную коллекцию в Гонконге.
(обратно)319
Из письма И. А. Ефремова В. Н. Ганичеву от 14 декабря 1971 года.
(обратно)320
Из письма Р. А. Штильмарка Т. И. Ефремовой от 27 декабря 1974 года. Личный архив Т. И. Ефремовой.
(обратно)321
О щепетильности автора говорит уже тот факт, что ради достоверного описания лошадей он прочитал большой дореволюционный трактат по коневодству.
(обратно)322
Из письма И. А. Ефремова В. И. Дмитревскому от 25 мая 1971 года.
(обратно)323
Из письма И. А. Ефремова В. И. Дмитревскому от 25 мая 1971 года.
(обратно)324
Гомонойя — в древнегреческой мифологии богиня согласия. Дочь Праксидики, богини возмездия, «вершительницы справедливости», сестра Ареты, богини мужества.
(обратно)325
Линник Ю. В. Образ Александра Македонского в творчестве Ивана Ефремова. — -alexandr.htm
(обратно)326
Парнов Е. И. Великое Кольцо. Зеркало Урании. М., 1982. С. 191–205.
(обратно)327
Из письма Ф. В. Бассина Т. И. Ефремовой от 1 июня 1974 года. Личный архив Т. И. Ефремовой.
(обратно)328
Чудинов П. К. Иван Ефремов. Из писем и записных книжек// Чудеса и приключения. 1992. № 7–8. С. 33–35.
(обратно)329
Из письма И. А. Ефремова К. Г. Портнягину от 10 ноября 1965 года.
(обратно)330
Из письма от 6 февраля 1972 года.
(обратно)331
Письмо это хранится в Пушкинском Доме среди двух тысяч других читательских писем Ефремову.
(обратно)332
Чудинов П. К. Иван Ефремов. Из писем и записных книжек // Чудеса и приключения. 1992. № 7–8. С. 33–35.
(обратно)333
Очерк — художественное произведение, не вполне соответствующее реальным событиям. Например, по свидетельству Т. И. Ефремовой, обыском руководил не капитан, а майор, и во время него сотрудники КГБ не разговаривали вслух между собой, а лишь обменивались записками.
(обратно)334
Из письма Т. И. Ефремовой А. Ф. Бритикову. Май 1973 года. Из личного архива Т. И. Ефремовой.
(обратно)335
Окончательный проект памятника разработан Т. И. Ефремовой, А. И. Ефремовым, Ю. М. Будариным, геологом Гидропроекта. Высечен родным братом Бударина в Москве. Памятник был специально сделан вандалостойким. (Прим. А. И. Ефремова.)
(обратно)336
В настоящий момент эта переписка готовится к публикации.
(обратно)337
Ефремовские чтения в посёлке Вырица, организатор — поселковая библиотека имени И. А. Ефремова; Ефремовские чтения-фестиваль в Москве, организаторы — сотрудники сайта «Нооген». Чтения проходят с разницей в неделю.
(обратно)338
Майя изобрели нуль самостоятельно, у них даже месяц начинался с нулевого дня. Именно майянская числовая запись нуля самая древняя и датируется I веком до н. э., в то время как дальневосточные аналоги появились на семь-восемь веков позже.
(обратно)339
Интересно, что во многих восточных календарях есть нулевой год, в то время как в юлианском и григорианском его нет.
(обратно)340
Любопытно, что Фромм давал читать Маркса учёным буддистам, и они, не зная автора, дали однозначное заключение — это дзен.
(обратно)341
Егорова Е. Б. Этика и эволюция // Сверхновая. 2011. Nq 43–44. С. 228–237.
Видеозапись доклада Е. Б. Егоровой «Этика будущего и эволюция человечества» на IV Ефремовских чтениях-фестивале (Москва). — http:// video.vandex.ru/use rs/helenrokken/view/3/?cauthor=noogen&cid=3#
(обратно)342
Сайфутдинов А. Ф. Открой в себе талант. Рукопись. 1987–1992. Опубликована в Интернете на правах рукописи. — . org/e/2500700.htm Для данной главы автор специально внёс существенные добавления и уточнения.
(обратно)343
Здесь и далее указана дата публикации произведения.
(обратно)344
Из письма И. А. Ефремова Э. К. Олсону от 5 октября 1966 года. — В кн.: Ефремов И. Л. Переписка с учёными. Неизданные работы. М., 1994 (Письмо 142).
(обратно)345
Из письма И. А. Ефремова Э. К. Олсону от 5 октября 1966 года. — В кн.: Ефремов И. А. Переписка с учёными. Неизданные работы. М., 1994 (Письмо 142).
(обратно)346
Там же.
(обратно)347
11 лет — длительность цикла солнечной активности по А. Л. Чижевскому.
(обратно)348
Константинов А. И. Хронология в романе И. А. Ефремова «Час Быка». Материалы X Ефремовских чтений (Вырица, Ленинградская обл. 21–22 апреля 2007 г.). — -2007/chb-chronology.htm
(обратно)349
Реального монастыря с таким названием не существует.
(обратно)350
ЭPМ — Эра Разобщённого Мира.
(обратно)351
Ефремов И. А. Переписка с учёными. Неизданные работы. М., 1994. С. 189–190.
(обратно)352
Цитата из стихотворения М. Волошина «Дом поэта».
(обратно)353
В Приложении используются следующие сокращения: ЧБ — «Час Быка», ТА — «Туманность Андромеды», АЙ — Агни Йога, ЗнАЙ — «Знаки Агни Йоги», О — «Община», Б — «Беспредельность», С — «Сердце», НВ — «Напутствие Вождю».
(обратно)354
Большую работу в этом направлении проделали современные исследователи: авторы книги «Тайна Воланда» Ольга и Сергей Бузиновские, а также Ксения Ануфриева и Сергей Дмитрюк.
(обратно)


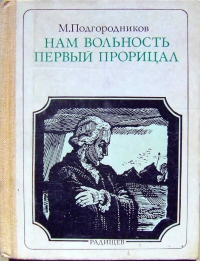


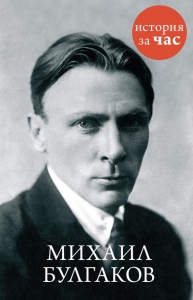
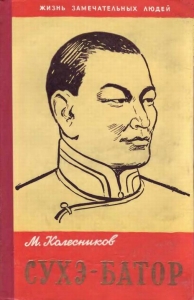
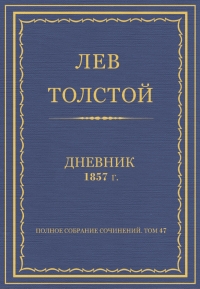


Комментарии к книге «Иван Ефремов», Ольга Александровна Ерёмина
Всего 0 комментариев