Варвара Гелиевна Вовина Патриарх Филарет (Федор Никитич Романов)
1 декабря 1618 г. в троицком селе Деулине было заключено перемирие между Россией и Речью Посполитой сроком на 15 лет. Оно подводило итог бурным событиям начала века, названным современниками Смутой. 14 июня 1619 г. Москва встречала «великого государя преосвященного митрополита» Филарета, отца царя Михаила Федоровича, протомившегося до этого восемь лет в польском плену и выменянного на поляков, захваченных в Кремле осенью 1612 года. Вместе с Филаретом возвращались другие знатные пленные, в их числе защитник Смоленска боярин М. Б. Шеин. Другим, как боярину князю В. В. Голицыну, уже не довелось вернуться. Он умер по дороге в Вильно, и гроб с его телом продолжал путь на родину. Тело также увезенного в Польшу и умершего в плену царя Василия Ивановича Шуйского осталось погребенным в стенах Гостынского замка.
Прибытию Филарета приличествовала торжественная встреча. Государь указал в первой встрече в Можайске быть архиепископу Рязанскому и Муромскому Иосифу, боярину князю Д. М. Пожарскому и окольничему князю Г. К. Волконскому. В Звенигороде «у Савы Сторожевского» встречали Филарета архиепископ Вологодский и Великопермский Макарий, чудовский архимандрит Аврамий, ипатьевский архимандрит Иосиф, боярин В. П. Морозов да думный дворянин Г. Г. Пушкин. На последнем же «стану» от Москвы, в селе Хорошеве, ждали митрополит Сарский и Подонский Иона, архимандрит Троице-Сергиева монастыря Дионисий, боярин князь Д. Т. Трубецкой и окольничий Ф. Л. Бутурлин.
Филарета «встречали» главные герои отшумевшей Смуты, те, чьи пути не раз пересекались с его собственными. Кто как не Таврило Пушкин вместе с Наумом Плещеевым привез когда-то в Москву «прелестные» грамоты Лжедмитрия I и читал их всенародно на Лобном месте? И не с Трубецким ли вместе Филарет «сидел» в таборах у Лжедмитрия II, «Тушинского вора», и стал там впервые патриархом, как тот — боярином? И не тому же ли Трубецкому с Пожарским суждено было затем разрубить гордиев узел, взяв у поляков Москву осенью 1612 года? И не архимандрит ли Дионисий рассылал тогда из Троицы патриотические воззвания, призывая не покоряться «литве»? Наконец, не боярин ли Морозов вышел шесть лет назад на февральский снег Красной площади и объявил об избрании царем 16-летнего Михаила Романова?
Глядя на них, Филарет мог припомнить едва ли не всю свою жизнь. А ему было что вспомнить. Неудивительно, что летописцы поют хвалу царскому родителю, но «страдальцем» Филарета окрестил народ, еще не зная, что сыну его предстоит взойти на престол.
Начало жизни Федора Никитича было блистательным и, казалось, сулило такое же приятное и спокойное продолжение. Родившись около 1555 г.[1], Федор в детстве, вероятно, был свидетелем самых мрачных картин правления Ивана Грозного. Семьи Романовых, однако, почти не коснулся террор, хотя она и принадлежала к верхушке московской знати. В этом можно, пожалуй, увидеть первое и главное «везение» в жизни Федора Никитича. Представим на минуту, что ему минуло уже 14 лет, когда был убит митрополит Филипп. Конечно, Федор знал об этом, но не мог предполагать, что через 80 лет его собственный царственный внук будет переносить останки сурового пастыря из Соловков в Москву. Не знал он и того, что в 1566 г. в Швеции родился мальчик из династии Ваза, которому суждено было затем стать польским королем Сигизмундом III и сыграть роковую роль в его судьбе.
Отец Федора Никитича — Никита Романович Юрьев — занимал видное место при дворе Грозного, которому доводился шурином. Умершая еще до опричнины царица Анастасия Романовна, по отзывам современников, в молодости оказывала весьма благотворное влияние на царя. Отсвет народной популярности падал и на ее брата, окружая уже тогда всю эту семью ореолом терпения и благочестия. Со смертью же царя Ивана, завещавшего Никите Романовичу заботиться о своих детях, популярность Романовых-Юрьевых возросла еще больше. Имя Никиты Романовича встречается даже в народных песнях, в которых он зовется «добрым» боярином и «дядюшкой»[2].
В 1586 г. Федор Никитич был пожалован в бояре и в 30 лет достиг вершины служебной лестницы. Он был молод, красив, богат. Как другие бояре и особенно в качестве ближайшего родственника царя, Романов постоянно пребывал при дворе, сидел у государя «за столом», то есть попросту обедал с ним[3], принимал участие в приемах иноземных послов, сопровождал набожного Федора Ивановича в его поездках по монастырям. Все это были очень важные стороны жизни «московских чинов». Именно этим определялась истинная степень близости того или иного лица к государю, здесь можно было успешнее отстаивать и свою родовую «честь», непрестанное беспокойство за которую сопровождало русского аристократа от рождения до могилы. Впрочем, тут у Федора Никитича особых затруднений не было, так как, пребывая в основном при дворе, он редко назначался на полковую службу, где случались в основном местнические столкновения. Известны челобитья на него, относящиеся к 1596 году. Поводом послужило назначение его на «береговую службу» против татар. Но в целом не «воинские» эпизоды стяжали славу Федору Никитичу, хотя до этого в роду Романовых и были полководцы.
Вырос он в большой семье, был старшим из семи братьев. Голландский путешественник и купец Исаак Масса пишет, что «они (Романовы. — В. В.)… жили всегда очень скромно», но тут же добавляет: «Каждый из них держал себя как царь». Федора Никитича голландец отмечает особо. Это был «красивый мужчина, очень ласковый ко всем и такой статный, что в Москве вошло в пословицу у портных говорить, когда платье сидело на ком-нибудь хорошо: „Второй Федор Никитич“»[4]. Этот щеголь был к тому же страстным охотником — обычное развлечение аристократов того времени. Однако в любви к ловчим соколам и собакам Федор Никитич опережал многих. Даже тогда, когда ему пришлось проститься с беззаботной жизнью, среди самых тяжких потерь он оплакивал именно эту свою забаву[5]. Тем более что Федор Никитич, по свидетельству того же Массы, «так ловко сидел на коне, что всяк, видевший его, приходил в удивление»[6].
И конечно, столь блестящий молодой человек притягивал к себе сверстников из числа Романовых. У него было два «великих друга», «брата». Это Александр Александрович Репнин и Иван Васильевич Сицкий[7]. Дружбе Федор Никитич был верен и впоследствии приблизил к себе детей старых своих приятелей, которые до его вторичного возвышения уже не дожили.
Однако, кроме службы, охоты и прочих развлечений, молодому Романову, как и всякому человеку допетровской эпохи, нужно было самому заниматься хозяйством. От отца братьям Никитичам досталось громадное наследство. Кроме двух усадеб, сел на Москве и земель в близлежащих уездах, Никита Романович имел обширные владения практически во всех краях России[8]. За всем этим хозяйством надлежало следить. Нужно было и запасаться в Москве на год всем необходимым, чтобы прокормить себя и многочисленную челядь. Можно представить себе, какие обозы тянулись по осени на двор Романовых на Варварке, часть которого сохранилась до наших дней.
Конечно, кроме самого хозяина, за всем этим должна была следить и «добрая жена». Браки в это время обыкновенно заключались рано. Но, «ласковый» красавец и лихой наездник, Федор Никитич женился только в возрасте 35 лет. В 1590 г. он ввел в свой дом Ксению Ивановну Шестову, дочь небогатого костромского помещика. Что заставило его сделать подобный выбор и так поздно? Вряд ли это объясняется красотой или особыми добродетелями невесты, так как по обычаям того времени жених чаще всего не знал ее до свадьбы[9]. Однако и тут Федору Никитичу повезло. Правда, из пяти рожденных ею сыновей выжил лишь один, Михаил, и была еще дочь Татьяна. Но главное в том, что жена, хотя и была, видимо, вдвое моложе своего мужа, оказалась женщиной с сильным характером. И это ее качество помогло им в тех тяжелых испытаниях, которые выпали на их долю. Поистине мог сказать Филарет, «аще дарует Бог жену добру, дражайши есть камени многоценного».
Казалось, что с воцарением Федора Ивановича молодому боярину нечего было опасаться дальнейших превратностей судьбы. Тем более что он был не из тех, кто возвышался лишь благодаря родству с царем. Федор Никитич опирался на авторитет знаменитого московского рода. Предки его служили московским князьям, начиная с Симеона Гордого. За три столетия Романовы успели породниться со многими боярскими и некоторыми княжескими фамилиями. Это был теперь мощный разветвленный клан: Черкасские, Шереметевы, Сицкие, Шестуновы и другие. «Вождями» этого клана были Романовы; после смерти в апреле 1586 г. Никиты Романовича главой стал Федор Никитич.
Он во всех отношениях «подавал большие надежды», по выражению Горсея. Но англичанин отметил не «рыцарские» доблести «молодого князя», как это сделал Масса (Горсей здесь ошибается, называя Романовых «князьями»), а, например, живой интерес к Западу, к другим языкам и культурам, что было тогда редкостью. Федор Никитич просил у Горсея написать для него «латинскую грамматику», что тот и исполнил по мере сил «как смог, славянскими буквами»[10]. Европейски образованным человеком, какие появятся в следующем столетии, Федор, конечно, не был («грамматика»-то «славянскими» буквами была переписана), но отсутствие у него в молодости полного неприятия всего иноземного знаменательно. Возможно, эти ростки еще дали бы всходы, но обстоятельства изменились для него самым роковым образом. Полная удовольствий, необременительная жизнь скоро закончилась. Боярин Федор Никитич навсегда распрощался со своим прошлым и превратился в безвестного инока Филарета в далеком Антониево-Сийском монастыре.
Для людей, знакомых с русской историей, привычно, что она в конце XVI — начале XVII в. была наполнена душераздирающими сценами пыток, тайных казней и репрессий. На фоне тысяч умирающих от великого голода 1601–1603 гг., на фоне «кровавых мальчиков» и обезумевших мужиков, посаженных на бочки с подожженным порохом, насильственное пострижение одного 45-летнего мужчины кажется сущей безделицей. Не менее очевидно, что одна человеческая жизнь, если приглядеться к ней повнимательнее, иногда может поведать больше о трагизме эпохи, чем перечисление самых ужасных и многократно повторяющихся кошмаров.
Попробуем представить, что означало для Федора Никитича превращение в Филарета. «Он же, государь, неволею бысть пострижен да волею и с радостию велию и чистым сердцом ангелский образ восприя и живяше в монастыре в посте и в молитве» — так сообщает нам об этом событии Новый летописец[11]. Вернемся, однако, к началу той трагедии, которую обычно называют «гонением на Романовых».
По словам Авраамия Палицына, Никита Романович Юрьев взял перед смертью обещание с Бориса Годунова «соблюдать» своих детей[12]. Это, вероятно, одна из многочисленных легенд о «завещаниях». Но она в глазах современников отбросила на все зловещий отблеск клятвопреступления. И. Масса считал, что начало «нелюбви» правителя к братьям Никитичам положил ничтожный случай, а именно ссора боярских холопов при выборе жилья, когда царь Федор в очередной раз путешествовал со всем двором на богомолье. Грубость слуг Годунова якобы заставила Александра Никитича Романова пожаловаться царю, который в ответ воскликнул: «Борис, Борис, ты взаправду слишком много позволяешь себе в моем царстве, всевидящий Бог взыщет на тебе»[13].
Для нас естественно считать, что причины, заставившие Годунова заняться искоренением могущественного семейного клана, более глубоки. Поэтому всегда отмечалось, что речь идет о борьбе за власть, в которой Романовы вначале были сторонниками Бориса и помогли ему расправиться с другими противниками. Между прочим, Ирина Никитична Романова была выдана замуж за Ивана Ивановича Годунова, а первенец Федора Никитича был назван Борисом. Трагедией жизни Годунова было отсутствие у него таких «прирожденных» прав на престол, которые не могли бы оспариваться другими. Никитичи также были царю родней, хотя только по матери. Не случайно легенда гласит, что Федор Иванович, умирая, завещал трон Федору Никитичу, «брату», а не Борису, который узурпировал власть[14]. Эта легенда возникла не на пустом месте. Еще С. Ф. Платонов показал, что в 1598 г. Федор Никитич был одним из претендентов на престол после смерти царя Федора[15].
Существует версия, согласно которой опала Романовых связана с появлением первого самозванца. Платонов считал, что, очевидно, именно связь с ним в прошлом и явилась причиной бед «Никитичей»[16]. Лжедмитрий I объявился в Польше почти одновременно с началом романовского «дела»[17]. До этого (еще в Москве) Отрепьев жил одно время на подворье у Романовых. Разумеется, по нормам того времени одно это обстоятельство могло бросить опасную тень на весь клан. Поскольку обстоятельства дела довольно темны, то остается только предполагать. Почему бы не представить себе, что все обстояло еще проще?
Расследование началось в конце 1600 г. с доноса казначея Александра Романова, Второго Бартенева, на своего хозяина, который-де хранит у себя «коренье». При обыске на подворье Александра Никитича те «корешки» обнаружились. После этого и началось дознание, в ходе которого Федора Никитича «не единожды» подвергали пытке[18]. Во всей этой истории можно увидеть лишь повод к началу дела. Но для автора Нового летописца он не кажется ни легковесным, ни смехотворным. Он только настаивает, что «коренье» было подброшено самим Бартеневым. А то, что вообще-то подобная вина влечет за собой подозрение в «ведовстве», — это для него очевидно. «Ведовство» же обычно связывалось с желанием «извести» государя. Недаром существует много легенд об отравлении царицы Анастасии, царя Ивана, Федора Ивановича, князя Скопина-Шуйского и т. п. Не случайно и то, что в 1625 г., уже при патриаршестве Филарета, был начат розыск о «воровских кореньях», обнаруженных у протопопа Якова[19].
Наверное, в данном случае можно найти много причин. И подозрительность Годунова, и его охлаждение к Романовым, и горделивое поведение последних, и слухи об их связях с самозванцем — все могло иметь место. Бартенев донес на хозяина. Борис завидовал Федору Никитичу. Ясно одно: Годунов хотел избавиться прежде всего от нашего «охотника», и поэтому он единственный был не просто сослан, а сразу же пострижен. А. Смирнов придавал особое значение тому, что Филарет не был оставлен простым постриженником, а стал затем иеромонахом. С точки зрения этого биографа, такой шаг делал невозможным для «старца» скинуть с себя монашеское платье[20]. Однако вряд ли у Филарета могли появиться подобные мысли, даже если бы он остался простым иноком.
Поступок Отрепьева потому и был ужасен для современников, что так никто не поступал. Ни один из невольных постриженников не «скидывал» клобук на том основании, что он был одет на него «насильно» и «незаконно». Совершенное насильно или же добровольно, пострижение означало, что человек уже становился до конца своей жизни монахом. И если Годунов хотел избавиться от опасного соперника, то он преуспел в этом. Филарет в конце концов достиг власти даже большей, чем та, которая когда-либо была у Бориса, так как она распространялась и на всю духовную сферу, но царские бармы, изображенные на коломенской парсуне, он уже не смог надеть на себя никогда.
Разлученный с семьей, Федор Никитич в июне 1601 г. отправился на север. Царь приказал снабдить его в монастыре всем необходимым, дать новое платье, сапоги, шубу, новую скуфью и «ряску». В его келье жил и некий «малый», к которому «старец» так привязался, что, по сообщению пристава, был готов «душу свою за него выронить». Кто был этот «малый»? Мы знаем, что «беглец», очевидно, бывший холоп Романовых, единственное лицо, теперь напоминавшее Федору Никитичу о его прежней жизни, хороший собеседник. Ведь в монастыре из-за боязни, что случится встреча со знатным узником, не велено было пускать к нему даже обычных «прихожих людей». Филарету при выходе на клирос строго запрещалось вступать в какие бы то ни было разговоры[21].
Конечно, «новая ряска» не могла в этих условиях служить Федору Никитичу большим утешением. Резкий перелом в судьбе оказался для него не просто тяжелым ударом, но катастрофой. Не может быть и речи не только о «радости» в связи с невольным монашеством, но даже о христианском смирении из-за постигших его горестей. Филарет живет «не по монашескому чину», не ходит к духовнику и, хотя ему разрешено, «на крылосе не стоит»[22]. Монахи жалуются на его грубость, на то, что он выгоняет их палкой из кельи. Особенно Филарет «лает» ненавистного ему старца Иринарха, поселенного к нему вместо «малого». Временами, как сообщают другие старцы, Филарет начинает «смеяться неведомо чему». Биографы обычно особо отмечают этот «смех», считая, что он был, наверное, вызван дошедшими до монастыря слухами об успехах самозванца. Значит, злорадно, мстительно смеялся Федор Никитич?
Ясно, что инок не посочувствовал бы Годунову, если бы и узнал, что трон под тем зашатался. Он даже грозится: «Увидят они, как он (Филарет. — В. В.) вперед будет». Но вряд ли эти слова — выражение надежды на помощь Лжедмитрия. Скорее, это бессильные угрозы. Филарет далек от всепрощения, не может забыть обиды, страшным гневом пылает на «бояр», попустительствующих царю, повторяет: «Бояре-де мне великие недруги; они искали голов наших (Романовых. — В. В.), а иные поучали на нас говорить людей наших, я сам видал это не однажды»[23]. Даже спустя 30 лет, уже будучи всесильным патриархом, он все еще не остынет до конца, и в Новом летописце, который составлялся под его наблюдением, запишут: «Бояре же многие на них (Никитичей. — В. В.) аки зверие пыхаху и кричаху»[24]. Но «смех», как это видно из текста доноса пристава Воейкова, вызывали у Федора Никитича сладкие воспоминания. Он и ненавидит своих «тюремщиков», и не может удержаться от того, чтобы говорить с ними «про мирское житье, про птицы ловчие и про собаки, как он в мире жил».
Вопль души слышится в словах Федора Никитича, обращенных к семье. Ксения Ивановна была тоже пострижена и под именем Марфы сослана в Заонежский Толвуйский погост, а дети — Михаил, Татьяна и Иван — сосланы с другими родственниками на Белоозеро, где маленький Иван умер. Когда Федор Никитич «вспоминал» их, он уже не мог смеяться. «Милые… мои детки маленки… бедные осталися; кому… их кормить и поить? таково ли… им будет ныне, каково им при мне было?» Думал, конечно, 45-летний Федор и о своей молодой еще жене (ей, вероятно, не было и 30 лет): «А жена… моя бедная, наудачу уже жива ли?». Он чувствует, что «она где-то близко… замечена, где и слух не зайдет!». Это не голос монаха, а голос человека земного, смятенного, смертельно раненного душевно: «Мне уже что надобно? Лихо… на меня жена да дети, как… их помянешь, ино… что рогатиной в сердце толкнет; много… иное они мне мешают; дай, Господи, слышать, чтобы… их ранее Бог прибрал, и яз бы… тому обрадовался; а чаю… жена моя и сама рада тому, чтоб им Бог дал смерть, а мне… бы уже не мешали, я бы… стал промышлять одною своею душою, а братья… уже все, дал бог, на своих ногах»[25].
Конечно, братья были «на своих ногах». Но ведь это были младшие братья. А он — старший, вспоминает о них и, как за детей и жену, несет ответственность и за них тоже. И вот теперь Александр сослан на Усолье, где в темнице «удушен». Михаила «удавиша» в Великой Перми[26]. Там же над гробом его «в пусте месте» выросли «два кедра». Страшны скудные сведения источников. Но трагедия этой семьи видна из дошедшего до нас частично «дела» о «разсылке» Романовых, где сообщается о судьбе младших братьев, Ивана и Василия. Иван был сослан в Сибирь, в Пелым, с приставом «для береженья». Василия же отправили в Яренск. По дороге предписывалось братьев «беречь», чтобы «не утекли» и «лиха никоторого над собою не учинили»[27].
В Яренске Василию должны были поставить двор и дать приличный «корм», состав которого был даже расписан подробно, включая мясо в «мясные дни». Но уже через полгода пришел приказ перевести его в Пелым к брату, куда несчастного и отправили в морозы, за многие версты, в кандалах. Сопровождавший его сотник Иван Некрасов сообщал в Москву, что река, по которой они ехали, замерзла и они «почали на реке лед скалывать» и шли пешком, «волоком» от Соли Камской до Верхотурья. Для Василия были особенно тяжелы кандалы. Еще по дороге в Яренск он украл у своего мучителя «ключ замочной» и бросил его в реку, но расторопный Некрасов «ключ иной купил и на Василья клал чепь по-прежнему». Теперь же, двигаясь тяжелейшим путем в Пелым, Василий «разболелся», но и тут цепи с него сняли лишь на короткое время.
Шекспировским духом, диалогами из «Короля Лира» веет от разговора сотника Некрасова и Василия Романова, мучителя и мученика, где-то среди ледовой пустыни. Некрасов издевается: «Кому-де и Божьим милосердием, и постом, и молитвою, и милостынею, Бог дал Царства (имея в виду Бориса Годунова, известного своей помощью голодным и убогим. — В. В.), а вы деи злодеи изменники хотели Царьство достати ведовством и кореньем»[28]. Умирающий же Василий лишь «надсмехается» в ответ над простоватым сотником, приговаривая: «Свята деи та милостина, что мечут по улицам; добро та деи милостина, дати десною (правою. — В. В.) рукою, а шуйца (левая. — В. В.) бы не слыхала». В результате к месту назначения молодой «насмешник» прибыл уже с распухшими ногами «только чуть жив». Вместе с Иваном его еще посадили было на цепь. И хотя потом оковы сняли, было уже поздно. 15 февраля 1602 г. Василий умер.
Когда из Москвы стали запрашивать Некрасова, отчего он вопреки указу «не ковать» пленников держал Василия в кандалах, тот оправдывался: он ковал преступника «мимо государева указу» «блюдя от него побегу», а из Яренска писал об этом, и в ответ никакого «указа» не последовало, поэтому он, Некрасов, «чаял, что он то делает гораздо, что к нему о том не писано и он Василия и из Ярянска вез сковав»[29].
Иван же, хитрый от природы, остался жив тогда и вообще выжил, единственный из братьев Филарета. После смерти Василия у него открылась «старая… черная болезнь», и он перестал говорить, владеть рукой и ногами. Но затем, по дороге в Уфу, как сообщал пристав, «язык у него появился, рукою стал владеть, и на персты маленько приступает… а сердцо здорово и ест доволно»[30]. В мае 1602 г. в Уфу пришел приказ о переводе Ивана Никитича в Нижний Новгород, а в сентябре 1603 г. ему уже велено ехать в Москву.
Остальные родственники и свойственники Романовых также все были сосланы, и лишь немногие вернулись здоровыми. Их владения были, как обычно, «отписаны на государя». Ближайший друг Федора Никитича Александр Репнин пребывал воеводой в Яренске, откуда его выслали с женою и детьми, якобы (или же действительно) за растрату государевой казны. Князь Б. К. Черкасский умер в темнице. Сын его, племянник Филарета, Иван затем был отправлен вместе с Иваном Романовым в Нижний, а потом и в Москву. Вернулись из ссылки сестра Никитичей и некоторые другие родичи. Но это были уже жалкие обрубки некогда мощного семейного древа.
Время, однако, работало не на Годунова. Не зря буйствовал Филарет в своем северном захолустье. Близился конец этого первого в его жизни «плена». Филарет оплакивал погубленную жизнь и не знал, что впереди еще почти столько же лет и не все самое тяжелое позади.
Избавителем явился мнимый родственник, фальшивый «брат» — Лжедмитрий. Воссев на древнем престоле Калиты, беглый дьякон сразу же послал за Филаретом. По прибытии в Москву его возвели в сан митрополита Ростовского и Ярославского. Очень возможно, что его рукополагал патриарх Игнатий, этот типичный «отрицательный герой» русских повестей, авантюрист и проходимец. И то, что сан Филарета был освящен таким человеком, не говоря уже о том, что для этого из Ростова в Троицу фактически изгнали прежнего митрополита Кирилла, не могло расцениваться современниками иначе, как дело сомнительное. Так начинается, наверное, самый странный этап в жизни Филарета, длившийся около пяти лет. Странный потому, что тут он как будто изменил самому себе и, уж во всяком случае, пребывал в каком-то неестественном для себя состоянии.
Романовы знали, что Лжедмитрий — не истинный наследник. Можно спорить, как это и делается, о морально-этической оценке такого сотрудничества с самозванцем. Был ли тут только политический расчет? Желание подняться любой ценой? Или же это мудрость выжидания, вынужденный компромисс? Филарет — среди высшего духовенства и поляков, окружавших Расстригу! Как это не вяжется с той памятью о суровом и страстном человеке, которую он оставил по себе! Но правильно ли «проецировать» позднего Филарета на период Смуты?
Филарет в своем «смятении» был не одинок. Смута вообще отразилась на сознании русских людей. В обществе, где превыше всего ценилась верность традиции, где и столетие спустя за нее массы людей уходили в леса и готовы были сжигать себя вместе с детьми, вдруг как из-под земли начинают появляться «ложно убиенные» младенцы (убиваемые вновь) и тут же множатся в глазах. Изгоняются цари и патриархи. Льется царственная кровь. Был потерян ориентир, котором веками руководствовались люди. Возникло самое страшное для православного человека — соблазн. И как следствие его — «всеобщая шаткость».
Во время брачной церемонии расстриги Гришки Отрепьева и католички Марины Мнишек молодых благословляли патриарх и все высшие церковные иерархи. Филарет, находившийся тогда в Москве, конечно, был среди них. Иностранные источники сообщают, что «власти» при этом целовали у Марины руку (!), и к истинности такой версии склоняется как будто А. Смирнов[31], хотя это явно легенда. Но уже само ее появление, если она действительно ходила по Москве, показывает колоссальные изменения или даже разрушение сознания людей. И если в головах даже простых свидетелей этого венчания должно было «помутиться», то вспомним, что Филарет уже до этого был выбит из колеи, уже был «изгоем».
Думается, что заточение в монастырь, отлучение от семьи и гибель братьев были для него главным ударом. Сейчас он еще отнюдь не «окреп», не отрешился от всего земного и не привык к новому своему положению. Тем более что в Москву переводится Ксения (а теперь Марфа) Ивановна и дети, до этого жившие в вотчине Романовых — Клинах. Воссоединяется «семья», где отец и мать — монахи, а дети еще слишком малы, чтобы понять суть происшедших перемен. Можно представить, что Филарет постарался устроить своих близких со всеми возможными удобствами, какие ему полагались по его положению при дворе Расстриги.
Приезд семьи, радость встречи с близкими на фоне происходившего в стране раздора не могли способствовать душевному спокойствию Филарета. Наоборот, вызывали раздвоение. Из всего, что было утрачено — казалось, безвозвратно, — для ростовского митрополита было естественно желать сохранить хотя бы жену и детей, которых он не чаял увидеть. Между тем события развивались стремительно. Недавно еще «власти» подписывали грамоту об «истинности» царя, посылаемую в Польшу, и вот уже Филарет 1 июня 1606 г. принимает участие в коронации нового избранника — Василия Шуйского. Как известно, судьба престола была решена в узком кругу московской знати, но Филарет должен был входить в этот круг. При венчании нового царя он вместе с крутицким митрополитом нес крест, скипетр и «яблоко» (державу).
Царь Василий еще не утратил тогда ореола борца за веру против «злокозненного» Расстриги. Правда, он в свое время утверждал, что царевич Дмитрий случайно зарезался во время игры, и в июне 1605 г. едва не был казнен самозванцем за распускание слухов о подложности «царя» Дмитрия. Теперь ему пришлось «забыть» о своих старых «показаниях». Речь шла о канонизации «невинно убиенного». Поэтому и на изменение чужих «показаний» царь смотрел сквозь пальцы, тем более что публично поклялся не мстить за старые обиды. Филарет же пользовался особым расположением Шуйского. Есть все основания полагать, что в тот момент, сразу по воцарении Василия, его хотели сделать патриархом. В польских источниках сообщается даже, что он был уже «наречен», однако затем почему-то отставлен[32]. Так или иначе, но из всех высших иерархов именно он был послан в мае 1606 г. в Углич за телом Дмитрия.
Наивный в своей простоте рассказ об обретении мощей царевича имеется в «Рукописи Филарета» (под этим названием вошел в историографию один из компилятивных памятников 20-х годов XVII в.)[33]. Филарет во главе торжественного шествия двинулся к Москве. Но его ждал там неприятный сюрприз. 3 июля патриархом сделался митрополит Казанский Гермоген. По мнению Платонова, причиной явилось выступление народа против царя Василия, якобы инспирированное П. Н. Шереметевым[34]. Шереметевы же были близки с Романовыми. Кстати, тогда же из кравчих был удален и племянник Филарета И. Б. Черкасский. И хотя до опалы дело не дошло, Ростовскому митрополиту пришлось удалиться в свою епархию.
С ноября 1606 г. он в Ростове. Но на занятия делами церковными времени оставалось мало, хотя он успел кое-что сделать, например учредить пост архимандрита в ростовском Борисоглебском монастыре. Тучи сгущались. Убиенный Расстрига как бы мстил Филарету за отречение от него. Его призрак, Лжедмитрий II, «Вор», уже осадивший Москву, двигался теперь к Ростову. Нужно было собирать «даточных людей» с монастырей, поместий и вотчин. Осенью 1608 г. город готовился к осаде. В конце октября «Вор» высылал «похвальную грамоту» суздальцам во главе с архиепископом Галактионом «за верность и усердие». Приходит к нему и челобитная ярославцев с повинной, подписанная архимандритом Спасского и игуменом Толгского монастырей. Крест «Вору» целуют в Переяславле. Это был тот момент, когда «грады все Московского государства от Москвы отступиша»[35].
В октябре 1608 г. пал Ростов. Митрополит Филарет, «адамант крепкий», как сообщает летописец, призывал «стати против… злодеев», убеждая жителей: «Аще мы и побиени будем от Бога венца восприимем мученическая». Горожане хотели отойти в верный еще тогда царю Ярославль. Филарет, однако, противился: «Аще будет и многие муки претерплю, дому Пречистые Богородицы и Ростовских чюдотворцев не покину»[36]. Очевидно, именно в результате этой проповеди многие не успели бежать из города и были убиты. Оставшиеся в живых вместе с Филаретом заперлись в церкви, где и были захвачены. Можно представить судьбу несчастных. С Филарета сорвали святительские ризы, дали взамен «худые» и под стражей отправили к «Вору» в Тушино.
Так очередная волна Смуты прибила его к новому самозванцу. Поляки, стоявшие за ним и помнившие судьбу Отрепьева, понимали, что теперь необходимо больше привлекать русскую знать на свою сторону. «Дмитрий Иванович» контролировал уже значительную территорию. Но власть светская не мыслилась без освящения духовной. Надежды на то, что Гермоген в Москве признает «Вора», не было. Значит, патриарха нужно было «сделать» нового. И уж на этот раз он должен быть лицом значительным, а не авантюристом вроде Игнатия. Пленение Филарета стало в этом смысле редкой удачей. Именно поэтому в Тушине его встретили с подобающими почестями. Сообщения Палицына о «мучениях» там митрополита, скорее всего, тенденциозны. В ноябре он уже подписывает от своего имени грамоты как «нареченный патриарх Московский и всея Русии». Но и после этого Филарет продолжал интересоваться делами ростовской епархии, как это следует из переписки его с Сапегой по поводу разрушения храма в Киржацком монастыре и т. п.[37]
В сделке Филарета с «Тушинским вором» уже налицо в большей мере политический расчет, чем в его службе первому самозванцу. Там он был лишь невольным участником событий. Здесь — в значительной степени активным действующим лицом. Он исхитрился при этом пользоваться доверием Лжедмитрия и поляков и одновременно сохранить репутацию в Москве, где жила семья. Судя по посланиям Гермогена, в столице на Филарета смотрели исключительно как на невольного пленника «Вора». Марфа Ивановна и дети опекались самой царицей.
Когда в декабре 1609 г. в Тушино прибыли послы от Сигизмунда III, осадившего Смоленск, Филарет, очевидно, сразу понял, что судьба посылает ему шанс вырваться из «таборов», начавших уже распадаться. Именно тогда впервые и всплыла кандидатура польского королевича Владислава, сына Сигизмунда III, как возможного претендента на русский престол, с воцарением которого могли бы утихнуть все раздоры. Обязательным условием с самого начала было крещение королевича по православному обряду, так как все помнили, как Лжедмитрий I ввел в Успенский собор Марину Мнишек без крещения, а лишь совершив обряд миропомазания. Но события тогда развивались быстрее чьих бы то ни было планов. В мае 1610 г., когда Тушинский лагерь распался, поляки захватили Филарета с собой в Иосифо-Волоколамский монастырь. Но по дороге он был «отполонен» царскими воеводами[38].
И снова Москва. Теперь уже не осажденная, а полная ликования по случаю побед над «Вором» князя Михаила Скопина-Шуйского. Но вот уже и князь мертв, и царские войска в июне вновь разбиты под Клушином. Обвинения летят на «несчастливого» царя Василия, горестное его правление подходит к концу. 17 июля Василий Шуйский с царицей насильно пострижены. Поляки в это время стояли уже в семи верстах от столицы. А 7 августа в Москве на престол был избран королевич Владислав, находившийся еще в Польше. 17 августа «власти» заключили договор с польским гетманом Жолкевским, и его гарнизон вошел в Кремль.
А король Сигизмунд еще осенью 1609 г. перешел границу и осадил Смоленск. Воевода М. Б. Шеин отказался сдать город. В сентябре 1610 г. под Смоленск к королю выезжает посольство во главе с Филаретом, вновь Ростовским митрополитом, и боярином князем В. В. Голицыным. Послы везут инструкции, состоящие из десяти пунктов. Главное: тут же, не мешкая, в Смоленске, перекрестить королевича. Это должен был сделать Филарет.
Поляки, уже хозяйничавшие тогда в столице, не случайно стремились изгнать оттуда Ростовского митрополита и Голицына. Дело в том, что и Михаил Романов, сын Филарета, и Голицын уже тогда считались реальными претендентами на трон и соперниками Владислава. Правда, пока еще жила уверенность, что только восшествие на престол «прирожденного государя» положит конец войне. Голицына обвиняли в том, что он по дороге в Смоленск ссылался с «Вором» и вообще имел с Филаретом договоренность действовать во вред королевичу и Сигизмунду. Но доводы, приводимые сторонниками этой точки зрения, ненадежны[39].
Король встретил послов с почестями, однако положение их было неопределенным. Сигизмунд, как известно, потребовал целовать крест и сыну, и себе самому. Бояре в Москве решили подчиниться. 30 октября Жолкевский привез под Смоленск бывшего царя Василия Шуйского с братьями. Поляки хозяйничали в Кремле. Казалось, все развивается по ставшей уже привычной схеме. Вот-вот Шеин откроет королю ворота Смоленска, москвичи же поцелуют крест на верность Сигизмунду, и тот торжественно въедет в Кремль. Но именно в этот момент произошло нечто необычное. Дело в том, что под Смоленском перед нами как будто предстал другой, новый Филарет. Вернее, именно там мы и видим настоящего Филарета, тогда как до этого все еще жил и действовал Федор Никитич Романов.
Король прежде всего потребовал сдачи Смоленска. Тут-то, по сообщению летописца, Филарет и показал «первое крепкое стоятельство», ответив Сигизмунду: «Как будет сын твой на Московском государстве и все Московское государство будет под сыном твоим, не токмо Смоленск: тебе государю не достоит стояти под вотчиною сына своего»[40]. Такую же позицию занял и Голицын. Переговоры зашли в тупик, и послам стала «деяться» великая «теснота». Тут как раз ситуация в стране изменилась не в пользу поляков. В марте 1611 г. к Москве подошли отряды казаков и ополченцев. Теперь уже польский гарнизон оказался осажденным в Кремле.
Что же произошло? Почему Филарет изменил привычную линию поведения? Куда исчез его конформизм, покорность? Может быть, на него повлиял подъем антипольских настроений, мужество Шеина, унижение Шуйского? Может, он почувствовал, что сделка с Сигизмундом ему потом уже не «сойдет», как служба самозванцам? А может быть, наконец, он освоился со своим положением, оглянулся вокруг, увидел, что происходит, и сделал окончательный выбор? Он как бы «отвердел», посуровел душою, и даже страх за семью, оставленную в осажденной уже теперь Москве, очевидно, не смущал его более. Под Смоленском окончательно «умер» Федор Никитич и «родился» Филарет.
Можно предположить, конечно, что поведение Ростовского митрополита действительно диктовалось стремлением обеспечить престол своему сыну. И правда, Михаил взошел на трон. Но это случилось два года спустя, когда в стране все уже круто изменилось, да и то только после бурных дебатов, так как сын Филарета не был единственным претендентом. В известной мере тогда все решил случай. В упрямстве митрополита не до конца все ясно. Под Смоленском он впервые столкнулся с Сигизмундом, который стал для Филарета до конца жизни главным врагом. Можно лишь догадываться, не было ли там со стороны польского короля какого-нибудь особого личного унижения митрополиту, прикрытого в Новом летописце лаконичным определением «теснота». Не стало ли это поводом для гордого и вспыльчивого Филарета «запереться» в упорстве? Человек его склада мог найти выход своему раздражению, делая врагу все наперекор.
Между тем слух о «мучениях» послов под Смоленском распространился по стране. Тем важнее было для Сигизмунда задержать их как заложников. И после падения Смоленска все знатные русские, содержавшиеся в королевском лагере, были отправлены в Польшу. Путь их лежал через Минск и Вильно под Львов, в Каменку, имение гетмана Жолкевского. Шуйских повезли затем на Варшавский сейм. Сигизмунд готовил торжество по случаю своей победы: бывший царь, его брат, возможно, также Шеин и другие проехали вслед за польскими войсками, входившими в столицу. Филарета и Голицына оставили в Каменке. Очевидно, законность их плена все же вызывала сомнения, и, кроме того, не было уверенности в том, что эти «крепкие адаманты» будут вести себя соответственно «сценарию» королевского триумфа[41]. Так или иначе, но в Варшаву их вывезли только в январе 1612 года.
Тогда же всех «московитов» разлучили уже надолго. Шуйские отправились в Гостынский замок, Шеина определили в Ружаны, родовое имение Л. Сапеги в Новогрудском воеводстве. А Филарета и Голицына отправили в Мальборк, бывшую столицу Тевтонского ордена. Филарета поместили там в замок. Трудно представить себе что-нибудь более странное, чем фигура русского митрополита, ступавшего по брусчатке внутреннего двора Мальборка или поднимающегося на стены, откуда можно было наблюдать за течением Ногата, омывавшего замок с запада.
Плен, очевидно, не был тяжел для Филарета физически. Во-первых, он не был одинок: его сопровождала свита. Несмотря на то что в Мальборке имелись и сырые, темные казематы, все же послов содержали в одном из тех помещений, которые предназначались обычно для гостей замка. Правда, бывшие покои великого магистра ордена сохранялись для короля, и в этой части замка узников не селили; предполагают, что русские пленники занимали помещения во внешнем дворе замка, где ранее жил великий комтур. По сообщениям из разных источников, содержание их было весьма богатое[42]. Тем не менее Мальборк вряд ли оказался для Филарета легче и удобнее Сийского монастыря, где он страдал за десять лет до этого.
Митрополит не мог оценить по достоинству величие и красоту своей новой темницы, ибо против этого восставала его душа православного человека. Однако не все пленники в Польше в то время относились к своему заключению подобным образом. По свидетельству иностранцев, Запад оказал определенное влияние, побуждал к заимствованию у поляков[43]. Филарет же уехал из Польши решительным противником всего западного, болезненно относясь к любому возможному проникновению в Москву польской культуры; он окончательно сформировался как «столп церкви», «гонитель западничества», когда созерцал красоты прусской твердыни.
До избрания на русский трон Михаила наблюдение за его отцом, очевидно, было не столь уж неусыпным. Он даже смог наладить некоторые связи с родиной, хотя неизвестно каким путем. По одному позднему свидетельству, он писал боярину Ф. И. Шереметеву и давал советы по поводу избрания государя. В одном письме он отвергает кандидатуру Владислава и призывает избрать иную особу, которой должны быть предъявлены определенные условия[44]. Известны также письма к нему сына и брата, правда уже присланные после 1613 года[45]. В грамотах же того времени он уже называется «митрополитом всея Руси», тем более что на кафедру в Ростов вернулся его предшественник Кирилл. Избрание Михаила не было поэтому для Филарета неожиданностью. Письмо Шереметеву писано, конечно, также не без тайного умысла. Теперь статус мальборкского пленника изменился и для Москвы, и для Варшавы. В официальных русских документах сообщалось, что Филарет будет сразу же выменян на пленных поляков. Однако разрешение этого вопроса затянулось, так как война не была закончена.
В октябре 1614 г. новый русский царь прислал к отцу игумена московского Сретенского монастыря Ефрема, и тот остался жить в Мальборке. В декабре того же года в Варшаву прибыл официальный посланец царя Ф. Желябужский. Он привез письма, подписанные боярами, так как Сигизмунд все еще не признавал избрания Михаила. Одним из требований посланника было свидание с Филаретом, для чего последнего привозили в Варшаву, где он останавливался в доме канцлера Л. Сапеги. Очевидно, при свидании Желябужский имел поручение не только спрашивать митрополита о здоровье, но и советоваться об условиях будущего договора между Россией и Польшей.
В столице в это время заседал сейм, решивший совершить «размену» и даже пославший для этой цели гонцов в Москву. По свидетельствам перебежчиков, Филарет и Голицын присутствовали на нем. Кроме того, в Варшаве они вновь увиделись с Сигизмундом, который часто приглашал их к своему столу. Однако в ответ на известие, что обмен пленных может состояться, оба узника якобы ответили, что мена — ни их, ни их дворян — не надобна, «что они послы, а не вязни»[46]. Но обмен неминуемо должен был состояться. Ведь была еще одна, не менее заинтересованная в нем сторона. В Нижнем Новгороде, Ярославле, Галиче, Вологде и Белоозере в невероятно тяжелых условиях пребывали полковники Струсь, Будила и другие взятые в плен воины польского гарнизона Кремля. Их приятели и жена Струся передавали в Польше Филарету деньги и «рухлядь»[47].
Однако окончательно все решил исход военных действий. Готовясь к решительным действиям против Москвы, Сигизмунд, по свидетельству польских источников, в 1616 г. еще пытался вести переговоры сепаратно с Голицыным, требуя написать боярам послание, чтобы они признали царем Владислава[48]. Голицын отказался, а поход королевича на Москву не удался. И тогда выяснилось, что обе стороны нуждаются в передышке, а проку от пребывания Филарета в Мальборке для Польши нет никакого. Пленных было решено возвратить. Об этом имеется специальное письмо короля[49]. 7 февраля 1619 г. они уже прибыли в Гродно.
Так завершилась «одиссея» Филарета. Царь, встречая отца, отвесил ему земной поклон. «Его же благочестивый царь Михаил срет далече от царствующего града яко пять поприщ и с коня ссед, пешима ногама сему предходя и честь достойную сему принося, и главу яко отцу и учителю к ногам сего покланяет; тако же и сей земли касается, и сына яко царя в лепоту почитает; и оба лежаста на земли, ото очию яко реки радостные слезы пролияша»[50]. 22 июня в Золотой палате в Кремле Михаил торжественно «умолил» отца принять патриаршество, одновременно вручив власть управлять государством. По поводу возвращения царского родителя была сочинена песня, которую опубликовавший ее Ф. Буслаев считал «безыскусственным» сочинением, составлявшимся «под влиянием простодушной летописи»[51].
И уже не «воровской» патриарх, а законный, венчанный 24 июня Константинопольским патриархом Феофаном, Филарет сразу стал более чем главой церкви. Он стал официально именоваться великим государем — формально соправителем своего сына. На деле же — сосредоточил все в своих руках. Теперь, на 64-м году жизни, что по меркам XVII в. означало глубокую старость, Филарет наконец получил власть. Он был хвор телесно, но дух его закалился в испытаниях. У него был свой план государственной политики. Этот план преследовал определенные цели: свести счеты с Сигизмундом.
Но вначале необходимо было привести в порядок государственные дела. Избрание православного царя Михаила Федоровича явилось апогеем единения сословий во времена Смуты, которое продлилось, однако, недолго. Неспособный по молодости лет к самостоятельному правлению, царь шесть лет находился под влиянием «сильных людей» из своего окружения. Прежде всего это были его двоюродные братья по матери Борис и Михайло Михайловичи Салтыковы. Вместе с матерью Михаила Федоровича, «великой старицей» Марфой Ивановной, они царствовали во дворце. Кроме того, к власти пришли люди из романовского клана: дядя царя Иван Никитич, двоюродный брат — И. Б. Черкасский, родственник последнего Ф. И. Шереметев, Б. М. Лыков. Не последнюю роль играли в Думе и люди вроде Д. М. Пожарского, Д. М. Черкасского и других, выдвинувшихся в то тревожное время благодаря своей службе, главным образом военной.
Смута, во время которой неоднократно происходили с разных сторон пожалования, основательно запутала самый жгучий вопрос эпохи — земельный. Государственная власть, не признавая земельные «дачи» самозванцев и Владислава, тем не менее не вполне контролировала распределение земельного фонда. Сложилась благоприятная обстановка для разного рода махинаций со стороны «сильных людей» — московских чинов, имевших многочисленные связи в столице, да и просто более богатых. Мелкое и среднее землевладение наиболее пострадало за предшествующие десятилетия; многие помещики были вынуждены утаивать свои запустевшие поместья и вотчины, требуя взамен новых, тем более что документы на землю часто были утрачены. Определенные шаги правительством предпринимались. Но, пока шла война, ни один из запутанных вопросов, доставшихся в наследство от Смуты, серьезно не начал изживаться. И это обостряло уже давно искавшую себе выхода обиду городового дворянства на московскую знать, которая пользовалась в корыстных целях своей «силой».
Обострился и крестьянский вопрос. Плачевным было состояние финансов. Старая система обложения — «сошное письмо» — перестала давать желаемые результаты и нуждалась в пересмотре. Кроме того, у тяглецов из среды городского «черного» люда назревало раздражение против «беломестцев», не плативших вместе с посадом тягла. Многие посадские «перебегали» на дворы, принадлежавшие «сильным людям», и скрывались там, не разделяя финансовые тяготы своего «мира». Да и многие другие, не менее запутанные вопросы сразу встали перед Филаретом.
В тот момент в Москве вновь появился Исаак Масса, который когда-то любовался наезднической ловкостью юного Федора Никитича. До приезда Филарета в приказных верхах проявилось враждебное отношение к голландцу, поэтому тогдашнему окружению Михаила в его донесениях дается весьма нелестная характеристика: «В это время почти все чины великой канцелярии были преданы англичанам и чрезвычайно корыстолюбивы… Всем было известно, что его ц. в. не только терпел хладнокровно, что делалось в разных областях государства, но смотрел сквозь пальцы и на действия придворных и прочих служителей с великой кротостью… до возвращения родителя своего, которому он намерен был вверить управление целым государством как мужу, который один был в состоянии поддержать достоинство великокняжеское»[52].
И. Массу нельзя, конечно, считать лицом беспристрастным, а его взгляд — полностью «сторонним». Безуспешно пытаясь до этого конкурировать с англичанами в русской торговле, голландцы вообще возлагали большие надежды на приезд Филарета и возможное в связи с этим изменение курса в государственных делах.
Эти ожидания оправдались. 22 июля, то есть сразу по приезде, Филарет в своей келье созвал «совещание» с царем и боярами. В результате голландцы были допущены к персидской торговле. Оценка же того положения в верхах, которое царило до лета 1619 г., была навеяна И. Массе, очевидно, И. Н. Романовым, покровительствовавшим голландцам. «Для меня всего лучше было обождать перемен, которых одни ожидали с надеждою, а другие опасались и которые действительно произошли с возвращением родителя царского и прочих государственных мужей, которые содержались 8 лет в плену у поляков». При том, что во всех приказах были «переменены штаты и сменены служащие» и «все сделано по приказанию самого родителя царского, но все заранее уже было назначено и определено»[53].
Действительно, Филарет начал с «перемен». И о 1620-х годах даже пишут иногда как о времени «реформ Филарета». Однако вряд ли можно называть действия, предпринятые им для спасения государства, реформами. Филарет делал шаги под давлением обстоятельств и поэтому не выработал, да и не мог выработать, какого-то нового курса, отличного от предыдущего. Хотя его действия были более последовательными и продуманными, можно согласиться с Е. М. Сташевским, писавшим, что «Филарет не реформатор, но он очень энергичный организатор и систематик», а отличительные черты его правительственной политики — это «умелое приспособление и система»[54]. Вообще его идеал, как и всякого человека той эпохи, лежал в прошлом, в данном случае — во времени до «всеобщего разорения». Филарет хотел, очевидно, не преобразовать жизнь Русского государства, а лишь повернуть ее в «нормальное» русло, навести порядок, погасить всеобщее раздражение и, удовлетворив по возможности требования основной служилой массы, укрепить поместную армию, готовясь к дальнейшей борьбе с Сигизмундом.
Однако по принадлежности к романовскому клану, пришедшему к власти в результате Смуты, он был кровными узами связан с теми самыми «сильными людьми», которые нажились в последние годы. Возможно, чувствуя это, он с самого начала провозгласил борьбу с «сильниками». Соборный приговор, составленный не позднее 3 июля 1619 г., то есть вскоре после венчания Филарета на патриаршество, выдвигает как первоочередные три задачи. Во-первых, проведение нового описания земель с целью ввести единообразие и справедливость при распределении податей и устранить такое положение, когда «емлют с ыных по писцовым книгам, а с ыных по дозорным книгам, а иным тяжело, а иным лехко». Решено было послать «во все городы» писцов либо дозорщиков, «дав им полные наказы, чтоб они писали и дозирали все городы вправду, без посулов». Во-вторых, был провозглашен сыск посадских и уездных людей, заложившихся «за бояр и за всяких людей», в том числе за монастыри и митрополитов. И кроме того, поскольку «многие люди бьют челом на бояр и всяких людей в насилстве и обидах, чтоб их пожаловать, велети от сильных людей оборонить», было указано «на силных людей во всяких обидах… сыскивать и указ по сыску делати бояром своим князю Ивану Борисовичу Черкасскому да князю Данилу Ивановичю Мезетцкому с товарыщи»[55].
Нетрудно заметить, что красной нитью в этом приговоре проходит стремление объявить об окончании «насильств» и несправедливостей. Верховная власть выступала гарантом справедливости и порядка, защитницей слабых и сирых от сильных. При этом ставка делалась на моральную поддержку таких начинаний «землею». «А из городов изо всех для ведомости и для устроенья указали есмя взять к Москве, выбрав изо всякого города: из духовных людей по человеку, да из дворян и из детей боярских по два человека добрых и разумных, да по два человека посадцких людей, которые бы умели розказать обиды, и насилства, и разоренья, и чем Московскому государству полнитца, и ратных людей пожаловать, и устроить бы Московское государство, чтоб пришли все в достоинство»[56].
Обращаясь за поддержкой к «земле», Филарет продолжал пока линию, начатую правительством в 1613 году. Как известно, с этого времени «земские соборы» действовали почти непрерывно. Но при всем том он не собирался делить с другими ответственность за эти шесть прошедших лет. Новый летописец главной заслугой патриарха считает то, что он «не токмо что слово Божие исправляше, но и земская вся правляше, от насилья многи отня; ни от ково ж в Московском государстве сильников не бысть опричь их государей»[57]. Разумеется, следует помнить, что к такой позиции побуждал патриарха и его высший духовный сан.
Что же касается самой борьбы с «сильниками», то она была провозглашена не только на словах, но и вылилась в создание нескольких особых Сыскных приказов для сыска земельных окладов, вывода из посада «беломестцев» и т. п. Именно Сыскные приказы Филарета и должны были служить в значительной мере достижению тех целей, которые были изложены в Соборном приговоре июля 1619 года. Особо при этом следует выделить специальный приказ «Что на сильных целом бьют»[58].
Заявленные летом 1619 г. основные направления внутренней политики оставались главными для Филарета в течение всего времени его правления. Однако в жизнь они проводились медленно и не всегда последовательно. Причин тому находят множество, но не последней можно считать ту, что ближайшее окружение Филарета, те, на кого он опирался, состояло именно из «сильных людей»; они же возглавляли приказы, они же владели «беломестцами» и сосредоточивали в своих руках огромные земельные богатства. Да и рубеж, проведенный Смутой в жизни общества, был настолько глубок, что никакой возврат к «старине» был уже невозможен.
Между тем с 1622 г. Филарет отказывается от идеи опоры на представителей «всея земли» и перестает собирать «земские соборы», чувствуя свою власть уже достаточно сильной. Он официально именовался «великим государем и патриархом», соединяя в одном лице верховную светскую и духовную власть в государстве, освященную к тому же авторитетом царского родителя.
До нас дошла переписка Филарета с Михаилом во время частых отлучек последнего вместе с матерью, а затем и с женой на богомолье. Царь выступает отнюдь не как бесцветная личность. В его первых посланиях проглядывает образ юноши, покоренного обаянием сурового облика своего родителя. Преклоняющийся перед Филаретом сын поначалу ищет для выражения чувств все новые, своеобразные обороты. Он адресует послания то «учителю православных велений, истинному столпу благочестия, недремателну оку», то «вселенскому пастырю и владыце», то «церковных кормил правителю, карабль православия неблазненно направляющу во пристанище благоверия», то «терпения столпу, кормчию Христова карабля, в тихости учения Того словесныя овца во пристанище спасения направляющу»[59]. Постепенно, правда, формулировки становятся все более застывшими.
Особой душевностью проникнуты на первых порах и письма «прежебывшей супруги» Филарета, а теперь «духовной дщери» Марфы Ивановны. Одно из них она даже адресует «преже убо по сочетанию законного брака свету очию моею, государю и супругу». Когда во время одной из таких поездок патриарх оставался, как обычно, в Москве, до богомольцев дошла весть о его болезни. Филарет страдал «камчюгом», то есть подагрой. Весть встревожила Марфу с сыном. Старица тоже прихворнула, ей «припомянулася прежняя болезнь портежная», которой она, очевидно, страдала со времен ссылки в Заонежье. В письме патриарху она радуется, «яко обще с тобою, государем, мало поболезновати сподобихся». Равно и Филарет в письме сыну замечает: «А о том благодарю Господа Бога моего Иисуса Христа, что нас обоих посетил болезнью: а вам бы, Великому Государю, об наших старческих болезнях не кручинитися; то наше старческое веселие, что болезни с радостью терпети»[60]. Но в целом письма патриарха более сухи и суровы. Фактически это один и тот же повторяющийся текст, стержнем которого является извещение о том, что он «телесне жив, а душевне Бог весть», за исключением тех случаев, когда этикет требовал оповестить царя о чем-либо важном.
Филарет являлся истинным государем, на котором лежало решение всех духовных и светских вопросов. Положение его как великого государя подчеркивалось учреждением особых патриарших стольников, по численности равных стольникам царским. В боярских списках за 20-е годы XVII в. они шли вслед за государевыми стольниками, правда, по знатности в целом уступали им; даже те их них, кто имел княжеский титул, принадлежали обычно к захудалым родам. Патриаршие стольники набирались из жильцов, городовых детей боярских[61]. Поместные оклады их также были ниже, чем у царских. Формально входя в состав государева двора, они несли службу непосредственно при особе Филарета, то есть на патриаршем дворе.
Кроме того, Филарет учредил несколько особых патриарших приказов. Они управляли и патриаршим двором, и делами патриаршей епархии, расположенной в сердце России и равной по размерам европейскому государству. Царской грамотой 1625 г. эта область превращалась, по сути, в «государство в государстве», где полновластным правителем становился патриарх[62]. Еще раньше он принял ряд мер по укреплению положения церкви. Указ 1622 г. закреплял за монастырями вотчины, купленные и данные им после Соборного уложения 1580 г., запрещавшего завещать, продавать и закладывать вотчины монастырям. А через год вышел указ о необходимости нового утверждения всех жалованных грамот духовенству и монастырям, включая даже те, которые уже были подписаны царем до 1619 года[63].
Необычный статус Филарета был новым явлением в русском обществе, и к нему не сразу привыкли. В сентябре 1621 г. И. Ф. Хованский, которому было указано «встречать» турецкого посла на патриаршем дворе, бил челом на Н. В. Годунова, «встречающего» того же посла у государевой Золотой палаты. А П. А. Репнин, посланный «со столом» к послу от имени патриарха, жаловался на Ю. А. Сицкого, ездившего «со столом» от царя. В оправдание себе Репнин заявил, что раньше он «не бил челом, тем их Государей гневить не смел и не розделял их государского имени», а нынче бьет потому, что Сицкий «похваляется тем, сказывает, что он его учинился болши, потому что он ездил от Государя». На это было сказано, что «бьет челом тем он, князь Петр, не знаючи, и в место то он ставит не делом, что он, Государь, и отец его государев, великий государь святейший патриарх, их государское Величество нерозделно: тут мест нету, и впредь бы о том деле не бил челом и их Великих Государей тем на гнев не воздвигнул»[64].
Однако наиболее ярко самовластная натура патриарха проявилась в его отношении к царскому окружению, сложившемуся до 1619 года. При этом опалы последовали не сразу, хотя с самого начала на первые места рядом с государями вышли люди, близкие Филарету еще по польскому плену: боярин М. Б. Шеин, награжденный «за литовский полон» шубой и кубком, боярин И. И. Шуйский, брат царя Василия Шуйского, приближены оказались и дворяне Б. И. Пушкин, Б. М. Глебов, И. Г. Коробьин. Сохранили свое влияние царские родственники бояре И. Б. Черкасский, Ф. И. Шереметев. Большую роль играли окольничий Г. К. Волконский, Ф. Л. Бутурлин, а из дьяков — последовательно возглавлявшие Посольский приказ думные дьяки И. Т. Курбатов-Грамотин, Ф. Ф. Лихачев, Е. Г. Телепнев, а также Т. Ю. Луговской. Примерно с середины 20-х годов XVII в. начинают набирать особую силу «патриаршие бояре»: А. В. Хилков, И. А., а затем и С. В. Колтовские.
Хотя Филарет по безраздельности своей власти мог бы, кажется, не беспокоиться о ее сохранности, он все же следил за тем, чтобы у царя не появлялись любимцы. Новые родственники государя Стрешневы даже после рождения у царицы Евдокии Лукьяновны наследника, царевича Алексея, продолжали оставаться в тени. Однако наиболее важно для патриарха было удалить Салтыковых, близких к «великой старице». Нужны были веские основания. И тогда из забвения извлекли «дело Хлоповой». Еще до возвращения Филарета девица Марья Хлопова была наречена царской невестой, взята «в верх», где жила с матерью и бабкой Анной Желябужской. Ходила с государем и «великой старицей» на богомолье и пользовалась симпатией молодого Михаила.
Хлоповы, как и Желябужские, давно были близки к семье Романовых. Отец невесты был при царе Борисе Годунове приставом Романовых после возвращения их из ссылки. А Федора Желябужского царь послал к отцу в Польшу — ответственное и в то же время как бы «семейное» дело, справившись с которым Федор был в Москве царем пожалован. Одним словом, родня невесты, и так уже близкая к Михаилу, могла теперь «возвеличиться» еще больше. И уже решенная свадьба вызывала раздражение Салтыковых, что и вылилось в ссору Михаила Салтыкова в присутствии царя с дядей невесты Гаврилой Хлоповым, похвалявшимся своей верной службой государю. Салтыковы сумели воспользоваться временным недомоганием Марьи, возможно ими же и подстроенным с помощью отравы, подмешанной в лекарство. Благодаря их «наносу» Хлопова была сослана «с верху» и отправлена с родней в Нижний Новгород, где ее поселили на бывшем дворе Козьмы Минина[65]. Родственная близость и старое влияние Салтыковых оказались тогда сильнее кратковременного фавора предполагаемых родственников.
Поскольку к 1622 г. Михаил Федорович оставался неженатым, вопрос с Хлоповой нужно было как-то решить. Специальная комиссия, направленная в Нижний, после тщательного опроса девицы и ее родственников выявила, что она находится «в совершенном здравии», в связи с чем «корм ей перед прежним» велено было давать вдвое. Бывшая царская невеста заявила, что «чает того, что то (болезнь. — В. В.) ей учинилося от супостатов». А выявленные к тому же обстоятельства ссоры Григория Хлопова с Михайлом Салтыковым явно указывали на то, кто эти «супостаты». В результате обоих братьев обвинили в том, что они царскую невесту «с верху» сослали «не по правде», а «по наносу» и «государской радости учинили… помешку». Салтыковых вместе с семьями и в сопровождении приставов отправили по деревням, а их мать сослали в суздальский Покровский монастырь. Все их поместья и вотчины, как обычно, были отписаны на государя. Б. М. Салтыков оказался на Вологде, «брат его в Михайлове вотчине в селе Ильинском», а М. М. Салтыков — в Галицкой вотчине Кошкишевской волости. С собой им разрешили взять по четыре человека людей с женами и по три девки[66].
Между тем 1 ноября 1623 г. Ивану Хлопову была направлена грамота об отказе царя взять за себя его дочь. Существует мнение, что тут вмешалась оскорбленная этими событиями мать государя. Вероятнее, однако, что «дело Хлоповой» с самого начала создавалось лишь как предлог для удаления бывших царских любимцев. В 1625 г. Б. М. Салтыков отправился воеводой в Самару, а М. М. Салтыков — в Чебоксары, причем первого было «боярином писать не велено», а второго — окольничим[67]. Они выехали туда прямо из деревень и «государевых очей» опять «не видели».
За опалой Салтыковых последовал целый шлейф событий. В том же 1622 г. был сослан в Свияжск, где и умер спустя семь лет, боярин А. В. Лобанов-Ростовский, до этого довольно часто встречавшийся «за государевым столом». В 1625 г. в Вологду последовал боярин В. Т. Долгорукий, после того как ненадолго стал царским тестем. Его дочь царица Марья Володимеровна умерла почти сразу же после свадьбы. В том же году на отдаленное воеводство в Тобольск был удален и некогда отличившийся освободитель Кремля от поляков боярин Д. Т. Трубецкой. Оба они также вскоре умерли. Через год опале подвергся влиятельный в прошлом думный дворянин Г. Г. Пушкин. Вместе с сыновьями его удалили в деревню[68].
Не избежали опалы и новые «выдвиженцы». В 1626 г. за самовольство в делах в ссылку отправился могущественный судья Посольского приказа Иван Грамотин. Сменивший его дьяк Телепнев отбыл туда же в 1630 году. Вскоре опала и ссылка настигли также Лихачева и Луговского. Не случайно наблюдательный современник архиепископ Пахомий заметил, что Филарет был «нравом опалчив и мнителен, а владителен таков был, яко и самому царю боятися его, боляр же и всякого чина царского синклита зело томляше заточенми необратными и инемы наказанми», прибавляя, что «до духовного… чину милостив был и несребролюбив, всякими же царскими делами и ратными владел», а вот «божественного писания отчасти разумел»[69].
Между тем именно в отношении отдельных представителей «духовного чина» сразу по возвращении Филарета из плена возникли немалые сложности. Как было отмечено выше, среди встречавших его летом 1619 г. в селе Хорошеве были митрополит Иона и троицкий архимандрит Дионисий. Заняться судьбой последнего сразу же просил его патриарх Феофан. Прославленный деятель Смуты, Дионисий несколько лет до этого просидел в тюрьме по обвинению в ереси и лишь с приездом Филарета получил свободу. За четыре года до того было решено переиздать Требник (положив в основу издание 1602 г.). Но для того, чтобы выполнить работу на достойном уровне, царь поручил сверить существующие экземпляры Требника, а также сравнить их с греческими рукописями. Этим занялись троицкий монах Арсений Глухой, бывший московский поп Иван Наседка, старец монастыря Антоний. Руководил всем Дионисий.
Справщики работали полтора года и изучили 20 списков. При этом было выявлено много ошибок, особенно в конечных славословиях молитв. В чине же освящения воды на день Богоявления нашли они два лишних слова. Из-за них-то главным образом и разгорелись страсти. После фразы «и ныне, Владыко, освяти воду сию Духом Твоим Святым» шло еще «и огнем», чего не было в ранних списках и греческих оригиналах. Но подоплека богословского спора была, скорее, политической. И это сразу же уловил Филарет. Дело в том, что ранее Требник уже сверял малообразованный, но влиятельный головщик Троицы Логгин. Работа справщиков обнаружила, по существу, его невежество. Логгин, как и некоторые другие старцы, давно ненавидел Дионисия. Они явились в Москву и пожаловались митрополиту Ионе, который после отпадения Новгорода и смерти митрополитов Крутицкого и Казанского считался тогда главой русских иерархов. Справщики не проявили к нему почтения, и разгневанный владыка созвал собор, на котором обвинил Дионисия и его сотрудников в ереси, несмотря на приводимые ими разумные доводы в свою пользу[70].
Заключенный в Новоспасский монастырь, Дионисий был осужден на отлучение, а кроме того, не раз приведен в цепях на двор к Ионе. Приводили его в келью и к «великой старице» Марфе Ивановне, которая также над ним «ругалась». Невежественная толпа смеялась над Дионисием и хотела растерзать его за пренебрежение к «огню святому». Вот тут-то, пожалуй, и заключалась для Филарета главная трудность при всей ясности сути интриги в остальном. Дело в том, что словам «и огнем» после издания 1602 г. стал соответствовать определенный обряд, уже привычный и ставший любимым: зажженные свечи опускали в воду. Слова эти укоренились в сознании и считались исконными, «древними», может, отчасти потому, что соответствовали каким-то живучим еще языческим действам, связанным с огнем. Поэтому споры о злополучном «прилоге» проникли в посад, о нем толковали на улицах.
Филарет понимал, на чем искусно сыграл Иона. Ведь малейший неверный шаг, «перегиб» — и он превратится в пастыря, идущего против своей паствы. Между тем именно это и не входило в намерения патриарха. Ведь он ощущал себя истинным «устроителем» государства, принесшим ему наконец покой и порядок, защитником слабых и сирых. Он хотел быть «отцом» своей пастве, направляющим ее на путь тишины и мира. Кроме того, по складу характера патриарх был консерватором, «охранителем», ревнителем традиций. Возможно, ему в глубине души также трудно было отказаться от «прилога» «и огнем». Решение, принятое в результате, надо полагать, серьезных размышлений, было поистине соломоновым.
Филарет собрал церковный собор, оправдал Дионисия и его справщиков. Но и «прилог» не был сразу выкинут из текста Требника. А сделана была лишь приписка на полях, гласящая, что вопрос-де спорный и передан на решение высших церковных инстанций. А тем временем послали в Константинополь и Иерусалим соответствующий запрос. Споры постепенно утихли, на слова же «и огнем» привыкли смотреть как на что-то временное, находящееся под сомнением. Дионисий вернулся в Троицу, Арсений Глухой стал справщиком Печатного двора, который при Филарете и под его особым покровительством переживал пору расцвета, вернувшись из Кремля на Никольскую улицу. Иван Наседка стал опять священником и вдобавок ключарем кафедрального Успенского собора.
Когда же в 1625 г. вернулись посланцы Филарета с окончательным ответом, история уже не вызывала шума или недовольства. Тем более что выяснилась причина путаницы, происшедшей от неправильного трактования Евангелия от Матфея. Там, где Иоанн Креститель говорит о крещении «духом святым и огнем», имеется в виду будущая жизнь тех, кто не принял на земле учения Христова. Таким образом, под «огнем» подразумевается «геенна огненная». В этом же мире надлежит крестить одним «духом святым». Теперь Филарет мог спокойно велеть замарать в Требнике как сам «прилог», так и соответствующую приписку на полях[71].
Авторитет же Ионы патриарху удалось подорвать еще в 1620 г. и сделать это уже со спокойной душою, так как в этом случае Филарет выступал в роли ревнителя традиций. Ему донесли, что Иона отказался крестить двух поляков, желающих перейти в православие, и ограничился одним миропомазанием. По существу, это соответствовало решениям VI вселенского собора. Но на Москве уже давно считали обязательным заново крестить «латынян». Для Филарета же, не сильного в догматике, но хорошо помнящего свою упорную борьбу за крещение Владислава, поступок Ионы был, разумеется, неприемлем. На соборе он выступил с обвинительной речью против Ионы[72]. И если в 1610 г. послы под Смоленском твердили, что «так делали все прежние государи»[73], то теперь патриарх ссылался не только на исторический опыт, но также на апостольские правила и решения I вселенского собора, утверждая, что «еретическое крещение» не есть крещение, но «осквернение».
Иона вынужден был повиниться (что, однако, не спасло его от смерти в заточении через несколько лет), но Филарету это показалось недостаточным. Спустя две недели на новом соборе он уже ставит вопрос о православных выходцах из Польши. Патриарх сам видел-де, как они там едят и пьют с католиками, живут вместе, совокупляются браком, а некоторые — даже молятся[74]. Теперь не только католикам было отказано в праве считаться христианами, но и православным жителям Речи Посполитой. Филарет как будто распространял свою неприязнь к Сигизмунду и мальборкским тюремщикам на православных подданных короля.
Были разработаны подробные инструкции, как проводить «испытание об истинной вере». В зависимости от случая человека или заново крестили на патриаршем дворе, с обязательным погружением в воду, или заставляли только исповедоваться и поститься[75]. При этом Филарет, вероятно, ощущал себя настоящим миссионером. «Он же великий государь… исправляше слово Божие и укрепи всю православную христианскую веру и многие языцы приведе в православную веру. Яко же убо древле чюдотворец Леонтей Ростовский приводяще заблудящую Чюдь в православную веру тако и он, великий государь святитель, многие поганые веры приведе. Всех убо крестяху, и под началом все были у него на патриарше дворе»[76]. Впрочем, под «погаными» здесь, конечно, понимаются не «литва», а языческое население современной Западной Сибири.
Активная проповедь православия началась после 1620 г., когда Филарет установил в Тобольске новую архиепископскую кафедру, на которую поставил новгородского архимандрита Киприана, прославившегося своими мучениями при шведах. В 1622 г. издается указ, запрещающий некрещеным татарам владеть православными служилыми холопами и селить пашенных холопов в своих дворах[77]. Вскоре пришлось строго пенять Киприану, что он не следит должным образом за поведением самих колонизаторов, среди которых, по сведениям Филарета, воцарились блуд, ересь и «скаредныя дела»[78]. Такие вещи естественны при том отдалении от центра, в котором пребывали сибирские насельники.
И в самой Москве Филарету не давали покоя уровень нравственности и крепость православия. В 1627 г. было издано сразу два указа, запрещающих собираться «на безлепицу» за Старым Ваганьковым кладбищем, а также игрища и колядования под страхом опалы и духовного наказания[79]. Было и другое опасение, касавшееся уже не черни, а людей из «московских чинов», за годы Смуты пошатнувшихся в вере. В 1632 г., незадолго до смерти, патриарх обличил и сослал на Белоозеро бывшего фаворита Расстриги князя Ивана Хворостинина. Патриарший указ гласил, что последний всегда имел тягу к католичеству, держал у себя «западные образа» и книги. Одновременно Хворостинин вообще обвиняется в безверии. «И людям своим к церкви ходити не велел… а говорил, что молиться не для чего и воскресения мертвым не будет» и т. п.
Парадоксально, что Хворостинина обвиняет человек, сам в молодости получивший «наслаждение» от разбора латинской азбуки! Тут же присутствует традиционное обвинение в пьянстве, несоблюдении обрядов и стремлении вообще бежать в Литву. Оригинален лишь укор в том, что мы сейчас назвали бы «антипатриотизмом»: «Да ты ж говорил в разговорех, что будто на Москве людей нет, все люд глупой, жити тебе не с кем… да Московские люди сеют землю рожью, а живут будто все ложью… и тем еси своим бездельным мнением и гордостью всех людей Московского государства и родителей своих, от кого ты родился, обезчестил»[80].
Филарет, впрочем, понимал, что одним наказанием «чистоты нравов» не добьешься. Большое значение он придавал книгопечатанию. За период его правления было выпущено больше печатных изданий, чем за все предшествующее существование Печатного двора. Кроме того, в сентябре 1632 г. из Александрии приехал ученый архиепископ Иосиф, оставленный на службе. Ему было поручено переводить греческие книги и учить детей грамоте и греческому языку[81]. При Филарете были канонизированы два новых святых: Макарий Унженский и Аврамий Галицкий. Настоящим триумфом православия было также обретение патриархом «Срачицы господней» — реликвии, присланной в Москву персидским шахом Аббасом в 1625 г. в знак дружбы.
Однако «опасности» продолжали подстерегать его. Долгое время патриарх не запрещал употреблять церковные книги «литовской печати». Они были даже в его личной библиотеке[82]. Однако в 1626 г. возник спор по поводу вывезенного из Литвы катехизиса Лаврентия Зизания, который в результате так и не был напечатан. А через год было сожжено как еретическое Учительное евангелие Кирила Транквиллиона Ставровецкого, привезенное из Киева[83]. Начался общий запрет книг немосковской печати. Подозрение вызывали также русские пленники, возвращавшиеся из Польши и Швеции, и вообще всякие выходцы из-за «рубежа». Указ 1624 г. предписывал ряд строгих мер по проверке всех перебежчиков с польской стороны на предмет «изменнова дела»[84].
Однако не все западные соседи были одинаково ненавистны патриарху. Филарета раздражало Деулинское перемирие, хотя благодаря ему мальборкские узники получили свободу. Из двух давних врагов России — Речи Посполитой и Швеции — первый был, бесспорно, основным для «великого государя». И это с необходимостью влекло его к союзу со вторым. Уже Столбовский мирный договор со шведским королем Густавом-Адольфом, хотя он и лишал Россию побережья Финского залива, заключал в себе основу для русско-шведского союза против Сигизмунда. Этот последний, будучи, как и Густав-Адольф, представителем шведской королевской династии, не только продолжал использовать по отношению к своему сыну титул «Царь Московский», но и лелеял мечту о шведском престоле. Со своей стороны шведский король претендовал на польский трон в случае смерти Сигизмунда. Все это втягивало Россию более активно, чем раньше, в европейские дела.
Шла Тридцатилетняя война, ключевая роль в которой в 30-е годы XVII в. перешла к Швеции и Густаву-Адольфу. Вряд ли Филарет принимал близко к сердцу все тонкости борьбы европейских политиков. У московской дипломатии традиционно были свои интересы. В соответствии с ними теперь все друзья Речи Посполитой, и в первую очередь ее главная опора — германский император, были врагами, а ее враги, скорее, рассматривались как друзья. Уже в 1620–1621 гг. начались переговоры о союзе Русского государства, Швеции и Турции против католического габсбургского лагеря. Земский собор 1621 г. провозгласил Сигизмунда нарушителем Деулинского перемирия, что давало повод начать против него военные действия. Тогда же в Европу было направлено посольство для выяснения позиции по этому вопросу других заинтересованных сторон, в частности Франции. Однако гибель турецкого султана нарушила планы Филарета. Густав-Адольф заключил перемирие с Сигизмундом. Война, казавшаяся тогда уже близкой, не вспыхнула. И только отношения с Польшей были полностью прерваны более чем на десять лет.
Между тем не все московские «сильные люди» симпатизировали внешнеполитическим планам патриарха. Была и оппозиция, которую вплоть до своей опалы и ссылки, по-видимому, возглавлял думный дьяк Посольского приказа Иван Грамотен. Неудача с идеей коалиции в начале 1620-х годов, казалось бы, пошатнула дипломатические построения Филарета и воодушевила его противников. Однако патриарх не имел обыкновения ни смиряться с неудачами, ни терпеть долго «самовольства» в делах. Удалив Грамотина, организатора Деулинского перемирия, он опять вернулся к своей идее борьбы с Сигизмундом.
В июне 1630 г. Густав-Адольф вступил в войну против империи. Большую помощь в ней оказала ему перепродажа русского хлеба, именно тогда хлынувшего в Европу. Фактически это была русская денежная субсидия королю[85]. Сближение с ним Филарета становилось все более тесным. Вскоре «великие государи» получили официальное обещание Густава-Адольфа выступить в союзе с Россией против Польши. Спор теперь шел уже только из-за конкретных сроков, так как Филарет хотел дождаться вступления в войну Турции. Антипольская коалиция вновь стала реальностью.
В марте 1632 г., за несколько месяцев до начала войны, произошло событие из ряда вон выходящее. Филарет направил личное послание шведскому королю о дружбе и союзе. Оценивая этот необычный шаг, в Москве писали: «А до сей грамоты от великого государя святейшего патриарха Филарета Никитича Московского и всея Руси к свейскому королю николи ни о каких делах ни с кем не писывано»[86]. Любопытно также, что в это же время стала складываться концепция общих идейных интересов православия и протестантизма в борьбе против католичества. По некоторым сообщениям, Филарет поручил тогда переводить на русский язык кальвинистский «служебник», что и было выполнено. До настоящего времени в Хельсинки хранится русский перевод голландского катехизиса, относящийся ко времени правления Филарета[87].
Между тем в Москве создавались полки «нового строя» — рейтарские, драгунские. Их возглавили прибывшие на русскую службу иностранные офицеры, в основном шведы и шотландцы. Густав-Адольф присылал к Филарету своих доверенных лиц. Обсуждались важные вопросы, касающиеся будущей войны. Тогда Россия впервые участвовала и в планах раздела Речи Посполитой. Предполагалось, что после ее разгрома к Москве отойдут украинские и белорусские земли. Но само Русское государство очень медленно оправлялось от «всеобщего разорения» в результате Смуты. Иначе и быть не могло, и все внутренние меры правительства имели лишь частичный успех. Новая война потребовала новых жертв. Уже после ее начала был объявлен экстренный сбор «пятой деньги» — суровая мера, предпринятая ввиду особого положения в стране. Филарет был готов идти на все, чтобы только вступить в борьбу с Сигизмундом III.
Но весной 1632 г. король умер. В Польше на какое-то время установилось бескоролевье. А что такое междуцарствие и как можно выгодно использовать его — это Филарет знал по русскому опыту. Правда, казна была не слишком полной, а поместное войско, несмотря на полки «нового строя», — не таким уж сильным. Не было у царя и патриарха и военачальников, каким был когда-то Жолкевский у Сигизмунда. В сущности, никакие явные или же мнимые сложности в Польше, на которые, надо думать, уповал Филарет, также не были равнозначны Смуте. Но смерть Сигизмунда была удобным моментом для нападения. И Филарет поставил все на эту карту.
Смоленская война 1632–1634 гг. оказалась одним из самых драматичных эпизодов в старинном конфликте между Россией и Польшей из-за Смоленска. Русские войска, нарушив Деулинское перемирие, стали захватывать пограничные территории Речи Посполитой. В Москву полетели радостные сообщения. Поход на Смоленск и его захват должны были стать реваншем за Смуту. Даже сам круг действующих лиц, казалось, говорил об этом, ибо командовал осадой тот самый Шеин, который 20 лет тому назад сам сидел в этой крепости со своим гарнизоном. Как отмечал Пахомий, патриарх начал войну, «хотя свою обиду отомстите Литовскому королю Владиславу». Однако получилось так, что отомстил не он, а Владислав, действительно вскоре ставший польским королем. Судьба, так долго бывшая благосклонной к Филарету, не раз возносившая его из бездны падения на вершину могущества, под конец жизни обернулась к нему суровым ликом.
В ноябре 1632 г. в сражении погиб главный союзник патриарха — Густав-Адольф. На практике это означало начало распада коалиции. Но Филарет осознал это не сразу. Надежда на общность интересов была большая, тем более что шведская грамота о смерти короля гласила, что он погиб «в бою с католиками [от папе-жан] за христианскую евангелическую и за старую греческую веру»[88]. Летом в Стокгольм было направлено «великое посольство» с целью побудить Швецию выступить сейчас же против Владислава. Но желаемый результат так и не был достигнут.
В последние месяцы жизни еще недавно всесильный патриарх теряет «бразды правления». Он уже не заправляет самолично внешними делами и даже вынужден придумывать специальную тайнопись, азбуку «затейного письма», в отчаянной попытке снестись со своими сторонниками в Швеции. Да и ту его принуждают отдать в Посольский приказ. А Владислав тем временем уже под Смоленском осаждает армию Шеина, для которого этот город стал поистине роковым. Другие воеводы не поспешили на помощь к любимцу патриарха. Да и помощь эту не так легко было собрать. И Филарет не выдержал такого удара судьбы. 1 октября 1633 г. патриарх умер, так и не узнав об окончательном поражении и капитуляции армии Шеина.
Как сообщает Фоккеродт, «царь Михаил от всего сердца наскучил тем игом, под которым находился, и не очень-то горевал, когда закрыл глаза старый патриарх, с досады и огорчения на плохой успех затеянного им предприятия на Смоленск»[89]. И действительно, уже 4 октября Михаилу Салтыкову был послан указ об освобождении из опалы. Вернулись и его брат, и все опальные дьяки, дорвались наконец до власти Стрешневы. Взошел на плаху Шеин, обвиненный в измене. Новый патриарх Иоасаф, выбранный, впрочем, еще самим Филаретом, не желавшим сильного преемника, отличался слабым характером. Распался штат патриарших стольников. И старым временщикам, вновь воцарившимся «на верху», вероятно, казалось, что навсегда исчез сам дух сурового и властного правителя, ревнителя традиций, «столпа православия», гонителя всего западного, стоявшего у истоков царской династии Романовых.
Примечания
1
1. Селифонтов Н. Сборник материалов по истории предков Михаила Федоровича Романова. Т. 2. СПб., 1898, с. 63, 78–80. Ранний биограф Филарета А. Смирнов полагал, опираясь на дату вступления отца Федора Никитича во второй брак с Евдокией Горбатой и год получения им самим боярского чина, что будущий патриарх родился между 1554 и 1560 гг. (см. Смирнов А. Святейший патриарх Филарет Никитич Московский и всея России. — Чтения в Обществе любителей духовного просвещения, 1873, № 1, с. 114).
(обратно)2
2. Песни, собранные П. В. Рыбниковым. Ч. 1. М. 1861, с. 66–67.
(обратно)3
3. Синбирский сборник. Т. 1. М. 1844, с. 93, 103, 104, 121.
(обратно)4
4. Исаак Масса. Краткое известие о Московии. М. 1937, с. 42.
(обратно)5
5. Акты исторические (АИ). Т. 2. СПб., 1841, с. 65.
(обратно)6
6. Исаак Масса. Ук. соч., с. 42.
(обратно)7
7. Разрядные книги. 1598–1638 гг. М. 1974, с. 66–67.
(обратно)8
8. Подробнее см.: Васенко П. Г. Бояре Романовы и воцарение Михаила Федоровича. СПб. 1913, с. 52–53.
(обратно)9
9. Приведем здесь не совсем ясное высказывание Горсея о том, что Федор Никитич «был принужден» жениться на Шестовой, которую англичанин называет «служанкой» его «сестры, жены князя Бориса Черкасского» (см. Джером Горсей. Записки о России. XVI — начало XVII в. М. 1990, с. 107).
(обратно)10
10. Там же.
(обратно)11
11. Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. 14. СПб. 1910, с. 53.
(обратно)12
12. Сказание Авраамия Палицына. М.—Л. 1955, с. 104.
(обратно)13
13. Исаак Масса. Ук. соч., с. 43.
(обратно)14
14. Наиболее ярко эта поздняя легенда отражена у Буссова (см. Буссов К. Московская хроника. 1584–1613. М.—Л. 1961).
(обратно)15
15. Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв. СПб., 1899, с. 228–233. Известно также найденное в Коломенском дворце странное изображение Филарета в царских бармах и с надписью: «Царь Федор Никитич».
(обратно)16
16. Там же, с. 246–248.
(обратно)17
17. См. также: Скрынников Р. Г. Борис Годунов. М. 1978, с. 156–162.
(обратно)18
18. ПСРЛ. Т. 14, с. 53.
(обратно)19
19. АИ. Т. 3. СПб. 1841, с. 224–225.
(обратно)20
20. Чтения в Обществе любителей духовного просвещения, 1873, № 1, с. 142.
(обратно)21
21. АИ. Т. 2, с. 51, 57,65.
(обратно)22
22. Там же, с. 64–65.
(обратно)23
23. Там же, с. 51, 65.
(обратно)24
24. ПСРЛ. Т. 14, с. 53.
(обратно)25
25. АИ. Т. 2, с. 51.
(обратно)26
26. ПСРЛ. Т. 14, с. 54.
(обратно)27
27. АИ. Т. 2, с. 34–35.
(обратно)28
28. Там же, с. 35, 41. В начале XVII в. на уровне обыденного сознания еще не утвердилась мысль о том, что «Царство» дается лишь от Бога и, следовательно, его «заслужить» нельзя ничем. Эта идея стала широко распространяться только в проромановских сочинениях после 1613 года.
(обратно)29
29. Там же, с. 42.
(обратно)30
30. Там же, с. 45.
(обратно)31
31. Чтения в обществе любителей духовного просвещения, 1873, № 3, с. 333.
(обратно)32
32. Подробнее см.: Платонов С. Ф. Ук. соч., с. 293.
(обратно)33
33. Рукопись Филарета. М. 1837.
(обратно)34
34. Платонов С. Ф. Ук. соч., с. 308.
(обратно)35
35. ПСРЛ. Т. 14, с. 84.
(обратно)36
36. Там же, с. 83.
(обратно)37
37. АИ. Т. 2, с. 136.
(обратно)38
38. ПСРЛ. Т. 14, с. 96.
(обратно)39
39. CZERSKA D. Dziatalnosc Fiodora (Filareta) Romanowa w okresie «Smuty». — Studia historyczne. Krakow, 1980, № 4, s. 550–551.
(обратно)40
40. ПСРЛ. T. 14, c. 103.
(обратно)41
41. См. Цветаев Д. Царь Василий Шуйский с братьями на Варшавском сейме. Варшава, 1905.
(обратно)42
42. DAROWSKI A. Malborski jeniec. In: DAROWSKI A. Szkice Historyczne. Seria trzecia. Petersburg, 1897; Акты Московского государства (АМГ). Т. 2. СПб. 1890, с. 99; АИ. Т.2, с. 405–406.
(обратно)43
43. Записки о России XVII и XVIII века по донесениям голландских резидентов. — Вестник Европы, 1868, август, с. 803–804.
(обратно)44
44. Акты Археографической экспедиции (ААЭ). Т. 3. СПб. 1836, с. 120–121.
(обратно)45
45. Записки капитана Филипа Иоганна Страленберга об истории и географии Российской империи Петра Великого. Т. 1. М.—Л. 1985, с. 66–67.
(обратно)46
46. АМГ. Т. 1, с. 124–125.
(обратно)47
47. Собрание государственных грамот и договоров (СГГД). Т. 3. М., 1822, с. 38–121.
(обратно)48
48. Муханов П. Подлинные свидетельства о русско-польских взаимоотношениях. М. 1834 с II.
(обратно)49
49. Там же, с. 185.
(обратно)50
50. Дополнения к актам историческим (ДАИ). Т. 2. СПб. 1846, с. 199–200.
(обратно)51
51. Буслаев Ф. И. Очерки русской народной словесности. Т. 1. СПб., 1861, с. 518–519.
(обратно)52
52. Записки о России XVII и XVIII века по донесениям голландских резидентов, с. 803–804.
(обратно)53
53. Там же, с. 811–812.
(обратно)54
54. Сташевский Е. Очерки по истории царствования Михаила Федоровича. Киев. 1913, с. 374.
(обратно)55
55. Законодательные акты Русского государства второй половины XVI — первой половины XVII века. Л. 1986, с. 94.
(обратно)56
56. Там же, с. 95.
(обратно)57
57. ПСРЛ. Т. 14, с. 149.
(обратно)58
58. О сыскных приказах см.: Гурлянд И. Я. Приказ Сыскных дел. В кн.: Сб. статей по истории права, поев. Владимирскому-Буданову. Киев. 1904; Сташевский Е. Ук. соч., с. 301–373; Смирнов П. П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. Т. 1. М. 1947.
(обратно)59
59. Письма русских государей и других особ царского семейства. Т. 1. М., 1848, с. 10, 23, 35 и др.
(обратно)60
60. Там же, с. 54–55, 57, 59.
(обратно)61
61. Люткина Е. Ю. Стольники патриарха Филарета в составе двора Михаила Романова (1619–1633). В кн.: Социальная структура и классовая борьба в России XVI–XVIII вв. М. 1988.
(обратно)62
62. ААЭ. Т. 3. СПб. 1836, с. 231–233.
(обратно)63
63. Законодательные акты, с. 114–116.
(обратно)64
64. Дворцовые разряды. Т. 1. СПб. 1850, стб. 490–491.
(обратно)65
65. СГГД. Т. 3, с. 261–262, 264.
(обратно)66
66. Там же, с. 264, 266–267.
(обратно)67
67. Дворцовые разряды. Т. 1, с. 846.
(обратно)68
68. См. Корецкий В. И. История русского летописания второй половины XVI — начала XVII в. М. 1986, с. 260–262.
(обратно)69
69. Попов А. Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции. М. 1869, с. 316.
(обратно)70
70. ААЭ. Т. 3, с. 482–483. Подробно об этом см: Казанский П. Исправление церковно-богословских книг при патриархе Филарете. — Чтения в обществе истории и древностей Российских (ЧОИДР), 1848, кн. 8; Исправление богослужебных книг при патриархе Филарете. — Православный собеседник, 1862, ч. 2, июль, с. 361–405; август, с. 34–124.
(обратно)71
71. ААЭ. Т. 3, с. 240–242.
(обратно)72
72. Макарий. История русской церкви. Т. И. СПб. 1903, с. 23–29.
(обратно)73
73. СГГД. Т. 2, с. 421.
(обратно)74
74. Макарий. Ук. соч., с. 30–31.
(обратно)75
75. Там же, с. 33.
(обратно)76
76. ПСРЛ. Т. 14, с. 149–150. В придворном Новом летописце он сравнивается именно с Леонтием Ростовским, о деяниях которого, очевидно, особенно много слышал, будучи в Ростове.
(обратно)77
77. Законодательные акты, с. 113.
(обратно)78
78. СГГД. Т. 3, с. 245–253.
(обратно)79
79. Законодательные акты, с. 129, 137.
(обратно)80
80. СГГД. Т. 3, с. 331–332; см. также: ААЭ. Т. 3, с. 215–216, 259–260, 284–285, 485.
(обратно)81
81. Макарий. Ук. соч., с. 50–59.
(обратно)82
82. Иванов П. Описание Государственного архива старых дел. М. 1850.
(обратно)83
83. Макарий. Ук. соч., с. 71–73.
(обратно)84
84. ААЭ. Т. 3, с. 146–149, 154–155, 221, 261–262; Законодательные акты, с. 120–121.
(обратно)85
85. См.: Поршнев Б. Ф. Тридцатилетняя война и вступление в нее Швеции и Московского государства. М. 1976, с. 207–229.
(обратно)86
86. Там же, с. 297.
(обратно)87
87. Там же. с. 422–423.
(обратно)88
88. Там же, с. 182.
(обратно)89
89. Фоккеродт И. Г. Россия при Петре Великом. — ЧОИДР, 1874, кн. 2, с. 8.
(обратно)

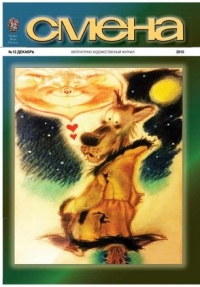

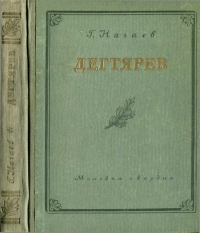
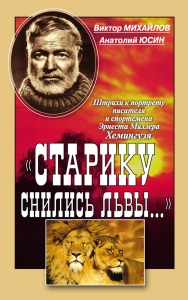
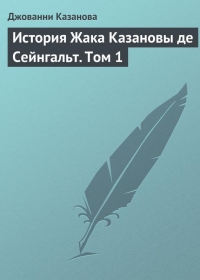
Комментарии к книге «Патриарх Филарет(Федор Никитич Романов)», Варвара Гелиевна Вовина
Всего 0 комментариев