Вступительное слово
Августовский путч и его провод — безусловно, кульминационный пункт, рубеж в бурном потоке событий последних лет. Реакционные силы потерпели полное поражение, демократия защищена. Тем самым от страны была отведена непосредственная угроза возврата к тоталитаризму, развязывания экономической катастрофы и гражданской войны. Но на победной волне сопротивления радикальной демократии путчистам начался своего рода контрпереворот, породивший свои проблемы и свои разрушительные процессы. Сначала были обескровлены, а затем и вообще устранены союзные структуры. Разгромлена и без того ослабевшая и дезориентированная партия, не выступившая против путча (а некоторые ее руководители приняли в нем активное участие). Произошел развал единого союзного государства. Страна вступила в наиболее тяжелую фазу экономического кризиса…
…Восемь лет прошло с того времени, когда Горбачев провозгласил новый политический курс. В масштабах истории срок этот не столь уж велик. Но в периоды крутых преобразований цена времени меняется, и за короткие сроки могут происходить перемены исторического масштаба. Великая французская революция в течение нескольких лет коренным образом изменила облик не только своей страны, а по сути дела всей Европы. Шесть-семь лет первой мировой войны, революции и гражданской войны перевернули судьбы людей и народов нашей страны. Такой же или даже меньший, отрезок времени понадобился в конце 20-х — первой половине 30-х годов для термидорианского перерождения политического режима в СССР. Совершенно иным мир вышел из пламени второй мировой войны, полыхавшей шесть лет. Но все это уже более или менее далеко отодвинутая от нас история.
Что же можно сказать об истекшем периоде? Чем был он для страны?
Историческая масштабность происходящих в стране перемен очевидна, они полны противоречий и драматизма.
Люди почувствовали себя свободными от удушающего деспотизма, командной дисциплины, окрика. Но в то же время оказались в обстановке нарастающего хаоса и анархии, вседозволенности, отсутствия личной безопасности.
Общество сделало выбор в направлении экономической свободы. Демонтирована административно-командная система управления экономикой, ее всеобщего огосударствления. Открываются просторы для личной инициативы и предпринимательства. И в то оке время страна зажата тисками тяжелейшего экономического кризиса. Расстроена система жизнеобеспечения людей, не хватает самого необходимого, в бедственное положение попали десятки миллионов людей.
Ликвидирована монополия одной партии на власть в пользу политического плюрализма, свободного соревнования идей, политических программ. И в то оке время обострено до предела противостояние политических сил. Политическая борьба принимает недопустимые формы, парализующие деятельность государственных институтов, процветает политическая демагогия.
Устранены наиболее одиозные проявления унитаризма, отравлявшие межнациональные отношения, открыты возможности для национального самоопределения, удовлетворения национальных интересов и чаяний. И в то оке время произошел всплеск сепаратистских, изоляционистских настроений, шовинизма и национализма. То тут, то там вспыхивают очаги межнациональной розни, эскалации насилия.
Во всем этом, конечно, История разберется и расставит все точки над «i». Это — самый справедливый и высший судья для любых политических движений, теоретических концепций, социальных проектов. Будущие ученые-историки, наши потомки будут иметь перед нами по крайней мере одно несомненное преимущество — они получат возможность анализировать и оценивать перестройку с точки зрения ее конечного результата.
Но просто ждать приговора Истории было бы опрометчиво. Тем более, что История в каждый данный момент и в каждом конкретном случае небеспристрастна, смотрит на события сквозь призму своего времени, его забот. С этой точки зрения крайне важно иметь полный спектр наблюдений, фактических свидетельств, оценок со стороны живых участников событий.
А главное, конечно, — злоба дня, осмысление происшедшего для решения сегодняшних проблем. Как можно жить и работать, не имея ответов на самые жгучие вопросы?
Вот они:
— Почему Горбачев и его «команда», будучи у руля партии и государства, не смогли в истекшие годы решить ими оке самими выдвинутые задачи?
— Почему развалился Союз?
— Почему экономика оказалась в состоянии тяжелейшего кризиса?
— Тот ли путь избран? Или, может быть, как считают одни, перестройка с самого начала была ошибкой и делом обреченным?
— Или, как утверждают другие, на начальном этапе Горбачев действовал правильно, а потом отклонился от этого курса?
Ответы на эти вопросы, конечно, не могут быть получены в один присест. Потребуются скрупулезнейшие исследования, глубокие размышления, обстоятельные дискуссии. Мне не хотелось бы остаться в стороне от них. Да я и не имею на это права. Ведь все основные события последних лет происходили перед моими глазами и в немалой степени с моим участием. Все эти годы я был рядом с Горбачевым, с ним меня связывали тесные и доверительные отношения. Это, конечно, ко многому обязывает, и я понимаю всю меру своей ответственности.
В предлагаемой книге читатель найдет свидетельства, наблюдения, размышления очевидца и участника событий последних лет. Они, как я надеюсь, помогут не только воспроизвести их хронологическую последовательность и логику, но и понять мотивы решений и практических действий, предпринимавшихся в то время, и, конечно же, размышления о них с сегодняшних позиций.
Естественно, восприятие и интерпретация событий, равно как их «набор» и степень освещения, в книге носят субъективный характер, отражают социальный опыт автора, его позиции, симпатии и антипатии. Иначе и быть не может. О том, насколько они оправданы, какую имеют объективную ценность, читатель, я уверен, вынесет собственное суждение, прочитав книгу.
* * *
Эта книга написана по горячим следам событий и уже летом 1992 года была готова к печати. Затем для автора начались «хождения по издательским мукам», не оставившие сомнения в том, что изменение обстановки в стране шло отнюдь не под знаком утверждения гласности и свободы слова. Наконец, нашлись те, кто не убоялся выпустить по нынешним временам почти диссидентское произведение.
Главное же в том, что за полтора-два года страна была ввергнута в пучину тяжелейших невзгод и испытаний, изнурительной борьбы, приведшей к кровавым событиям октября 1993 года на сей раз в самом сердце России — в Москве. Передо мной не раз вставал вопрос о доработке рукописи, ее актуализации в свете последующих событий. Но я решил не делать этого, оставив книгу такой, какой она была написана. И без дополнительных рассуждений она содержит достаточно материала для понимания того, что происходит в нашей многострадальной стране.
Глава 1 Озарение или насущная потребность
Корни идеи. — Андропов — предтеча перестройки? — Эмбриональный период. — Горбачев приходит к рулю. — Идеи воплощаются в политику.
Корни идеи
Зачем затеяли всю эту передрягу? Жили не очень-то хорошо, но и не очень плохо, не богато, но и небедственно; политически и в смысле отношений между нациями и народами небезоблачно, но и без серьезных конфликтов. Так вот на тебе — все разворошили, разворотили, посеяли анархию и смуту, привели экономику к полному расстройству, а страну — к фактическому развалу.
Такие настроения после шести-семи лет мучительных поисков, бурного и противоречивого развития событий, встряхнувших страну и выведших ее из привычного состояния, резкого нарастания экономических неурядиц, обострения социальных и межнациональных конфликтов довольно широко распространились в массовом бытовом сознании. Но есть попытки и возвести их в своего рода теорию, призванную оправдать антиперестроечные, консервативные настроения, которые, собственно, и привели к августовскому путчу. В этом смысле важно и даже необходимо еще и еще раз возвращаться к истокам перестроечных идей, причинам, вызвавшим их появление.
Невиданно быстрый и активный положительный отклик на эти идеи в народе говорит об их назревшем характере, о том, что они выразили глубинные пласты настроений людей, спонтанное мнение народа — так дальше жить нельзя.
За всем этим стоит несомненный факт: страна в 70-е годы вползала в полосу торможения и упадка — как результат общего кризиса всей сложившейся ранее общественно-политической и социально-экономической системы. Сейчас это совершенно ясно для каждого.
Но и тогда нарастало сознание неблагополучия. Восьмая пятилетка (1966–1971 гг.) была, пожалуй, последним успешным периодом социально-экономического развития страны. Темпы экономического развития под влиянием хозяйственной реформы 60-х годов, более или менее благоприятных внешнеэкономических факторов оказались даже несколько выше, чем в предшествующие годы. Осуществлены и многие важные социальные меры, в частности, развернуто жилищное строительство.
В дальнейшем экономическое развитие стало быстро и неуклонно ухудшаться. Два последующих пятилетних плана, включая их социальные программы, оказались сорванными. До поры до времени экономическая конъюнктура поддерживалась высокими мировыми ценами на топливно-энергетические и сырьевые ресурсы. Страна в значительной степени жила за счет растранжиривания своих природных богатств. В отличие от стран Запада она не только не пострадала от энергетического кризиса и революции цен на энергоресурсы, а напротив, выиграла от них. Но в 80-е годы и этот фактор исчерпал себя. Наступил период стагнации, который шаг за шагом подвел к черте, за которой началось абсолютное снижение производства. Лишь один сектор экономики постоянно пребывал в цветущем состоянии — это военно-промышленный комплекс. Страна изнывала под гнетом непосильного бремени военных расходов.
На словах громогласно провозглашалось «все во имя человека, все для блага человека», а на деле острота социальных проблем нарастала.
Это относится прежде всего к продовольственному вопросу. Каждый год вели «битву за урожай», но положение на продовольственном рынке независимо от размера урожая не улучшалось.
Десятилетиями люди обречены были на пустые прилавки и длинные очереди. В убогом состоянии пребывало производство потребительских товаров, сферы услуг, досуга, отдыха.
Все это находилось в резком контрасте с экономическим процветанием западных стран. Сопоставление с Западом уже нельзя было скрыть за «железным занавесом». Люди все чаще задавали себе вопрос, почему же страна с самым передовым общественным строем, как это постоянно подчеркивалось, провозглашающая к тому же приоритет человека, не может в течение долгих лет решить даже элементарные вопросы жизни людей, не говоря уж о выходе на новый, современный, качественно иной уровень благосостояния?
Более того, советское общество стало быстро терять позиции и в тех сферах, в которых оно на прежних этапах продемонстрировало свои огромные возможности. Речь идет о сфере образования, науки, социального обслуживания населения. Оказалось, что и здесь мы начинаем безнадежно отставать. Перестала срабатывать и прежняя система аргументации, что, дескать, нам пришлось на предшествующих этапах преодолевать исторически сложившееся отставание. Ведь в ряде новых областей науки и техники (вычислительная техника, ядерная энергетика, космическая техника) мы вначале не так уж сильно отставали, а во многих отношениях были даже впереди.
Еще одна чрезвычайно чувствительная область, в которой проявился общий кризис системы, — это права и свободы человека, особенно на фоне большого их продвижения вперед в западных странах. Все более очевидным стало расхождение между нашими внутренними порядками и общепризнанными нормами международного права. Нельзя сказать, что было широкое недовольство и тем более возмущение преследованием инакомыслящих и диссидентов, ограничением свободы печати, других гражданских прав. Но подспудно и в этой сфере росли непонимание, недовольство существующими порядками.
Гнетущее чувство вызывали облик престарелых, немощных руководителей, обстановка славословия и словоблудия, щедрые раздачи орденов и самонаграждения. Сложилось правление геронтократии, цепко державшейся за свои кресла. Ее олицетворяли прежде всего Брежнев, Тихонов, Кириленко, Гришин — личности посредственные, ничем не выдающиеся, кроме умения лавировать, поддерживать себе подобных и получать у них поддержку. Что касается Суслова, Устинова, Громыко, Андропова, то и их «стабильность руководства» устраивала, поскольку гарантировала невмешательство в подчиненные им «вотчины». Сформировался слой всесильных республиканских и областных руководителей, своего рода партийных губернаторов, черпающих силу на местах из близости и верноподданического служения Генсеку: Кунаев, Алиев, Рашидов, Щербицкий, Шакиров, Медунов, Горячев, Георгиев, Юнак, Гудков, Бондаренко, Куличенко, Бородины — астраханский и кустанайский, Лощенков и многие другие.
Так или иначе в общество проникали сведения и о моральном разложении некоторых из этих лиц, нарушениях законности, безнаказанности. Многие честные люди, не изверившиеся в системе, склонны были объяснять подобные факты недостатками кадровой работы, но постепенно все более и более вызревало понимание, что дело тут не только в этом, а в сложившейся системе власти и управления.
Практически руководители были полностью ограждены от контроля снизу — не только со стороны народа, но и партийных организаций. Хотя формально они избирались на конференциях и пленумах партийных комитетов, эта процедура была настолько выхолощена, что практически гарантировала избрание при одном лишь условии — было бы одобрение сверху. Лишь в самых исключительных и крайних случаях система давала какие-то осечки.
В течение десятилетий в стране складывалась психология почитания вождей. Она так и не была искоренена в результате критики культа личности Сталина. Да, пожалуй, подобная цель и не преследовалась. Речь шла по большей части об оценке личных качеств этого вождя.
Но если Н.С.Хрущев пользовался как неординарная личность и уважением, и популярностью, то этого никак нельзя сказать о Брежневе. К концу же своей жизни и деятельности, перейдя за разумные возрастные пределы, он стал объектом иронии и даже насмешек — а это самое страшное для человека вообще, не говоря уж о политическом деятеле.
Маразм руководства достиг своего апогея при Черненко, который не обладал элементарными качествами политического деятеля, и к тому же стал Генсеком будучи безнадежно больным.
С помощью жесткой дисциплины, искусственных пропагандистских приемов, которые, впрочем, не воспринимались в народе и давали лишь внешний пропагандистский эффект, государственный корабль кое-как поддерживался на плаву, но динамизм и скорость утратил. Страна шла навстречу большой беде.
Конечно, сознание глубины кризиса пришло не сразу. Лишь в ходе перестройки стало ясно, что политическая и социально-экономическая система, мобилизационная модель общества, которая была заложена еще в предвоенные годы и в основе своей сохранялась до последнего времени, позволяла, хотя и не без издержек, решать экстраординарные задачи индустриализации, обороны страны, оказалась совершенно непригодной для вхождения в постиндустриальную эпоху.
В отличие от западного капитализма, который сумел трансформироваться и адаптироваться к новым условиям и открыл тем самым простор для перехода к новой цивилизации, советская административно-командная система, называвшая себя социалистической, искусственно консервировалась. Отдельные попытки ее реформирования оказались робкими, непоследовательными и не доводились до конца.
Долго такое состояние сохраняться не могло. Усредненному благополучию неизбежно пришел бы конец. Рано или поздно, максимум через пять лет, это привело бы к взрыву колоссальной силы.
Избежать такого спонтанного и такого грозного исхода событий можно было лишь проявив инициативу сверху, начав трудный и болезненный процесс перестройки всех основных сфер общественной жизни.
Андропов — предтеча перестройки?
Подспудные надежды на обновление, копившиеся в глубине общественного сознания, отчетливо проявились, когда к руководству партией, а следовательно, и к власти в стране пришел Юрий Владимирович Андропов.
Даже простые меры по наведению порядка в стране, борьбе с коррупцией, подтягиванию расшатанной дисциплины — подчас даже меры не очень демократичные, вроде облав на улицах — встретили широкое одобрение не только в рабочих коллективах, но и среди некоторой части интеллигенции.
Сыграли свою роль и кадровые перемены: удаление с государственных постов министра внутренних дел Щелокова Н. А., а из партийного аппарата — управляющего делами ЦК КПСС Павлова Г. С., первого заместителя Отдела организационно-партийной работы Петровичева Н. А., заведующего Отделом науки и учебных заведений Трапезникова С. П., входивших при Брежневе вместе с заведующим Общим отделом К. М. Боголюбовым в так называемый «узкий рабочий кабинет», который предопределял многие важнейшие решения. С приходом Андропова их всесилию был положен конец. Петровичев был направлен в Комитет по профтехобразованию, Трапезников и Павлов — на пенсию. Послом в Румынию направлен заведующий Отделом пропаганды Тяжельников. Е. М.
Особо нужно сказать о Павлове. Самое беглое ознакомление с деятельностью Павлова как Управляющего делами, проведенное по поручению Андропова, показало, что он, пользуясь своей близостью к Брежневу, вытворял что хотел. Обоснованное возмущение вызывали излишества в сооружении новой гостиницы и нового зала для заседаний Пленумов ЦК (Андропов даже избегал по этой причине проведения заседаний Пленумов в этом помещении), шикарных санаториев и других объектов.
Мне как члену Центральной ревизионной комиссии привелось принять участие в изучении деятельности издательства «Правда» того периода. Выявился полный произвол со стороны Управления делами в использовании материальных и денежных ресурсов, не считающегося с существующими законами.
Что касается Трапезникова, то о нем сказано в мемуарном и публицистическом жанре более чем достаточно. Это желчный, больной человек, абсолютно оторванный от реальной жизни, жил в мире идей и представлений, сформировавшихся еще в 30-е годы. Он явно считал себя чуть ли не главным истолкователем истории и идеологии партии и пытался навязать свои представления общественным наукам, не гнушаясь методами разноса и разгрома неугодных людей.
Со мной он держал себя внешне лояльно, но мне было хорошо известно о предубежденности по поводу моей творческой деятельности и практических шагов. Вопреки его сопротивлению мне удалось добиться утверждения заведующим кафедрой политэкономии Академии общественных наук Л. И. Абалкина, который до этого находился в опале, опять же по вине Трапезникова. Но Трапезников решительно воспротивился привлечению в академию из Новосибирска А. Г. Аганбегяна.
В руководстве партии заметно возросла роль Горбачева. Здесь появились новые люди, секретарем ЦК по экономике стал Н. И. Рыжков, заведующим Отделом организационно-партийной работы — Е. К. Лигачев. Управляющим делами ЦК КПСС назначен Н. Е. Кручина. К. М. Боголюбов остался во главе Общего отдела ЦК, но под него был «подставлен» в качестве первого зама А. И. Лукьянов. Передвижки коснулись и меня.
В начале августа 1983 г. секретарь ЦК КПСС М. В. Зимянин позвонил мне в Гагру, где я проводил отпуск, и попросил срочно выехать в Москву.
Через несколько дней меня пригласил для беседы Горбачев. Мое знакомство с ним началось где-то в середине 70-х годов с участия в одной из научно-практических конференций в Ленинграде по экономическому образованию, проводившихся в те годы регулярно по всей стране.
После перехода Горбачева на работу в ЦК КПСС он часто выступал в Академии общественных наук перед слушателями курсов руководящих партийных работников. Я присутствовал практически на всех его выступлениях и убедился в свежести, раскованности мышления этого человека, его широкой эрудиции. Он не был похож на обычных партийных руководителей областного, краевого и республиканского масштаба, которых я хорошо знал.
Как правило, после выступлений мы обсуждали те или иные острые проблемы. Я вспоминаю, что именно тогда обговаривались идеи применения принципа продналога между центром и регионами по продовольственным вопросам, о необходимости большей свободы хозяйствам, о том, что пора перестать лихорадочно свозить зерно и другие сельхозпродукты в крупные государственные зернохранилища. Поднимались проблемы преодоления дефицитности в нашей экономике, диктата производителя и другие.
Однако на сей раз разговор с Горбачевым касался моего перехода в ЦК в качестве заведующего Отделом науки и учебных заведений. Решение принималось с учетом того, что мне не потребуется каких-то больших усилий для вхождения в дело, учитывая мою прошлую научно-педагогическую деятельность, работу в Ленинградском горкоме КПСС, Отделе пропаганды ЦК КПСС и в Академии общественных наук.
Серьезных аргументов против у меня не нашлось, хотя работа в Академии общественных наук была, пожалуй, для меня самым плодотворным и приносящим удовлетворение периодом деятельности. Впрочем я понимал, что речь идет о моем приобщении к участию в больших переменах в партии и стране. Именно на этой встрече с Горбачевым я сказал, что он может полностью рассчитывать на меня в обновлении деятельности партии. К этому я больше никогда не возвращался. Но старался следовать данному заверению.
Завершив разговор, Михаил Сергеевич позвонил по прямому телефону Ю. В. Андропову, и мы направились к нему. Беседа была непродолжительной и, естественно, вращалась вокруг вопросов, относящихся к компетенции Отдела науки и учебных заведений. Генеральный секретарь сказал, что работа на этом участке оказалась запущенной. Трапезников больше занимался искоренением идеологической крамолы, кроме того над ним довлел синдром неудачных попыток во что бы то ни стало пробиться в академики. «Надо осмыслить коренные проблемы реформы образования в стране, изменить обстановку в научных учреждениях, дать стимулы к ускорению научно-технического прогресса и, конечно же, заняться положением дел в области общественных наук», — подчеркнул Андропов.
Это была моя вторая личная встреча с Юрием Владимировичем. А предыдущая состоялась примерно за год, когда он был секретарем ЦК по идеологии. Я позвонил ему по телефону, попросил о встрече и сразу же получил согласие.
Встреча эта была для Академии общественных наук и меня лично очень важной ввиду того, что, начиная с 1980 года, сложились довольно трудные отношения с Управлением делами, отделами ЦК КПСС и с курирующими секретарями ЦК.
В конце 1980 г. Павлов, Петровичев, Трапезников с участием секретарей ЦК КПСС — Капитонова и Зимянина подвергли меня унизительной проработке. Речь шла о содержании работы академии и ее перспективах как творческого центра. Кураторы из ЦК КПСС вели линию на превращение АОН в чисто кадровое учебное заведение, не желая создавать условия для серьезной научно-исследовательской деятельности. Я же настаивал на развитии академии и как серьезного научного центра, создании условий для научной работы преподавателей. При этом ссылался на соответствующие документы ЦК по этому вопросу, не полагаясь на понимание моими собеседниками той истины, что без творческого начала и подготовка кадров невозможна.
Меня решили проучить за строптивость, устроив коллективную «трепку», а после этого усилились мелочные придирки. На XXVI съезде КПСС не допустили моего избрания в ЦК КПСС, оставив меня членом ЦРК, где я состоял и раньше, не будучи ректором академии. Всесилие «теневого кабинета» сказалось и здесь.
Естественно, об этом конфликте я речь не заводил. Главной темой разговора были облик академии, ее научный потенциал, реализация огромных возможностей подкрепления партийной работы исследовательской деятельностью, в том числе изучением общественного мнения. По всем этим вопросам я был внимательно выслушан и полностью поддержан. В дальнейшем Андропову стали регулярно направляться информационно-исследовательские материалы академии, в частности, через его помощника Б. Г. Владимирова, которого я хорошо знал еще по работе в Отделе пропаганды.
На той встрече 19 августа 1989 г. Андропов выглядел уже довольно плохо. Он сильно похудел и как-то осунулся. Было видно, что он «долго не протянет». Давала знать о себе тяжелая болезнь. Через несколько дней, в конце августа, он ушел в отпуск, а в середине сентября попал в больницу и, хотя продолжал заниматься делами, но на работу уже больше не вернулся. В феврале следующего года его не стало.
Воспроизводя в памяти атмосферу и события конца 1982 — начала 1984 гг., нельзя не сказать о том, что деятельность Андропова во многом резко контрастировала с последними годами брежневского руководства — временем разложения и маразма. Было покончено с пустопорожней болтовней и хвастовством, славословием и заторможенностью в действиях. Широкий отзвук получила статья Андропова в журнале «Коммунист» (1983, № 3). Скромность, деловой подход импонировали обществу. Люди видели: пробивается что-то свежее, новое, идущее от назревшей потребности обновления жизни.
Вместе с тем фигура эта противоречивая, отразившая всю сложность, весь драматизм общественно-политического развития страны. Андропов чувствовал остроту назревших экономических и социальных проблем. Не обладая ни знаниями, ни практическим опытом в области управления народным хозяйством он стремился даже чисто волевыми методами заставить заниматься реорганизацией экономического управления, и в частности, проводившимся, как говорили тогда, крупномасштабным экспериментом по внедрению полного хозяйственного расчета. Каким-то природным чутьем он понимал: без экономической реформы не обойтись.
К слову, однажды бывший ректор Высшей партийной школы и очень мною уважаемый человек — Николай Романович Митронов рассказал мне, как Юрий Владимирович Андропов, работавший тогда председателем КГБ, сдавал экстерном экзамены по программе Высшей партийной школы. Систематического высшего образования он не получил, но его выступления, речи да и простое общение оставляли впечатление о нем, как о грамотном, высокоэрудированном человеке.
А вот еще один факт, характеризующий противоречивость действий Андропова. На сей раз в кадровой политике. Вскоре после того, как он стал Генеральным секретарем ЦК КПСС Г. А. Алиев был выдвинут первым заместителем Председателя Совета Министров. Эта акция повергла в глубокое недоумение общественность, которая незадолго до этого была поражена и удивлена маскарадом, устроенным Алиевым по случаю приезда Брежнева в Баку. Последовало довольно странное объяснение, что, дескать, вопрос о переводе Алиева в Москву был предрешен еще при Брежневе. Но ведь речь шла о серьезном повороте политики от брежневского курса. Не был встречен аплодисментами перевод в Москву Г. В. Романова.
То, что мне удалось видеть и слышать на одном заседании Политбюро брежневского периода, подтверждает: Андропов верой и правдой служил Брежневу, отбивая любые, даже малейшие попытки, в частности со стороны Косыгина, высказывать самостоятельные суждения.
С именем Андропова, безусловно, связан широкомасштабный план борьбы с диссидентами и их устранения с политической арены самыми различными способами — судебное преследование, помещение в «психушку», выдворение из страны и т. д. Диссидентское движение действительно было рассеяно, хотя почва, его порождающая, естественно, оказалась нетронутой.
Для меня всегда оставался открытым еще один вопрос. Ведь Андропов значительно более, чем кто-либо другой знал о всех слабостях Брежнева, художествах его окружения, а противодействие, насколько известно, оказывалось лишь Щелокову, которого он и удалил после смерти Брежнева быстро и совершенно справедливо. А другие дела? Или не дошли руки, или, чувствуя свою ответственность, он их попросту хотел замять и покрывал.
Так мне представляется непростая картина первой, робкой попытки оздоровления и обновления страны. Андропов — предтеча перестройки? В определенном смысле — да. Но на него, конечно же, давил сильнейший груз прошлого и чтобы освободиться от него, судьба отвела ему слишком мало времени.
Эмбриональный период
Приход к руководству Черненко после быстрой кончины Андропова с нескрываемой радостью и оживлением восприняли те силы в партии, которые были взращены в брежневские времена. Это вполне устраивало когорту престарелых руководителей, возглавлявших региональные и ведомственные епархии, ибо создавалась гарантия невмешательства в их дела, возникновения своего рода «охранных» зон, свободных от критики.
Все, правда, понимали, что дни Черненко сочтены, но может быть, слишком далеко не заглядывали вперед и молчаливо исходили из того, что на смену Черненко придет примерно такой же руководитель. Острословы приписывали правящей геронтократии девиз — «умрем все генеральными секретарями».
В этой обстановке к Горбачеву со стороны его коллег по Политбюро сложилось настороженное отношение, ибо чувствовалось, что он, пожалуй, единственный из них, кто не захочет мириться с сохранением вотчин и зон, свободных от критики, атмосферой застойности при внешнем благополучии. К тому же, безусловно, Андропов ему доверял, поддерживал и выдвигал его, при Андропове фактически Горбачев вел многие дела.
Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, что была письменная рекомендация Андропова в отношении Горбачева как своего возможного преемника, которая якобы им самим была включена в выступление на Пленуме ЦК, а затем исчезла из текста, зачитанного на заседании.
Но хорошо знаю из общения с прогрессивно мыслящими людьми в партии и в ЦК, что именно с Горбачевым тогда связывались надежды на будущее. Это чувствовал и сам Горбачев. Но он впоследствии говорил нам, что не считал себя психологически готовым к роли первого руководителя партии и государства, да и условия для этого тогда еще не созрели, не сложилось и соответствующее общественное мнение.
Конечно, растущий авторитет и признание Горбачева в партии отнюдь не облегчали его жизнь и работу в Политбюро. С одной стороны, Черненко не мог без него обойтись, а с другой — за каждым шагом Горбачева ревностно наблюдали престарелые коллеги по Политбюро.
Я был на заседании Политбюро, когда Черненко поставил вопрос о распределении обязанностей между его членами, и в частности о том, чтобы Горбачев вел Секретариат. По сложившейся традиции это поручалось второму лицу в партии, он же проводил и заседания Политбюро в отсутствие Генерального секретаря. Обычно такие вопросы обговариваются с наиболее авторитетными членами Политбюро предварительно, и на заседании возражений не следует. На сей раз все было иначе.
Что за этим скрывалось, трудно сказать. То ли Черненко решил прямо выйти на Политбюро с таким предложением, то ли он предварительно обсуждал его с кем-то и, встретивши возражения, решил все-таки вынести на заседание.
Сначала взял слово Н. А. Тихонов, тогдашний Председатель Совета Министров. Он сидел по традиции первым за длинным столом, по левую руку от председательствующего. А против него, первое по правую руку от председательствующего кресло, было свободным. Оно занималось как раз вторым лицом в партии. Тихонов возразил против предложения Черненко в отношении Горбачева, но альтернативного предложения не внес.
— «Горбачев в Политбюро занимается аграрными вопросами, — заявил он, — и это может отрицательно сказаться на деятельности Секретариата, породит аграрный уклон в его работе».
Тихонову возразил Д. Ф. Устинов:
— «Но ведь Горбачев уже имеет опыт ведения Секретариата, да и вся предшествующая практика говорит, что ведущий Секретариат всегда имел какой-то участок работы, и это не оказывало негативного влияния на работу Секретариата».
Действительно, Тихонов не мог не знать, что уже при Андропове Горбачев занимался практически всем спектром вопросов. За этим стояло другое — стремление не пустить Горбачева, боязнь, что при слабом Черненко он будет играть доминирующую роль в ЦК.
В разговор вступил В. В. Гришин:
— «Предлагаю отложить решение вопроса. Еще раз все продумать и взвесить».
Это было равнозначно поддержке Тихонова, ибо в практике работы ЦК формула «отложить» по сути дела была близка к отрицательному решению. Примерно в таком же духе, если мне не изменяет память, высказался и А. А. Громыко, а итог был такой: несколько невнятных слов произнес Черненко в поддержку своего предложения, и обсуждение закончилось. Насколько я знаю, к этому вопросу Политбюро больше не возвращалось, а работой Секретариата стал руководить Горбачев.
Вот такая атмосфера царила в высшем звене партийного руководства.
Но это относится к настроениям правящей верхушки. В обществе же носился дух перемен, для них почва была готова, и даже какие-то первые семена брошены Андроповым. Страна была беременна глубоким обновлением. Это чувствовали люди. Об этом подавали острые сигналы так называемые диссиденты. Это все яснее понимали и многие, не утратившие связи с жизнью и способность критически мыслить партийные руководители, ученые.
В официальной пропаганде продолжали громыхать фанфары и литавры, а в недрах ЦК по инициативе и под руководством Горбачева началась серьезнейшая аналитическая работа, прежде всего касающаяся социально-экономического развития страны. Это был по сути дела утробный период перестройки — вызревания новых подходов, некоторых основных идей. Было ясно, что страна отстает от Запада в важнейших сферах научно-технического и социального прогресса. Не только не уменьшается, но увеличивается разрыв в жизненном уровне населения в сравнении с другими странами, даже нашими партнерами по Совету Экономической Взаимопомощи. Уже тогда стремились докопаться до причин такой ситуации, хотя этот поиск порой ограничивался областью государственного управления экономикой и научно-техническим прогрессом.
Мне пришлось еще в бытность ректором Академии общественных наук участвовать в рабочих совещаниях экономистов-ученых и практиков по этим проблемам, проводившихся Горбачевым. А после перехода в Отдел науки и учебных заведений такое участие стало регулярным.
К аналитической работе привлекались наиболее авторитетные ученые: А. Г. Аганбегян, Е. М. Примаков, О. Т. Богомолов, Г. А. Арбатов, Л. И. Абалкин, С. А. Ситарян, Р. А. Белоусов, Т.И.Заславская, И.И.Лукинов, А.А.Никонов и другие. После возвращения из Канады и назначения на должность директора Института мировой экономики и международных отношений в разработке концептуальных материалов самую активную роль стал играть А. Н. Яковлев.
Мое знакомство с Яковлевым восходит еще к концу 60-х годов, когда он был первым заместителем заведующего Отделом пропаганды ЦК КПСС, а заведующего отделом длительное время вообще не было, и Яковлев фактически руководил его работой, а я тогда был секретарем Ленинградского горкома КПСС.
Трудно судить, что стало причиной, сравнительная ли молодость (тогда мне было около сорока лет), научная ли квалификация (я попал на партийную работу уже будучи доктором экономических наук), но буквально через год-два работы в горкоме начались «покушения» на меня из Москвы. Предлагали то одно место, то другое — первым заместителем к П.Н. Федосееву — директору ИМЛа, в различные отделы ЦК. Приглашал меня и Яковлев переехать в Москву в качестве заместителя заведующего Отделом пропаганды. От всех этих предложений я отказывался и получал в этом поддержку от В. С. Толстикова, бывшего первого секретаря Ленинградского обкома партии. Но во второй половине 1970 года ситуация изменилась. Толстикова отправили послом в Китай, первым секретарем обкома стал Романов, который по каким-то причинам счел нецелесообразным помогать мне отбиваться от московских предложений.
После двукратных встреч с П. Н. Демичевым — куратором идеологии, в ходе которых я так и не дал согласия на свое новое назначение, все же было принято решение Секретариата ЦК о назначении меня заместителем заведующего Отделом пропаганды.
В первое время отношения с Яковлевым, да и в аппарате в целом, складывались для меня исключительно трудно. Я попал в совершенно новую и в общем чуждую для меня среду аппаратного послушания, чуть ли не с прищелкиванием каблуком, с нравами, когда больше ценились не творческая мысль и инициатива, а аккуратное и своевременное исполнение поручений. И надо сказать, что в Отделе пропаганды были еще в этом отношении не самые худшие нравы.
Трудно судить, какая причина порождала настороженность ко мне в первые годы со стороны Яковлева. Тогда мне казалось, что это могло быть связано с отсутствием заведующего отделом и естественными переживаниями Александра Николаевича в связи с тем, что его держат в таком подвешенном состоянии. Может быть, это объяснялось и моим независимым характером, и стилем поведения, непривычным для аппарата.
В течение семи лет после назначения В. И. Степакова послом в Белград Отдел пропаганды оставался без заведующего. Брежнев хорошо понимал значение этого поста для укрепления своей власти и хотел иметь здесь «своего человека». Яковлева он, невидимому, не считал таковым. Присматривался к нему, привлекал к работе над основными своими выступлениями и политическими документами вместе с А. М. Александровым, Н. Н. Иноземцевым, Г. А. Арбатовым, А. Е. Бовиным, В. В. Загладиным, но не доверял настолько, чтобы сделать руководителем одного из ключевых отделов ЦК.
Почему? Думаю, не из-за либерально-западнических взглядов Яковлева: ведь поддерживал же генсек и выдвигал вышеупомянутых лиц, отличавшихся именно такими привязанностями. Да и сам Александр Николаевич, как хорошо знают работавшие с ним в то время люди, к либеральным позициям пришел не сразу. Для Брежнева взгляды человека не были самым важным, среди его доверенных лиц были люди с различными, можно сказать даже противоположными убеждениями. Главное для него — личная преданность.
Вот и в данном случае дело скорее было в том, что Яковлев, как и удаленный до него Степаков, рассматривался как выдвиженец «московской группы», поддерживался А. Н. Шелепиным, который был соперником Брежнева за влияние и власть в партии в послехрущевский период. Прошло немного времени и Яковлев вообще был удален из ЦК.
Незадолго перед «ссылкой» Яковлева в Канаду отношения наши изменились в лучшую сторону. Исчезла предубежденность, появилось, как мне казалось, взаимное доверие. Я увидел, что это неординарный политик, человек со своими взглядами и позициями, в том числе и с теми, которые были высказаны им в двухполосной статье в «Литературной газете», которая явилась лишь видимой причиной удаления Яковлева из ЦК. Я думаю, и он почувствовал, что у меня нет амбициозных, карьеристских устремлений; к тому же оказалось, что мы еще и земляки, и питаем слабость к нашей малой родине — ярославщине.
После ухода Яковлева из ЦК я был свидетелем отвратительной ситуации, когда многие аппаратчики, заискивавшие раньше перед ним, и даже те, кого он прежде выдвигал, стали упражняться во всяческом его поношении, пинать вслед. Самое любопытное, что после возвращения Яковлева в Москву и особенно в ЦК, эти же люди вновь залебезили перед ним и запели ему дифирамбы.
Мы поддерживали отношения с Александром Николаевичем и в канадский период его работы, встречались, когда он приезжал в Москву, а с лета 1984 года началось, можно сказать, повседневное сотрудничество в формировавшейся в то время команде Горбачева. С нами сотрудничал помощник Горбачева того времени В. И. Болдин, с которым именно в этот период я познакомился. С Яковлевым он уже тогда был на «ты», несмотря на разницу в годах. Из последующих рассказов и воспоминаний я понял, что они знакомы еще со времен Хрущева, когда Болдин работал в аппарате тогдашнего секретаря по идеологии Ильичева.
Тесные контакты между нами тремя, конечно же, основывались на общем отношении к Горбачеву. Но они переросли во взаимную доверительность такой степени, что мы могли обмениваться мнениями по самым деликатным и сокровенным вопросам.
Впрочем я и тогда и в последующем не терял критического отношения к яковлевскому радикал-либерализму, который во многом носил эмоционально-публицистический характер и не отличался фундаментальностью и глубиной. Мне никогда не импонировала его склонность к красивой фразе и закулисному политическому маневрированию.
Пожалуй, крупнейшей вехой утробного процесса перестройки явились подготовка и проведение в декабре 1984 г. Всесоюзной конференции по идеологической работе. Вначале она задумывалась как обобщение годичного опыта работы по выполнению постановлений июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС по вопросам идеологической работы, но затем, в процессе подготовки совещания, постепенно вылилась в самостоятельную, крупную общественно-политическую акцию.
Докладчиком утвердили Горбачева как второе лицо в партии, по традиции курирующее идеологическую сферу. По мысли Михаила Сергеевича Горбачева (и мы его в этом поддержали), в докладе должны были прозвучать новые, принципиально отличные от привычных, оценки общественно-политического развития страны, новые подходы к решению стоящих перед нею задач. Вокруг подготовки и проведения конференции развернулась, по сути дела, борьба между прогрессивной и консервативной тенденциями в партии, и как в зеркале отразилось неблагополучие в ее руководстве.
Проект доклада вобрал в себя достигнутые на тот момент результаты аналитической работы Горбачева и его группы. Это, по сути дела, был основной предперестроечный документ, хотя и не свободный от традиционных клише, иначе его просто бы не приняли. В то же время доклад отличался явной новизной. В нем давалась реалистичная и максимально критичная для того периода оценка развития страны и в обобщенном политическом виде сформулирована задача ускорения социально-экономического ее развития, в значительной мере по-новому были поставлены многие проблемы обществоведения.
Перспектива выступления Горбачева с таким докладом вызвала настороженность и ревность со стороны Черненко и группировавшихся вокруг него людей, таких как В. А. Печенев, Р. И. Косолапое, претендовавших на роль монопольных законодателей в идеологической сфере. Пользуясь беспомощностью Черненко в данных вопросах, они бесконтрольно влияли на выработку идеологических установок, расстановку кадров в этой сфере и т. д. Под их влиянием находился заведующий Отделом пропаганды ЦК Б. И. Стукалин. Их активно поддерживал и тогдашний секретарь ЦК по идеологии Зимянин.
Наконец, настал момент, когда Горбачев решил познакомить с проектом доклада более широкий круг людей. И тут началось…Косолапов, к которому Горбачев лично обратился, вернул текст не самому докладчику, а в его аппарат с несколькими незначительными, чисто стилистическими поправками. В ход пошла версия, что материал сырой, недостаточно продуманный и т. д. Об этом, в частности, мне сказал Зимянин, когда я по делам Отдела науки был у него.
По существу развернулась кампания дискредитации не только доклада, но и идеи самой конференции. В нее втянули и Черненко, которому внушили мысль, что якобы в докладе Горбачева недооцениваются июньский (1983 г.) Пленум ЦК и доклад Черненко на нем. Предложили на открытии конференции выступить Черненко, но это оказалось нереалистичным, да Черненко, видимо, и сам понял, что его выступление рядом с Горбачевым высветило бы для всех, кто есть кто. Поэтому по настоянию Черненко — и Горбачев, чтобы не обострять ситуацию, не возражал — в Серебряный бор был направлен Стукалин для корректировки доклада.
Должен сказать, что его вклад выразился лишь в нескольких искусственно сконструированных ссылках на выступления Черненко. Появилось решение — предпослать докладу письменное приветствие со стороны Генерального секретаря.
Но дело этим не кончилось. Буквально накануне конференции Черненко позвонил Горбачеву и предложил… отменить ее. Но на этот раз Горбачев решительно возразил. Ставились палки в колеса и дальше. Ввели ограничения на публикацию материалов конференции в прессе. «Коммунист», редактором которого был Косолапов, вообще отказался напечатать доклад, что было беспрецедентно для органа ЦК. Косолапов предложил Горбачеву написать на основе доклада статью, что, конечно, было отвергнуто. Та же линия проводилась и при издании сборника материалов конференции — ограничение объема, тиража и т. д.
Произошел и такой курьез. Видным ученым, не сумевшим по тем или иным причинам выступить на конференции, предложили сдать для публикации тексты их выступлений. Представил текст своего выступления и Яковлев, но в вышедшем сборнике… его не оказалось.
Мы не раз в то время и позднее обсуждали, в чем же причина такого яростного противодействия, которое было оказано Горбачеву со стороны названных лиц? Неприятие Горбачева из-за его новизны, антидогматизма, нежелания подчиняться десятилетиями выработанным правилам идеологической игры, его отрицательное отношение к книжной мудрости, на которой нажили себе авторитет эти люди? Наверное, это так.
Думаю, они перешагнули бы свое неприятие, если бы Горбачев их поманил. Но они возомнили себя незаменимыми талантами, всесильными визирями при слабом правителе, почувствовали дурманящий вкус власти. Черненко или кто-то другой наподобие его их бы вполне устраивал, но не Горбачев.
На общественность же конференция произвела большое и глубокое впечатление. Кстати говоря, в ней приняли участие многие видные и неординарные ученые и партийные работники, в том числе и Ельцин, бывший в то время первым секретарем Свердловского обкома партии.
Горбачев заявил о себе как крупном политическом лидере, глубоко разбирающемся и в экономике, и в политической жизни, и в международных отношениях, владеющем методами научного мышления и научного подхода к актуальным проблемам общественного развития.
Воспроизводя непростую обстановку, складывающуюся вокруг Горбачева в тот период, не могу не обратиться еще к одному факту. По предложению Горбачева где-то в конце 1984 г. было принято решение вернуться к идее проведения Пленума ЦК КПСС по вопросам научно-технического прогресса, которая не раз возникала еще в 70-е годы.
Несмотря на застойность брежневского времени и самоуспокоение мнимыми успехами, уже тогда для многих ученых-экономистов, дальновидных хозяйственных руководителей было ясно, что мы начинаем технологически быстро отставать от Запада. Не раз формировались группы для подготовки Пленума, «высаживался десант» на загородные дачи, готовились обширные выкладки. Самую активную, можно сказать, ведущую роль играли академики Н. Н. Иноземцев и Г. А. Арбатов, а из работников ЦК — заведующий Отделом машиностроения В. С. Фролов. В числе других и я на разных этапах участвовал в этой работе.
Но как только дело доводилось до практического выхода на Пленум и докладывалось на самом верху, оно притормаживалось и откладывалось в долгий ящик. Разработанные материалы оседали в сейфах.
У меня сложилось впечатление, что брежневскому руководству эта проблема была просто не по зубам, не хватало духа, решимости и компетенции браться за исключительно трудное и масштабное дело. А упускать его из своих рук и передать кому-то другому, например, Косыгину, Брежнев не хотел.
К тому же вопросы экономики по линии Политбюро курировал А. П. Кириленко, один из столпов брежневской группы, отличавшийся завидной цепкостью и заботившийся главным образом об укреплении позиций Брежнева в партийном аппарате. Он был как бы противовесом М. А. Суслову, в его отсутствие вел Секретариат, а иногда и Политбюро. Именно он в связи с 70-летием Брежнева выступил с подобострастным заявлением о том, что 70 лет для политического руководителя — это чуть ли не самый плодотворный возраст. Ирония судьбы в том, что сам Кириленко примерно в таком же возрасте стал быстро впадать в склеротическое состояние, путать фамилии даже самых близких людей, забывать самые элементарные вещи, заговариваться и еще до ухода Брежнева в «плодотворном возрасте» был отправлен на пенсию.
Так дело и тянулось, а время безвозвратно уходило.
Горбачев вместе с Рыжковым решили безотлагательно вернуться к этой проблематике. Они проанализировали тома накопившихся материалов, создали группы ученых и специалистов, которым поручалось оценить наши позиции по основным направлениям научно-технического прогресса.
В конце года в Серебряный бор была высажена рабочая группа для подготовки доклада на Пленуме. На заключительном этапе в ней, кроме меня, принимали участие Аганбегян, Ситарян, Вольский, Смирницкий, а финал был таков — Пленум отменили под явно искусственным предлогом, что, дескать, будут расстреливаться материалы съездовского характера, хотя до съезда оставалось еще не менее года. К нам в Серебряный бор приехал Рыжков и, не скрывая своего огорчения, сообщил о принятом решении. С досады мы выпили по стопке водки, поужинали и разъехались.
Опять проявилась прежняя брежневская линия, которую на сей раз проводил Черненко. Сам он был не в состоянии взвалить на себя эту проблему, но при поддержке Тихонова, других членов Политбюро и Горбачеву с Рыжковым не давал ходу.
Большой резонанс, который вызвали декабрьская идеологическая конференция, визит Горбачева во главе парламентской делегации в Англию, по-видимому, еще больше перепугал этих людей. Они явно не хотели, чтобы Горбачев проявил себя и как деятель, владеющий знанием и умением решать проблемы в такой важнейшей области, как научно-технический и экономический прогресс.
Так непросто протекал эмбриональный период перестройки.
Горбачев приходит к рулю
О перепитиях первых дней после кончины Черненко немало сказано и написано участниками тех событий. Не обошлось здесь и без преувеличения трагизма ситуации, без субъективных оценок, без спекуляций, связанных с избранием Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС. К числу последних, безусловно, следует отнести версию о том, что какую-то крупную роль в борьбе за власть играл Романов, Он не пользовался в Политбюро сколько-нибудь заметным влиянием, и разговоры на эту тему просто несерьезны.
Я думаю, что немалая доля преувеличения содержится и в комментариях относительно претензий Гришина на роль руководителя партии, что якобы он имел чуть ли не готовый список нового Политбюро, нового распределения ролей и т. д. Может быть, такие замыслы у кого-то в голове и бродили, но настроение у членов ЦК, особенно местных руководителей, исключало, на мой взгляд, даже саму постановку такого вопроса на Политбюро, и особенно на Пленуме ЦК.
Представляется неосновательными и высказанные позднее на XIX партконференции претензии на особую роль группы членов Политбюро в избрании Горбачева в марте 1984 года Генеральным секретарем ЦК КПСС. Их подтекст был довольно прозрачным: «Мы тебя сделали Генсеком, мы тебя в случае чего можем и скинуть». Конечно, Лигачевым как секретарем и заведующим Орготделом ЦК осуществлялись контакты с членами ЦК, особенно руководителями местных организаций, но они могли лишь выявить сложившийся в партийном общественном мнении консенсус по вопросу о том, кому быть Генеральным секретарем. И заседание Политбюро, и Пленум ЦК прошли в обстановке единогласия при полной поддержке кандидатуры Горбачева. Логичным было и «забойное» выступление Громыко как наиболее авторитетного члена Политбюро, к тому же принадлежавшего к старой гвардии руководителей. Да и кому же было выступать с таким предложением, ведь не Тихонову же, не обладавшему ни влиянием, ни авторитетом. Характерно, что в поддержку Горбачева выступил и Гришин — единственный, потенциальный, но не состоявшийся претендент.
В эти дни и ночи я вместе с другими помощниками Горбачева помогал ему в подготовке материалов для выступлений, в том числе его первой речи в качестве вновь избранного Генерального секретаря на Пленуме ЦК КПСС 11 марта 1985 года. Значение этой речи, с моей точки зрения, недооценено. Она, конечно, была сравнительно короткой и не обошлась без ритуальных слов в адрес предшественника.
Прозвучали заверения в неизменности «стратегической линии партии», но суть этой линии была выражена уже по-новому: «ускорение социально-экономического развития страны, совершенствование всех сторон жизни общества». Дано сжатое и достаточно емкое раскрытие этой линии. Здесь и решающий поворот в переводе народного хозяйства на рельсы интенсивного развития, и совершенствование хозяйственного механизма, и социальная справедливость, и углубление социалистической демократии, совершенствование всей системы социалистического самоуправления народа, и решительные меры по дальнейшему наведению порядка, и расширение гласности в работе партийных, советских, государственных и общественных организаций, и курс мира и прогресса в области внешней политики. Конечно, это была еще не развернутая программа действий, да такая программа на данном Пленуме была бы немыслимой, но уже был сгусток идей, который дальше получил развернутое изложение и обоснование.
Мартовский Пленум положил начало кадровому обновлению высшего эшелона партии. Членам Политбюро, минуя кандидатскую ступень, были избраны Лигачев и Рыжков, а секретарем ЦК — Никонов. Несколько позднее, в июле, членом Политбюро стал Шеварднадзе, а секретарями ЦК — Ельцин и Зайков.
Горбачев решил прервать сложившуюся в последние годы традицию совмещения постов Генерального секретаря ЦК КПСС и Председателя Президиума Верховного Совета СССР. На последнюю должность был избран Громыко, и такое решение было положительно встречено общественностью. Осенью того же года Тихонов был освобожден от должности Председателя Совета Министров СССР, им стал Рыжков.
Важные изменения осуществлялись и в аппарате ЦК КПСС. Должность заведующего Отделом пропаганды занял Яковлев, а Стукалин отправился послом в Венгрию. Помимо всего прочего это был и символический акт — полная реабилитация «опального». Из ЦК КПСС удалили Боголюбова — «последнего из могикан» — так называемого «теневого рабочего кабинета» Брежнева, а ключевую в аппарате ЦК должность заведующего Общим отделом ЦК КПСС поручили Лукьянову. Главным редактором журнала «Коммунист» вместо Косолапова стал И. Т. Фролов.
Это было начало широких кадровых перемен в партии и в государстве. Они укрепили позиции Горбачева, раздвинули возможный диапазон его действий, дали толчок коренному обновлению кадров в центре и на местах, хотя и не решили всех проблем в этой области. Преобладание старой гвардии в Политбюро было поколеблено, но не устранено, что вынуждало Горбачева маневрировать, тратить огромные усилия для завоевания поддержки назревших решений.
Сразу же после мартовского Пленума Горбачев вплотную занялся разработкой конкретной программы действий, которую решил изложить на очередном Пленуме ЦК КПСС в связи с принятием решения о созыве очередного XXVII съезда КПСС.
Генеральный секретарь попросил меня, и я думаю, других товарищей, которые его окружали, дать соображения о том, как выстроить нашу работу, с чего начать, какие приоритеты выделить. У меня сохранилась копия моей записки Горбачеву, датированная 17 марта. Думается, она представляет интерес с точки зрения того, на каком уровне понимания задач мы находились в тот момент. Привожу дословно ее узловые положения:
«..Решительно покончить с обилием общих слов и заклинаний, нагромождением умозрительных формул и книжной мудрости, красивых выражений, которые в сочетании с заторможенностью в практических действиях приводили к расхождению между словом и делом. Большое раздражение и иронию вызывают у людей награждения (награждают по сути дела сами себя), непомерные персонифицированные оценки снизу вверх, личностные заверения, превратившиеся в ритуал приветы от генерального секретаря и т. д.
…На первый план выдвигается обновление состава руководящих кадров. Это и показатель настроенности нового руководства на перемены и необходимое условие их осуществления. Процесс этот — сложный и болезненный. Чтобы облегчить его, может быть, следовало бы пойти на какое-то улучшение материально-бытовых условий, пенсионного обеспечения соответствующей категории работников. Дополнительные расходы, безусловно, окупятся повышением эффективности работы.
…Для повышения ответственности кадров, дисциплины, наведения порядка имело бы большое значение опубликование в печати двух-трех сообщений о привлечении к строгой ответственности руководящих работников за срыв плановых заданий, решений вышестоящих органов, особенно по социальным вопросам, вплоть до снятия с работы и исключения из партии.
…Одновременно со всем этим, не откладывая, взяться за разработку системы мер по совершенствованию всего нашего общественного (в том числе экономического) механизма, с тем, чтобы начать их планомерное осуществление после съезда.
…Среди кардинальных проблем управления в экономической области: решительная перестройка управления на уровне первичного звена — производственного объединения. Создание производственных объединений независимо от ведомственных перегородок, исходя только из экономической целесообразности. Жесткая система экономической ответственности коллектива и его сильной материальной заинтересованности на основе оплаты труда по конечным результатам.
…Освободить партийные комитеты от оперативно-хозяйственных дел, которыми они сейчас загружены сверх предела, упростить их структуру, приспособить ее к усилению политической работы среди трудящихся, работы с кадрами, организации и проверки исполнения решений. Отпадет необходимость иметь в ЦК отделы по отраслям народного хозяйства.
…В области демократии, развития системы социалистического самоуправления народа можно было бы пойти на значительное расширение прав трудовых коллективов, введение эффективной системы контроля снизу за деятельностью руководителей, включая их выборность и отчетность перед коллективом. Весьма настоятельна необходимость усиления демократического контроля за деятельностью аппарата государственного и хозяйственного управления.
…Глубокие перемены нужны во внутрипартийной жизни-в направлении развития демократии, критики и самокритики, гласности в работе партийных и государственных органов всех уровней, аппарата. Идеологическая работа партии должна быть полностью освобождена от казенщины и штампа, трескотни и декларативности, приближена к реальным проблемам, к фактическому положению дел, сознанию людей. Проблемы, волнующие людей, не должны игнорироваться или загоняться в дебри малопонятных рассуждений. Они должны получать ясную постановку и аргументированные ответы. Не должно быть запретных тем для высказываний и обсуждений.
…Съезд провести в конце текущего года. Принять по этому вопросу официальное решение на апрельском Пленуме ЦК КПСС. В выступлении на Пленуме Генерального секретаря ЦК КПСС сформулировать основные моменты предсъездовской платформы партии и концепцию самого съезда, как начала крупных преобразований механизма общественного управления, рассчитанного на значительное ускорение социально-экономического развития страны».
У Горбачева образовался целый портфель таких соображений. Все они были, что называется, «переварены» им и выкристаллизированы в основной идее доклада на апрельском Пленуме. С большим внутренним волнением и энтузиазмом мы все помогали ему в этом. Мы — Яковлев, Болдин, Биккенин и, если не изменяет память, Лукьянов.
Сравнительно небольшой и, прямо скажем, не поражающий фантазию внешними эффектами доклад нового Генсека на апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС сразу же был встречен в обществе не просто как изложение намерений нового руководителя. За несколько предшествующих лет обществу пришлось выслушать две речи по такому же поводу. На сей раз она была с самого начала воспринята как нечто масштабное и поворотное для судеб страны, и дальнейший ход событий в полной мере это подтвердил.
Сейчас линия на ускорение социально-экономического развития страны у одних вызывает снисходительную улыбку, у других — иронию. Но это был неизбежный этап осмысления ситуации, сложившейся в стране, путей выведения общества из заторможенного состояния. Перестройка началась именно с вывода об ускорении социально-экономического развития.
Причем уже тогда, на апрельском Пленуме, задача ускорения не сводилась к повышению темпов роста, а была органически увязана с осуществлением серьезных перемен и в хозяйственном механизме, и в социальной и других сферах общественной жизни. С ними были связаны главные надежды на прогресс страны и выведение ее на современный уровень мировой цивилизации.
В дискуссиях последующих лет часто звучал вопрос: имел ли Горбачев, начиная перестройку, ее программу? Конечно, тщательно разработанной по всем пунктам и подпунктам программы не было, да и не могло быть. Была сумма идей, на основе которых постепенно формировался новый политический курс, проходя проверку практикой, накладываясь определенным образом на реальное общественное сознание, на живой опыт работы.
Я считаю, что весь период от мартовского и апрельского Пленумов ЦК КПСС до XXVII съезда включительно и даже до конца 1986 года — это и был период формирования и упрочения политики перестройки, выработки современного внешнеполитического курса на основе нового политического мышления. Чтобы иметь какой-то шанс на успех в политике, программа перестройки могла родиться только пройдя через горнило общественных дискуссий. Надо было завоевать общественное мнение, упрочить политические позиции сторонников нового курса.
Принципиальное значение в этом отношении имели встречи Горбачева с рабочими и инженерно-техническими работниками ЗИЛа, поездка в Ленинград и выступление на собрании актива Ленинградской партийной организации 17 мая 1985 года. Это был живой, откровенный и открытый разговор с людьми. Его показ по телевидению произвел ошеломляющее впечатление. Люди увидели, что появился руководитель совершенно новой формации, не статуя, не мумия, а живой человек, просто и по-человечески разговаривающий с людьми, остро чувствующий проблемы сегодняшнего дня, не желающий мириться со старым.
Огромный резонанс получила поездка Горбачева и на Украину. Он побывал в самой цитадели брежневского влияния — на Днепропетровщине. Посетил Тюмень, Западную Сибирь и Северный Казахстан, провел многочисленные встречи с представителями самых различных слоев общества, с гражданами на улицах и площадях. Все это создало новую, невиданную доселе морально-психологическую обстановку в стране.
Что касается практических шагов в осуществлении нового курса, то они в этот период шли по двум главным направлениям — ускорение научно технического прогресса и развитие гласности.
11 июня 1985 года прошло совещание в ЦК КПСС по вопросам ускорения научно-технического прогресса. В докладе Горбачева в максимальной мере были реализованы разработки, которые велись в течение этих лет по подготовке Пленума ЦК.
На совещании был углублен критический анализ предшествующего периода развития. Вместе с тем со всей очевидностью обнаружилась, что ускорение научно-технического прогресса, а значит и социально-экономического развития страны, упирается в хозяйственный механизм, унаследованный от прошлого. Дальнейшая практика подтвердила, что даже тщательно разработанные обширные программы развития науки и техники, модернизации отечественного машиностроения (а такие программы действительно были) не могут рассчитывать на успех в условиях старого экономического механизма, поэтому центр тяжести и внимания в сфере экономики стал постоянно переключаться на разработку экономического механизма. А за этим постепенно потянулась и вся цепочка.
При углубленном анализе проблем совершенствования хозяйственного механизма оказалось, что оно немыслимо без реформирования всей политической системы, а это в свою очередь диктует и необходимость пересмотра роли самой партии.
Известно, что в последующие годы критики упрекали Горбачева в том, что он начал не с того конца: надо было начинать с реформирования партии. Как говорят, хорошо критиковать задним числом. Конечно, для нас было ясно, что методы и формы работы партии устарели и их надо менять. Но начинать прямо с реформирования партии, да еще в том понимании, которое нам пришло позднее, было просто невозможным. Этого бы никто не понял: ни в партии, ни в обществе. Да и этого нельзя было делать без реформирования экономического и политического механизма, без создания их новых форм.
Еще одна область, в которой перемены начались уже в первые месяцы после апрельского Пленума, это гласность, преодоление зон, свободных от критики, не только в виде каких-то отраслей и регионов, но и в смысле преодоления запретных тем. Здесь изменения происходили наиболее быстро и заметно как для общественности страны, так и зарубежных наблюдателей. Постепенно менялся облик газет и журналов, характер теле — и радиопередач, менялись к лучшему настроения творческой и научной интеллигенции.
Идеи воплощаются в политику
Весь год от мартовского и особенно апрельского Пленума ЦК и до конца февраля 1985 года можно считать периодом подготовки XXVII съезда КПСС. Выкристаллизовывались основные идеи и направления политики партии. Многие из них «запускались в дело» и проходили проверку в общественной практике.
На сей раз подготовка доклада Генерального секретаря на съезде велась совершенно иначе, чем в предшествующие годы. Тогда работе над текстом придавалось самодовлеющие значение, и по сути дела основная проблема сводилась к нахождению каких-то хитроумных заходов, новых словесных формул, вроде: «Пятилетка эффективности и качества», «Экономика должна быть экономной» и т. д. Такая работа длилась долгими месяцами. Начиналась чуть ли не за год до съезда. Что касается роли самого докладчика — Генерального секретаря ЦК КПСС, то она ограничивалась выбором предлагаемых формулировок, заменой отдельных слов и т. д.
Теперь все было иначе. Основные мощные импульсы в работе исходили от самого Горбачева. Задача людей, которые бы ему помогали, состояла в том, чтобы по возможности адекватно очертить сумму теоретических, политических и идеологических идей, суть назревших социальных преобразований, придать им форму политических выводов и установок, но таких, которые бы не ограничивали политические действия какими-то рамками «от сих до сих», а раскрывали бы простор для общественно-политического творчества. Это был по преимуществу не литературный, а творческий, поисковый процесс.
К этому времени сложилась определенная технология работы. Вначале нас втроем, вчетвером — Яковлева, Болдина, Биккенина, меня, часто Лукьянова, а в дальнейшем ставших его помощниками И.Т.Фролова, Г.Х.Шахназарова, А. С. Черняева — приглашал к себе в кабинет Генеральный секретарь для общего обмена мнениями по концептуальным вопросам и выработки подходов. Делалась стенограмма или даже задиктовка самой концепции, определялся план доклада, состав «разработчиков», кому дать заказы.
Затем каждый из нас готовил порученные ему отдельные части, а потом они сводились в единое целое. Все это делалось в Волынском — уютном и уединенном уголке с несколькими особняками, где мы были ограждены от «текучки» и могли полностью сосредоточиться на творческой работе. Но самое главное происходило потом: приезжал Горбачев и начиналась сплошная проходка и передиктовка материала. Причем проводилась она, как правило, не один и не два раза, а многократно, в результате чего рождался совершенно новый текст.
Горбачев деликатно, но настойчиво вел «войну» против заумности, книжности, искусственной красивости, то есть против того, чем каждый из нас в какой-то мере грешил. Конечно, стиль выступлений Горбачева был разным — в зависимости от их темы и аудитории. Но это был его стиль. Каждый из нас не подлаживался к нему, зная, что все равно будет все сделано так, как представляется оратору.
В процессе передиктовки он выслушивал любые соображения и предложения, порой противоречивые, соглашался или отвергал их, но всегда принимал свое решение.
Подготовка первоначального материала для доклада к съезду была, как помнится, осуществлена в невиданно короткие сроки — в течение примерно месяца, не более. — Это был декабрь 1985 года. Международный раздел доклада, посвященный мировому развитию и внешней политике, а также идеологический раздел — был за Яковлевым, экономический и социальный — за мной и Болдиным, проблемы демократизации общества и углубления социалистического самоуправления народа — за Лукьяновым, над разделом о партии вначале работали товарищи из Орготдела, а потом доводили этот раздел совместными усилиями. Заключительный раздел, касающийся новой редакции Программы партии, был за мной.
С подготовленным материалом Яковлев и Болдин ездили на юг, в Пицунду, там Горбачев проводил свой кратковременный зимний отпуск. Там состоялся острокритический разбор подготовленного материала, а затем — новый изнурительный этап работы в Волынском. В конце января — начале февраля Горбачев пригласил для завершения работы Яковлева, Болдина и меня в Завидово, подальше от Москвы. Здесь началось самое важное и самое интересное — окончательное определение и фиксация оценок, позиций, выводов. Подвергалось еще раз серьезнейшему обсуждению и, можно сказать, инвентаризации буквально все: от общеполитических заходов до конкретных примеров.
Работали все вместе по 10–12 часов. Кроме того, каждый имел еще то или иное «домашнее задание». Собирались в особняке, где разместился Генеральный секретарь, в небольшой, уютной охотничьей комнате. Как правило, обычно присутствовала Раиса Максимовна, подкрепляя нас кофе и вкусным топленым молоком. Делалась скрупулезная проходка и передиктовка всего текста: раздел за разделом, страница за страницей, строчка за строчкой. По ходу Дела шел абсолютно откровенный, ничем не ограниченный обмен мнениями. Естественно, в качестве критиков выступал каждый из нас по тем разделам, в работе над которыми он не принимал прямого участия и, напротив, старался аргументировать те положения, которые прошли через него на предшествующей стадии.
Пожалуй, на меня выпала основная роль возмутителя спокойствия. Я чувствовал, что иногда дохожу до крайней черты. Меня в такого рода работе прежде всего волнуют ясность и логика в постановке и изложении проблем. В полной мере проявилась острота восприятия и содержания, и формы у Яковлева — его постоянная нацеленность на новизну и нетривиальную постановку вопроса, умение быстро найти адекватные и неизбитые слова.
Болдин активного участия в спорах не принимал, но, когда вмешивался, то большей частью принимал сторону Яковлева. И в работе над текстами, и в обсуждении имел вкус к более конкретным народнохозяйственным проблемам, к насыщению фактологией, примерами, считая, что этим решится вопрос о связи с жизнью, с практикой. И надо сказать, что политическое чутье у него было достаточно хорошо развито.
Михаил Сергеевич очень терпимо и даже заинтересованно относился к нашим спорам. Если мы продолжали настаивать на своем, он деликатно и не без доли юмора напоминал, кто же здесь докладчик. В итоге обычно предлагал свое собственное смысловое и формулировочное решение, которое тут же и задиктовывалось. В этом нам помогали две стенографистки — Татьяна и Ольга — участница будущей форосской эпопеи. После окончания, вечером или ночью, мы приводили в порядок стенограмму, а утром, как правило, Михаил Сергеевич возвращался к тому, что задиктовано. Часто вновь все это переделывалось, и таким образом мы медленно-медленно продвигались вперед.
Завидово — место по своему историческое, «завидное», хотя я бы не сказал, что какое-то живописное, из ряда вон выходящее. Здесь Брежнев жил месяцами, особенно в последний период своей жизни. Опушка леса рядом с большой заснеженной поляной. Территория, огражденная глухим и надежным забором и цепью сторожевых вышек. Искусственный пруд с циркулирующей водой в любое время года, неброская среднерусская природа.
Особняк оригинальной архитектуры и внутренней планировки для главного лица, в котором размещался Горбачев и в котором мы работали. Второй также интересный особняк, по-видимому, для высоких гостей. Нам предложили в нем разместиться, но мы предпочли занять номера в расположенном рядом доме гостиничного типа.
Что привлекало там Брежнева? Это, как рассказывал Яковлев (единственный из нас, бывавший здесь раньше), охотничьи угодья с обилием кабанов, косуль и другой дичи. Охота рассматривалась как ритуал и даже больше того — входила в систему приближения людей к Генсеку и могла иметь решающее значение для отношения к ним высшего начальства. Яковлев рассказал, что однажды Брежнев пригласил его с собой на охоту, а он, как не охотник, опрометчиво отказался…
Здесь же, в Завидове, шла работа над всеми основными политическими документами и докладами Брежнева с участием уже упоминавшихся его штатных и нештатных советников. Приезжали и члены Политбюро, секретари ЦК. Тут же устраивались и увеселения с участием обслуживающего персонала. В общем, Завидово много повидало за брежневские годы.
А тут работа и работа. Изредка кино. Даже шахматные баталии, большими любителями которых были Яковлев и Болдин, да и я время от времени вмешивался в их спор, проводились урывками. А на дворе стояли сильные морозы — в 30 градусов и ниже.
После завершения работы в Завидово доклад еще раз был вынесен на заседание Политбюро, одобрен и представлен вначале Пленуму ЦК, а затем и XXVII съезду КПСС.
Это был не традиционный отчет ЦК перед съездом партии, а Политический доклад, в котором на первое место поставлена задача критического осмысления обстановки и переломного характера переживаемого момента и определения принципиальных перспектив развития.
Доклад явился развернутым обоснованием нового политического курса партии. Формула ускорения уже на съезде была наполнена новым содержанием, суть которого в преобразовании, перестройке общества. И не случайно, что в заключительном слове на съезде Горбачев сказал: «Ускорение, радикальные преобразования во всех сферах нашей жизни — не просто лозунг, а курс, которым партия пойдет твердо и неуклонно». Сам термин «перестройка» был употреблен на съезде лишь применительно к партийной работе и работе с кадрами. Но по сути дела о ней речь шла применительно ко всем основным сферам жизни и деятельности нашего общества.
А вскоре — 8 апреля 1986 года, выступая на встрече с трудящимися города Тольятти, Горбачев говорил уже о перестройке в том всеобъемлющем смысле, в каком этот термин вошел в политический обиход у нас и за рубежом.
На XXVII съезде сложились формулировки и исходных моментов нового политического мышления, нового видения мира, новой философии современного развития, хотя они сочетались еще со многими старыми формулами. Я отчетливо помню, как в острых дискуссиях «до хрипоты», тщательно выверяя каждое слово, мы в Завидово оформляли заключительные абзацы первого раздела доклада: «В сочетании соревнования, противоборства двух систем и нарастающей тенденции взаимозависимости государств мирового сообщества — реальная диалектика современного развития. Именно так — через борьбу противоположностей, трудно, в известной мере, как бы на ощупь, складывается противоречивый, но взаимозависимый, во многом целостный мир».
На съезде новый внешнеполитический курс нашел свое развернутое воплощение и конкретизацию. Но еще до съезда он получил выход в знаменитом Заявлении Генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева от 15 января 1986 года о сокращении, вплоть до полной ликвидации ядерных вооружений.
Съезд избрал новый состав руководящих органов партии. Тут еще сказался традиционный подход: избрание в ЦК по должностному принципу. Поскольку обновление руководителей республик, краев, областей, министерств и ведомств, центральных организаций было в самом разгаре, и состав ЦК оказался переходным и, пожалуй, даже с преобладанием выдвиженцев брежневского времени.
Почти не изменился и состав Политбюро. В нем сохранилась группа партийных лидеров брежневского разлива. Этот груз тяжкой гирей висел на ногах у перестройки, в немалой степени обуславливал непоследовательность ее дальнейших шагов, сдерживал темпы решения задач, сформулированных в материалах съезда. Да и новые выдвижения были не всегда удачными, и некоторые из них не оправдали себя. Правда существенно обновился состав Секретариата: новыми секретарями ЦК стали Бирюкова, Добрынин, Разумовский, Яковлев. Среди них оказался и я.
Еще за несколько месяцев до съезда Горбачев завел со мной разговор на тему о том, что К. В. Русаков жалуется на состояние здоровья и не может работать в полную силу, что к проблемам отношений с соцстранами нужны новые подходы, соответствующие принципам перестройки и новому политическому мышлению. Он предложил мне перейти на этот участок работы, имея в виду, что в Отделе пропаганды и в Академии общественных наук я довольно тесно соприкасался с проблематикой соцстран, знал их кадры и т. д. А главное, что нужен новый свежий взгляд.
Мое отношение к этому предложению было сдержанным. Я больше видел себя на другом направлении: науки, экономики и даже идеологии. Но убедившись, что у Горбачева созрело твердое решение на сей счет, не стал выдвигать серьезных возражений. Генсек стал привлекать меня к проблематике соцстран, а после съезда я перешел в кабинет секретаря и заведующего Отделом ЦК по связям с партиями социалистических стран. О проблемах, с которыми пришлось столкнуться на этом направлении работы, о целенаправленной деятельности советского руководства по перестройке взаимоотношений с социалистическими странами, я надеюсь, мне удастся рассказать отдельно.
XXVII съезд КПСС завершил очень важный и ответственный период формирования нового политического курса во внутренних и международных делах. Во всей полноте встал вопрос о его широкомасштабном осуществлении, о перенесении центра тяжести на практическую работу по преобразованию общественной жизни. Конечно, политический доклад на съезде, его решения и особенно новая редакция Программы КПСС, принятая на съезде, не были свободны от влияния старых формул, стереотипов, штампов. Избавление от них потребовало дальнейших усилий. Но при всем этом основной смысл решений съезда, безусловно, отличался прогрессивностью, лежал в русле обновления нашей жизни, ее демократизации, необходимости глубоких революционных преобразований. Углубилось наше понимание и прошлого, и настоящего, и путей в будущее.
Интересно, что спустя примерно три года, вокруг интерпретации места XXVII съезда КПСС и политической сути его решений неожиданно развернулась довольно острая дискуссия. Люди, выражавшие консервативные настроения в партии и по существу несогласные с курсом на перестройку, развернули атаку на прогрессивные перестроечные силы под знаменем… защиты решений XXVII съезда КПСС от Горбачева. Они стали обвинять руководство партии, и в первую очередь Горбачева за отступление от решений XXVII съезда. Особенно одиозным в этом смысле было выступление на одном из Пленумов ЦК бывшего заместителя заведующего Орготделом времен Капитонова — Петровичева, а затем второго секретаря ЦК КП Белоруссии и посла СССР в Варшаве В. И. Бровикова, поддержанное немалой частью членов ЦК.
Но весь вопрос в том, как понимать решения XXVII съезда, что в них брать — основную суть или те или иные остаточные термины, формулы и заходы? Куда смотреть — вперед или назад? В действительности под видом защиты XXVII съезда КПСС отстаивались доперестроеч-ные порядки, по сути дела, административно-командная система. Да, руководство партии отошло от некоторых формул, фигурировавших на XXVII съезде, но то было не отступление, а движение вперед в том направлении, которое было определено съездом и составляло суть его решений.
XXVII съезд открыл шлагбаум для широких демократических преобразований. В обществе возникла исключительно благоприятная обстановка для их проведения: массовая поддержка нового руководства страны со стороны рабочих и крестьян, самых широких слоев населения. Почувствовав дуновение свежего ветра обновления, демократизации и гласности, ободрилась интеллигенция.
И вот тут, анализируя пережитые годы, в мучительных поисках причин нынешней ситуации, приходишь к выводу, что уже тогда начали упускать время, запаздывать с практическим запуском перестроечных мер. Нельзя сказать, что после съезда наступил какой-то спад в работе. Нет, руководство трудилось, не покладая рук. После съезда Горбачев совершил ряд важных поездок по стране: в Куйбышевскую область, на Дальний восток, в Краснодарский край.
Исключительно насыщенной была и международная деятельность. В апреле Горбачев возглавлял делегацию КПСС на XI съезде СЕПГ, в июне — на X съезде ПОРП, в июле принимал участие в заседании Политического консультативного комитета стран Варшавского Договора в Будапеште. Кардинальные проблемы развития и обновления сотрудничества между соцстранами были обсуждены на состоявшейся в Москве 10–11 ноября встрече руководителей партий соцстран — членов СЭВ. Я готовил эти акции и принимал в них участие. В октябре состоялась советско-американская встреча на высшем уровне в Рейкьявике, которая положила начало широкому и плодотворному диалогу между двумя странами, приведшему к заключению в последующем важнейших соглашений.
В ноябре Горбачев нанес визит в Индию, положивший начало новой полосе отношений с этой крупнейшей азиатской страной.
Все это в немалой степени способствовало популяризации идей перестройки, укреплению политических позиций нового советского руководства внутри страны и за рубежом. В этот же период состоялись важные меры практического характера. К числу их следует отнести принятие в ноябре 1986 года Закона об индивидуальной трудовой деятельности, который по-новому поставил вопросы в этой сфере, способствовал изменению отношения к ней, хотя, конечно, не решил многих вопросов.
Было большое желание действовать, идти вперед, решать возникающие конкретные вопросы, не дожидаясь выработки общей концепции. Но принимаемые меры не всегда просчитывались на перспективу, не всегда оценивались с точки зрения конечных результатов.
Характерным в этом отношении явилось введение системы государственной приемки продукции на промышленных предприятиях. В принципе и тогда многим, в том числе и мне, было ясно, что эта мера не может дать кардинального решения вопроса с качеством продукции. Лучшим оценщиком и контролером продукции является потребитель. В этой функции никто его заменить не может, — никакая строгая государственная инспекция. Но потребитель может реально воздействовать на качество продукции только посредством рынка, причем сбалансированного рынка, предполагающего конкуренцию между производителями за наилучшее удовлетворение общественной потребности. Но о такой системе контроля приходилось лишь мечтать. Нормальный рынок оставался недосягаемым и было трудно сказать, когда он появится. А качество продукции надо повышать немедленно.
В таких условиях и введена эта паллиативная мера. Собственно, она была срисована с системы приемки продукции в военно-промышленном комплексе. Но там царили другие условия: сбыть эту продукцию, кроме военных, некому. К тому же военный заказ довольно выгоден.
В гражданских же отраслях госприемка, если и сыграла положительную роль, то только на самом первом этапе — и скорее не за счет экономических, а психологических факторов. В дальнейшем же она с неизбежностью стала перерождаться, обрастать так называемыми неделовыми отношениями, а попросту взяточничеством и через несколько лет от нее пришлось полностью отказаться.
Другой пример — кампания по борьбе с пьянством и алкоголизмом. В мае 1985 года состоялись печально знаменитые решения по этому вопросу, искусственно вызвавшие появление очагов социальной напряженности. Не все тогда соглашались с драконовскими методами. В частности, экономические органы. Но их сопротивление было сломлено. С особой энергией и, я бы сказал, остервенением вели эту линию, Секретариат и КПК при ЦК КПСС под руководством Лигачева и Соломенцева, неоднократно обсуждая эти вопросы на своих заседаниях, устраивая суровые проборки руководителей областей и отраслей за недостаточно быстрое сокращение производства алкоголя.
Я помню, что КПК наказал в партийном порядке и снял с работы одного из заместителей министра здравоохранения СССР за брошюру, написанную им еще до указа, в которой говорилось о культуре употребления алкоголя.
Нельзя сказать, что кампания по борьбе с пьянством и алкоголизмом была во всем ошибочной. Достаточно указать на то, что резко сократилось пьянство на работе, производственный и транспортный травматизм, было покончено с пьяным ритуалом приема гостей из Москвы на местах. Я помню, как облегченно вздохнули все, когда поездки в командировки были избавлены от обязательных выпивок и подношений.
Но методы борьбы с пьянством и алкоголизмом породили серьезнейшие негативные последствия, которые перечеркнули и то положительное, что могло бы быть достигнуто. Они никак не соответствовали духу перестройки, носили принудительный, нажимной характер, по формуле: цель оправдывает средства. Это стало предметом иронии и насмешек, вызвало серьезное социальное недовольство, не говоря уже об экономических последствиях: остановились пивоваренные заводы, пропало новое оборудование, закупленное для них на миллионы рублей, кое-где стали вырубаться виноградники, нанесен ущерб продовольственному комплексу. И сейчас еще эти потери не восполнены.
В течение года после съезда, вплоть до января следующего, на Пленумах ЦК КПСС не обсуждались и не решались кардинальные вопросы перестройки. Возник своеобразный тайм-аут, а ожидания в обществе росли: семена обновления в сознание людей были уже брошены.
Чем это объяснить? Пожалуй, в первую очередь трудностью и ответственностью первых шагов. С чего начать, в какой последовательности проводить комплекс мер, о которых в принципиальном виде шла речь на съезде партии? Колоссального напряжения в работе, концентрации сил и средств потребовала чернобыльская катастрофа. Я хорошо помню тот день, когда Горбачев собрал членов Политбюро и секретарей ЦК и сообщил об этом несчастье. В первое время было очень трудно оценить масштабы случившегося, тем более, что ни у кого в мире не было опыта на сей счет, хотя чувствовалось, что произошло нечто чрезвычайное и могущее иметь грозные последствия для страны.
Все последующие недели и месяцы, вплоть до сооружения саркофага и принятия мер по предотвращению загрязнения вод Днепра, проходили под гнетом нависшей опасности и напряженных усилий по ограничению последствий катастрофы.
В дальнейшем при обсуждении обстоятельств, связанных с чернобыльской трагедией, в печати настойчиво муссировалась версия о том, что советское руководство, якобы не дало своевременной и полной информации о происшедшем, что-то скрывало.
Действительно, объемы и характер информации тщательно обсуждались и взвешивались. Прежде всего с точки зрения достоверности, а также адресности — что давать для печати, что для местного населения, что для других государств и международных организаций. Но могу засвидетельствовать, что какой-то утайки информации и в мыслях не было. В общем же чернобыльская катастрофа оказалась настоящим потрясением для страны, показавшим, насколько хрупко наше мироздание, перед какими грозными опасностями стоит человечество.
Послесъездовская заминка в практических действиях частично может быть объяснена составом ЦК, его Политбюро, обновление которых продолжалось и в 1987, и в 1988 годах. В течение 1987 года членами Политбюро стали Слюньков, Яковлев и Никонов. Ушли из руководства партии Кунаев, Алиев, а также Зимянин. Но и на этом вопросы обновления руководства нельзя было считать решенными.
Я думаю, что в какой-то мере начали проявляться и осторожность, и осмотрительность Горбачева. Их трудно, особенно в этот период, ставить ему в вину с учетом исключительной ответственности тех шагов, которые надо было предпринять, ведь они имели по-существу необратимый характер. Может быть, в определенной мере сказалась и эйфория, вызванная огромным интересом к преобразованиям в нашей стране, и возникший во всем мире беспрецедентный рост популярности советского руководства.
Решающие шаги в переходе к практическому осуществлению перестройки были сделаны — в следующем, 1987 году.
Глава II Трудное начало
Прорыв в демократизацию. — Программа экономической реформы: многообещающее начало. — Уроки истории — Начало борьбы: «бунт Ельцина» и «ниноандреевский манифест» — Вокруг XIX партконференции и после нее.
Широко распространенным и даже общепризнанным является представление о том, что перестройка началась с апреля 1985 года. Это, конечно, верно, если брать провозглашение идеи, декларации о намерениях. Фактическое же начало перестройки произошло позже — в 1987 году.
Переломный характер 1987 года определяется тремя крупнейшими вехами в жизни партии и страны.
Это январский Пленум ЦК КПСС, давший исходный импульс реформе политической системы.
Это июньский Пленум ЦК, разработавший комплексную программу экономических преобразований.
Это, наконец, 70-летие Октябрьской революции, в связи с которым развернулась переоценка важнейших этапов советской истории, определившая в значительной мере идеологическую обстановку в стране.
Все это ознаменовало широкомасштабный переход к практическому осуществлению перестройки и, вместе с тем, проявились первые признаки дифференциации позиций в обществе, в партии и в ее руководстве, вылившиеся в дальнейшем в острую политическую борьбу.
Прорыв в демократизацию
Еще осенью 1986 года было принято решение провести Пленум ЦК по вопросам кадровой политики партии. Выбор этой проблемы не был случайным. Осуществление нового политического курса во многом упиралось в необходимость кадровых перемен в центре и на местах. Нужны были новые люди, не отягощенные старыми представлениями, формами и методами работы, не интегрированные в изжившую себя систему управления, или, во всяком случае, способные освободиться от нее, перестроиться на новый лад.
Отделы ЦК подготовили обширный материал, увесистый том, сведенный на последнем этапе Отделом организационно-партийной работы под кураторством Лигачева.
Там было все, относящееся к работе по выдвижению, расстановке, подготовке руководящих кадров, формам и методам работы с ними. Обозначена специфика работы с кадрами в различных сферах деятельности, давалась и критика состояния дел, и примеры как положительного, так и негативного порядка, но отсутствовало главное — дыхание времени, широкий общественно-политический фон перестройки, какое-либо продвижение вперед в нашем понимании ее процессов. По сути, это была кадровая рутина, в плену которой мы находились долгие годы. А ведь по идее, Пленум должен был стать первым крупным шагом в перестройке.
Настроение у Генерального секретаря было другое: начать с глубокого и масштабного анализа изменений, происходящих в стране, и только на этом фоне дать рассмотрение кадровой политики, исходя из того, что мы должны научиться жить и работать в условиях демократии.
Именно такого рода соображения Горбачев и излагал на совещании рабочей группы по подготовке к Пленуму 19 ноября, в котором участвовали: Яковлев, я, Разумовский, Лукьянов, Болдин, Разумов, Биккенин. С учетом этого сформулировано и название доклада — не просто о кадровой политике партии, а о перестройке и кадровой политике.
В ходе оживленной дискуссии созрело понимание того, что значимость Пленума надо вывести на уровень апрельского Пленума и XXVII съезда КПСС, продвинуться вперед в понимании смысла и значения перестройки, что центральной идеей Пленума должна быть демократизация общества. «Если мы этого не сделаем, — говорил Яковлев, — то оставим чувство горечи, остановки, торможения».
Поддержав эту мысль я высказался за то, чтобы не ограничиваясь констатацией перестройки как переходного периода, попытаться раскрыть его содержание: переход от чего и к чему — такой вопрос возникает в обществе и на него надо давать ответ.
Начался трудный поиск путей реализации намеченного замысла. Никак не давалась структура доклада. Неоднократные встречи с Горбачевым постоянно приближали нас к искомому результату, но все же он не приносил удовлетворения. Пленум, как помнится, даже переносился один или два раза, что породило слухи и пересуды о том, что, дескать, в руководстве возникли противоречия, что линия Горбачева натолкнулась на непонимание и сопротивление.
В Волынском шла не просто литературная работа, а обсуждение кардинальных проблем реформирования нашего политического строя. Я вспоминаю, как, например, непросто родилась идея перехода от формальной к действительной выборности руководящих органов партии и первых секретарей партийных комитетов. Мы втроем (Яковлев, Болдин и я, несколько раз в разговоре принимал участие Разумовский) все время возвращались к одному и тому же пункту наших рассуждений: откуда проистекает всевластие, вельможность, вседозволенность, бесконтрольность первых лиц партийных комитетов, начиная от райкомов и кончая республиканскими парторганизациями. А ведь именно на этой почве возникают всякого рода злоупотребления.
Вроде бы процедуры демократичные: все выбираются, и все отчитываются — партийный комитет, бюро, первый секретарь — но характер этой выборности таков, что в 99 процентов случаев из 100 гарантируются выборы того руководителя, который согласован вверху. Это происходит, во-первых, благодаря открытому голосованию, и, во-вторых, благодаря безальтернативности.
Годами и десятилетиями такая система работала без сбоев и приучила руководителей не считаться с мнением низов, рядовых членов партии, членов партийных комитетов, не говоря уже о массе населения. Руководители привыкли смотреть только наверх, стараться быть угодными вышестоящим начальникам — даже не органам, а именно отдельным лицам.
Вывод таков: все дело в характере выборов — открытом голосовании и безальтернативности. Так и родилось предложение о распространении тайного голосования и альтернативности на выборах первых руководителей. Эта, казалось бы, небольшая новация заключала в себе настоящую революцию и имела далеко идущие последствия. Пришлось приложить немало усилий к тому, чтобы доказать и в Политбюро, и в партийном активе необходимость такой меры.
Наконец, материал был скомпонован, и вновь мы в том же составе (Яковлев, Болдин и я) оказались в Завидове. И только там опять в ходе размышлений, жарких дискуссий окончательно сложились основной круг идей и структура доклада. Мы полностью отдавали себе отчет в том, что этот доклад и Пленум дадут импульс преобразованию всей системе политических институтов, скажутся впоследствии на кардинальном изменении роли партии в обществе, превращении ее из фактора государственной власти в действительно политическую партию.
В связи с этим мы пришли к выводу, что общих решений XXVII съезда КПСС может оказаться недостаточно. Родилась идея проведения на полпути до очередного съезда Всесоюзной партконференции, которая могла бы обсудить ход перестройки и задачи по ее углублению прежде всего в сфере политического управления.
19 января состоялось обсуждение доклада на Политбюро. Судя по выступлениям, оно произвело на членов Политбюро большое впечатление. С развернутой оценкой и замечаниями выступили все присутствующие — члены Политбюро, кандидаты в члены Политбюро и секретари ЦК. Все дали не просто положительные, а очень высокие оценки докладу, хотя мотивы, я думаю, были различными: у одних — более искренние, у других — в силу старых, далеко не лучших традиций во всем поддерживать руководство.
Конечно же, не осталось незамеченным и указание на главную причину, поставившую страну на грань кризиса, которая состояла в том, что «ЦК КПСС, руководство страны прежде всего в силу субъективных причин не смогли своевременно и в полном объеме оценить необходимость перемен, опасность нарастания кризисных явлений в обществе, выработать четкую линию на их преодоление». Вокруг этого возникла микродискуссия. Вот отдельные высказывания:
Горбачев: «Вопрос поставлен в плоскость ответственности ЦК, а значит и нас, тех кто здесь сидит».
Долгих: «С личностной, человеческой точки зрения может быть и не стоило бы ворошить прошлое».
Ельцин: «За положение дел в 70-х годах виновно Политбюро того состава».
Шеварднадзе: «В Политбюро в те годы не было коллегиальности, решения часто принимались узкой группой лиц, минуя Политбюро».
Выступление Ельцина тогда воспринималось просто как несколько более критичное, чем другие, а не как выражение особой позиции. Лишь потом стало ясно, что за ним скрывается и нечто большее. Это были суждения и по очень важным, существенным вопросам, но и мелкие замеча-ния, чисто терминологического характера, в духе распространенных в то время понятий и догм. Он, например, возразил против термина «производственная демократия», сославшись на то, что в свое время его критиковал Ленин. Предложил более твердо сказать о восстановление веры в партию, убедительно раскрыть вопрос о роли местных Советов.
Ельцин выразил несогласие с завышенной оценкой перестройки: «Большой контраст в оценке доапрельского и послеапрельского периодов. Во многих эшелонах не произошло ни оздоровления, ни перестройки. Критика идет пока в основном сверху вниз. Мы никак не можем уйти от нажимного стиля в работе и что это идет от отделов ЦК.»
Ельцин предложил пополнить перечень территорий, пораженных застоем, и вместе с тем дать оценку перестройки по крупным организациям. Тут явно содержался намек на Москву. В докладе, действительно, отсутствовали ссылки на московскую и ленинградскую партийные организации, традиционные в прошлом, когда считалось, что они всегда были впереди.
Между тем в Москве шли очень сложные процессы. Приход Ельцина к руководству в столице кардинально изменил обстановку в ней. Москва превратилась из зоны, свободной от критики в зону насыщенной, концентрированной критики, и тон в ней задавал первый секретарь. Началась яростная борьба с застоем, привилегиями, с нарушениями дисциплины, массовая замена кадров. Но положение дел в городе в жилищно-коммунальном хозяйстве, на транспорте, в торговле, в поддержании порядка менялось очень медленно. Начали сказываться и перехлесты в кадровой политике.
Такая информация доходила до руководства ЦК, вызывая определенную озабоченность — ведь столица есть столица. Какое-то внутреннее беспокойство и настороженность проявилась у московского руководителя.
Должен сказать, что критический настрой Ельцина, его динамизм на фоне инертности многих руководителей мне импонировали. Случайно сохранился листок бумаги, на котором мы с Яковлевым обменялись репликами по поводу выступления Ельцина на этом заседании Политбюро:
— Я — А. Н.: «Оказывается, есть и левее нас, это хорошо».
— А. Н. - мне: «Хорошо, но я почувствовал какое-то позерство, чего не люблю».
— Я — А. Н.: «Может быть, но такова роль».
— А. Н. - мне: «Отставать — ужасно, забегать — разрушительно».
В заключительном слове Горбачев, поблагодарив за анализ и оценки, подчеркнул, что через Пленум мы выходим на новые рубежи теории, политики, новые подходы ко многим вопросам. Всем нам надо учиться работать в условиях демократии.
Кратко, но довольно весомо докладчик ответил на замечания Ельцина в том смысле, что, конечно, нельзя впадать в самоуспокоение и тем более в самовосхваление, но в то же время было бы неправильно и принижать значение того перелома, который происходит в стране. Он подчеркнул, что нам нужна перестройка, а не перетряска, как это иногда понимают некоторые горячие головы.
Все это не выходило за пределы нормальных дискуссий в Политбюро. Борис Николаевич воспринял эту реакцию болезненно. Все разошлись, а он остался сидеть в своем кресле, не скрывая своих тяжелых переживаний. Пришлось вызывать врача, но его помощь, кажется, не потребовалась.
27 — 28 января состоялся Пленум ЦК. Выступили 34 оратора из 77 записавшихся. Надо прямо сказать, что уровень выступлений на Пленуме был значительно ниже доклада, несмотря на то, что члены ЦК заранее были ознакомлены с его основными идеями. К сожалению, в дальнейшем это стало дурной традицией. Естественно, постановление Пленума было принято в духе доклада. В основном одобрен также проект Закона о государственном предприятии для вынесения его на всенародное обсуждение.
Решены и персональные вопросы. От обязанностей члена Политбюро был освобожден Кунаев, а от обязанностей секретаря ЦК Зимянин. Яковлев был избран кандидатом в члены Политбюро, а Лукьянов — секретарем ЦК КПСС. Место Лукьянова как заведующего Общим отделом ЦК занял Болдин.
М. С. Горбачев пригласил меня с Яковлевым и Болдиным на дружеский ужин, на котором присутствовала и Раиса Максимовна. Он проходил в комнате рядом со служебным кабинетом Горбачева в Кремле, как принято было называть «на высоте». Шел непринужденный товарищеский разговор. Настроение у всех приподнятое, ведь пройден очень важный начальный рубеж перестройки.
Пленум действительно дал мощный стимул к усилению процессов демократизации в стране и в партии. Его решения, помимо того, что они подготовили политическую, психологическую почву для коренной реформы политической системы, имели и прямое действие. На них стали ориентироваться прогрессивные силы в партии, беря на практическое вооружение его идеи, установки, не дожидаясь формальных постановлений. Демократические начала стали все полнее входить в жизнь трудовых коллективов, регионов, в весь механизм общественного управления.
Программа экономической реформы: многообещающее начало
В 1986 году экономическая ситуация в стране несколько улучшилась, что естественно, связывалось с позитивным влиянием перестройки, и это было, по-видимому, действительно так. Сказались общественный подъем, повышение дисциплины и организованности. В результате удалось в полтора раза, с 2,4 до 3,3 процента увеличить прирост валового национального продукта, с 3,4 до 4,4 — продукции промышленности, с 0,2 до 5,3 — сельского хозяйства.
Я думаю, это расхолаживающе подействовало на руководство, усыпило в какой-то мере бдительность и снизило решительность в проведении экономической реформы.
И вдруг в январе произошел сбой. Возникли трудности с топливом и энергией, с некоторыми видами проката и шарикоподшипников, а также с продуктами химической промышленности. Наступил спад производства, который, впрочем, в дальнейшем удалось локализовать и нейтрализовать. Он был воспринят тогда как результат стечения некоторых неблагоприятных обстоятельств. Но в действительности это был первый признак серьезной болезни, звонок глубокого экономического кризиса, в полную силу развернувшегося через два-три года. Именно такой срок был отведен жизнью для проведения радикальной реформы, хотя в полной мере мы тогда этого еще не осознавали.
Январский сбой стимулировал возвращение к радикальной экономической реформе, работа над которой до этого шла вяло, вразброс, без должной концентрации внимания и сил. Уже в начале марта, находясь в кратковременном отпуске в Пицунде, Горбачев вел интенсивные переговоры по этим вопросам с руководителями правительства, учеными. По его поручению и я подготовил и направил ему свои соображения.
Вернувшись из отпуска Горбачев пригласил к себе Рыжкова, Слюнькова, Яковлева, меня, Болдина, Можина, Биккенина, Аганбегяна, Ситаряна и Абалкина. Состоялся развернутый четырехчасовой разговор по концепции очередного Пленума и подготовке необходимых для него материалов. Разговор до предела откровенный. Все сходились на том, что должна быть разработана целостная система управления экономикой. Об этом говорили и Рыжков, и Аганбегян, и Абалкин. Только комплексный подход мог дать шанс на успех.
Но уже на этой стадии обнаружились серьезные различия в подходах. Особенно острая дискуссия развернулась по вопросу об объемных показателях. Как заметил Горбачев, представители государственных органов управления — за то, чтобы объемные показатели держать в руках планирующих органов, а ученые — за то, чтобы обеспечивать регулирование производства через экономические методы и нормативы.
Рыжков сетовал, что правительство начинает терять нити управления материально-техническим снабжением, что цены тоже нельзя упускать и т. д. Делались ссылки на ситуацию в легкой промышленности, которая заключила договора с торговлей на 3 млрд. меньше, чем предусматривалось планом, и этим мотивировалась необходимость директивных заданий для предприятий отрасли. Но возник резонный вопрос — зачем же задания на эти 3 млрд. продукции, если на них торговля не предъявляет спроса?
Об остроте дискуссии можно судить по замечанию Абалкина: «Нельзя предложения по перестройке поручать тем, кого она касается». Справедливость его был подтверждена всем последующим ходом событий.
В дальнейшем подготовка Пленума шла как бы по двум руслам. В Волынском силами ученых и работников ЦК КПСС — Анчишкина, Аганбегяна, Абалкина, Ситаряна, Можина, Биккенина, Ожерельева — развернулась подготовка общей концепции реформы в виде тезисов, а затем и самого текста доклада. С этой группой постоянно работал я, привлекая и других товарищей, в том числе Павлова, Попова, Белоусова. Впервые был приглашен к работе группы Петраков, ставший впоследствии помощником Горбачева.
Одновременно в правительстве с участием Слюнькова шла работа над пакетом постановлений по конкретным компонентам хозяйственного механизма, и по мере готовности эти документа выносились на заседания Политбюро. В частности, обсуждались финансовая ситуация в стране и предложения по перестройке финансово-кредитного механизма, ценообразованию, об изменении планирования и материально-технического снабжения, управления научно-техническим прогрессом, предложения о структуре и функциях органов управления и некоторые другие.
На каждый из этих проектов, с учетом общей концепции реформы, нами в Волынском давалась развернутая оценка, которая широко использовалась Горбачевым в ходе обсуждения.
Практически каждый раз пришлось и мне высказывать нелицеприятные замечания по проектам правительства. На этой почве нередко возникали перепалки с Рыжковым, болезненно воспринимавшим критические замечания, мои отношения с ним временами становились напряженными.
В чем суть этих споров? Конечно, проекты, выходившие из недр правительства, не могли не откликаться на насущные потребности перестройки экономического механизма. Но это было отступление с боями, сопротивление оказывалось на каждом рубеже. Можно было почти физически ощущать насколько был труден и мучителен для правительственных структур отход от сложившихся стереотипов, централистских методов управления.
Постепенно выявилась их позиция, на которой решено было «застолбиться» и дать главный бой сторонникам радикальных экономических перемен. Она касалась трактовки контрольных цифр и госзаказа. По сути дела речь шла о том, чтобы предложить новые термины, но сохранить в этом облачении старую систему централизованного планирования. Контрольным цифрам по объему продукции в рублях стремились придать обязательный характер, а госзаказ, навязываемый сверху, распространить на подавляющую часть номенклатуры производимой продукции. Таким образом, в рамках жесткой централизации оставались и объем продукции и ее номенклатура.
Наша позиция, которую поддерживал и Горбачев, состояла в том, что контрольные цифры могут носить для объединений и предприятий лишь ориентировочный характер. В основном же они должны использоваться на макроуровне для изучения и регулирования народнохозяйственных пропорций. Что касается госзаказа, то он должен выдаваться предприятиям на поставку лишь, некоторых видов продукции для удовлетворения особо важных государственных и общественных потребностей. Он должен стимулироваться и ценами, и гарантированным обеспечением ресурсами, не навязываться предприятиям, а быть выгодным для них.
В правительственных проектах явственно прослеживалась тенденция к затягиванию сроков осуществления ценовой реформы, перехода к оптовой торговле средствами производства, причем, применялся казавшийся их авторам неотразимым аргумент: оптовая торговля хорошо, но переход к ней невозможен до тех пор, пока не преодолен дефицит в ресурсах. С немалым трудом удалось внедрить истину, что дефицит ресурсов сам является неизбежным следствием карточной системы распределения ресурсов, неизбежно порождается ею. Образуется порочный круг, который надо разрубать, иначе ни на шаг не продвинуться вперед.
Пакет правительственных документов дорабатывался вплоть до Пленума, но с моей точки зрения, так и не был доведен до состояния, адекватного докладу. Я считал, что их не следует принимать на Пленуме, а лишь одобрить в основном, а после этого подвергнуть доработке с учетом итогов Пленума. Чтобы иметь официальную концепцию реформы, мы предложили принять на Пленуме адекватный докладу документ — «Основные направления перестройки управления экономикой». Так и было сделано: такой документ был подготовлен в Волынском и предложен Политбюро, а затем и Пленуму.
После некоторого перерыва, вызванного совещанием ПКК в Берлине, и состоявшегося сразу после этого визита Горбачева в Бухарест, в которых я также принимал участие, наступила заключительная фаза работы над подготовкой доклада, в которой помимо Генерального секретаря участвовали Яковлев, Слюньков, Болдин и я.
В субботу, 20 июня, уже после того, как доклад разослали членам Политбюро, в Волынском произошло решающее объяснение по тем вопросам, которые были предметом горячих споров на протяжении всех этих месяцев. В Волынское прибыли Рыжков с помощником и, по-моему Талызин. В результате еще одной дискуссии в проекте документов Пленума вместо туманных формулировок включено ясное указание на то, что контрольные цифры не имеют директивного характера. Вместе с тем в перечень контрольных цифр включен не только объем продукции, но и платежи в бюджет, а также показатели научно-технического прогресса и социального развития.
22 июня доклад обсужден на заседании Политбюро, в ходе которого был воспроизведен по сути дела весь спектр мнений, выявившийся задолго до этого. Заслуживает быть упомянутым, пожалуй, лишь одно — позиция Ельцина, который, как я хорошо помню, высказался в том духе, что Пленум и особенно конкретные правительственные постановления недостаточно подготовлены. А еще раньше, по-моему, при обсуждении тезисов, он, правда, в сослагательном наклонении заметил, что не следует ли с докладом на Пленуме выступить Рыжкову?
В отношении пакета правительственных решений внутренне я был согласен с ним. Но откладывать проведение Пленума было уже некуда. И без того было потеряно много времени. На этом этапе он заключал в себе серьезное продвижение вперед, но все дело состояло в том, чтобы быстрее двинуть вперед разработанные решения.
Что касается самого Пленума, состоявшегося 25–26 июня, то тут повторилась та же картина, что и в январе. Несмотря на то, что члены Пленума располагали и тезисами, и пакетом документов, уровень их выступлений слабо корреспондировался с постановкой в докладе проблем кардинальной экономической реформы. Опять обилие общих оценок и заверений, увлечение сравнительно узкими местными или отраслевыми вопросами.
Значимость Пленума была подчеркнута принятием постановления о созыве XIX партийной конференции. Изменился состав Политбюро, пополненный Слюньковым, Яковлевым и Никоновым. Кандидатом в члены Политбюро избрали Язова, сменившего на посту министра обороны СССР Соколова.
Как известно, толчком для этой замены послужил казус с полетом и приземлением на Красной площади Руста. Об этом мы узнали в Берлине, и возмущению порядками в Вооруженных Силах не было предела. На обратном пути в самолете, обсуждая это событие с Михаилом Сергеевичем, Шеварднадзе и я, не сговариваясь, посоветовали ему принять самые срочные и жесткие меры по этому поводу, в том числе в отношении руководства Министерством обороны. Как выяснилось на Политбюро, такой же позиции придерживались и все другие наши коллеги.
Вечером в Волынском собрались Яковлев, Болдин, Лукьянов, Разумовский, был и Кручина, поздравили нового члена Политбюро. А на следующий день Михаил Сергевич, как и в январе, пригласил нас с Яковлевым и Болдиным на дружеский обед в Кремле.
Повторю, я воспринимал это как знак дружеского доверия и признательности и как случай для обсуждения ситуации. Мне казалось, что этим жестом Горбачев, как и в январе, хотел также снять некоторую неловкость, которая возникала в связи с тем, что Яковлева он продвинул в Политбюро, а я оставался в прежнем качестве. Кое-кто из нашептывателей пытался поиграть на этом, но я с пониманием относился к шагам Генсека, зная обстановку на идеологическом участке и понимая необходимость укрепления позиций Яковлева.
Непросто, в трудных поисках, столкновении мнений рождался план проведения реформы. С учетом печального опыта реформы середины 60-х годов, на сей раз исходным моментом был определен перевод на новые методы работы первичного звена народного хозяйства. Попытки в прошлом начать преобразования с верхних этажей не удавались, встречали сильнейшее сопротивление прежде всего со стороны тех органов управления, которые должны были сами ограничить свои права.
Замысел состоял в том, чтобы в низовых звеньях создать бастионы новых экономических структур и затем, опираясь на них, перестраивать экономический механизм на более высоких этажах. По мысли авторов реформы несущей конструкцией и своеобразным камертоном при принятии и осуществлении всех других решений по хозяйственной реформе должен служить Закон о предприятии, принятый Верховным Советом СССР 30 июня. Его решено было ввести в действие через полгода, с 1 января 1988 года.
Одновременно предполагалось развернуть постепенный переход на оптовую торговлю средствами производства, перестроить финансово-кредитную систему и готовить реформу ценообразования, чтобы провести ее в начале 1989 года. Имелось в виду, что переход на новые методы хозяйствования позволит вначале укрупнить отраслевые министерства, а затем постепенно их упразднить. Вместе с тем партийные органы постепенно освободились бы от функций экономического управления.
Таким образом, предполагался некий переходный период сосуществования старых и новых методов хозяйствования продолжительностью примерно в 3–4 года. Можно, конечно, по-разному оценивать план реформы 1987 года. Я и сегодня считаю, и не потому, что причастен к ней, что она была серьезной попыткой экономических преобразований, прогрессивна для своего времени, и что очень важно — комплексно решала основные проблемы. С точки зрения сегодняшнего дня некоторые ее важные слагаемые представляются недостаточными, робкими, компромиссными и даже наивными, но надо было начать реформу, а жизнь помогла бы выработать дальнейшие шаги, внести коррективы.
Необоснованно растянутыми оказались сроки реализации намеченных мер. Мы правильно оценили ситуацию в экономике страны в середине 80-ых годов как предкризисную. Как показал дальнейший ход событий более или менее сносная конъюнктура сохранялась в течение 1987–1988 годов, а уже в 1989 и особенно в 1990 годах кривая отчетливо пошла вниз. Это значит, что времени на осуществление радикальной экономической реформы нам было отпущено не 3–4 года, а значительно меньше. Надо было принимать экстраординарные меры, решительно переходить к рыночным отношениям.
Произошло же нечто обратное — некое самоуспокоение и даже отступление от принятой программы экономических реформ. Подспудно активизировались инерционные, консервативные силы в в недрах того аппарата, который был призван практически реализовать принятые решения. Предприятия стали душить госзаказом, обволакивать системой нормативов. Не происходило и реальных подвижек в переходе к оптовой торговле средствами производства. Оказывалось яростное сопротивление упрощению и сокращению управленческих структур.
По-существу та борьба, которая велась при подготовке Пленума, не прекратилась и после него, напротив, разгорелась с новой силой. Тут многое зависело от Рыжкова, к которому в руководстве сохранялось полное доверие. Я думаю, он не был противником реформы, и тем более его трудно заподозрить в какой-то двойной игре. Но он находился под сильнейшим давлением со стороны могущественных экономических структур, не мог ему противостоять.
Меня особенно встревожил начавшийся спустя несколько месяцев после Пленума отход от реформы ценообразования. Госплан, Минфин и Госкомцен стали выдвигать различного рода урезанные ее варианты, например, провести только реформу оптовых цен, не затрагивая розничных, что было равнозначно отказу от общей реформы ценообразования. Такие предложения вносились в Политбюро, а правительство при этом занимало выжидательную позицию.
Массированная кампания против пересмотра розничных цен с чисто популистских позиций была развернута в печати. Никакого противодействия ей не оказывалось. От реформы цен начали отворачиваться и ученые… — те самые, которые были ее соавторами.
В середине августа 1987 года у меня состоялся разговор с Горбачевым, который находился в это время на юге. Он спросил:
«Вадим, не изменилась ли твоя позиция в связи с тем, что мнения по вопросу о ценообразовании разделились и произошла их поляризация?»
«Нет, не изменилось и не изменится, ибо это сама судьба реформы. Без нее все разговоры о перестройке экономического механизма — пустопорожняя болтовня. Конечно, лучше было бы проводить реформу в 1987 году или в 1988, но отодвигать ее и с 1989 года — это безрассудство.»
Горбачев поручил мне посоветоваться с учеными и высказать обитую точку зрения. В дальнейшем у меня произошло несколько встреч со своими коллегами — экономистами, и я убедился: большинство из них пришло к выводу, что реформу ценообразования в ближайшее время проводить нельзя. Последний разговор состоялся 6 ноября с участием Абалкина, Петракова, Шаталина, Куликова и Ожерельева. По сути, я оказался в изоляции. В какой-то мере лишь Петраков занимал приемлемую позицию. Я без обиняков назвал такое мнение коллег отступничеством. Самый легкий путь: вместо того, чтобы пойти против сиюминутных общественных настроений, двигаться вперед, предлагают все затормозить и тем самым обречь реформу на неудачу: ведь дальше нас ничего хорошего не ожидает.
В итоге сложился своего рода консенсус между правительственными кругами, учеными, прессой и общественным мнением. Причем, позиция правительства была примерно такой: «Мы-то не против, но видите, какое настроение в стране».
Тут нужно было проявить огромную настойчивость, твердую волю, пойти против течения. Запас политической прочности, авторитета власти, доверия к ней, да и экономическая ситуация позволили еще в 1988 и даже в начале 1989 года начать болезненные, но необходимые экономические меры. К сожалению, этого сделано не было.
А затем обстановка стала быстро меняться. Нарастание экономических трудностей, дезорганизация потребительского рынка и денежного обращения из-за утраты контроля над денежными доходами населения, принятия под давлением популизма нереальных социальных программ и т. д. Всплеск политических страстей, начавшееся противоборство левой и правой оппозиций, падение авторитета Горбачева вообще поставили под вопрос осуществление радикальных экономических реформ.
С осени 1988 года я стал меньше заниматься экономическими делами в связи с переменами в моей деятельности, о которых я скажу ниже. Но, участвуя в работе Политбюро и Секретариата, с тревогой наблюдал, как быстро ухудшается экономическая ситуация и уходит время реформ. И не только наблюдал, но и высказывал свое мнение на этот счет, но оно каждый раз воспринималось правительством как вторжение в чужую епархию. По-видимому, и у меня сказывалось все-таки недостаточное понимание опасностей, нависших над экономикой, не были использованы полностью все возможности влияния на Горбачева. Я это говорю не в порядке оправдания, ибо оправдания нет и быть не может. Я, как член Политического руководства того времени, не могу снять с себя ответственность за то, к чему мы пришли в экономике, в других сферах жизни.
Уроки истории
Все это было потом, а на 1987 год выпало еще одно событие, оказавшее большое влияние на перестройку, формирование ее идеологии, понимание исторических корней и смысла осуществляемых преобразований. Таким событием явилось празднование 70-летия Октябрьской революции.
Дело, конечно, тут не в круглой дате и не в юбилейных торжествах, которые прошли несравненно более скромно и в этом смысле выпадают из обоймы юбилеев, с помпой отмечавшихся в 60-е и 70-е годы. Значение этого события определяется тем, что в связи с ним был поставлен по-новому ряд крупнейших проблем истории советского общества, сделан важный шаг в переоценке традиционных ценностей.
Собственно, эти проблемы стали вставать сразу же, как только мы начали разбираться в истоках застойной ситуации. Было ясно, что причины застоя лежат глубже, в особенностях социально-политической системы, сложившейся на протяжении ряда десятилетий.
По мере проникновения в суть этих проблем становилось все более очевидно, что в 50-60-е годы критический анализ основных этапов «социалистического строительства в стране» был дан односторонне, главным образом с точки зрения личностного фактора, культа личности Сталина. Да и к тому же он был прерван на полпути, а может быть даже и в его начале. Без возобновления этого процесса и доведения его до конца, без восстановления исторической правды нечего было и надеяться на успех перестройки. Честная, открытая политика в настоящем и будущем требует столь, же честной, объективной и реалистической оценки пройденного пути.
Нельзя было не учитывать и то, что демократизация и гласность создали совершенно новую идеологическую обстановку в стране. Произошел в хорошем смысле взрыв в духовной жизни, наступил конец «запретных» тем, касающихся как современной жизни, так и истории.
Подлинным откровением для общественности стали книги, десятилетиями пылившиеся в рукописях или лежавшие в «спецхранах». Среди них «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова, «Белые одежды» Владимира Дудинцева, «Зубр» Даниила Гранина, «Новое назначение» Александра Бека, «Ночевала тучка золотая» Анатолия Приставкина, книги авторов русского зарубежья.
Ошеломляющее впечатление произвел фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Появились новые, яркие и острые спектакли. Ученые получили доступ к ранее запретным произведениям Бухарина и Троцкого, экономистов Кондратьева и Чаянова, философов Соловьева и Бердяева, нетрадиционных историков. Начался бурный процесс переосмысления исторических событий и личностей средствами публицистики, литературы и искусства. В своей основе он носил здоровый творческий характер, но, естественно, не обходился без субъективных увлечений, односторонности, перехлестов, а порой и прямого искажения исторических событий. Одна полуправда нередко подменялась другой.
Надо было активно включиться в этот процесс, чтобы не утратить влияние на него, выработать свои критерии и ориентиры.
Откровенно говоря, весной 1987 года, когда в наших внутренних дискуссиях возник этот вопрос, я высказался против массированного перенесения огня с брежневского периода на 20-50-е годы и как раз не по принципиальным мотивам, а по мотивам своевременности. Я говорил Горбачеву, что еще мало сделано реального в обновлении страны, решении назревших проблем, чтобы можно было на это опереться в критическом осмыслении пройденного пути. В перенесении огня с брежневского застойного периода на предшествовавшие этапы в немалой степени заинтересована определенная журналистская братия, повязанная активным прославлением успехов брежневского правления.
Я считал также, что нельзя проявлять односторонность, давать полный простор одним мнениям, настроениям и ограничивать или вытеснять другие. Это недемократично. В идеологической сфере должен быть представлен весь спектр мнений, суждений, а сама жизнь отберет то, что правильно.
Такую позицию я излагал не только в узких беседах, но и на заседании Политбюро. Но когда в практическую плоскость встал вопрос о подготовке доклада к 70-летию Советской власти и начали вырисовываться его основные контуры, стало ясно, что без обращения к Октябрю и к последующим этапам развития страны — исключительно сложным и болезненным — обойтись невозможно. Горбачев пришел к выводу, что прежде чем выступать с докладом на 70-летии Октября эти вопросы, ввиду их первостепенной политической и идеологической важности, придется вначале обсудить не только на Политбюро, но и на Пленуме ЦК.
Припоминаю, что еще в середине июля Михаил Сергеевич пригласил к себе секретарей ЦК и ознакомил их с материалами комиссии Шверника по расследованию политических процессов 30-х годов, созданной при Хрущеве. Это расследование было закончено в 1962 году, а выводы представлены в ЦК. Хрущев информировал о них членов тогдашнего Президиума, но дальнейшего хода им не дал. О содержании этих материалов знал Брежнев, впоследствии они докладывались Андропову и Черненко, но до последнего времени лежали без движения.
28 сентября Горбачев вернулся к этому вопросу и по его предложению была создана комиссия по пересмотру дел 30-50-х годов в составе Соломенцева, Яковлева, Чебрикова, Лукьянова, Разумовского, Болдина и Смирнова (директора ИМЛ). Ей переданы материалы комиссии Шверника, а по мере готовности выводов они докладывались Политбюро. После ухода Соломенцева на пенсию, работу комиссии возглавил Яковлев, а я вошел в ее состав.
В принципе было ясно, что все эти дела сфабрикованы, а потому имелись все основания для того, чтобы поставить вопрос о законности политических процессов 30-х годов в целом, независимо от того, какие обвинения предъявлялись к репрессированным лицам, к каким оппозициям в свое время они принадлежали или наоборот, не принадлежали (последних оказалось подавляющее большинство). Что касается идейно-политических течений в 20-е годы, то они требуют научного анализа и оценки. В таком духе высказывал свое мнение Горбачеву. Позднее я убедился, что работа по оценке процессов 30-50-х годов была необходимой не только с юридической, но и с политической, да и просто с человеческой, точки зрения.
Перед нашими глазами прошли сотни и тысячи исковерканных судеб, в подавляющем большинстве ни в чем не виновных, честных и чистых людей, искренне преданных партии и социализму. В конце пришлось все-таки принять и общее решение об отмене незаконных решений «двоек», «троек» и особых совещаний.
К началу 1990 года реабилитация жертв сталинских репрессий в основном была завершена. Всего реабилитировано 807 тысяч человек, репрессированных по решениям «троек», «двоек» и «особых совещаний», а также 31 тысяча 342 человека по решениям судебных и прокурорских органов. Отказано в реабилитации 21 тысяче 333 лицам — карателей в период Отечественной войны и других преступников, их пособников, а также бывших работников административных органов, уличенных в фальсификации уголовных дел. В пятидесятые годы было реабилитировано 737 тысяч 182 человека, но тогда рассматривались лишь дела тех, кто оставался в живых.
Всего же за 1917–1990 годы по обвинению в государственных преступлениях было осуждено 3 миллиона 853 тысячи 900 человек, из них 827 тысяч 995 — расстреляно. К этому надо добавить 2 миллиона 300 тысяч депортированных, не говоря уже о жертвах голода и других лишениях.
Тягчайшие преступления сталинского режима никогда не будут забыты!
К работе над юбилейным докладом я подключился в середине сентября. До этого над ним вместе с Горбачевым трудились Яковлев, а также Фролов и Черняев, ставшие к тому времени помощниками Генсека. Моя роль состояла в изложении современных проблем перестройки, прежде всего в экономической области.
Ознакомившись с уже имевшимися материалами, я убедился, какая огромная и принципиальной важности работа проведена Горбачевым, и вместе с тем, сколько еще надо сделать, чтобы довести доклад до необходимых высоких кондиций. Дал Горбачеву свои развернутые замечания и предложения. Они, по-моему, представляют определенный интерес, и не только с содержательной точки зрения, сколько, как иллюстрация характера внутренних дискуссий в команде Горбачева, уровня критичности и т. д.
Привожу некоторые из них по своей записке:
«Считаю ненужным, искусственным введение понятия «развивающийся социализм» (на нем настаивал Фролов, предлагая вынести его даже в название доклада). Оно представляется мне тавтологичным, ибо подлинный социализм только и можно мыслить как развивающуюся систему. Кроме того, эта формула вызывает ассоциации с понятием развитого социализма. Да и вообще, стоит ли концентрировать внимание вокруг определений, понятий, терминов, тем более, канонизировать их, повторяя ошибки прошлого».
«…В отношении идейно-политических течений в 20-е годы — как левой, так и правой оппозиции — следовало бы больший акцент сделать не столько на личностных мотивах борьбы за власть, сколько на содержании тех или иных идейно-политических платформ. Особенно это относится к троцкистской оппозиции, о которой у многих очень смутное представление. Прояснить этот вопрос еще важно и для того, чтобы отмежеваться от авантюризма в политике, от идеологии насаждения мировой революции, насильственных методов социалистического строительства. Это не утратило актуальности и сегодня.»
«…Более обстоятельного рассмотрения заслуживает проблема международных условий развития нашей страны. Ведь в прошлые годы сложился стереотип, согласно которому именно положение страны во враждебном окружении явилось, якобы, главным фактором ограничения демократии, усиления централизма, да и вообще возникновения всего того, что принято называть последствиями культа личности.»
«…С моей точки зрения, оказались обедненными и характеристики периода торможения, предшествующего перестройке, не раскрыта, хотя бы в принципиальном виде, острейшая ситуация, сложившаяся в стране. А потому и обоснование перестройки получилось несколько односторонним, отличающимся от того, которое давалось в предыдущих выступлениях Горбачева и соответствующих документах. Получилась примерно такая схема: в 20-е годы отступили от Ленина, от принципов социализма, после 1953 года пытались поправить дело, но не довели его до конца, а вот теперь, «на новом витке исторической спирали… возрождаются во всей чистоте идеи Октября.»
«…Слов нет, в процессе перестройки общество должно освободиться от наслоений прошлого, восстановить ленинские принципы социализма, но ее нельзя понять и вне задач обновления общества под влиянием новых исторических факторов и прежде всего научно-технической революции. Если об этом не сказать, то само возникновение стагнации и предкризисной ситуации, содержание процесса обновления не могут быть раскрыты достаточно полно и глубоко.»
«…Не вполне адекватно, не очень гибко изложены идеи XXVII съезда о современном мире. Подчеркивается взаимосвязь, взаимозависимость стран и народов, целостность мира и слабее звучит тезис о его разноликости и противоречивости. А ведь там шла речь о целостности современного мира, как о незаконченной, становящейся, в которой противоборствуют интеграционные и дезинтеграционные тенденции.»
«…В докладе следовало бы сказать о нашем отношении к социал-демократии, тем более, что многие из социал-демократических и социалистических партий будут присутствовать на торжественном заседании, а затем участвовать в широком совещании представителей левых партий, которое решено провести в Москве сразу после юбилея.»
Высказал замечания и предложения по ряду других вопросов. Они были приняты с пониманием и в той или иной степени учтены.
В середине октября работа над докладом в основном закончилась и его вынесли на обсуждение Политбюро.
Предварительный обмен мнениями, состоявшийся у Генерального секретаря с членами Политбюро, показал, что доклад можно взять за основу. Поэтому председательствующий предложил конкретные замечания передать ему, в выступлениях остановиться лишь на принципиальных вопросах. Тем не менее получилась довольно развернутая дискуссия. В ходе большинство ее участников — Рыжков, Лигачев, Громыко, Долгих, Чебриков, Щербицкий, Алиев, Воротников, Соломенцев, высказав, естественно, положительную оценку, в то же время старались как-то смягчить критический настрой доклада, восстановить традиционные подходы и формулы. Мы с Яковлевым, а также Шеварднадзе, естественно, отстаивали основные положения и тональность доклада, подчеркивая, что нужен доклад реалистичный и объективный («юбилейный, но без юбилейщины»), способный открыть новые возможности для идеологической и теоретической работы.
Выступал и Ельцин. В своей книге «Исповедь на заданную тему» он пишет, что это Политбюро послужило импульсом к его выступлению на октябрьском Пленуме ЦК: что его замечания, якобы, вызвали неудовольствие и даже раздражение Горбачева, что после этого Горбачев чуть ли не прекратил общение с ним и т. д. и т. п.
Мне, конечно, трудно, не располагая стенограммой, текстуально воспроизвести это выступление. Но я хорошо помню, что никакой обостренной и тем более конфликтной ситуации в связи с ним на заседании не возникало. Сохранившиеся у меня пометки говорят о том, что основные замечания Ельцина не несли в себе негативного отношения к докладу, шли в общем русле, носили традиционный характер.
Ельцин, как и некоторые другие ораторы, возражал против смещения акцентов с октябрьской революции на февральскую, говорил о необходимости иметь в докладе «целый блок» о роли Ленина, предлагал назвать его соратников. Он критиковал доклад за то, что выпал целый период гражданской войны, предложил уменьшить объем оценочных суждений относительно оппозиции в партии до получения выводов комиссии Политбюро.
И на Пленуме, состоявшемся через несколько дней, основные положения доклада получили дружную поддержку. Было даже решено не открывать прения и только после известного заявления Ельцина об отставке развернулась острая дискуссия, но уже не по докладу. К ней я вернусь несколько позже.
Окончательно Михаил Сергеевич доработал доклад вместе с Яковлевым, Черняевым, Фроловым и мной в Завидове. Там же подготовили и выступление Горбачева для международной встречи представителей левых партий, состоявшейся после юбилейных торжеств.
Торжественное заседание, посвященное 70-летию Октябрьской революции, международная встреча руководителей и представителей левых партий вызвали большой резонанс в стране и за рубежом, оказали заметное влияние на политические и идеологические процессы в нашем обществе. Столь серьезное обсуждение теоретико-исторических проблем как бы осветило перестройку с точки зрения крупных исторических этапов развития страны, пролило свет на ее корни, дало богатую пищу для процесса обновления системы идейно-теоретических и исторических ценностей.
Начало борьбы: «бунт Ельцина» и «ниноандреевский манифест»
Начавшиеся в 1987 году преобразования впервые серьезно затронули интересы людей, различных социальных групп, общественных организаций, управленческого персонала — так называемой номенклатуры. Началось реальное политическое самоопределение людей, размежевание позиций.
Именно этот период отмечен бурным ростом общественной самодеятельности. Число различного рода неформальных объединений и организаций стало измеряться сотнями и тысячами. К этому времени относится зарождение широких национальных движений. В подавляющей массе это был совершенно естественный, здоровый демократический процесс, который, впрочем, отражал уже тогда очень широкий спектр настроений — от прямой поддержки перестройки до экстремистских проявлений.
На поверхность одна за другой стали всплывать проблемы, которые не решались в течение десятилетий, загонялись вглубь, становясь от этого еще более болезненными и не только в социально-экономической сфере. Появились первые признаки обострения межнациональных отношений. Обнажились проблемы Нагорного Карабаха, которые послужили детонатором обострения других национальных проблем и конфликтов.
Естественно, и сама партия, и ее руководство оказались не свободными от влияния противоречий, возникших в обществе, от противоборства между различными пониманиями сути перестройки и ее методов. В идеологической сфере и, особенно в средствах массовой информации, после длительного периода вынужденного молчания, запретов и ограничений бурно развивался процесс критической активности, нарастания плюрализма мнений. Начались острые идеологические схватки и баталии, иногда приобретавшие характер беспринципной междоусобицы и даже склок. Противоборствующие силы искали покровителей в высших партийных сферах и, прямо скажем, небезуспешно.
За перестройку были практически все. Но теперь за этим одобрением стали проявляться глубокие различия в позициях. Те, кто понимал под перестройкой лишь устранение некоторых одиозных явлений и легкое обновление общества, теперь, когда встал вопрос о глубинных преобразованиях, почувствовали, что у них почва начинает уходить из-под ног. Стали поднимать панику, заговорили о размывании «основополагающих ценностей» и чуть ли не о «крушении основ». Другие, напротив, полагали, что движение идет слишком медленно, что нужно решительнее кончать со старым, не особенно разбираясь, что представляет реальную ценность, а что порождено административно-командной системой и тоталитарными методами руководства.
Именно на этом фоне следует, как мне представляется, рассматривать два, казалось бы совершенно разных события — «бунт Ельцина» на Октябрьском Пленуме ЦК 1987 года и острую схватку в Политбюро вокруг статьи Нины Андреевой в марте 1988 года. Оба они вызвали большой резонанс в партии и стране, имели самые серьезные последствия, по сути дела положили начало острой политической борьбе, открыли в ней левый и правый фронты.
Об этих событиях немало написано и сказано. Но их смысл и фактическая канва прояснены далеко не до конца… Немало тенденционных и даже крайних оценок.
Тут нам надо вернуться к Пленуму ЦК КПСС 21 октября. Заслушано почти двухчасовое выступление Горбачева об основных положениях предстоящего доклада о 70-летии Октябрьской революции. К тому же участники Пленума имели возможность и предварительно ознакомиться с материалом по этому вопросу, розданным заранее. С учетом этого Пленум решил не открывать прения по докладу. И тут грянул «гром среди ясного неба»: Ельцин решительно потребовал слова и выступил с хорошо известным теперь заявлением, которое произвело эффект разорвавшейся бомбы. Это было совершенно неожиданным не только для членов ЦК, но и для членов Политбюро и секретарей ЦК, да и для самого Горбачева…
Развернулись прения, в которых приняло участие 26 ораторов, в том числе все члены Политбюро, практически все они осудили выступление Ельцина, да и сам он в конце признал свой шаг ошибочным. Председательствующий Горбачев предложил ему взять назад заявление об отставке, тем самым как бы бросил спасательный круг, но он не был принят. Результат — известное постановление Пленума, в котором выступление Ельцина признано политически ошибочным, а Политбюро и Московскому горкому партии поручено рассмотреть заявление Ельцина об освобождении его от обязанностей первого секретаря МГК КПСС с учетом обмена мнениями, состоявшегося на Пленуме ЦК КПСС.
Стала известной и предыстория вопроса. Оказывается, 12 сентября Ельцин направил Горбачеву, находившемуся в то время в Крыму, письмо, в котором со ссылкой на «недостаточную поддержку и равнодушие к московским делам и холодное отношение к нему со стороны некоторых из состава Политбюро», неправильный стиль работы Секретариата ЦК и лично Лигачева, «скоординированную травлю», в категоричной форме сделано заявление об отставке.
Возвратившись из отпуска в конце сентября, Горбачев ответил, что нужно во всем разобраться, что после праздника посидим, подробно поговорим, обсудим все и тогда будет видно, как решать вопрос, а пока надо работать.
Борис Николаевич понял это по-своему. «После праздника» понял как после 7 октября, тогдашнего Дня конституции, хотя в таком контексте праздником его никто не считал. И когда пошли день за днем, а Горбачев никаких сигналов не подавал, он, как сам об этом пишет, пришел к выводу, что Горбачев не намерен с ним разговаривать, а хочет поднять этот вопрос прямо на Пленуме ЦК, «чтобы уже не один на один, а именно там устроить публичный разговор со мной».
Спрашивается, зачем же было Ельцину мучиться предположениями и сомнениями? Если он видел, что встреча откладывается, почему бы не поднять трубку и не спросить у Горбачева, когда же будет такой разговор? Уверен, что контакты между ними были, ведь под председательством Горбачева состоялось в это время три заседания Политбюро, на которых присутствовал Ельцин.
И на Пленуме Ельцин не мог не видеть, что никакого выступления против него Горбачев не замышляет. Зачем же он все-таки вышел на трибуну и стал апеллировать к ошеломленному ЦК, не дождавшись разговора с Генеральным секретарем? Или уж в крайнем случае не поставив вопроса на Политбюро?
Вывод только один — Ельцин сознательно шел на развязывание публичного конфликта, и в руководстве партии разразился кризис, причем в очень неподходящий момент.
Как развивались события дальше? Было решено случившееся не предавать огласке до пленума Московского горкома, который провести «после праздника», хотя, конечно, «шила в мешке не утаишь» и уже в ближайшие дни общественность Москвы была сильно взбудоражена. Ельцину был высказан совет заниматься делами, особенно хлопотными в связи с крупным праздником. Он принимал участие во всех юбилейных мероприятиях.
31 октября на заседании Политбюро Горбачев сообщил о полученном им письме Ельцина, в котором тот еще раз признает допущенную ошибку, информирует о том, что бюро Московского горкома обсудило сложившуюся ситуацию, одобрило решение Пленума ЦК, призвало его взять назад заявление об отставке. Но позиция Ельцина не изменилась.
Перед Горбачевым встала сложная проблема — найти замену Ельцину на посту московского руководителя. Во время международной встречи левых сил Генсек завел разговор на эту тему со мной, сказав, что его непростые размышления выводят на меня. «Как ты относишься к этому?»
Откровенно говоря, я ожидал, что такой разговор может возникнуть и потому ответил, не задумываясь: «Отрицательно. Москва не для меня, да и я для них чужой. Если брать немосквича, то в тяжелом весе». Назвал Лигачева, Воротникова, Зайкова. «Будем думать», — сказал Горбачев.
Обменивался мнениями я на сей счет с Яковлевым и Болдиным, просил их поддержать меня и встретил понимание с их стороны, хотя, может быть, и по разным мотивам.
Утром 12 ноября, как сказал мне потом Болдин, над моей головой вновь начала сгущаться опасность, но затем найдено другое решение. И в тот же день состоялся известный Пленум Московского горкома, освободивший Ельцина от обязанностей первого секретаря МГК и избравший на эту должность Зайкова.
В «Исповеди на заданную тему» Ельцин интерпретировал Пленум, как разгул антиельцинской кампании, сопровождавшейся воем и визгом, а свое поведение и покаянное выступление на Пленуме объяснил болезненным состоянием, тем, что его подняли с постели в больнице и напичкали какими-то лекарствами.
Нельзя исключать, что кто-то из обиженных людей и сводил с ним счеты на Пленуме. Но что касается выступления самого Бориса Николаевича, то оно не было невнятным или сумбурным, отличалось характерными для него четкостью и ясностью. Оно полностью совпало с тем, что он ранее говорил на Пленуме в своем кратком заключительном слове, а затем и в письме, направленном Горбачеву.
Кандидатом в члены Политбюро Ельцин оставался еще в течение нескольких месяцев до очередного Пленума, который состоялся в феврале следующего 1988 года, уже будучи первым заместителем Председателя Госстроя СССР.
Анализируя «октябрьский бунт Ельцина» с учетом личных наблюдений и в свете последующего развития событий, я склоняюсь к выводу, что тогда в его действиях преобладали личностные факторы и мотивы, хотя уже просматривались контуры нарождавшейся левой оппозиции, с ее лозунгами радикальных реформ.
Ельцин был выдвиженцем Лигачева. Именно Егор настаивал на том, чтобы взять Бориса из Свердловска заведующим Отделом строительства ЦК КПСС, он его двигал в секретари ЦК, а затем и на роль московского руководителя. Отношение Горбачева к Ельцину с самого начала было сдержанным — слишком велика разница в стиле работы и поведения. Напротив, Лигачев и Ельцин очень похожи друг на друга, принадлежат к одной школе. Их сближает безаппеляционность суждений, отсутствие комплексов, рефлексий и сомнений, авторитарность в методах руководства, жесткость в практических действиях.
Я думаю, что Лигачев рассчитывал, что Ельцин будет «его человеком» в Москве, но просчитался: «нашла коса на камень». Ельцин знал себе цену и не захотел быть послушным орудием в чьих-то руках, тем более, что не так давно все трое — Горбачев, Лигачев, Ельцин были на равном положении — первыми секретарями обкомов, а с Лигачевым работали, можно сказать, по-соседству. Оказавшись в Москве лишь в роли заведующего Отделом, Ельцин чувствовал себя ущемленным, о чем он сам пишет в своей книге. И естественно, как руководитель Москвы, который всегда в партии был на особом положении и имел дело напрямую с Генсеком, он не, захотел «ходить под Лигачевым».
Не случайно основной огонь своей критики Ельцин в то время направлял против Лигачева. Общеполитические мотивы проходили вскользь и сводились к недостаточной, с его точки зрения, радикальности принимаемых мер, недостаточной поддержке его действий. Прошло немало времени, прежде чем позиция Ельцина обрела более или менее ясные политические контуры, сомкнулась в чем-то с настроениями зарождающейся радикально-демократической оппозиции.
Она нашла в лице Ельцина своего лидера, а Ельцин — в ней политическую опору. Но этот процесс был очень непростым, противоречивым. Сходились они на критическом отношении к руководству страны, радикализме. Но что касается приверженности демократии, то здесь, пожалуй, больше различий, чем сходства, если демократизм отличать от популизма.
Разночтение в понимании демократии и сейчас — главный камень преткновения во взаимоотношениях политических сил, на которые опирается Президент России Ельцин.
Не менее показательна история с публикацией статьи Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами». Если «бунт Ельцина» выразил пока еще не очень ясные радикально-демократические настроения в стране, то упомянутая статья явилась своего рода манифестом правоконсервативных сил, сигналом к их консолидации и активизации.
Статья появилась в «Советской России» 13 марта 1988 года во время визита Горбачева в Югославию. Вместе с ним были мы с Силаевым. А в это время в Москве кипели страсти. Статья была однозначно воспринята в кругах интеллигенции, как антиперестроечная акция, причем тщательно подготовленная и спланированная, как сигнал к контрнаступлению антиперестроечных сил.
И все это связывалось с именем Лигачева. На совещании в ЦК он, якобы, расхваливал статью, рекомендовал вокруг нее провести соответствующую работу. Об этом стало известно из Академии общественных наук, из МИДа, а также из Ленинграда, где в некоторых партийных организациях рекомендовали чуть ли не изучение этой статьи. По личному указанию Хонеккера она перепечатана в газете «Нойес Дойчланд». Говорили, что статья и готовилась при прямом участии работников ЦК. Ясно, что речь идет не об ординарной публикации, а о тщательно рассчитанном политическом шаге.
23 марта в перерыве между заседаниями Съезда колхозников в присутствии большинства членов Политбюро и секретарей ЦК Горбачев поднял этот вопрос. Оказалось, что некоторым статья понравилась: Воротников, Никонов, Бакланов, по их признанию, восприняли ее, как рядовое, но довольно интересное выступление конкретного лица. Это еще более насторожило Горбачева. Он отметил, что так легко к публикации статьи относиться нельзя, предложил обсудить ее специально.
Такое обсуждение и состоялось в последующие два дня. Открывая его, Горбачев подчеркнул, что дело не только в самой по себе статье. Были выступления и похуже, вопрос в обстоятельствах, связанных с ее появлением, отношении к ней как некоему эталону, который надо поддерживать, изучать, перепечатывать и т. д. В этом смысле позиция некоторых наших товарищей вызывает тревогу. Вряд ли Андреева сама могла написать такую статью. Нам надо объясниться, чтобы не накапливались недоумение и разночтения, чтобы они не отягощали и личные отношения между нами.
Выступивший первым Воротников дезавуировал свою оценку статьи, прозвучавшую накануне, объясняя это тем, что отнесся к ней, как проходному материалу и вначале не проанализировал ее достаточно глубоко.
Развернутый анализ антиперестроечного характера статьи был дан Яковлевым. Он затем нашел отражение в редакционной статье «Правды».
Что касается Лигачева, то он, как будто не понял, о чем идет речь, вроде бы и не заметил почти прямых высказываний о его роли в публикации и пропаганде статьи, да и содержания статьи почти не касался, сосредоточившись на некоторых общих вопросах. Он, в частности, говорил о не мнимом, а подлинном единстве в Политбюро, обстановке свободы обсуждения и высказывания мнений, о своей приверженности перестройке, которая «нужна, как воздух», о своем критическом отношении к руководителям застойного периода. По сути дела его выступление означало защиту позиции Андреевой.
Рыжков, солидаризируясь в основном с оценкой статьи, данной Яковлевым, говорил о том, что нам надо не отталкивать, а привлекать интеллигенцию. Он выразил недоумение, почему одним и тем же участком идеологической работы занимаются два члена Политбюро, намекая на неприятие Лигачева в этой роли.
Замечу в скобках, что на том этапе между Рыжковым и Лигачевым сложились весьма неприязненные отношения. Став Председателем Совета Министров, Рыжков ревностно боролся за самостоятельность в своей работе, болезненно воспринимал попытки секретарей и отделов ЦК вмешиваться в деятельность правительства, хотя сам до недавнего времени, будучи секретарем ЦК, действовал также. Лигачев, как второе лицо в партии, считал своим правом и обязанностью осуществлять по отношению к правительству «руководящую роль».
Выступление Чебрикова было выдержано в обычном для руководителя КГБ стиле, который впоследствии унаследовал и Крючков — говорить о внутренних проблемах страны через критику «замыслов и нашего идеологического противника».
Затем слово было предоставлено мне. Надо сказать, что иногда на Политбюро велась запись желающих выступить — не запиской, а каким-то жестом или легким поднятием руки, а председательствующий определял порядок выступлений. Традиция была такой, что вначале выступали члены Политбюро, начиная то ли с Громыко, то ли с Рыжкова, то ли с Лигачева. После членов — кандидаты в члены Политбюро и затем секретари ЦК. На этот раз Горбачев предоставил мне слово одному из первых.
По сохранившимся черновикам воспроизвожу основное содержание своего выступления. Оно в какой-то мере наряду с выступлением Яковлева, оказало влияние на последующий ход обсуждения этого вопроса.
«…Не могу согласиться, что статья есть реакция на крайние, злопыхательские, очернительские выпады отдельных авторов. В статье есть упоминание об этих крайностях, и, может быть, поэтому она чем-то, на первый взгляд, подкупает читателя. Но это лишь спекуляция на некоторых настроениях общественности. Основной смысл и пафос статьи в другом — она своим острием направлена против перестройки.»
«…В пространной статье под претенциозным названием не нашлось места ни для одной проблемы перестройки по существу, ни одного слова одобрения демократическим процессам, оживлению духовной жизни. Так, о гласности, открытости, исчезновении зон, свободных от критики, автор упоминает лишь в связи с тем, что они открыли возможность постановки проблем, подсказанных западными радиоголосами или теми из наших соотечественников, кто не тверд в своих понятиях о сути социализма.»
«…В статье дается искаженная оценка настроений среди молодежи и студенчества. Выходит, что и их волнуют лишь негативные последствия гласности и демократии».
«…Отношение автора статьи к личности Сталина достаточно ясно. Тридцатые годы названы «эпохой бури и натиска». Спрашивается, зачем понадобилось напоминать о постановлении 1956 г., подчеркивая, что оно остается ориентиром для сегодняшнего дня? Автор, по-видимому, не согласен с тем, что по этому вопросу говорилось в докладе о 70-летии Октября и на февральском Пленуме ЦК, а именно: что работа по критике культа личности после XX съезда не была доведена до конца».
«…О высказываниях автора статьи по национальному вопросу можно добавить лишь одно: выпячивание сомнительного тезиса о контрреволюционных нациях носит с учетом сегодняшней ситуации прямо-таки провокационный характер, иначе на назовешь. А где же классовый подход, ревнителем которого изображает себя автор?»
«…В рассуждениях о роли идеологической работы явно чувствуется ностальгия по административным методам. Зачем понадобилось автору вспоминать о выдворении из страны в 1922 г. лиц из числа интеллигенции? Нет ли тут призыва к возобновлению подобных методов в идеологической сфере?»
«…В целом статья — это не поиск, не размышление, не переживание, не выражение сумятицы в мыслях, а жесткое изложение весьма определенной позиции — позиции догматических консервативных сил… Оставить без реакции ее нельзя. Но это должен быть не окрик, а обстоятельный разбор в той же газете «Советская Россия», а еще лучше — в «Правде».
«..В заключение хотел бы присоединиться к товарищам, которые говорили о необходимости дальнейшего укрепления единства в руководстве по принципиальным проблемам перестройки, не давать ни малейшего основания для нечестных и нечистоплотных людей пользоваться какими-то действительными или мнимыми различиями в оценке отдельных процессов и тем более втягивать нас в междоусобные перепалки. Любителей таких методов немало: одних цитируют и выпячивают, других — обходят за версту…»
Ярко и, как всегда, эмоционально выступил Шеварднадзе. Он отметил, что статья — это, несомненно, социальный заказ определенных кругов фундаменталистского толка. Они есть не только в религии, но и в марксизме. Подчеркнул, что, конечно, очень важно сохранение единства, но не любой ценой, а на принципиальной основе поддержки перестройки и демократизации, и не на словах, а на деле. Шеварднадзе поддержал соображения Рыжкова о недопустимости параллелизма в руководстве идеологической сферой.
Не обошлось и без курьезов. Щербицкий высказался в том духе, что, дескать, кто-то за этой акцией стоит: не следует ли этим заняться Чебрикову? Я так и не уловил — всерьез он это или в шутку.
Конечно, все понимали, о чем и о ком идет речь: о Лигачеве и его аппарате, о редакторе «Советской России» Чики-не. Горбачев, верный себе, не довел дело до персоналий, до обсуждения роли тех или иных членов ЦК и Политбюро во всей этой истории, полагая, что состоявшееся обсуждение будет достаточно весомым политическим уроком для всех.
Выпад антиперестроечных сил был отражен, но это касалось лишь видимой части айсберга консервативной оппозиции, которая чем дальше, тем больше давала о себе знать в первую очередь в партии.
Вокруг XIX партконференции и после нее
Ключевым событием 1988 года, да и всей перестройки, явилась XIX партийная конференция. Жизнь показала, что рамки решений XXVII съезда оказались тесными для начавшихся в стране преобразований. Возникла настоятельная необходимость на середине дистанции между съездами обсудить в общепартийном порядке ход перестройки и задачи по ее углублению.
На конференции предстояло рассмотреть все основные проблемы внутренней и внешней политики, остро и самокритично проанализировать ход экономической реформы, обосновать необходимость социальной переориентации экономики и т. д.
Но все же на первом плане и в центре дискуссии оказались проблемы политической реформы, функций и структуры государственных органов — законодательных, исполнительных и судебных, перестройки самой партии. Таково было веление времени. Без действительной демократизации органов власти и управления в центре и на местах, без преодоления тотального огосударствления экономических и социальных процессов, без коренного изменения взаимоотношений государственных и партийных органов дальнейшие преобразования в стране были просто немыслимы.
Как обычно, Горбачев запасся обширными разработками, аналитическими материалами, предложениями научных институтов, отдельных ученых, работников государственных и партийных органов. Еще в январе мы с Шахназаровым, который был моим первым заместителем в Отделе ЦК по соцстранам, а затем стал помощником Горбачева, направили ему развернутые соображения по перестройке политической системы.
К конкретной подготовке конференции он привлек примерно тот же круг лиц — Яковлева, Лукьянова, Шахназарова, Фролова, Черняева, Болдина, Ситаряна, Можина, Биккенина и меня. Ввиду новизны и важности вопросов решено было вначале подготовить и опубликовать тезисы для общепартийного обсуждения, в котором, безусловно, примут участие самые широкие слои населения.
Уже при подготовке тезисов в апреле — мае стало ясно, что у Горбачева вполне сложились представления о новой политической системе, структуре органов государственной власти и управления. Но он не захотел их излагать достаточно полно и конкретно в тезисах, ограничившись общими, принципиальными посылками. Это раскрывает один из тактических приемов Горбачева — не ошеломлять сразу своих коллег, членов ЦК, тем более партию и общество крутыми и неожиданными решениями, а постепенно вводить их в оборот, «перемалывая» возникающие вопросы, сомнения и даже неприятие через дискуссии, толкования, разъяснения. И это в большинстве случаев приносило успех.
Основная же эпопея разыгралась на стадии подготовки доклада вначале в Волынском, куда Горбачев наезжал время от времени, а затем в Ново-Огарево, где с докладчиком работали в узком составе — Яковлев, Болдин, я и помощники Генсека. Особым накалом отличалось обсуждение второго раздела доклада о реформе политической системы, и третьего раздела о демократизации КПСС.
Все мы были единодушны в том, что в политической системе нужны коренные перемены в направлении правового государства.
В существующем порядке отсутствовало главное — контроль снизу за органами государственной власти и управления, их руководителями. Бесконтрольность власти развращает тех, кто стоит у ее кормила, не говоря уже о том, что она неспособна обеспечить высокое качество управления.
Оказалась приниженной роль Советов. Состав депутатов вроде бы отличался достаточной представительностью, но он не был результатом демократического волеизъявления, а просто заранее подгонялся под заданные параметры посредством «выборов без выбора». Работа Советов носит формальный характер и сводится к штамповке законов и постановлений, подготовленных аппаратом, без глубокого проникновения в их содержание. В этих условиях не могло быть и речи о сколько-нибудь действенном контроле за исполнительной властью со стороны Советов.
Мы полностью отдавали себе отчет в том, что корень дела — во взаимоотношениях государства и партии. Власть и управление в стране принадлежат по существу партии, осуществляются партийными органами, в избрании которых не участвуют 4/5 населения страны. В решениях партийных органов даются прямые указания по тем или иным вопросам государственной, хозяйственной и культурной жизни.
Ведомства центрального государственного управления — по иностранным делам, обороне, госбезопасности, внутренним делам, культуре, телевидению и радиовещанию, издательствам — и многие другие лишь номинально входят в правительство, а фактически работают под руководством ЦК. В рамках ЦК в виде отраслевых отделов сформировался и аппарат хозяйственного управления.
Аналогичная картина и на местах. В противоречие даже с действующей Конституцией, первичные партийные организации наделены Уставом КПСС правом контроля деятельности администрации всех предприятий и организаций.
Годами и десятилетиями обсуждался вопрос о бесправии Советов, принимались многочисленные решения, но дело не двигалось с места. На каждом съезде партии и почти каждом Пленуме ЦК говорилось о необходимости решительной борьбы с подменой государственных и хозяйственных органов партийными, но сдвиги, если и происходили, то в сторону усиления партийного контроля и диктата. Да и как могло быть иначе, если партия и, прежде всего, ее аппарат были превращены во властные структуры, и на каждом углу твердилось о необходимости «повышения руководящей роли партии».
Конечно, в тезисах, да и в докладе, об этом говорилось не в столь прямой и открытой форме: приходилось считаться с глубоко укоренившимися представлениями, но понимание ситуации уже тогда было именно таким. А вот какой должна быть новая модель политической системы, — тут мнения были разные. Пошли горячие споры. Лукьянов носился с идеей «Республики Советов». Яковлев и Шахназаров склонялись к президентской системе. Болдин, как обычно, сохранял таинственную неопределенность.
Что касается меня, то, не отвергая в принципе президентскую систему, я стоял за такую модель: партия как политическая организация ведет борьбу на выборах за большинство в Советах, опираясь на это большинство, получает мандат на формирование правительства, как высшего исполнительного органа, ответственного перед представительным органом. Лидер партии становится главой правительства. Это та система, которая существует в большинстве стран Запада.
Замысел Горбачева оказался иным: превратить Советы в постоянно действующие органы, учредить посты председателей Советов всех уровней, как высших должностных лиц, имея в виду, что руководитель партийной организации соответствующего уровня, а в стране — лидер партии, избирается председателем соответствующего Совета. Все это теперь хорошо известно и уже в значительной мере ушло в историю.
Насколько я мог уловить, вариант Горбачева был продиктован стремлением поднять роль Советов, превратить их в действительно работающие органы народной власти. По-видимому, сказывалось и другое — опасение, что соединение роли партийного лидера и главы исполнительно-распорядительной власти возложит непосредственно на партию ответственность за любой шаг правительства, вынудит партию и ее лидера заниматься массой оперативных дел. Но ведь реформы (политическая и экономическая) привели бы к изменению функций правительства — освобождению его от текучки, сосредоточению на крупных вопросах внутренней и внешней политики. В принципе же правительство должно заниматься теми вопросами, которые сейчас входят в ведение Политбюро.
Могу сказать, что к моменту коллективного обсуждения структуры государственных органов — этого главного вопроса политической реформы — у Горбачева представления уже прочно сложились, и повернуть его было трудно или скорее всего невозможно.
Видя, что мои предложения не имеют шансов, я стал действовать таким образом, чтобы трансформировать фигуру Председателя Верховного Совета, наделив его и рядом распорядительных и даже исполнительных функций. В этом направлении были сделаны некоторые подвижки. Они в какой-то мере снизили мои возражения, но не сняли их. И в дальнейшем, уже после конференции, когда вопрос о совмещении постов партийного лидера и председателя Совета превратился в объект массированной критики, я чувствовал себя неуютно.
Что касается двухступенчатой системы представительных органов — «Съезд народных депутатов — Верховный Совет СССР», то особых дискуссий при подготовке доклада она не вызвала. Исходили из того, что она расширяет возможность демократии, законодательной деятельности, контроля за исполнительной властью. При всех издержках и недостатках съезды вошли в историю, как яркие всплески демократизма.
И, наконец, еще один непростой, оказавшийся болезненным вопрос — о выборах народных депутатов от общественных организаций. Первоначальная идея, которую я разделял, состояла в том, чтобы в лице народных депутатов иметь в парламенте представительство с учетом социальной структуры общества, позволившее бы полнее, адекватнее отразить гамму интересов людей. Как решить эту задачу? Было внесено предложение — выбирать часть депутатов от партийных и общественных организаций. Меня оно с самого начала смущало своим формализмом и возможностью субъективизма в определении перечня общественных организаций, норм представительства и т. д. Порой возникало чувство, что мы себя загоняем в какой-то лабиринт, но других сколько-нибудь удовлетворительных предложений на этот счет не оказалось.
При всем этом только негативная оценка опыта избрания народных депутатов от общественных организаций, с моей точки зрения, была бы несправедливой. Ведь благодаря ему в депутатский корпус вошли авторитетнейшие представители советской интеллигенции, многие деятели оппозиции, без которых работа съездов и Верховного Совета явно бы проиграла. Среди них — А. Д. Сахаров, Д. С. Лихачев, С.П. Залыгин, К.Ю. Лавров, Д.А. Гранин, Г.Х.Попов, В. И. Гольданский и многие другие. Небезынтересная деталь: в составе российского парламента деятелей науки и культуры такого масштаба вообще не оказалось.
Наконец, сама конференция…
Доклад Горбачева слушали с напряженным вниманием. Думается, это лучшее его выступление тех лет. Сильно прозвучали и экономическая часть, и раздел о политической реформе, и выводы о перестройке партии. Обратила на себя внимание и характеристика облика гуманного демократического социализма, которая вначале была предложена Фроловым, но мною была коренным образом переработана и в таком виде переходила из варианта в вариант и в окончательный текст доклада.
На конференции возникла совершенно новая, немыслимая для прошлых времен, атмосфера. Проявилась нетерпимость делегатов к серым и невыразительным выступлениям, раздавались хлопки, выражающие недовольства делегатов и даже требования прекратить выступление. Настороженно встречался малейший намек на восхваление руководства даже там, где очевидны заслуги Горбачева.
Палитра выступлений оказалась весьма многокрасочной.
Критицизм Абалкина, радикализм Кабаидзе и Федорова, открытость и искренность Бакатина, мудрая ирония Олейника. Мне трудно представить, что произошло с Борисом Ильичем после 1991 года? Что ввергло его в мистицизм? Постепенно начали доминировать настроения основной части делегатов, представляющих среднее и высшее звено партийного и государственного аппарата. Под видом критики, перехлестов и крайностей по существу начала ставиться под сомнение правильность избранного пути. Многие говорили о разрушении ценностей, пугали крушением мироздания. Под бурные аплодисменты закончил свою мрачную, почти трагическую речь в этом духе Юрий Бондарев. А вот Григорию Бакланову, который вступил в полемику с Бондаревым, почти не дали говорить.
Со всей очевидностью проявилось стремление держать перестройку в рамках косметического ремонта прежней системы. Представители интеллигенции искренне и с воодушевлением защищали идею коренных преобразований, критиковали непоследовательность и нерешительность в их проведении, но поддержки не получали. Напротив, массированная атака на средства массовой информации и на творческую интеллигенцию со стороны местных партийных руководителей получала неизменный положительный отклик в зале. Слова же Ульянова в защиту прессы оказались невоспринятыми.
Всплеск эмоций вызвало выступление Ельцина в конце прений. Он дал свои критические оценки ситуации в стране, хода перестройки и потребовал собственной реабилитации. Оставалось, правда, неясным, в чем же должна состоять реабилитация? Ведь никакого партийного наказания на Ельцина не налагалось, он оставался членом ЦК и правительства, был избран делегатом конференции. Восстановление его в прежних должностях? — Но он сам настоял на отставке. Отмена постановления Пленума ЦК о признании его выступления ошибочным? — Но тогда он сам его признавал таковым.
Этого момента только и ждал Лигачев. Он был психологически настроен на выступление, заранее подготовленное и продуманное. Никакими уговорами со стороны членов Политбюро и Генсека, всех нас не удалось удержать его от выхода на трибуну. Выступление было выдержано в свойственном Лигачеву наступательно-петушином духе, в стиле сложившихся «безотбойных» стереотипов и содержало в себе ряд некорректных замечаний, набившие оскомину ссылки на блестящий томский опыт. В общем, это выступление лишь прибавило очков Ельцину. Реакция Горбачева была совсем иной — спокойной, уравновешенной, исходящей из того, что дискуссия с Ельциным — это вещь не чрезвычайная, а вполне вмещающаяся в рамки партийной демократии.
Сложность обстановки на конференции усугублялась тем, что некоторые предложения по совершенствованию политической системы и, в частности, о совмещении партийных и государственных постов вызвали недопонимание, возражения у многих делегатов, независимо от их политических взглядов. Горбачеву в ходе конференции пришлось специально брать слово, более подробно развертывать аргументацию в пользу предлагаемого решения. Оно было вынесено на отдельное голосование и собрало большинство голосов, как мне показалось, скорее под воздействием непреклонности докладчика, чем убежденности делегатов.
Да и в целом решения конференции, принятые ею документы, носили более прогрессивный, реформаторский характер, чем настроения основной массы делегатов. Конференция выполнила свою историческую миссию, открыв возможности для развития вширь и вглубь демократических процессов, но не давала никаких оснований считать, что они пойдут «как по маслу». Напротив, надо было ожидать усиления сопротивления и обострения борьбы.
Уже в ходе работы конференции под тем предлогом, что это не съезд, возникли настроения рассматривать ее как совещательный орган, а ее решения как необязательные. Не спеша доработать, домыслить. Потом-де наступит время очередного съезда, на котором и могут быть приняты окончательные решения. Если бы такая точка зрения одержала верх, перестройка на какой-то период времени начала бы работать на холостых оборотах. Мы застряли бы на промежуточной станции и обманули бы ожидания людей. Допустить этого было нельзя.
Чтобы не оставлять здесь никаких неясностей Горбачев, закрывая конференцию, предложил дать необходимые полномочия Центральному Комитету реорганизовать партийные органы и партийный аппарат до начала очередной отчетно-выборной кампании в партии осенью этого года. Конференция высказалась также за то, чтобы на очередной сессии Верховного Совета принять законодательные акты, включая поправки к Конституции, касающиеся государственных органов, объявить о проведении выборов, созвать съезд народных депутатов весной будущего года и сформировать новую структуру органов государственной власти. А осенью следующего года провести выборы в республиканские и местные Советы, завершить формирование структуры государственной власти и государственного управления на местах. Таким образом, осуществить практическую реформу политической системы примерно в течение года.
Последующее после конференции время было отмечено началом глубоких политических преобразований. На них концентрировались усилия реформаторов в партийно-государственном руководстве. Они оказались объектом пристального внимания мировой общественности. Вокруг них разбушевались страсти, углубилось размежевание общественно-политических сил, развернулась серьезная политическая борьба, во многом предопределившая дальнейшее развитие страны.
В начале сентября на Политбюро обсуждена записка Горбачева «К вопросу о реорганизации партийного аппарата». Идеи Горбачева были поддержаны, хотя и не с одинаковой степенью решительности. Сохранить в партии только те направления в работе и те организационные структуры, которые соответствуют ее политической роли — такова позиция Яковлева, Шеварднадзе, моя. Ее поддержал по существу и Рыжков: как премьеру ему «до чертиков» надоело вмешательство отделов ЦК в конкретные вопросы. И он был прав — ведь, чем, как не конкретными хозяйственными вопросами, может заниматься такое, например, подразделение ЦК, как «сектор кремнеорганических соединений»? У другой части членов Политбюро и секретарей — отношение было сдержанным, внутренне напряженным. Но ничего не поделаешь — предложенные меры точно соответствовали решениям партконференции.
30 сентября Горбачев представил свои предложения Пленуму ЦК. Работа длилась немногим более получаса, но его решения были расценены общественностью, как большая победа Горбачева, как крупнейшее преобразование высшего эшелона партии (некоторые зарубежные обозреватели окрестили его даже переворотом).
Отраслевые отделы ЦК, кроме аграрного, упразднены, политические укрупнены. Число отделов сократилось с 20 ДО 8.
По основным направлениям политики из членов ЦК образованы пять комиссий, а деятельность Секретариата в ее прежнем виде с планом работы, регулярностью, одним ведущим секретарем признана нецелесообразной. Соответствующую перестройку предложено осуществить в нижестоящих партийных комитетах.
Проведено наиболее существенное за последние годы обновление состава Политбюро и секретарей ЦК. Освобождены от обязанностей членов Политбюро Громыко, Соломенцев, кандидатов в члены Политбюро Долгих, Демичев, от обязанностей секретаря Добрынин.
Членом Политбюро с одновременным утверждением председателем идеологической комиссии был избран я, кандидатами в члены Политбюро — Власов, Бирюкова, Лукьянов. Пленум рекомендовал избрать Горбачева председателем Президиума Верховного Совета Союза, чтобы он мог непосредственно заниматься реформой государственных органов. Избрание состоялось в Верховном Совете СССР 1 октября. Воротников рекомендован для избрания Председателем Президиума Верховного Совета РСФСР, а Власов — председателем СМ РСФСР. Чебриков, избранный секретарем ЦК КПСС, освобожден от должности председателя КГБ. Лукьянов рекомендован заместителем председателя Президиума Верховного Совета СССР.
Сразу же после окончания Пленума я, по поручению Генсека, поехал в пресс-центр МИДа и провел встречу с советскими и зарубежными журналистами. Она проводилась до передачи ТАССовских сообщений и таким образом стала первоисточником. С тех пор такие молниеносные пресс-конференции стали традицией.
Резонанс на Пленум в мировой прессе был сильным. Вот его наиболее характерные моменты:
— «крупный успех Горбачева, его политическая победа»;
— «перестройка структуры партийного руководства»;
— «уходят последние могикане старой гвардии»;
— «оттеснение Лигачева от второй роли в партии и отстранение его от идеологии»; «даже и новым — сельскохозяйственным участком он будет руководить вдвоем»;
— «ослабление позиций Чебрикова в результате нового назначения» (замечу, что у самого Чебрикова было хорошее настроение, ибо он мог ожидать чего-то худшего);
— «Медведев шагнул от неизвестности к полноправному членству в Политбюро»;
— «Яковлев, перемещенный на международное направление, остается ближайшим соратником Горбачева» и т. д.
Для меня новое назначение неожиданным, конечно, не было. Еще в середине июля во время прогулки в перерыве между заседаниями ПКК в Варшаве Генсек завел разговор о моем переходе на идеологическое направление. Я думаю, этот замысел был навеян партийной конференцией, показавшей, какая сложная обстановка возникла в идеологической сфере, как углубляются противостояния в ней различных сил.
Двойное курирование идеологической сферы Лигачевым и Яковлевым не уравновешивало обстановку, а, наоборот, обостряло ее — и из-за противоположных позиций. Но в немалой степени в силу личных качеств — самолюбия, крутого характера обоих, несклонности, а может, и неспособности к компромиссам. Любое действие одного вызывало противодействие другого.
Это пагубно отражалось на обстановке в сфере печати, культуры и науки. Основные газеты и журналы разделились на два лагеря, глубокая борозда пролегла и в мире литературы и искусства, развились отношения групповщины, нечистоплотные люди стали бессовестно пользоваться такой ситуацией, лавировать между большими приемными, ловить рыбу в мутной воде.
Яковлев хорошо видел и понимал ненормальность такой обстановки, двусмысленность своего положения и неоднократно говорил мне об этом, обдумывая возможные выходы — то ли разделить сферу идеологии, то ли перейти на другой участок, в частности, международный. С Лигачевым у меня таких доверительных обсуждений не было, да и быть не могло.
Я разделял основные позиции Яковлева и поддерживал его линию на гласность, преодоление догматизма, снятие запретов, создание обстановки демократизации и творчества в сфере идеологии и культуры. Вместе с тем мне представлялось, что надо более активно противодействовать (демократическими же методами) разнузданности, беспредельному негативизму, возбуждению низменных чувств и страстей, отстаивать прогрессивные, социалистические идеалы. Нужно считаться с реальностями, с состоянием общественного сознания, невозможностью его коренной переделки в один миг. Не усугублять противоречия и конфликты, не становиться в позицию поддержки тех или иных крайностей, а терпеливо работать над их преодолением.
По-моему, такую же политику вел и Горбачев, полагая, что из сопоставления, взаимодействия различных подходов сложится взвешенная, реалистическая линия. Я много раз советовал Яковлеву постараться наладить с Лигачевым диалог и взаимодействие. Но из этого ничего не получалось. Горбачеву все чаще приходилось разнимать их схватки, брать на себя идеологические вопросы. И он решил выдвинуть нового человека.
Собственно, новичком в идеологии я не был, приобретя немалый опыт в этой сфере в Ленинграде, в Отделе пропаганды ЦК КПСС, Академии общественных наук и в Отделе науки и учебных заведений. Сказалась практика международной деятельности в Отделе ЦК. Я не рвался к высоким титулам, зная, что меня ожидают в бушующем идеологическом океане отнюдь не лавры и почести, а тяжкая доля. Но сказать «нет» Горбачеву я не мог. Не сделал этого, не раскаиваюсь и сейчас, хотя понимаю, что моя дальнейшая судьба могла сложиться более благополучно.
Свое «кредо», видение современных проблем перестройки, международных отношений мне удалось изложить буквально в первые дни новой деятельности в докладе о формировании современной концепции социализма на конференции «Актуальные проблемы развития современного социализма». Даже в сокращенном газетном варианте он вызвал живой отклик и в основном положительные и даже лестные дня меня комплименты в мировой прессе. Он был вскоре опубликован в виде беседы под названием «К познанию социализма» в журнале «Коммунист» (номер 17 за 1988 г.).
Что касается первых практических шагов, предпринятых по моей инициативе, то ими явились: отмена постановления ЦК КПСС 1946 года «О журналах: «Звезда» и «Ленинград», еще один заход на возвращение в общее пользование из спецхранов запретных книг и журналов, ликвидация при поддержке Рыжкова ограничений по подписке на периодическую печать.
Этими шагами достаточно ясно было продемонстрировано намерение нового идеологического руководства продолжать и углублять линию на демократизацию и гласность, не допускать какого-либо намека на возврат к методам идеологического диктата. Вместе с тем я понимал, что предстоит демократическими методами усиливать противодействие нездоровым тенденциям в идеологии, культуре, средствах массовой информации, выравнивать «идеологический корабль», избавлять его от экстремизма, качки до тошноты, переводить шаг за шагом управление культурой, наукой, прессой на легитимные основы.
В дальнейшем на протяжении почти двух лет своей деятельности на этом поприще я окунулся в такой бушующий океан страстей и событий, который потребовал от меня огромного напряжения сил — и духовных, и физических. Но об этом следует рассказать специально. Что и будет в дальнейшем сделано.
Как члену Политбюро и как человеку, входившему в ближайшее окружение Горбачева, мне приходилось заниматься и общеполитическими проблемами. В это время как раз развертывалась перестройка советских органов власти и управления. В конце сентября на Политбюро были обсуждены предложения об изменениях и дополнениях Конституции, а также по выборам народных депутатов СССР. После рассмотрения в Верховном Совете СССР они были опубликованы для всенародного обсуждения, которое оказалось беспрецедентным по масштабам, заинтересованности и остроте.
В центре дискуссии были те же вопросы, что и на конференции: о двухступенчатости Советов, о представительстве общественных организаций, о совмещении государственных и партийных постов, о соотношении представительных, исполнительных и судебных органов и т. д. Выдвинутые в законопроектах положения стали объектом критики как справа, так и слева. Высказывали ее и многие представители партийно-государственной элиты, почувствовав угрозу для своего положения. К этому присоединялось и недоумение беспристрастных людей некоторыми аспектами предлагаемой реформы.
Вариант перестройки политической системы послужил уязвимым объектом для критики и со стороны новых демократов, которые подняли страшный шум по поводу того, что демократия урезается, сохраняется в слегка обновленном виде всевластие прежних сил «аппарата», «номенклатуры». 12 ноября состоялось выступление Ельцина в Высшей комсомольской школе, положившее начало его возвращению в политику после некоторой паузы. Я думаю, осенью 1988 года оппозиционные течения набрали немало очков на критике поправок к Конституции и новой избирательной системы. А пропаганда их была недостаточно энергичной, по сути дела оборонительной по разным причинам, в том числе и из-за внутреннего ощущения неадекватности, искусственности некоторых мер.
Особенно осложнилась обстановка в Прибалтике. В народных фронтах, возникших весной и летом как национально-демократические движения, резко активизировались радикально настроенные сепаратистские силы. Они, казалось, только и ждали повода для развертывания массовых организованных действий против центра. Прошло два-три дня после публикации документов, не появилось еще никаких комментариев, а уже посыпались резолюции, заявления, протесты, начался сбор подписей, отвергающих поправки к Конституции и новый избирательный закон. Основной мотив — сохранение и даже ужесточение централистских, союзных начал, отсутствие шагов по расширению прав республик и даже их ограничение.
При этом была подброшена идея, и она усиленно поддерживалась, что опубликованные проекты — это и есть полный и окончательный ответ на ожидание новой Конституции, пересмотра компетенции между Союзом и республиками и т. д. Тогда как в действительности пока речь шла о новой структуре государственных органов лишь в центре. Проблема же прав республик должна была стать предметом следующего этапа политической реформы.
Накануне октябрьского праздника у меня состоялся разговор с Горбачевым о ситуации в Прибалтике. На следующий день он предложил выехать в Литву Слюнькову, в Эстонию — Чебрикову и в Латвию — мне. Поездки состоялись сразу после праздника. О своем пребывании в Латвии могу сказать одно — это было настоящее политическое пекло: шумные собрания, пикеты, транспаранты, острейшие дискуссии в аудиториях, на улицах и площадях. В Москве ничего подобного еще не было. Это был ее завтрашний день.
При подведении итогов всенародного обсуждения поправок к Конституции и проекта избирательного закона на Политбюро было признано необходимым ввести в них некоторые поправки, не меняющие существа дела. Мое предложение еще раз вернуться к проблеме в целом, решить сейчас только те вопросы, которые возникают в связи с выборами новых государственных органов, а все остальное отложить до Съезда народных депутатов, не прошло. Это было бы слишком явное отступление.
1 декабря Верховный Совет СССР принял Законы: «Об изменениях и дополнениях Конституции СССР» и «О выборах народных депутатов СССР», а также постановление «О дальнейших шагах по осуществлению политической реформы в области государственного строительства». В это время я был в Португалии на съезде компартии, но знаю, как непросто, в какой напряженной обстановке это происходило.
Как бы то ни было, дорога к реформированию государственной системы открылась. Страна вступила в новую полосу своей истории.
Глава III Власть — Советам
Первые демократические выборы: победа или поражение? — Демократия или охлократия: из зала Съездов народных депутатов. — Горбачев становится Президентом.
Первые демократические выборы: победа или поражение?
Итоги первых демократических выборов в марте 1989 года оказались настолько неожиданными, противоречивыми, что давали основание для самых разных выводов, порождали сложную гамму чувств и переживаний.
На первый взгляд, все было в порядке. Среди новых народных депутатов — 87,6 процента членов КПСС — больше, чем 71,5 процента в составе прежнего Верховного Совета СССР. В некоторых комментариях поспешили объявить это успехом партии, свидетельством роста доверия к ней со стороны народа. Но объяснение этому иное — оно проще и, я бы сказал, будничнее. Раньше партийность депутатов, как и другие их характеристики, социальный, возрастной состав, доля женщин и т. д. жестко контролировались: в показных целях советы «насыщались» беспартийными. Теперь за этим никто не смотрел. В депутаты двинулись наиболее активные и динамичные люди. Подавляющее большинство из них состояло в партии, но ко времени выборов разброс политических взглядов и позиций среди членов партии был уже достаточно широким.
В избирательных округах борьба развертывалась, как правило, между кандидатами, принадлежащими к одной партии, на персональной основе при еще только начинающемся размежевании политических сил. Были случаи, когда партийный руководитель состязался с одним из своих активистов или лидером молодежной организации.
И все-таки: победила партия на выборах или потерпела поражение? При всей условности такой постановки вопроса следует признать, что это больше поражение, чем успех, больше утрата позиций, чем их закрепление.
Забаллотированы 32 первых секретаря обкомов партии из 160. Но какие это организации! В Ленинграде не избран ни один партийный и советский руководитель города и области, ни один член бюро обкома, включая первого секретаря и даже командующего военным округом. В Москве партийные работники также в основном потерпели поражение, за Ельцина проголосовало около 90 процентов москвичей. Негативными для партийных работников итоги выборов оказались во многих крупных промышленных и научных центрах Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока, Юга и Востока Украины. Крупное поражение партийные кандидаты потерпели в Прибалтике, Армении, а также в Грузии. Относительно благополучными для партии результаты выборов оказались в областях Центрально-Черноземного и Северо-Кавказского регионов, Белоруссии, Казахстана и Средней Азии.
В целом по территориальным и национально-территориальным округам было избрано депутатами примерно 20–25 процентов людей, острокритически настроенных в отношении партии. Несколько меньшая доля таких депутатов прошла и от общественных организаций. Они и составили впоследствии основной массив «межрегиональной депутатской группы».
Иная сторона проблемы — отношение массы избирателей к перестройке. Курс на перестройку был, безусловно, поддержан и не только там, где проголосовали за представителей партии, но и там, где им выразили недоверие, в последнем случае, может быть, даже в большей степени. Требование перемен, последовательнее и решительнее вести реформы раздавалось отовсюду, стало подлинным императивом дня.
Надо было делать срочные выводы и для работы партии, и для деятельности правительства и советов всех ступеней, а не сетовать на происки каких-то чуждых сил, на «критиканство» в средствах массовой информации. Очень сильно такого рода сетования звучали при обсуждении итогов выборов на заседании Политбюро 28 марта. «Навалились» на прессу и Рыжков, и Лигачев, и Зайков, и Слюньков, и Лукьянов — всех не перечислишь.
В который раз мне и Яковлеву пришлось доказывать в общем-то очевидные вещи, что пресса и журналисты — это не какой-то иной мир, а часть общества, которая живет его мыслями и чувствами, только, может быть, острее их воспринимая и выражая. Да, они одновременно и отражают, и формируют общественное мнение, не привнося его извне, а оперируя тем материалом, который вырабатывается самим обществом и только им. В средствах массовой информации, безусловно, находит отражение серьезная неудовлетворенность положением в стране, ходом перестройки и ее практическими результатами. О них и надо прежде всего говорить, их и надо анализировать.
Что, например, происходит в экономике? Относительно неплохая конъюнктура 1986–1988 годов породила новую эйфорию, стремление побыстрее осуществить дорогостоящие социальные программы. На этот легкий путь все сильнее толкала и поднимающаяся волна популизма и социальной демагогии.
Между тем, в экономике нарастало действие глубинных негативных факторов. 1988 год оказался в этом смысле последним более или менее благополучным годом. Далее начались серьезнейшие осложнения, наступал настоящий экономический кризис, в первую очередь ударивший по потребительскому рынку. Его привели в такое неустойчивое состояние, при котором даже небольшой, частный сбой вызывал серьезные последствия, всплески ажиотажного спроса. Из свободной продажи исчезали то сахар и кондитерские изделия, то зубная паста, то мыло и стиральный порошок, то школьные тетради, то батарейки, то застежки «молния», не говоря уж о мясе, обуви, меховых изделиях и т. д.
Экономическая реформа завязла в бюрократической трясине. После июньского Пленума никаких крупных шагов в этом направлении так и не было сделано. 8 сентября Политбюро наказало коммунистов — руководящих работников Совета Министров и Госплана СССР — Гусева, Лахтина и Ефимова «за непринятие достаточных мер по устойчивому обеспечению населения товарами повседневного спроса». Но, во-первых, это было уже поздно. Во-вторых, за кадром остались главные действующие лица, отвечающие не за отдельную строчку, а за общее расстройство рынка. И, в-третьих, это решение не изменило, а скорее укрепило стереотип в общественном мнении, что за все, вплоть до лезвий для бритья, отвечает партия. Для критиков партии такой стереотип был очень удобен. Я сам слышал на Старом Арбате язвительные куплеты гитариста по поводу нехватки мыла — «оно уходит на самоотмывание партии».
В такой обстановке выборы для партии были заранее обречены на неудачу, несмотря на поддержку общего политического курса ее руководства.
Сказалось и то, о чем много говорилось тогда на всех партийных форумах, — неготовность партийных организаций к новым условиям и формам работы и предвыборной борьбы, привычка к кабинетно-бюрократическим методам, упование на силу команд и указаний. Одни растерялись и опустили руки, а другие пытались жать на старые рычаги дисциплины и послушания, но в политике они уже не действовали.
Несколько неудачных шагов было сделано непосредственно перед выборами. Это относится прежде всего к Пленуму ЦК, состоявшемуся 15–16 марта. На нем прошли выборы народных депутатов от КПСС. Список их тщательным образом взвешивался и уравновешивался. В нем были Гранин и Белов, Айтматов и Олейник, Афанасьев и Лаптев, Марчук и Беликов, Илизаров и Федоров, Биккенин и Кудрявцев, Абалкин и Примаков, Абуладзе и Ульянов, Патон и Нестеренко. Список кандидатов украшали имена известных рабочих, строителей, работников сельского хозяйства. Но для публики список высвечивался прежде всего и главным образом фамилиями почти полного состава партийного руководства. По страницам печати пошла гулять кличка — «красная сотня».
Дело, однако, было не только в самом принципе депутатского представительства от партии, который подвергался сомнению многими, но и в процедуре выборов. Тут мы сами себя загнали в угол: призывая к альтернативности, сами же отказались от этого принципа. А что было делать? Тайное голосование показало, что если бы в списке было на два кандидата больше, чем положено по норме, не прошли бы Лигачев и Яковлев, при десяти лишних за бортом оказалось бы большинство членов Политбюро, а при шестнадцати — не был бы избран ни один из них, включая Генерального секретаря! Я отнюдь не считаю, что каждый партийный деятель непременно должен быть облечен депутатским доверием, но скандал был бы великий, если бы ЦК не доверил своему руководству представительство в высшем органе государственной власти.
Эта абсурдная ситуация свидетельствовала: что-то есть неладное в самой избирательной системе.
Голосование по выборам народных депутатов от КПСС обнаружило начало серьезного размежевания в руководящем слое партии. 59 голосов, поданных против Яковлева (47 — против Ульянова), безусловно, принадлежали той группе партийных функционеров, которые стали ядром консервативных сил, определяли атмосферу на последующих пленумах ЦК, устраивали обструкцию Генеральному секретарю. 78 голосов против Лигачева, я думаю, были за реформаторской частью ЦК — теми, которые в драматический момент заявления Горбачева об уходе в отставку с поста Генсека в апреле 1991 года подписали заявление о коллективном выходе из ЦК, если отставка Горбачева будет принята.
Одним словом, эпопея выборов народных депутатов на заседании ЦК партии не принесла ей дивидендов.
На Пленуме возник еще один вопрос, усложнивший и без того непростую обстановку. В ходе обсуждения выборных дел взял слово Тихомиров, рабочий завода имени Владимира Ильича, член ЦК КПСС. Выразив беспокойство по поводу того, что в ходе предвыборной кампании проигрывают в первую очередь рабочие и крестьяне, что при общем подъеме социальной активности людей выплескиваются антиобщественные проявления, и они не встречают должного противодействия, оратор высказал затем ряд критических замечаний в адрес Ельцина, касающихся его предвыборных выступлений, а также проявлений бюрократизма в аппарате Госстроя, сославшись на личный опыт общения с ним.
Кратко ответил Ельцин, признав «элементы бюрократизации» внутри Госстроя, но решительно отвергнув обвинения в адрес своих предвыборных выступлений, которые, по его мнению, не противоречат предвыборному Обращению ЦК КПСС.
Председательствовавший в этот момент на Пленуме М. С. Горбачев высказался в том духе, что, наверное, нет необходимости продолжать обсуждение, что оценки октябрьского Пленума 1987 года остаются в силе. Никто не возразил, и, казалось, вопрос был исчерпан. Но в течение второго дня работы Пленума, когда обсуждались проблемы аграрной политики партии, в президиум Пленума (то есть в Политбюро, ибо по традиции оно вело заседания Пленумов) поступили записки от участников Пленума — рабочих из Москвы, Ленинграда, Харькова и других городов, от первых секретарей Одесского и Запорожского обкомов партии Крючкова и Харченко, работавших в свое время в Отделе оргпартработы ЦК КПСС. В них высказывались неудовлетворение вчерашним обсуждением эпизода с Ельциным, требование дать политическую оценку его выступлениям, опубликовать речи Тихомирова и Ельцина. Возникла щекотливая ситуация. Не реагировать на поступившие записки было невозможно. Но как реагировать?
В перерыве в комнате Президиума за чашкой кофе произошла короткая, но острая дискуссия. Мнения разделились. Раздавались и решительные голоса, вплоть до того, чтобы продолжить на следующий день работу Пленума, обсудить выступления и позиции Ельцина и принять соответствующие решения. Похоже, что те, кто подталкивал Тихомирова к выступлению на Пленуме, кто организовывал записки в Президиум (а я абсолютно уверен, что именно так и было), рассчитывали на такой, по сути дела скандальный исход. Но он не был поддержан большинством Политбюро и Генсеком.
Противоположное мнение — информировать Пленум о поступивших записках и предложениях, но не обсуждать их или отложить обсуждение, дав поручение Политбюро изучить соответствующие материалы. Горбачев заявил, что ему надо над всем этим еще раз подумать, а в конце работы Пленума предложил создать из членов ЦК КПСС комиссию, которой поручил изучить данный вопрос и свои выводы доложить очередному Пленуму ЦК КПСС.
Горбачев назвал несколько фамилий, в том числе мою (как возможного председателя), Разумовского, Пуго, Затворницкого и других. Но решений по персоналиям Пленум не принимал, состав комиссии был определен несколькими днями позднее и нигде не публиковался. Естественно, не назывался он на пресс-конференции, которую я вместе с Лигачевым и Мураховским провел сразу после окончания Пленума. Зато Ельцин чуть ли не в тот же или на следующий день объявил на одном из митингов обо мне, как председателе комиссии, сделав ряд нелестных высказываний в мой адрес, да и в дальнейшем не упускал случая их повторять.
История эта имела продолжение. Московские руководители хотели втянуть ЦК в редактирование статьи Тихомирова в «Московской правде», был поставлен также вопрос о публикации интервью Тихомирова в «Правде». Я отвел эти предложения, а в разговоре с Горбачевым высказался за то, чтобы не выводить это дело за пределы Москвы, не вовлекать в него ЦК и его органы. «Ведь есть поручение комиссии ЦК. Зачем предвосхищать ее выводы?» Так и решили.
Выступление Тихомирова не было поддержано в трудовых коллективах и партийных организациях Москвы, даже на его родном предприятии. Сам он оказался в трудном положении, встречая повсюду реакцию отторжения.
За всю эту некрасивую, неприятную историю несут ответственность те, кто ее инспирировал и организовывал. Мы не стали выяснять, кто именно. Но для меня, например, тут неясностей не было — сама логика событий давала ответ на вопрос. А результат? — Новое обсуждение Ельцина на Пленуме, создание комиссии поддерживали вокруг него ореол преследуемого, но несгибаемого борца, способствовали нагнетанию настроений недоверия и критики в адрес ЦК.
Что касается комиссии, то она поручение выполнила. Ее члены были ознакомлены с многочисленными выступлениями Ельцина и пришли к единодушному выводу, зафиксированному в кратком (на четверть страницы) документе, что, несмотря на субъективность некоторых оценок, в целом эти выступления не противоречат предвыборному обращению партии, ее политической линии. Комиссия предложила на этом рассмотрение данного вопроса закончить.
Такое заключение за подписями членов комиссии было мною направлено Генсеку с предложением поступить так: мне встретиться с Ельциным и после этого кратко выступить на Пленуме (дело было перед майским Пленумом). Горбачев вернул мне документ: «Подержи у себя». Но больше к нему мы не возвращались, а через некоторое время нахлынули другие события и заботы, и вопрос сам собой отпал…
…Политическая обстановка в стране после выборов еще более осложнилась. Подобно допингу они возбудили энергию оппозиционных и экстремистских сил и в то же время повергли в уныние, а кое-где и в панику партийные круги, а широкие партийные массы — в состояние неуверенности. В обществе усилились тенденции негативистского отношения к партии. Каждый шаг, предпринимаемый сверху, встречался с какой-то настороженностью. Не успеют читатели ознакомиться с опубликованным документом, а на него уже вылит критический ушат.
Все настойчивее стали звучать требования об обновлении ЦК и Политбюро, о созыве для этого чрезвычайного съезда партии.
Осложнилась ситуация в республиках: сработал нагорнокарабахский запал. Помимо Прибалтики начались волнения в Молдавии. Страсти разгорелись вначале вокруг, казалось, не такого уж значительного вопроса — об использовании латиницы вместо кириллицы. Но в межнациональных отношениях мелочей не бывает, за ними скрываются самые животрепещущие проблемы. В дальнейшем это обнаружилось с полной очевидностью.
Кульминацией явилась тбилисская трагедия в ночь с 8 на 9 апреля. О том, что произошло той ночью, что ей предшествовало, что было потом, написано и сказано очень много.
Немало вокруг Тбилиси возникло политических спекуляций, домыслов, искажений и предположений. Думаю, нет необходимости сейчас их подробно разбирать, что-то подтверждать, что-то опровергать. Тем более, тбилисские события 1989 года сейчас уже как-то не воспринимаются без учета того, что происходило в Грузии в дальнейшем, — вооруженной борьбы за власть в республике, кровавых конфликтов в Южной Осетии и Абхазии.
Но как человек, обладавший подробной информацией о нарастании событий в Абхазии и Грузии, который принимал участие во всех совещаниях в ЦК по этому вопросу, считаю необходимым сказать следующее.
Да, ввод частей МВД и армии в Тбилиси для охраны правительственных зданий и других объектов был за несколько дней до этого согласован с Москвой. Но санкции на применение их для разгона митинга на площади высшее политическое руководство страны не давало. Это была инициатива грузинских властей.
Да, в ночь с 7 на 8 апреля при встрече Горбачева в аэропорту Шеварднадзе и Разумовскому было поручено выехать в Тбилиси. Но обвинять их в самовольном невыполнении поручения нет оснований. Дело в том, что с утра 8 апреля из Тбилиси пошла информация о спаде напряженности, резком уменьшении числа митингующих на площади и передана убедительная просьба Патиашвили никого в Тбилиси не направлять. Эта просьба с согласия Горбачева и с учетом обстановки была удовлетворена.
Я думаю, ключ к пониманию происшедшего — в оценке действий грузинского руководителя. Он страстно хотел на этот раз сам справиться с ситуацией, во всяком случае без Шеварднадзе. Не как в предыдущий раз, в ноябре…
Тогда тоже народ вышел на улицы и площади. Патиашвили пребывал в паническом состоянии, требовал войск, чрезвычайного положения. Я убедился в его неуравновешенности в те дни из его звонков и телеграмм. Но вот по совету Горбачева вмешался в дело Шеварднадзе, в течение ночи переговорил с авторитетными земляками, передал пожелания от Горбачева, успокоил и на следующий день все улеглось.
Второй раз продемонстрировать свое бессилие…, да еще в сравнении со своим предшественником… И Джумбер Патиашвили начал действовать. Каким образом, у кого ему удалось добиться решения на участие войск в карательной акции? Но в ЦК к Горбачеву никакого обращения по этому поводу не было.
Словом, ситуация в стране требовала принятия неординарных мер, которые могли бы ответить на ожидания общественности, сохранить политическую инициативу в руках руководства. В связи с этим уже сразу после выборов поднималась тема отставки Политбюро. О ней говорил Рыжков: Генсеку следует подумать о таком варианте. Я добавил, что об этом должен подумать и каждый из нас. О коллективной отставке Политбюро, чтобы развязать руки Генеральному секретарю, говорил и Шеварднадзе, мотив возможной личной отставки звучал у Слюнькова.
Но Горбачев не воспользовался этой идеей, а выдвинул вариант обновления состава ЦК и ЦРК. Из-за интенсивной смены руководителей прослойка пенсионеров превратилась в мощный пласт — 83 члена ЦК из 301. Состав руководящих органов партии ассоциировался в общественном мнении с доминированием в партии догматических, консервативных сил.
Разговор Горбачева с этими товарищами был максимально открытым и честным. Соображения Политбюро были встречены ими с полным пониманием. Выступавшие, правда, высказывали опасение, как бы их уход не был воспринят как демонстрация или дезертирство, чтобы после этого их не стали пинать вслед. Такие гарантии были даны.
Подготовленное тут же старым «идеологом» Зимяниным с моим участием обращение к ЦК КПСС с просьбой об отставке подписали 110 членов руководящих органов, включая недавних коллег по Политбюро и старейших деятелей-Громыко, Соломенцева и других. Поставили свои подписи затем и те, кто не смог по болезни и другим причинам присутствовать на этих собраниях, — все, кроме Славского — бывшего министра среднего машиностроения, и, таким образом, в составе ЦК остался один человек старше 90 лет.
Пленум, проходивший 25 апреля, оставил двойственное впечатление. Члены ЦК по достоинству оценили шаг своих коллег, решение по их обращению принято единогласно. Одновременно 24 человека переведены из кандидатов в члены ЦК. Эти решения восприняли в стране и в мире, как крупную политическую акцию, свидетельствующую о том, что партия самокритично и реалистически оценивает свою деятельность, проводит перегруппировку сил.
В то же время на Пленуме выплеснулась вся горечь поражения многих партийных руководителей на мартовских выборах, поднялась настоящая волна демагогии, стремления свалить вину на деятельность верхов, на «разлагающую» роль средств массовой информации и т. д. Это было по существу первое массированное выступление консервативных сил в партии против горбачевского руководства, против перестройки. Со всей остротой встал вопрос об ускорении процессов демократизации в партии, а в связи с этим — о приближении ее очередного съезда.
В эти сложные дни и недели на мою долю выпало еще одно нелегкое испытание — выступление с докладом по случаю ленинского юбилея. Времени было, что называется в обрез, а следовать по наезженной колее — произнести декларативно-восхвалительный доклад было просто немыслимо. Требовалась сквозная идея, созвучная ленинской мысли и адекватная моменту. Такая идея была найдена: это ленинский антидогматизм, стремление и умение уловить дух времени, отреагировать на изменения реальной обстановки.
Тогда еще не было такой разнузданности и бесовщины в отношении Ленина и тем более марксизма, которые возникли позднее. Поразительно, что этой волне поддались не только те, кто и раньше проявлял критическое отношение к коммунистическому учению, но и те, кто считал себя последовательным марксистом, занимал видное место в прежней официальной идеологии. С их стороны анафема Марксу и Ленину звучит, пожалуй, всего громче, а критика их — еще хлеще и уничижительней, хотя далеко не всегда профессиональней. Хотят, видимо, решительно отмежеваться от своих прежних «греховных» увлечений.
Не стоит морализировать по этому поводу, хотя такие кульбиты уважения не вызывают: это уже не изменение взглядов под влиянием фактов, а измена позиции, перемена веры, маскируемая деидеологизацией.
Я за самую серьезную критику марксизма, ленинского наследия и не только его конкретных выводов, но и фундаментальных посылок, но против того, чтобы эта критика превращалась в самоцель, против метода этой критики, вошедшего в моду, — вначале оглупить его, взять его сталинскую вульгаризацию, а затем начать сокрушать. Особенно смело за это берутся дилетанты, никогда всерьез не изучавшие ни философские, ни политико-экономические проблемы марксизма.
Смешны попытки вычеркнуть марксизм из истории развития обществоведческой мысли. Тут некоторые наши авторы, среди которых позднее оказался и А. Н. Яковлев, задрав штаны, бегут впереди даже профессиональных критиков марксизма на Западе…
Доклад удалось подготовить за две недели в немалой степени благодаря помощи Биккенина и Мушкатерова и, конечно же, благодаря тому, что многие сюжеты были апробированы мною в разных аудиториях в ходе многочисленных выступлений последнего времени. Доклад предварительно рассылался членам Политбюро, получил положительную оценку Генсека, Яковлева и некоторых других коллег.
И тем не менее я испытывал немалое волнение, направляясь к трибуне. В зале стояла напряженная тишина. Никаких аплодисментов в ходе доклада, как это бывало в прошлом, 'а проводили неплохо. Товарищи поздравляли с успешным выполнением трудной миссии. Характерна реплика Лигачева: «Доклад хороший, но уж больно сильно отличается от только что спетого нами «Интернационала». Против этого мне возразить было нечего.
Положительные отклики доклад вызвал в среде интеллигенции, раздавались звонки от Михаила Шатрова, от некоторых обществоведов. Оживленно комментировались сюжеты доклада в зарубежной прессе и радиопередачах. В ряду других мер, предпринятых руководством партии, доклад в определенной мере способствовал выравниванию политической ситуации, выведенной из равновесия выборами, а затем тбилисскими событиями.
Демократия или охлократия: из зала Съездов народных депутатов
Уже задолго до открытия первого Съезда народных депутатов стало ясно, что нас ожидает нечто совершенно новое, невиданное. Появление значительной группы оппозиционно настроенных депутатов, отражавшее зарождение различного рода политических и национальных движений в стране, обстановка гласности, общий демократический настрой исключали движение по наезженной годами и десятилетиями колее. А во что это все выльется, конечно, никто толком не знал. Уже в процессе подготовки съезда возникли серьезные коллизии и столкновения мнений. Альтернативной программы по основным проблемам внутренней и внешней политики не было и не могло быть, ибо оппозиция еще не сформировалась, да и само это слово громко не звучало. Так что схватки происходили по отдельным вопросам, преимущественно процедурного характера. Но они обсуждались с большой горячностью, на предельном накале страстей. Так было и на встрече членов руководства КПСС (Горбачев, Зайков, Лигачев, Воротников, Яковлев и я) с депутатами от Москвы, и на собрании депутатов от РСФСР, и на совещании представителей групп народных депутатов от республик и областей, которые обсуждали проект повестки дня съезда и другие вопросы его организации.
По повестке дня, например, с большим нажимом выдвигалось предложение сначала заслушать и обсудить доклад или даже доклады кандидатов на пост Председателя Верховного Совета СССР, а затем его избрать. Вроде тут была своя логика, но лишь на первый взгляд. Ведь только что прошли выборы. Предвыборная программа партии, которая выдвигает своего лидера на высший государственный пост, хорошо известна и парламентариям, и широким массам граждан. Зачем же опять начинать с обсуждения программы, ставя в зависимость от этого выборы главы государства? Другое дело — его доклад, заявление после избрания.
Вставал вопрос и о собрании партийной группы съезда, т. е. фракции КПСС. Но вот тут-то и пришлось столкнуться с парадоксом: ведь это 87 процентов депутатов. Какой смысл тогда проводить сам съезд? Правда, коммунистов-депутатов по их взглядам и позициям было уже трудно отнести к одной партии. Но как из разделить? Кто может взять на себя эту миссию? Все эти вопросы остались нерешенными и в результате один из классических принципов парламентской деятельности — работа по фракциям — оставался нереализованным. Депутаты-члены КПСС действовали на свой страх и совесть.
Дважды вопросы работы съезда обсуждались на Пленумах ЦК: один раз — перед открытием, а второй — в ходе работы. Оба они протекали очень остро под общей доминантой критических, в основном консервативных настроений, как это уже было в апреле. Немало слегка прикрытых язвительных замечаний было высказано в адрес Горбачева, Рыжкова, Яковлева. Не обошли «вниманием» и меня. А голосование по предложениям руководства было практически единодушным (при одном воздержавшемся). Именно такой был исход голосования по рекомендации Пленума: Горбачева — на пост Председателя Верховного Совета СССР, Лукьянова — на пост его заместителя, а Рыжкова — председателем Совета Министров.
Кстати, такое сочетание — острейшей, переходящей в демагогию критики горбачевского руководства с почти единодушным голосованием в его пользу — постепенно превращалось в типичную черту пленумов ЦК. В чем тут дело? Не в том ли, что в решающие моменты смелость покидает критиков? Или все же верх берут благоразумие, понимание опасности хаоса и неразберихи, которые могут наступить? Наверное, и то, и другое.
Воздержавшимся во всех трех случаях был Ельцин. Свою позицию он мотивировал не тем, что против предложенных кандидатур, а отсутствием альтернативности. Но ведь в данном случае альтернативность была бы за пределами здравого смысла и обычаев классической демократии. Зачем же одной партии выдвигать две кандидатуры на пост главы государства? Если она не доверяет своему лидеру, то тогда должна его менять. Кто из членов партии согласится вести борьбу с ее руководителем, в какое положение ставятся депутаты-члены партии? Альтернатива нужна не для игры, она возникает сама собой, если другие партии или политические силы выдвигают свои предложения. Столь же противоестественно главе государства предлагать альтернативные кандидатуры на посты своего заместителя и председателя правительства.
Впрочем, на прямой вопрос, как он будет голосовать по принятым рекомендациям, после красноречивой паузы Борис Николаевич ответил, что вынужден подчиниться решениям Пленума.
Первый Съезд народных депутатов СССР… Шестнадцать дней — с 25 мая по 9 июня — продолжался этот политический марафон, бушевали страсти под сводами Кремлевского дворца. В зал были выплеснуты годами и десятилетиями копившиеся в стране эмоции, в первую очередь, негативно-критические, надежды на коренные перемены, энергия молодых, динамичных сил, вызванных к жизни началом демократических преобразований. Немало проявилось и наносного, амбициозного, стремления во что бы то ни стало застолбить свое место на всесоюзной политической арене. И в этой обстановке надо было решить важнейшие государственные вопросы, сформировать высшие органы власти, выработать и утвердить, теперь уже на государственном уровне, основные направления внутренней и внешней политики.
Шестнадцать дней внимание людей было приковано к телевизионным экранам, на которых полностью, частично в ночное время, воспроизводился ход работы съезда…
Весь первый день ушел на дискуссию о порядке дня и лишь к 23 часам избрали Председателя Верховного Совета. Как и следовало ожидать, Горбачев прошел подавляющим большинством голосов. Лишь 87 депутатов из двух тысяч проголосовали против и 11 — не опустили бюллетени.
Второй день — выдвижение и обсуждение кандидатов в члены Верховного Совета СССР и голосование, закончившееся за полночь. А наутро — сенсация. По московскому списку, включавшему чуть ли не вдвое больше кандидатур, чем надо было избрать (москвичи не смогли свести список к разумному числу кандидатур), не прошли по большинству голосов наиболее активные оппозиционеры, в том числе Попов, Станкевич и другие. В Совет Национальностей по списку Российской Федерации оказался забаллотированным Ельцин.
Разразился кризис, повергший в состояние большого возбуждения радикально настроенных депутатов, посыпались протесты и заявления со стороны Адамовича, Афанасьева, Попова. Последний заявил о создании официальной оппозиции, вновь избранный Верховный Совет был тут же объявлен «сталинско-брежневским». Зато консервативная часть депутатов не скрывала своего удовлетворения и даже злорадства.
Признаюсь, мои чувства как бы раздваивались. Трудно было отрешиться от настроения реванша. В то же время я прекрасно понимал, что Верховный Совет ныне немыслим без представительства новых сил, что их конфронтационное отстранение от законодательной деятельности ничего хорошего не сулит, способно лишь усложнить обстановку, породит лишние препятствия на пути выработки демократических механизмов.
Эти соображения разделяли, я уверен, многие депутаты. Неестественность ситуации чувствовал и Горбачев. Вот почему в зале произошла некая разрядка, когда было объявлено, что депутат из Омска Казанник решил отказаться от мандата члена Верховного Совета в пользу Ельцина. Никто не стал цепляться за процедурные неувязки, напоминать о том, что съезд уже утвердил итоги выборов, и вопрос о членстве Ельцина в Верховном Совете был без дискуссий решен положительно.
Между тем, в Волынском в традиционном составе завершалась работа над докладом Горбачева, чтобы приблизить его по характеру и стилю к программному заявлению вновь избранного главы государства. 30 мая доклад был произнесен и началось его обсуждение, перемежаемое бурными всплесками эмоций вокруг создания комиссий по событиям Тбилиси, по оценке советско-германских договоров 1939 года, по делу Гдляна-Иванова, в связи с выступлениями «афганцев» по поводу утверждений Сахарова о расстрелах с вертолетов наших воинов, чтобы только не допустить их пленения, утверждением Сухарева Генеральным прокурором СССР. Были перерыв в работе съезда и траур по случаю крупнейшей железнодорожной катастрофы в Башкирии, куда выезжал и Горбачев.
Для меня вторая половина съезда была связана с работой его Редакционной комиссии, которую мне было поручено возглавлять. Основной документ съезда, в отличие от прошлой практики, от начала и до конца был подготовлен самой Редакционной комиссией. Впрочем, силы ее были немалые: шестьдесят восемь народных депутатов, представляющих все регионы и республики, все социальные слои общества, все общественно-политические движения. Членами комиссии активно работали Рыжков и Ельцин, Назарбаев и Зайков, Рой Медведев и Павел Бунич, Дайнис Иване и Марью Лауристин. Пять пленарных заседаний комиссии проходили в обстановке живой и острой дискуссии, сопоставления мнений и точек зрения и в этом смысле были как бы продолжением работы съезда.
Проект, подготовленный Рабочей группой комиссии в составе Медведева, Абалкина, Попова, Кудрявцева, Лауристин, Лаврова, Адамовича, Примакова, Лаптева содержал в себе некую сумму политических выводов и оценок, касающихся внутренней и внешней политики и вместе с тем был достаточно конкретным, включал поручения Верховному Совету, Совету Министров по широкому кругу вопросов. Он открывался краткой преамбулой, провозглашавшей, что «Съезд народных депутатов берет на себя всю полноту государственной власти в стране». Тем самым реализовалось выдвинутое Сахаровым и другими депутатами предложение принять специальную декларацию на сей счет. Сделано это было спокойно, без излишней драматизации и надрыва.
Учтены и многие другие идеи, высказанные депутатами различных направлений и групп. Всего комиссией в ходе работы съезда взято на учет и проанализировано 702 проблемных вопроса и предложения, прозвучавших в зале или поступивших непосредственно в комиссию. Часть из них нашла отражение в постановлении, часть передана для рассмотрения в Верховный Совет, его комиссии, в правительство. Документ завершался призывом ко всем слоям нашего общества к объединению во имя перестройки и вывода страны на современные рубежи социально-экономического развития.
К заключительному дню съезда — 9 июня в депутатской массе ощущалась заметная усталость, хотя наиболее рьяные и неутомимые по-прежнему рвались в бой.
В перерыве я еще раз собрал комиссию, чтобы согласовать поправки к розданному депутатам проекту. Тут вновь разгорелась жаркая дискуссия. Особенно острой она оказалась по военным вопросам. Начальник Генштаба Моисеев предложил зафиксировать в постановлении, и категорически настаивал на этом, принцип экстерриториального прохождения военной службы. Мои доводы, что такая норма больше подходит для будущих законов и других актов, регулирующих воинскую службу, что обсуждение такой поправки на съезде может вызвать негативную реакцию, особенно со стороны республик, не помогли. В конце концов нашли более общую, компромиссную формулу и по этому вопросу, тем более, что поджимало время: Горбачев заканчивал свое заключительное слово и надо было идти на трибуну докладывать съезду проект постановления.
В течение десяти минут я доложил итоги работы Редакционной комиссии, прокомментировал характер и содержание предложенного комиссией проекта, после чего он был поставлен на голосование и принят съездом за основу подавляющим большинством при девяти против и сорока воздержавшихся. Это было одно из самых единодушных голосований. Проект поддержало большинство и оппозиционно настроенных депутатов из зарождающейся Межрегиональной депутатской группы.
Я столь подробно остановился на подготовке постановления съезда потому, что эта сторона работы съезда очень поучительна, ибо показывает, что даже при наличии острых разногласий можно вести плодотворный диалог и добиваться консолидирующих результатов, проводя центристскую линию здравого смысла и отторгая конфронтационные крайности. Этот опыт в дальнейшем пригодился в работе над Программным заявлением XXVIII съезда КПСС. В более широком общеполитическом плане он был применен и в Ново-Огаревском процессе.
И еще один момент. После съезда мне пришлось много раз выступать в различных аудиториях и почти каждый раз отвечать на один и тот же вопрос: почему на съезде отмалчивались члены Политбюро? Такой упрек в свой адрес в свете изложенного выше считаю неоправданным. В целом же выступления представителей руководства КПСС, и прежде всего Горбачева, Рыжкова, Лукьянова, более чем достаточно представили позиции Политбюро. Если бы каждому из 20 членов, кандидатов в члены Политбюро и секретарей ЦК предоставлялось слово (всего на съезде выступило примерно 80 ораторов), то это был бы не Съезд народных депутатов, а нечто другое.
Работа съезда завершалась… И в это время слово для краткого пятиминутного выступления было предоставлено Сахарову по его настойчивой просьбе. Оказалось, что оно понадобилось не для прояснения каких-то вопросов и не для справки, а для оглашения пространного политического заявления, претендующего на подведение итогов съезда и оценку ситуации, разумеется, с позиций определенной политической группы. Но ведь дискуссия на съезде была уже завершена, произнесено заключительное слово и принято постановление. Возобновлять обсуждение? Это означало бы навязывание чьей-то воли депутатам. Или просто выслушать и принять как должное это заявление, поставив на этом точку, закончив на этой ноте съезд? Вряд ли это могло пройти.
Я не видел тогда и не вижу сейчас рационального, конструктивного и компромиссного смысла в этом шаге. У тех, кто толкнул уважаемого академика на него, по-видимому, был замысел смазать концовку съезда скандалом, обращенным к многомиллионной телеаудитории, используя авторитет ученого. И у председательствующего не оставалось никакого другого выхода, кроме как напомнить оратору об истечении регламента, призвать его закончить выступление, а когда неоднократные призывы не возымели действия, прервать его… Читатель, думаю, хорошо знает эту сцену, многократно использованную в фильмах и телепередачах о перестройке. Что и говорить, сцена не из приятных, но слова из песни не выкинешь. Да и вопрос, кто тут виноват?
Съезд миновал, ушел в историю, но борьба продолжалась и вокруг интерпретации его итогов. Оппозиция провела крупный митинг, на котором выступили Ельцин, Заславский, Гдлян, Иванов и другие ораторы, давшие съезду по существу негативную оценку. Он, якобы, не оправдал надежд, в обществе ничего не изменилось, передача власти не только не произошла, но и не началась, съезд ушел от решения конкретных проблем, выдвинутых в выступлениях многих депутатов и т. д. и т. п.
Негативистские нотки звучали в оценках съезда и со стороны традиционалистских, консервативных сил. Здесь акцент делался на проявлениях анархии, критиканства, психологии разрушительства со стороны отдельных групп депутатов, их ставки на митинговую демократию, с позиций лицемерной заботы об укреплении государства, сохранении роли партии.
Такие оценки, независимо от субъективных мотивов, играли недобрую роль, подталкивая нагнетание социальной напряженности в стране в то время, когда надо было, засучив рукава, браться за решение неотложных проблем, которые буквально вопиют и о которых с таким чувством наболевшего говорили депутаты на съезде.
При всей неоднозначности того, что происходило на съезде, при всей сложности процессов, которые он отразил, он выполнил стоявшие перед ним задачи — принял на себя всю полноту государственной власти и сформировал новые высшие органы, определил в русле перестройки основные направления внутренней и внешней политики государства.
Второй Съезд народных депутатов по накалу страстей, митинговой активности депутатов мало чем отличался от первого, но все же накопленный опыт, подготовительная работа позволили придать ему большую организованность и деловитость. К сожалению, Межрегиональная депутатская группа не смогла стать нормальной парламентской оппозицией и внести сколько-нибудь конструктивный вклад в работу съезда. Этому мешали внутренние раздоры и противоречия, которые в дальнейшем стали сказываться все больше и больше.
За две недели съезд заслушал и обсудил доклад Рыжкова о мерах по оздоровлению экономики, этапах экономической реформы и принципиальных подходах к разработке тринадцатого пятилетнего плана, принял Закон об изменениях и дополнениях Конституции по вопросам избирательной системы в связи с предстоящими выборами народных депутатов в республиках и на местах, Закон о конституционном надзоре СССР и образовал соответствующий комитет. Были заслушаны и обсуждены доклады комиссий, образованных первым съездом: о политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года (Яковлев), о событиях в Тбилиси в ночь с 8 на 9 апреля (Собчак), о политической оценке решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года (Дзасохов). По всем этим вопросам приняты соответствующие решения. Кроме того, сделаны доклады от комиссии по привилегиям (Примаков) и от комиссии по следственной группе Гдляна-Иванова.
Что можно сказать о докладе Рыжкова?
Я думаю, к тому моменту активная позиция в реформировании и оздоровлении экономики была в значительной степени утрачена — не стратегия перестройки задавала тон, а наоборот, планы и действия центра приноравливались к спонтанным экономическим процессам и популистским требованиям. Программа экономических реформ 1987 года фактически оказалась похороненной, о ней вспоминали все реже. Главное же — был выпущен из рук контроль за наличной денежной массой, за денежными доходами населения, дан сильнейший толчок раскручиванию инфляционной спирали, остановить который дальше оказалось все труднее.
В 1989 году прирост денежных доходов населения составил 13,1 процента (против 3,9 в 1987 году) при 2,3 процента прироста производительности труда. Что же предлагалось на 1990 год? Сохранить инфляционный прирост денежных доходов, но покрыть еще более быстрым ростом товарных ресурсов. Правительством предложены прямо-таки фантастические цифры: прирастить за год физический объем непродовольственных товаров народного потребления на 20 процентов, в том числе продукции легкой промышленности — на 11 процентов. Это с самого начала было просто самообманом.
Не мог сколько-нибудь серьезно помочь делу и предложенный Абалкиным, который стал в это время заместителем Рыжкова, прогрессивный налог на прирост фонда оплаты труда, превышающий 3 процента. Под напором снизу сразу же приобрели массовый характер исключения из этого правила. Но и там, где оно вступило в действие, чрезмерный рост фонда оплаты труда не был предотвращен. К тому же суммы налога стали направляться в государственный бюджет, а через него — в безналичный и наличный денежный оборот. А ведь за ними не стояло ровным счетом ничего.
Обо всем этом говорилось и Горбачеву, и Рыжкову еще осенью, когда только формировались контуры модели экономического развития страны на следующий год. Что-то подправлялось, но существенных корректив в разработки правительства внесено не было. Сказалась, я думаю, поглощенность Горбачева политическими и межнациональными процессами. Надо признать, что в этот период мне также не удавалось, как раньше, заниматься экономическими проблемами.
Что-то пытался сделать Слюньков, видевший, что дело, особенно в части финансов и денежного обращения, идет не туда, но Рыжков ревностно защищал правительство от вмешательства со стороны ЦК КПСС, слушал только Генсека, да и то не всегда делал выводы. С точки зрения разделения функций партийных и государственных органов он был, может, и прав, но иногда в жертву этому принципу приносился и здравый смысл. Ведь Политбюро еще действовало, и замечания и предложения по вопросам экономической политики адресовались ему, как члену Политбюро.
Доклад правительства подвергся на съезде ожесточенной критике и не только со стороны оппозиционно настроенных депутатов. Горбачев, естественно, защищал его. Началась очень трудная для правительства полоса. В печати, на съездах и сессиях Верховного Совета постоянно маячил вопрос об отставке правительства. Не прекращались попытки вбить клин между Председателем Верховного Совета (а затем Президентом) и главой правительства. Но главное, конечно, — накатывающиеся волны забастовочного движения, вызываемые прежде всего дезорганизацией рынка, товарного и денежного обращения, острой нехваткой самого необходимого для людей. Социальная напряженность в стране особенно усилилась в конце зимы и весной следующего 1990 года.
В бурных формах обсуждался доклад комиссии по Тбилиси, сделанный Собчаком. Сам доклад был довольно взвешенным, хотя и содержал некоторые спорные утверждения. Напряжение в зале достигло апогея во время выступления военного прокурора Катусева, который полностью снял вину с армии за ее действия в ходе тбилисских событий. Грузинские депутаты с возгласами «позор» встали и покинули зал, за ними последовали прибалты и межрегионалы.
Для разрядки обстановки объявили перерыв. Горбачев направился к грузинской делегации, я был вместе с ним. Нашли их на выходе около раздевалки. Состоялось трудное объяснение. Горбачев призвал депутатов вернуться в зал, обещав выступить сразу после перерыва в духе примирения и уважения к чувствам грузинского народа. В перерыве же были внесены изменения в резолюцию, прямо осуждающие применение насилия против демонстрантов.
Горбачеву и всем нам, кто в это время находился в комнате президиума, пришлось приложить немалые усилия, чтобы как-то успокоить Шеварднадзе. Никогда раньше я его таким не видел — возбужденным до последней степени. Он рвался на трибуну с намерением заявить о немедленной отставке. С большим трудом удалось удержать его от этого шага и более или менее уладить конфликт.
Довольно удачно доложил о первых итогах деятельности комиссии по привилегиям Примаков. И уже коли зашла об этом речь, не могу пройти мимо довольно широко распространенной версии, что, дескать, партийное и государственное руководство всячески сопротивлялось постановке вопроса о привилегиях, сделало это лишь под давлением «демократов», выступлений Ельцина. Хочу сказать, что обсуждение этой проблемы в узком окружении Горбачева началось задолго до появления этой темы в печати, еще до апреля 1985 года. Все мы были за переход к нормальной, цивилизованной системе оценки и вознаграждения труда управленческого персонала и высших руководителей через заработную плату, за преодоление кастовости руководящих кадров, их свободное движение из различных сфер профессиональной деятельности в сферу управления и наоборот.
Делались и практические шаги. В первую очередь было решено ликвидировать выродившуюся в позорное явление систему льготного распределения продуктов через так называемую столовую лечебного питания. Поручение по этому вопросу было дано Кручине и Смиртюкову, как помнится, еще в середине 1985 года. Затем последовали и другие меры.
Не могу утверждать, что этот процесс протекал гладко и безболезненно, не встречал сопротивления и не затягивался. Вспоминаю такой факт. Где-то вскоре после XXVII съезда партии, мы вчетвером с Горбачевым (был, как всегда и Болдин) сидели над очередным текстом. Зашел разговор об охране, которая у нас появилась. Я высказал сомнение в необходимости охраны секретарей: «Кому нужна охота за нами? Кто заинтересован покушаться на нас?» И потом вообще неясно «охрана это или слежка». Охранять надо, по моему мнению, двух-трех высших руководителей страны — не больше. Яковлев, помнится, тоже был согласен с этим. Прошло немного времени… и численность охраны была увеличена, а когда я стал членом Политбюро, пристегнули еще одну «Волгу» с дюжиной сменявших друг друга охранников. Мнение 9-го управления КГБ, основанное на каких-то одному ему понятных доводах, оказалось сильнее здравого смысла. В дальнейшем Горбачеву с немалыми трудностями давался каждый шаг по свертыванию привилегий, встречал глухое сопротивление в кругах партийно-государственной элиты. Кампания общественности, проводимая в прессе и в депутатском корпусе по этому вопросу, несмотря на перехлесты и преувеличения, стремление отдельных лиц с помощью сенсационных разоблачений нажить себе политический капитал, приносила свою пользу.
С сожалением приходится констатировать, что с лета и особенно с осени 1991 года проблема привилегий, «номенклатуры» практически сошла со страниц газет и журналов, из радио — и телепередач. А напрасно, ибо это помогло бы сдержать аппетиты новой волны руководящих работников и администраторов, многих из которых потянуло на старую заманчивую стезю… Да что там — побиты все прежние рекорды по части дач, квартир, транспорта, охраны и других привилегий.
Работа съезда была омрачена кончиной Андрея Дмитриевича Сахарова. 15 декабря не стало этого выдающегося, неповторимого человека. Огромная потеря не только для науки, но и человеческой цивилизации в целом, для демократического процесса в стране. Об этом я говорю с полной ответственностью и откровенностью, несмотря на то, а, может быть, именно потому, что академик стоял в оппозиции к тогдашнему партийно-государственному руководству, оказывал лишь, как он сам говорил, условную поддержку Горбачеву, не спуская ему ни одного, с его точки зрения, ошибочного или опрометчивого шага.
Оппозиция оказалась без своего интеллектуального и морального лидера, утратила вместе с этим шанс внести свой вклад в создание нормально функционирующей парламентской системы, предполагающей наличие демократической оппозиции. Трудно предполагать, как складывалась бы деятельность Сахарова после прихода оппозиции к власти. Одно можно с уверенностью утверждать — он оставался бы таким же честным, благородным и открытым, непримиримым к любой фальши, любой форме насилия и диктата над людьми, пренебрежения их интересами. Нужно ли говорить, как пригодились бы эти качества в наши дни!
Мое общение с Андреем Дмитриевичем не было обширным: одна обстоятельная — два с половиной часа — встреча в ЦК КПСС и несколько телефонных разговоров. Собеседник он исключительно интересный, но не простой, знающий цену собственному мнению, твердо отстаивающий свои позиции. Интересы демократии, гласности, ненасилия для него были превыше всего.
Теперь мне пришлось заниматься некрологом, основу для которого представил Президиум АН СССР, разгрузить его от специальной научной терминологии, полнее осветить общественную деятельность ученого, а 18 декабря вместе с Горбачевым, Рыжковым, Зайковым, Яковлевым, Примаковым и Фроловым был на прощании с Сахаровым, состоявшемся перед зданием Президиума Академии наук.
Горбачев становится Президентом
Между тем обстановка в стране продолжала осложняться. На фоне экономических трудностей усиливалось недовольство различных слоев населения, в трудовых коллективах. Нарастала критическая волна против партии и ее руководства. Требования более радикальных перемен в партии становились все более жесткими. Они концентрировались вокруг статьи 6 Конституции. Пошла на убыль первоначальная перестроечная эйфория среди интеллигенции, усилился критический настрой в отношении власти в средствах массовой информации, появились признаки снижения авторитета и популярности Горбачева.
Новый драматический оборот стали принимать события в межнациональной сфере. В Прибалтике это было связано с решением Компартии Литвы о выходе из КПСС, что всеми воспринималось, как прелюдия объявления этой республикой своей независимости. Обсуждение данного вопроса на Пленуме ЦК КПСС, две мои поездки в Литву, причем вторая — в составе большой группы авторитетных членов ЦК (в нее входили: член Политбюро, председатель Госплана СССР Маслюков, первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Каримов, первые секретари обкомов: Вологодского — Купцов, Витебского — Григорьев, академик Велихов, писатель Олейник, актер Ульянов, министр Колесников и другие) и, наконец, поездка самого Горбачева не смогли изменить решения литовских коммунистов.
Это была целая серия тяжелейших, можно сказать, тотальных встреч в коллективах, на улицах и площадях. Откровенно и без всяких скидок и каких-либо подлаживаний под аудиторию излагалась наша точка зрения на проблемы независимости Литвы и Компартии Литвы. Горбачева встречали и восторженно, и настороженно одновременно.
Мы получили достаточно полный и, главное, горячий срез общественного мнения — подавляющее большинство литовцев за независимость с большим или меньшим сохранением связей с Союзом. Буквально на глазах у некоторых товарищей взгляд на литовскую ситуацию претерпел существенную, если не коренную, перемену. Каримов, например, перед отъездом был настроен очень решительно на применение жестких мер к отступникам и сепаратистам, а увидев реальную обстановку, стал по-иному оценивать действия Бразаускаса и других руководителей КПЛ.
Последующие события в республике и прежде всего победа «Саюдиса» на выборах, сформирование саюдистского правительства переместили основную остроту проблемы независимости Литвы из плоскости партийной в сферу государственную. Лишь значительно позднее в 1993 году, уже в независимой Литве после провала политики Ландсбергиса партия Бразаускаса сумела добиться успеха, а сам он стал первым президентом Литвы.
На январь падает сильнейшее, можно сказать, катастрофическое обострение обстановки в Азербайджане. Власть в ряде районов и городов (Ленкорань) была утрачена и перешла в руки анархиствующих националистических сил. В Баку в течение нескольких дней шли погромы в армянских кварталах с насилием и многочисленными жертвами. Возбужденными толпами людей на большом протяжении смята государственная граница с Ираном. Управляемость в республике утрачена. Нависла опасность крупномасштабной армяно-азербайджанской войны в самых жестоких формах.
В ночь с 19 на 20 января в Баку было объявлено чрезвычайное положение и введены войска. Были жертвы с обеих сторон. С большими усилиями, после встречи в Москве членов Политбюро с Муталибовым, Гасановым, Мамедовым и Поляничко, примерно через пять дней удалось восстановить деятельность республиканского руководства. Первым секретарем ЦК Компартии был избран Аяз Муталибов. Постепенно обстановка в республике стала нормализоваться, хотя главный источник нестабильности — Нагорный Карабах продолжал кровоточить.
В феврале прорвался нарыв в Таджикистане, неблагоприятные тенденции постепенно нарастали и в других республиках. Более того, во многих регионах и независимо от межнациональных отношений стали появляться настроения обособленности и неподчинения центру.
Началось общее ослабление государственной власти, исполнительской дисциплины. В условиях наметившегося отхода партии от властных функций это могло привести к утрате управляемости страной, параличу власти со всеми вытекающими отсюда пагубными последствиями.
Возникла необходимость срочно вносить изменения в структуру высших органов государственной власти, исправить допущенные здесь ошибки. Опыт проведения съездов и деятельности Верховного Совета показали, что роль представительных органов возросла, а исполнительно-распорядительная власть ослабла, а ведь на одних конституционных, законодательных актах далеко не уедешь.
Глава государства, как Председатель Верховного Совета, оказался слишком сильно привязанным к его деятельности, превращался в спикера парламента, а ведь он теперь стал постоянно действующим. Вести все заседания Верховного Совета Горбачеву было просто немыслимо, да и нецелесообразно. Но длительное его непоявление на заседаниях было бы просто неуважением к Совету и к своей должности. Все это выяснилось уже вскоре после того, как Верховный Совет СССР приступил к систематической работе. В узком окружении Горбачева уже летом и осенью начали ставиться эти вопросы. Я, например, считал, что коррективы в принятую модель государственной власти следовало бы внести на втором съезде в конце 1989 года.
В порядке подготовки к возможной постановке этих вопросов на съезде мной вместе с Шахназаровым были подготовлены и отданы Горбачеву соответствующие предложения. Их смысл — в более последовательном разделении властей, в переходе к принципам традиционной парламентской системы с сохранением «советских элементов» лишь в отношении местных органов. Предложения предусматривали отказ от двухзвенной структуры власти с сохранением только Верховного Совета в качестве парламента, от прямого представительства общественных организаций, освобождение Верховного Совета от распорядительных функций, введение института Президента как главы государства и распорядительно-исполнительной власти с состоящим при нем кабинетом министров в составе председателя Высшего Совета народного хозяйства, министров иностранных дел, обороны, внутренних дел, финансов, труда, культуры, по вопросам федерации, председателя КГБ. Президент как и руководители распорядительно-исполнительной власти на местах, должны избираться голосованием граждан. Чтобы не затягивать переходный период, в порядке исключения до истечения полномочий нынешних органов власти избрать Президента на втором или на третьем съезде народных депутатов.
Горбачев уже тогда, отлично представляя необходимость серьезных корректив в структуре институтов власти, не пошел на то, чтобы сделать это на втором съезде, понимая, видимо, что общество и партия не готовы к ним.
В ходе подготовки второго съезда мною при поддержке Разумовского предлагалось проявить инициативу и по статье 6 Конституции: принять на Пленуме ЦК КПСС постановление, в котором дать критическую оценку статьи и поручить Политбюро подготовить и внести в порядке законодательной инициативы предложения по этому вопросу. Предложение тоже тогда не было принято, к нему Горбачев имел в виду вернуться в связи с введением президентской системы.
Подготовил я для второго съезда и свое выступление, в котором затрагивались проблемы статьи 6-й, а также в качестве пробного камня ставился вопрос о введении президентской модели. Поскольку речь шла об очень серьезных вещах, я счел нужным информировать об этом Генсека. Он не посоветовал выступать с этими вопросами. Может быть, с моей стороны тут была проявлена излишняя щепетильность.
В итоге решение о переходе к президентской структуре власти было принято на третьем съезде народных депутатов в середине марта следующего года.
Оно нашло понимание и поддержку в обществе. Положительно отнеслись к нему оба течения в партии — и реформаторское и традиционалистское, правда, по разным мотивам. Оппозиции тоже было довольно трудно воевать против него: ведь президентская форма правления — их собственное предложение. Поэтому выступления «межрегионалов» на съезде по существу вопроса были более или менее лояльными, хотя логика борьбы толкала на поиск и выпячивание спорных моментов. Их было два — способ избрания Президента и совмещение постов руководителя партии и государства. По ним и развернулись на съезде основные баталии.
За безотлагательное избрание Президента на съезде мы выступали скорее по прагматическим, чем по принципиальным мотивам, да и конституционная норма предусматривала всенародные выборы. С точки зрения их возможного исхода особых сомнений не возникало: должен был победить Горбачев. Просто в сложившейся в стране ситуации было крайне нежелательно проводить избирательный марафон, взвинчивать страсти, отвлекать внимание от острейших насущных проблем, усугублять нарастающий хаос. Обстановка требовала более короткого и эффективного решения, чтобы побыстрее выбраться из управленческой сумятицы и рыхлости, которую уже окрестили параличом или вакуумом власти.
Голосование по этому вопросу, сопровождавшая его дискуссия явились кульминацией съезда. В перерыве перед голосованием Примаков, Яковлев, Лукьянов и я порознь и вместе убеждали Горбачева сделать хотя бы небольшой шаг навстречу оппозиции, согласившись на сокращение срока полномочий первого Президента, избираемого съездом, до трех или четырех лет. Терзали серьезные опасения за исход голосования: ведь решения по конституционным вопросам требуют квалифицированного большинства. Но Горбачев был непреклонным. Напряжение достигло апогея, ибо на карту было поставлено очень много.
Тут большую роль в поддержку выборов первого Президента съездом сыграли выступления Залыгина, Яковлева, Лихачева. Неожиданно для многих за это выступил Травкин и, что уж совсем оказалось сюрпризом — Собчак. Исход дела был решен — рубеж в 2/3 голосов превышен с перевесом всего в 43 голоса.
В последующей политической борьбе вопрос о способе выборов Президента не сошел с повестки дня, возвращение к нему активно использовалось оппозицией для подрыва позиций Горбачева, особенно после всенародного избрания президентов РСФСР и других республик. Можно ли считать, что тут была допущена ошибка? Да, в контексте последующего развития событий было бы правильней иметь всенародно избранного Президента СССР. Его власть была бы прочней, было бы значительно трудней развалить Союз, легче было бы предотвратить тиражирование президентских должностей в стране.
Но, как говорится, «знал бы, где придется упасть, соломки бы подстелил». Тогда волновало другое — как быстрее с помощью президентской власти предотвратить нарастание кризисных тенденций, укрепить правопорядок, стабилизировать ситуацию. Не вышло. Очевидно, все-таки надо было прогнозировать и худшие варианты.
Не менее остро на съезде, да и в обществе дискутировался вопрос о совмещении партийных и государственных постов. На Горбачева оказывалось сильнейшее давление. Оно особенно усилилось после избрания его Президентом. Тут, пожалуй, сомкнулись интересы «межрегионалов» (позднее — «демороссов») и крайних партийных консерваторов. Первые «спали и видели» отделение Президента Горбачева от партии, чтобы лишить его серьезной политической опоры, поставить его в зависимость от себя. Вторые мечтали об избавлении партии от перестроечной заразы. На партийных пленумах все назойливей муссировалась тема о том, что Горбачеву трудно совмещать руководство партией и государством, что он забросил партийные дела, но при этом почему-то никто не ставил вопрос о его отставке с президентского поста…
Смыкание разнородных сил на позиции несовмещения партийных и государственных постов серьезно осложнило ситуацию на съезде вокруг этого вопроса и отразилось на результатах голосования поправки к Конституции, запрещающей Президенту занимать другие политические и государственные посты. Поправка не была принята, ибо не набрала квалифицированного большинства, но за нее было подано 1303 голоса из 1974 при 607 против. Вот насколько остро стоял этот вопрос!
У меня и тогда, и позднее была совершенно четкая и ясная позиция: ни в коем случае сейчас не идти на разделение постов. Эту точку зрения я высказал в своем выступлении на третьем съезде, ее я отстаивал на всех публичных встречах, во всех дискуссиях, в которых мне пришлось участвовать. Горбачеву я говорил, что его отход от руководящей роли в партии не может не иметь в нынешних условиях губительных последствий и для президентства и для самой партии. Партия может оказаться под контролем консервативных сил, ее реформирование, только начавшись, будет прервано, возникнет противопоставление партии и президентской власти. Лишившись же политической опоры, да не имея к тому же президентских структур на местах, президент не продержится и трех месяцев, ибо ни новые демократы, ни консервативная партия его терпеть не будут.
Путь один — оставаясь и Генеральным секретарем в партии, и президентом, осуществлять обновление партии на современных демократических основах, в рамках гражданского общества и правового государства. Путь нелегкий, но другого не дано, если мы хотим избежать анархии и разложения. К сожалению, эта возможность оказалась нереализованной.
Глава IV Кризис партии
Как ускорить перестройку в партии. — Платформа ЦК КПСС или «Демплатформа»? — На авансцену выходит российский фактор. — Последний съезд КПСС.
Как ускорить перестройку в партии
Уже первый Съезд народных депутатов показал необходимость ускорения и углубления перестройки партии, которая начала отставать от процессов, происходящих в обществе. Руководство партии по-прежнему выступало инициатором демократической перестройки, а сама она все более погрязала в самоанализе, обостряющейся внутрипартийной борьбе. Многие ее звенья, особенно на областном и районном уровнях, стали превращаться в тормозящую силу. В аппарате партии, в том числе в ЦК, зрело глухое недовольство переменами. КПСС входила в трудную для себя полосу вставала перед выбором: или обновить себя или оказаться перед угрозой распада.
Еще за год до этого лишь 10–15 процентов опрашиваемых в ходе социологических исследований заявляли об утрате надежд на способность партии осуществить перестройку, а сейчас таких ответов было уже 35 процентов. Негативные суждения о работе ЦК компартий республик, крайкомов и обкомов партии, горкомов и райкомов высказывало еще большее количество людей — около 60 процентов опрошенных. Эти настроения, естественно, не могли не находить отражения в прессе. Особенно жесткой критике подвергался партийный и государственный аппарат, что еще более взвинчивало страсти.
Стали раздаваться требования чуть ли не немедленного созыва чрезвычайного съезда КПСС. В подавляющем большинстве случаев они исходили от партийных функционеров, не принимающих перестройку, не способных на коренные перемены, явно или тайно осуждающих линию горбачевского руководства. Они надеялись, что съезд отвергнет эту линию и вернет все на круги своя. Но с идеей чрезвычайного съезда, очевидно, не задумываясь над ее последствиями, носились и радикально настроенные реформаторы в партии. Результат чрезвычайного съезда, по моему убеждению, тогда мог быть только один — поражение реформистских сил, консервативный поворот, возврат к старому.
Я чувствовал, как Горбачева мучает ситуация с партией. Он понимал, и я его в этом отношении поддерживал, что без партии не обойтись — не удержать управление страной и не осуществить демократическое обновление общества, сопряженное с крутой ломкой общественных отношений. И в то же время видел, что для этого нужно коренное обновление самой партии, а оно наталкивается на упорное сопротивление и даже контрнаступление консервативных сил.
После XIX партконференции прошел лишь год. Потенциал ее решений еще не был исчерпан. Для нового съезда надо было наработать сумму новых идей, создать новый программный документ, пересмотреть устав, выработать линию социально-экономического развития страны на предстоящий пятилетний период. Иначе говоря, нужно было сформировать такую мощную идейно-теоретическую и политическую платформу, которая позволила бы на новом этапе сплотить партию или во всяком случае ее основной массив вокруг перестроечных целей и задач.
К этому мы не были готовы. Требовалось время. И не только для того, чтобы подготовить доклад и резолюции, а прежде всего для того, чтобы произошел поворот в массовом партийном сознании в пользу глубоких демократических перемен или во всяком случае более или менее четкое размежевание.
Не терпели отлагательства и очередные дела. Полным ходом шла подготовка Пленума по вопросам национальной политики партии. Общество ждало ответов на самые животрепещущие вопросы в этой области, критической переоценки традиционных подходов, чтобы найти ключ к решению острейших межнациональных конфликтов, которые сотрясали страну. На очереди дня — изменения Конституций союзных республик, проведение выборов народных депутатов республик и местных советов, формирование органов власти и управления на местах. И, конечно же, экономическая реформа, которая все более глохла под воздействием консерватизма и популизма, под ударами политической борьбы, а ситуация в стране продолжала ухудшаться.
Исходя из всего этого и была выработана позиция приблизить проведение партийного съезда, но провести, как полномасштабный очередной форум, используя его подготовку и проведение для активизации и сплочения прогрессивных перестроечных сил.
Предполагалось усилить работу по передаче реальной власти Советам и превращению партии из ядра государственной власти в общественно-политическую организацию, освободить партийные органы от вопросов, входящих в компетенцию государственных органов, не позволять соответствующим руководителям прикрываться партийными решениями и уходить от ответственности, не настаивать на замещении одним лицом постов первых секретарей партийных комитетов и председателей советов.
В головах партийных кадров много ностальгии по прежним временам, когда раздавались команды и указания по всем направлениям общественной жизни всем государственным и общественным организациям, хозяйственным органам, и они безоговорочно исполнялись ими. Все сильнее проявлялось противопоставление центра и мест, звучали обвинения в адрес центра за недостаточность или даже отсутствие ясных и исчерпывающих директив, за критический настрой в средствах массовой информации.
Надо было продолжать настойчивые усилия, чтобы шаг за шагом преодолевать старые привычки и стереотипы, перемалывать их, переплавлять в горниле новой общественной практики.
С учетом того, что проблемы перестройки партийных структур и партийной работы оказались в эпицентре событий и общественных дискуссий, было решено провести совещание первых секретарей ЦК республиканских компартий, крайкомов и обкомов партии. Оно состоялось 18 июля.
Горбачев произнес реформаторский, но хорошо сбалансированный доклад. Что касается выступлений, то наряду с прежними, твердокаменными мотивами, хорошо известными по апрельскому Пленуму и прозвучавшими на сей раз из уст Бобыкина (Свердловск), Масалиева (Киргизия), Месяца (Московская область), заметными оказались и серьезные подвижки в сторону реализма у Назарбаева, Володина (Ростов) и других. Сравнительно спокойным оказалось выступление Лигачева, но зато поразил всех Рыжков. Практически ничего не сказав о деятельности возглавляемого им правительства, о нарастании кризиса в экономике, о планах и намерениях по предотвращению ее развала, он обрушил тяжелую критику на партию и, что уж совсем странно, на Политбюро и Генерального секретаря. Причем, это не было похоже на самокритику, а скорее походило на взгляд со стороны. Долго еще после совещания вспоминали этот демарш Рыжкова (что бы это значило?), много ссылок делалось на его выступление представителями ортодоксальных сил в партии.
Не вступая в открытую полемику с Рыжковым и другими ораторами, я в своем выступлении говорил о взаимодействии экономических, политических и идеологических факторов, приведших к нынешней сложной ситуации в стране, о неправомерности попыток все свалить на центр, на средства массовой информации, о перестройке идеологической работы. А на заседании Политбюро, обсуждавшем итоги совещания, я поднял вопрос о том, что в критике и оценке деятельности руководства со стороны членов Политбюро должны соблюдаться определенные этические нормы: это следует делать прежде всего в рамках самого Политбюро, для чего, по моему мнению, есть все необходимые условия. И только в том случае, если это не дает результата, апеллировать к более широкой аудитории.
Никто из коллег эту тему не затронул, хотя в кулуарах она бурно обсуждалась, никто не отреагировал на мое замечание ни в плане поддержки, ни в порядке возражения. Самое удивительное, что даже Лигачев, который не упускал случая «поправлять» главу правительства, на сей раз прошел мимо. Я думаю, в отношениях между ними начались перемены, на почве критического отношения к Горбачеву наметилось определенное сближение. Не «вышел» на эту тему напрямую и Генсек. Ему тут было просто не с руки, да и, вероятно, между ним и Рыжковым состоялось какое-то объяснение.
В августе во время отпуска (я проводил его в Мухалатке неподалеку от Фороса, где, по-моему, первый год отдыхал Горбачев) по телефону шел регулярный обмен мнениями относительно намеченного на сентябрь обсуждения проблем национальной политики партии на Пленуме ЦК КПСС. Генсек вынашивал план нового существенного обновления Политбюро и Секретариата ЦК, советовался по конкретным лицам, в частности, по партийным руководителям Украины, Москвы, Ленинграда. Тогда же впервые возникли фамилии будущих секретарей ЦК Гиренко, Шенина, Манаенкова и других.
Я предложил на этот раз привести в действие главный резерв — коллективную отставку Политбюро, чтобы развязать руки Генсеку в формировании нового состава Политбюро. У меня не было сомнений в том, и что его полномочия будут подтверждены, и именно ему будет поручено сформировать новое Политбюро. Можно было бы упразднить Аграрную комиссию и аграрный отдел в ЦК, существование которых наряду с соответствующими подразделениями по социально-экономическим проблемам выглядит анахронизмом. Зато создать комиссию и отдел по межнациональным отношениям.
Михаил Сергеевич, рассуждая обо всем этом, высказал опасение, что при полном переизбрании Политбюро, за чертой может оказаться Яковлев. Я добавил, что и меня может не миновать подобная участь, и тем не менее такой шаг может оказаться при определенных условиях необходимым и оправданным.
По поручению Горбачева написал и направил ему записку по вопросам, связанным с досрочным созывом XXVIII съезда КПСС. В ней предлагалось принять на предстоящем Пленуме решение созвать съезд в октябре следующего года, т. е. на 4–5 месяцев раньше уставного срока. В целях развертывания в партии и стране предсъездовской дискуссии заблаговременно опубликовать политическую платформу ЦК КПСС, а по итогам ее обсуждения принять на съезде программный документ, а также новый Устав КПСС. К принятию новой Программы мы еще не готовы, да и не время погружать общество в умозрительные рассуждения о фазах коммунистического общества, о мировом революционном процессе и т. д. Не удастся ограничиться и частичными изменениями действующей программы, которая и без того является «новой редакцией». В этом духе и было в дальнейшем принято постановление на сентябрьском Пленуме.
Подготовка Пленума — доклада Горбачева, концептуального документа о национальной политике партии велась в Ново-Огареве по традиционной схеме. Вместе с Горбачевым там были Яковлев, Шахназаров, Фролов, Болдин и я.
В напряженный, но размеренный ритм работы тех дней вторглась история с перепечаткой в «Правде» статьи итальянской газеты «Репубблика» о пребывании Ельцина в США. Текст статьи в переводе на русский язык попал в Ново-Огарево в одной папке информационных материалов ТАСС 14 сентября. Почитали, посмеялись и после некоторых колебаний пришли к выводу, что эту дешевку перепечатывать в нашей прессе не следует — она дискредитирует страну. Такая точка зрения была доведена мною до руководства Идеологического отдела. Впоследствии мне доложили, что некоторые газеты, в частности, «Советская Россия» обращались в отдел с предложением опубликовать статью, и им посоветовали воздержаться от такого шага.
Каково же было мое удивление, когда, раскрыв утром 18 сентября «Правду», обнаружил в ней злополучную статью! Выступая в тот день в АОН, я был буквально засыпан вопросами по этому поводу. Я чувствовал, что моим пояснениям далеко не все верят, и только довод о том, что публикация скандальной статьи — это ошибка, дискредитирующая страну, недопустимый метод полемики, заставил слушателей подзадуматься над случившимся.
Обо все об этом было сказано и Афанасьеву, а публично на следующий день Горбачев заявил об этом на Пленуме ЦК. Случай этот еще раз показал, что руководство «Правдой» со стороны главного редактора ослаблено и что тут нужны перемены. Впрочем, и сам Афанасьев это видел и ждал, когда вопрос перейдет в практическую плоскость.
Эпизод с перепечаткой в «Правде» статьи из итальянской газеты был не единственным отзвуком на заокеанское турне Ельцина. Через некоторое время мне позвонил Ненашев и сообщил, что Гостелерадио располагает видеозаписью нашумевшего на Западе выступления Ельцина в США, в котором он предстает в весьма своеобразном виде. Оказывается, это его лекция, прочитанная в Балтиморе. Как быть, ведь об этом факте широко известно зарубежной, а теперь и советской общественности? Мне рассказывали о таких передачах люди, приехавшие только что из Европы и США. Я высказал мнение, что надо обязательно предварительно сообщить о показе самому Ельцину.
После телефонного разговора Ельцин приехал в Останкино и сам просмотрел запись. Возразить тут было нечего. И единственно, что он попросил, так это показать не только это выступление, но и другие сюжеты о его пребывании в США. Что было и сделано.
А потом пошли объяснения — выступал-де Ельцин в утомленном от бессоницы состоянии после того, как наглотался снотворных таблеток, но ведь от снотворных таблеток люди приходят в заторможенное, а не в возбужденное состояние. Затем появилась новая версия насчет эффекта «буратино», что, дескать, запись была сознательно искажена и ей придан карикатурный вид. Последовали официальные опровержения представителей Гостелерадио и разъяснения о технической невозможности такой операции. В общем-то к этой теме не стоило бы возвращаться, но версия об эффекте «буратино» повторена в книге «Исповедь на заданную тему»…
Пленум ЦК КПСС продолжался два дня 19 и 20 сентября. По докладу Генсека принято краткое постановление и платформа ЦК КПСС «Национальная политика партии в современных условиях». Мне пришлось достаточно много поработать над этим документом и до Пленума и в ходе его, вести работу редакционной комиссии и докладывать Пленуму ее предложения. Могу сказать, что получился грамотный, взвешенный, серьезный документ, но вот здесь, пожалуй, более, чем в каком-либо другом случае правы те, кто критиковал нас за опоздание или точнее — за неумение работать на опережение. Процессы уже вскоре ушли за пределы тех формул, которые провозглашались в платформе, принятой Пленумом. Последовавшие события, в частности в Прибалтике, подтвердили это, обрекли документ на короткую жизнь.
Пленум в принципиальном плане высказался за приближение проведения очередного съезда партии. Весьма важными были и новые шаги по обновлению партийного руководства. Освобождены от своих постов в Политбюро и Секретариате Чебриков, Щербицкий, Никонов, Соловьев, Талызин в связи с уходом на пенсию. Новыми членами Политбюро стали Крючков и Маслюков, кандидатами в члены Политбюро Примаков и Пуго, секретарями ЦК Строев, Манаенков, Усманов и Гиренко.
Вот когда только закончился процесс обновления высшего эшелона партийного руководства. И вместе с тем в отставку по разным причинам стали уходить и некоторые выдвиженцы Горбачева. Произошла смена партийного руководства в Москве, Ленинграде, на Украине.
Уход Щербицкого был естественным. Я хорошо знал его еще в брежневские годы, общался с ним во время неоднократных поездок в Киев, участия в различного рода политических мероприятиях и конференциях. Владимир Васильевич был самостоятельным человеком, способным отстаивать свои позиции перед любым авторитетом, как это было, например, еще при Хрущеве, за что и поплатился в свое время.
С Брежневым у него были самые тесные, доверительные отношения, при его поддержке Брежнев решал самые щекотливые вопросы. Помню, как-то Щербицкий пригласил меня лететь из Киева домой на его самолете. Он вместе с несколькими лицами — председателем Президиума Верховного Совета Ватченко, председателем Совмина Ляшко, секретарями ЦК КПУ Титаренко и Качурой — направлялся на Пленум ЦК. В полете Владимир Васильевич в разговоре со мной (остальные почтительно держались в стороне) вдруг начал критиковать Подгорного, в то время всесильного Председателя Президиума Верховного Совета СССР, говорить о неправильном поведении его родственников на Украине и т. д.
Я был немало удивлен, но секрет назавтра раскрылся — на Пленуме был поставлен вопрос об освобождении Подгорного от высших должностей и уходе в отставку. А роль забойщика отводилась секретарю ЦК КПУ Борису Качуре, доверенному лицу Щербицкого…
Давным-давно отношения с Украиной по партийной линии были довольно своеобразными. В единственной республике — на Украине — сохранялось свое Политбюро. На первого секретаря ЦК КПУ с какими-то крупными вопросами «выходил» лишь Генсек. В области Украины из ЦК, особенно минуя Киев, ездить было не принято. Щербицкий все это поддерживал, да его можно понять: Украина — крупное государство с 50-миллионным населением, огромным экономическим потенциалом. Но при всем этом он был убежденным интернационалистом. Вел последовательную борьбу с «самостийниками».
Немаловажна и моральная чистоплотность этого человека, его личная скромность. Но возраст брал свое, силы уходили, преследовали болезни и вскоре после ухода на пенсию Владимира Васильевича не стало.
При проработке вопроса о его преемнике возникали фамилии Бакланова (по национальности он украинец и какое-то время работал, по-моему, в Харькове), Капто, Ревенко, Гуренко, Гиренко. Сам Щербицкий еще раньше готовил себе в преемники Качуру. А в итоге остановились на Ивашко, бывшем в то время вторым секретарем ЦК Компартии Украины. О нем я выскажу свое мнение несколько позднее, в связи с избранием его заместителем Генерального секретаря КПСС.
О смене московского руководства. Два года пребывания Зайкова на посту первого секретаря московской парторганизации в конце концов обнаружили неудачность такого решения. Лев Николаевич — разумный человек, крупный специалист по оборонным вопросам, уверенно и свободно себя чувствовал в сфере промышленности, городского хозяйства и административных органов, но испытывал большие трудности, когда дело касалось идеологии, средств массовой информации и культуры, взаимоотношений с интеллигенцией, новыми общественными движениями.
Он довольно умело вел диалог с одним или несколькими собеседниками, беседу в узком кругу, но выходя на трибуну, терял эти качества, выглядел довольно стандартно мыслящим, лишенным элементарных ораторских данных.
По прошествии некоторого времени он стал перед Горбачевым (об этом он мне тоже сказал) поднимать вопрос об уходе из Московского горкома, чтобы сосредоточиться на оборонных вопросах в ЦК КПСС. Начали подыскивать замену, что оказалось делом непростым.
Нужна была кандидатура из недр Москвы, третья подряд рекомендация из ЦК КПСС немосквича была бы наверняка отвергнута, как просто унизительная для Москвы. В процессе предварительных обсуждений назывались Вольский, Председатель Госстроя Серов, вице-президент АН СССР Лаверов, секретарь горкома Писарев, секретари райкомов Брячихин и Клюев и некоторые другие. А вопрос решился неожиданно просто, когда Горбачев решил обратится за советом и мнением сначала к членам бюро, а затем и Пленума горкома. Подавляющее большинство высказалось за Прокофьева. О других и слышать не хотели.
Нам казалось, для Москвы это не тот масштаб и не тот уровень, что будет больше тяги к партийной рутине, но не посчитаться со столь единодушным и категоричным мнением москвичей было сочтено невозможным.
Смена руководства московского горкома, приход Юрия Анатольевича Прокофьева на первых порах внесли определенное оживление в деятельность горкома — началась более активная работа с другими общественными партиями и движениями, завязался диалог, первый секретарь смело шел на дискуссии. Однако совершенно неожиданно, где-то уже перед самым съездом, я думаю, под влиянием жестокого поражения московской парторганизации на выборах народных депутатов России и Моссовета, в позиции Прокофьева произошел перелом в пользу более догматичных, консервативных позиций, что и проявилось в его выступлениях на съезде и последующих событиях.
Пожалуй, еще более болезненной оказалась обстановка в Ленинграде. Соловьев не пользовался там авторитетом, его избрание было санкционировано и навязано сверху из ЦК, не обошлось тут без влияния Лигачева. Он мало общался с населением, особенно с творческой интеллигенцией, да и они не тянулись к нему. По своим настроениям был близок к консерваторам и традиционалистам, к тому же на нем постоянно был налет какого-то барства и высокомерия.
Нового первого секретаря обкома Бориса Вениаминовича Гидаспова я знавал еще в пору его молодости по работе в Технологическом институте имени Ленсовета, и тогда у меня сложилось о нем представление как о современном, эрудированном, прогрессивно мыслящем человеке. Наше знакомство возобновилось на Первом съезде советов, на котором Гидаспов не раз выступал как председатель мандатной комиссии.
Не припомню, у кого возникла мысль именно его рекомендовать первым секретарем Ленинградской парторганизации, но я ее поддержал. Гидаспов никогда до этого не был на партийной или государственной работе, но входил в бюро обкома как ученый, руководитель крупного научно-производственного объединения. Мне казалось, что он может действовать в духе времени, в русле перестройки, но, очевидно, не хватило сил противостоять общим настроениям в ленинградских партийных кругах, переломить их, выйти на диалог с новыми демократическими движениями. Мне пришлось несколько позднее — в апреле 1990 года — выдержать бурный натиск со стороны актива родной парторганизации, обвинявшего во всем центр и категорически возражавшего против рыночной реформы и т. д. Думаю, не случайно (хотя мне об этом, как ленинградцу, писать не так просто), именно в Ленинграде появились и Нина Андреева, и так называемый «инициативный съезд РКП». Гидаспов в конечном счете попал под влияние этих настроений, занял жесткую позицию партийного фундаментализма, которая приносила одно поражение за другим.
Положа руку на сердце, не могу не признать, что кадровые перемены на Украине, в Москве и Ленинграде складывались скорее под давление конкретных обстоятельству не как результат далеко идущей линии с учетом стратегических задач перестройки. В принципе нужны были руководители иной формации и по пониманию проблем, и по стилю мышления и практических действий, но таких не оказалось под руками, а на решительный выход за рамки сложившейся номенклатуры нам просто не хватило духу.
Генсек в разговоре со мной вернулся к теме организации работы Секретариата, распределения обязанностей между секретарями. Договорились о том, что два секретаря из числа вновь избранных на Пленуме при сохранении кураторства со стороны соответствующих членов Политбюро будут заниматься координацией партийной работы в РСФСР, Гиренко — проблемами межнациональных отношений.
Речь шла о возобновлении регулярных заседаний Секретариата. Я предложил, чтобы его вели по поручению Генсека члены Политбюро в зависимости от выносимых на обсуждение вопросов. Чувствовалось, что с таким вариантом Генсек не очень согласен, но другого пока просто не существовало. Все эти вопросы были затем оговорены на ближайшем заседании Политбюро. Секретариат начал время от времени собираться и, главным образом, по вопросам организационно-партийной и идеологической работы и потому под моим председательством. Лигачев, и особенно Яковлев, как я и ожидал, отнеслись к этому довольно кисло, старались уклониться от заседаний, с остальными секретарями таких проблем не возникало.
В начале ноября на заседании Политбюро Горбачев поставил вопрос о форсировании подготовки XXVIII съезда партии с тем, чтобы уже в январе опубликовать проект предсъездовской платформы. Имелось в виду, что это может усилить позиции партии на выборах в республиканские и местные советы. К этому времени созрело предложение и о еще большем приближении партийного съезда, проведении его в мае — июне следующего года.
Платформа КПСС или «Демократическая платформа»?
Еще в декабре мною по поручению Горбачева была начата подготовка материалов к предсъездовской партийной платформе. Даны поручению ИМЛу (Смирнову), АОН (Яновскому), ИОН (Красину). Приглашал я также на персональной основе неординарно мыслящих людей, в том числе — Лена Карпинского и Евгения Амбарцумова, просил их поразмышлять над концепцией предсъездовской платформы и получил от них интересные соображения. Был разговор на эту тему и с моим соседом по съезду народных депутатов и однофамильцем Роем Медведевым, но он сказал, что больше склонен к историческому жанру. Уже в канун нового года первый 80-страничный вариант был направлен Горбачеву.
В начале января Генсек собрал традиционную команду в Ново-Огарево. Тут выявились большие расхождения. Представленный материал по существу не обсуждался, было ясно, что он не очень-то воспринимается коллегами. Состоялся общий обмен мнениями о характере будущей платформы к съезду, смысла и тональности документа. Мое понимание его как обозначения последнего рубежа, с которого отступать уже нельзя («просто некуда»), а потому документа максимально острого, откровенного и самокритичного, встретило возражения, прежде всего со стороны Яковлева: не надо, дескать, впадать в панику, говорить об отступлении, ведь мы, наоборот, наступаем и т. д. Это было началом разногласий с Яковлевым, которые затем стали проявляться все больше и больше.
Мое участие в дальнейшей работе над проектом платформы было ограниченным из-за поездки в Литву и занятости другими делами, да я и сам не стремился его активизировать, чувствуя иные подходы со стороны коллег. Сведение материала и финишную доработку вели Яковлев и Шахназаров.
Проект платформы нравился мне все меньше — обтекаемость, литературщина, увлечение красивым словом в ущерб содержательности. Возник острый спор по структуре собственно программного раздела. Мне казалось, начинать его надо с того, что всего больше значит для людей — с социально-экономических проблем, включая самые неотложные. Яковлев и другие — чтобы начать с политических свобод. В итоге Генсек остановился на компромиссном варианте, предложенном Болдиным, и обратился ко мне, чтобы я его реализовал. Но я отказался, сославшись на то, что это противоречит моему пониманию. Наступили тягостные минуты, чего до сих пор никогда не бывало в нашей коллективной работе. Материал по экономической реформе я все же свел и к вечеру отдал Болдину.
В начале февраля состоялось обсуждение проекта Платформы на Пленуме ЦК КПСС. Он был созван в расширенном составе с участием руководителей республик, краев и областей, не входящих в состав ЦК, группы первых секретарей горкомов и райкомов партии, секретарей парткомов крупных первичных партийных организаций, руководителей министерств, центральных ведомств, творческих союзов и организаций, средств массовой информации, ученых, военных, группы шахтеров из некоторых угольных бассейнов. Обсуждение вылилось в широкую общеполитическую дискуссию, отразившую весь спектр позиций, взглядов в партии, начиная с радикально-деструктивных и кончая консервативно-фундаменталистскими.
Как и на предыдущих Пленумах, во многих выступлениях звучали мотивы неприятия перестроечных процессов, хотя на словах все заверяли в приверженности им. Характерным в этом отношении было выступление Бровикова, посла в Польше, а до этого длительное время работавшего в отделе организационно-партийной работы ЦК КПСС и вторым секретарем ЦК Компартии Белоруссии. Я хорошо знал его по работе в ЦК КПСС и в Польше. Это был способный, остро мыслящий человек, но насквозь пронизанный аппаратной «орготдельской» психологией брежневских времен. На его настрой, суровый и мрачный, по-видимому, повлияли также состояние здоровья после тяжелого заболевания и серьезные неприятности в семье. Но, конечно же, не это было главное. Аплодисменты, сопровождавшие выступление, красноречиво свидетельствовали о наличии в составе ЦК мощных сил, противостоящих Горбачеву.
Свои «десять требований» выдвинул Ельцин. Некоторые из них были вполне реальными (об отмене статьи 6-ой Конституции, о прямых выборах делегатов съезда), другие дискуссионными (отказ от принципа демократического централизма, признание самостоятельности фракций), третьи — просто утопичны (ликвидация аппарата, подчинение партийных средств массовой информации только съезду или партийной конференции). Ельцин оказался единственным воздержавшимся при одобрении проекта Платформы. Мотив — не учтены его десять предложений, хотя, по признанию Ельцина, документ и заключает в себе некоторые новые и прогрессивные позиции.
Несмотря на острые противоречия, все же возобладал конструктивный подход. Тон был задан докладом Генерального секретаря, который поддержали большинство ораторов. На сей раз выступили члены Политбюро, и это произошло не по предварительной договоренности, а потому, что всем было ясно значение данной дискуссии. У каждого из нас имелись свои оценки ситуации, разное отношение к обсуждавшемуся проекту, чем-то он каждого не удовлетворял, но надо было поддержать его в принципе, ибо от этого зависела судьба партии, идущей навстречу своему съезду.
Работа над проектом Платформы продолжалась и на Пленуме в рамках комиссии, созданной им во главе с Горбачевым. В ее состав вошли и мы с Яковлевым и Фроловым, но итоги работы комиссии было поручено докладывать не Яковлеву и не мне (видимо, Горбачев, учитывал мое неоднозначное отношение к проекту), а Разумовскому. В подготовительной работе он не участвовал, не знал всех тонкостей и предыстории вопроса, поэтому оказался в довольно трудном положении. Впрочем, обсуждением поправок руководил сам Горбачев, и вся тяжесть этой миссии выпала на него. О том, как это происходило, читатель может составить представление по стенограмме, опубликованной в «Известиях ЦК КПСС» за 1990 год, номер 3.
Наибольшее давление на проект шло в направлении ужесточения формулировок, восстановления привычных заходов и формул. Основное реформаторское содержание удалось сохранить, но текст приобрел некую лоскутность, создавая впечатление, что он делался двумя или даже тремя разными руками.
На заключительной части работы Пленума я не присутствовал в связи с визитом в Лондон во главе делегации Верховного Совета СССР, который до этого дважды переносился.
…Реакция на публикацию Платформы ЦК КПСС «К гуманному демократическому социализму» была неоднозначной: согласно проведенным опросам большинство членов партии отнеслось к ней положительно, но среди интеллигенции настроения складывались не в ее пользу. В дальнейшем, несмотря на усилия партийной пропаганды, ситуация в лучшую сторону не менялась, скорее, наоборот. В какой-то мере это можно объяснить влиянием альтернативных программ — «демократической» и «марксистской» платформ, но, как мне представляется, главную роль здесь играли общеполитические настроения растущего недовольства партийным руководством.
«Демократическая платформа» все навязчивее преподносилась некоторыми средствами массовой информации, как чуть ли не образец демократизации партии. С большой помпой выступали ее авторы — доцент кафедры научного коммунизма одного из вузов Лысенко и ректор Московской высшей партийной школы Шостаковский. Последнего я хорошо знал по работе в Академии общественных наук. Путь Шостаковского к «Демократической платформе» был, непростым. Он был помощником бывшего ректора АОН Иовчука, известного своими консервативными взглядами, сформировавшегося еще в сталинские времена. Потом стал ученым секретарем Академии, но вскоре после моего прихода в АОН был взят в Отдел организационно-партийной работы ЦК КПСС и «курировал» партийные учебные заведения, и уже оттуда был направлен ректором Московской ВПШ. Позднее мы встретились с ним уже в Фонде Горбачева.
Я был с самого начала принципиальным приверженцем диалога с представителями различных течений в партии и авторами альтернативных проектов. При моем участии были решены вопросы о публикации в партийной печати «Демократической» и «Марксистской» платформ, о приглашении на мартовский Пленум ЦК Лысенко для участия в обсуждении Устава партии (такая просьба была передана через Травкина). В числе немногих я голосовал за предоставление ему слова на Пленуме. Позднее, когда началась переработка программного документа к съезду, в комиссию и рабочую группу были привлечены представители различных течений, они были и в составе Редакционной комиссии съезда.
Настроения общественности, в частности, интеллигенции, я отчетливо почувствовал на встрече с коллективом Московского энергетического института 23 февраля, а затем на встрече с партийным активом Калининского района столицы. В МЭИ три часа держали на трибуне, из них 2,5 часа отвечал на вопросы. Многие касались сопоставления предсъездовской Платформы ЦК КПСС и «Демократической платформы». Мои соображения на этот счет выслушивались внимательно, но настороженно и недоверчиво. Аудитория была уже настроена определенным образом.
В чем суть вопроса, о чем шла речь? Прежде всего о несопоставимости этих программ. Проект ЦК КПСС дает изложение определенных позиций по всему кругу проблем, начиная с оценки ситуации и кончая вопросами перестройки партии. В альтернативном же проекте охвачены лишь вопросы партийного строительства, практически не затрагиваются вопросы экономической, социальной политики, проблемы межнациональных отношений, не говоря уж о международных делах.
Если же брать только одну эту область — взгляд партии на саму себя, то в этих документах содержалось много сходных и созвучных посылок. Например, о переходе всей полноты власти от партии в руки демократически избранных советов, об исключении из Конституции законодательного закрепления руководящей роли конкретной партии, способах выборов делегатов на партийные конференции и съезды, а также партийных комитетов, бюро и секретарей.
К числу дискуссионных можно отнести вопрос конкретной трактовки демократического централизма, как принципа построения партии, соотношения вертикальных и горизонтальных структур. Кстати, мне пришлось соприкоснуться с некоторыми возникшими спонтанно горизонтальными структурами — советом секретарей парткомов высших учебных заведений, конференцией секретарей партийных организаций учреждений Академии наук — и убедиться в том, что это полезные и жизнеспособные формы политической деятельности.
Принципиальное же различие между двумя платформами по существу одно — об отношении к фракциям внутри партии. Наша позиция — плюрализм мнений, полная свобода в отстаивании своих взглядов, возможность выдвижения альтернативных платформ, их пропаганды и отстаивания даже после того, как определилось мнение большинства и на его основе принято решение, обязательное для выполнения. Но без организационного оформления фракционных группировок со своей внутренней структурой и дисциплиной, отличных от общепартийных, иначе говоря — без партий внутри партии. В новых условиях, при свободе организации новых партий такому подходу нет никакого оправдания, да в этом нет и никакого практического смысла: если не хватает сил и аргументов для завоевания поддержки со стороны большинства партии, выходи из нее, создавай новую партию — ведь это же союз, сообщество единомышленников!
Представители «Демплатформы» вместо того, чтобы попытаться развернуть в дискуссии альтернативную программу по широкому кругу социальных проблем, сосредоточились на одном — своем требовании свободы фракционной деятельности в партии. Они решили явочным порядком реализовать его, начали создавать организационные структуры в центре и на местах, проводить регистрацию своих сторонников, в том числе и не членов партии, принимать свои решения, рассылать эмиссаров на места. Это была, с моей точки зрения, ошибка, которая негативно отразилась на предсъездовской дискуссии, обрекла «Демплатформу» на неудачу.
В адрес ЦК пошел буквально поток писем, да и устных высказываний: куда вы смотрите, против единства партии начата открытая борьба, внутри нее создаются параллельные организационные структуры, для проведения работы против партии используется, как базовое учреждение — Московская высшая партийная школа. Почему не принимается никаких мер? Не реагировать на эти настроения было просто нельзя.
Вопрос об отношении к «Демплатформе» возник на заседании Политбюро 22 марта. Предложения были высказаны разные, в том числе самые крайние: идейно и организационно размежеваться, осудить, не останавливаясь перед роспуском отдельных партийных организаций, которые высказываются за «Демплатформу». Мои соображения сводились к тому, что в массе своей члены партии имеют смутное представление о «Демплатформе», как, впрочем, и о других вариантах программ. Надо опубликовать эти варианты, чтобы «Демплатформа» рассматривалась, как одно из предложений, а организационное размежевание нужно не с самой Платформой и не со всеми, кто к ней проявляет интерес, а с отдельными людьми, которые действуют фракционно, создают партию внутри партии. В результате обсуждения решено направить по этому вопросу Письмо ЦК КПСС партийным организациям и средствам массовой информации.
Генсек очень торопил, чуть ли не каждый день напоминал о Письме и вынес его на следующее заседание Политбюро через неделю. Оно было еще довольно сырым и несобранным. Я не успел предварительно ознакомить с ним даже секретарей ЦК. Но основная идея была выражена достаточно четко и ясно — надо разграничивать тех, кто рассматривает «Демплатформу», как орудие политической борьбы против партии, и массу коммунистов, которая, может быть, больше эмоционально, из-за неудовлетворенности нынешним положением поддерживает ее.
Проект Письма подвергся очень жесткой критике и практически был отвергнут из-за, якобы, слишком мягкого, недостаточно крутого подхода к оценке «Демплатформы», недостаточно ясной ориентировки партийных организаций на размежевание с ней. В таком духе выступили Лукьянов, Фролов и другие. Практически я остался один под огнем критики, но тем не менее отстаивал свое мнение, доказывая, что критерием размежевания в партии не может быть отношение к Платформе ЦК КПСС. Ведь это же проект, вынесенный для обсуждения. Поддержка коммунистом «Демплатформы» или другого альтернативного проекта не может служить основанием для его отторжения от партии. Иначе будет конец дискуссии, конец внутрипартийной демократии. О том, какой быть Программе партии, да и самой партии, может решить только съезд. Организационно-дисциплинарные меры могут применяться лишь к тем, кто нарушает партийную дисциплину, ведет борьбу против партии. Да и здесь надо проявлять осмотрительность, ибо нормы партийной жизни — тоже прерогатива съезда.
И в дальнейшем работа над Письмом протекала в борьбе различных мнений и подходов. С его проектом было решено ознакомить руководителей республиканских и областных партийных организаций. Замечания с мест от парткомов шли преимущественно в направлении ужесточения постановки вопроса. А со стороны значительной части коммунистов и особенно партийной интеллигенции, реакция была диаметрально противоположной.
9 апреля на заседании Политбюро вновь возник этот вопрос. Генсек предложил не направлять Письмо, а ограничиться телеграммой с кратким изложением сути дела. Этот вариант был поддержан только Яковлевым. Видимо, это была его идея. Но она не была принята ввиду того, что дело зашло уже далеко и получило довольно широкую огласку.
А Лигачев, напротив, выступил за созыв специального Пленума с обсуждением проблем, выдвигаемых в Письме, имея в виду, что Пленум может решить вопрос и о размежевании путем исключения тех, кто поддерживает альтернативные программы. Это предложение было поддержано Рыжковым. Но большинство членов Политбюро выступили против Пленума ЦК партии, исходя из того, что сейчас надо проводить линию на консолидацию, а не на размежевание и раскол.
В общем, обсуждение было на сей раз, пожалуй, диаметрально противоположным тому, что на предыдущем заседании. По сути дела решено вернуться к тому подходу, в духе которого был предложен первоначальный вариант, подвергшийся разгромной критике. Возобладал здравый смысл. Оказали свое действие и импульсы снизу, настроения в широких партийных массах.
Спустя два дня, Письмо было опубликовано в печати. Как и ожидалось, оно обострило предсъездовскую дискуссию. Ортодоксально настроенные коммунисты, партийные руководители критиковали ЦК за то, что Письмо опубликовано, якобы, слишком поздно, что в нем недостаточно решительно оцениваются иные взгляды, отличные, по их мнению, от линии партии, не ставится вопрос о чистке ее рядов и т. д.
И, напротив, реформаторская часть коммунистов, особенно из числа инженерно-технической, вузовской интеллигенции, молодежи, восприняла Письмо, как отрыжку старого, как окрик, чуть ли не как призыв к расправе с инакомыслящими, идущий вразрез с демократизацией и реформированием партии. Оно однозначно истолковывалось, как результат давления со стороны право-консервативной группировки Лигачева, хотя он к этому имел не большее отношение, чем другие члены Политбюро.
Безусловно, этот шаг имел некоторые негативные последствия — дал повод для раскручивания пропагандистского витка против партии и ее руководства, для обвинения его в сдвиге вправо. Но позитивные результаты опубликования Письма, на мой взгляд, все же перевесили неизбежные издержки. Не ограничивая свободы и остроты обсуждения идейно-теоретических проблем партии, оно поставило определенный предел деятельности по организационному расшатыванию партии, помогло предотвратить ее раскол.
Последующие события показали, что размежевание партии на этом этапе не дало бы положительного результата. Его линия пролегла бы между основным массивом партии и сравнительно небольшой ее частью из числа инженерно-технической и гуманитарной интеллигенции. Отколовшаяся от партии часть не составила бы серьезной политической силы, зато реформаторские тенденции были бы существенно ослаблены.
В дальнейшем работа над проектом Платформы и другими документами стала проходить в рамках Комиссии по подготовке к съезду партии, образованной Политбюро по согласованию с ЦК КПСС. Члены этой Комиссии были разделены на восемь рабочих групп, в числе которых была и группа из 15-ти товарищей по доработке проекта Платформы ЦК КПСС. Руководство ею было поручено мне. Затем эта группа была расширена за счет вновь избранных делегатов съезда — до 45-ти человек.
Состав рабочей группы определялся таким образом, чтобы иметь проекции мнений с самых различных углов зрения, со всех уровней партийной структуры. Тут были и члены Политбюро, и руководители областных, городских и районных организаций, и большая группа секретарей первичных парторганизаций, и ведущие ученые-обществоведы, и руководители средств массовой информации, и представители творческой интеллигенции.
Работа была организована не по стандарту, сложившемуся ранее, когда документы готовятся узкой группой работников аппарата с привлечением специалистов, а затем предлагаются на подпись тем, кому это поручено. Рабочая группа с самого начала была именно рабочая. Каждый вносил свои предложения и по структуре, и по изложению основных проблем. Все это обсуждалось в обстановке большой заинтересованности, полной откровенности и непредвзятости.
К работе не формально, а в практическом, деловом плане были привлечены и представители альтернативных направлений. В частности, от «Марксистской платформы» активное участие принял Пригарин, от «Демплатформы» — Богатов.
Мы пытались придать процессу формирования программного документа максимальную гласность. С каждого заседания передавались репортажи по телевидению. В «Дискуссионном листке» «Правды» публиковалось подробное изложение стенограммы дискуссии, давались интервью, проводились «круглые столы» на телевидении. Уже перед съездом, в день публикации Программного заявления совместно с членами рабочей группы Лякишевым, Ожерельевым, Степиным и Федотовым мною была проведена заключительная пресс-конференция об итогах предсъездовской дискуссии. Практически рождение программного документа проходило на глазах у партии и общества.
Проект документа претерпел коренные изменения — от содержания до названия. Форма Программного заявления съезда позволила насытить его политическими и идеологическими оценками и, вместе с тем, изложить в сжатом виде программу действий партии на ближайший период.
В ходе доработки мы устранили недостатки проекта, которые были заложены в нем, по сути дела, с самого начала, — многословие, обилие общих рассуждений, литературных красивостей, недостаточная острота оценок, на что обращалось внимание и в ходе обсуждения проекта. Он был сокращен почти вдвое, при этом практически без содержательных потерь.
В проекте интегрированы многие идеи альтернативных проектов — «Демплатформы», «Марксистской платформы», варианта Московской организации, предложения и замечания, высказанные в ходе общепартийного обсуждения. Включена развернутая оценка текущего момента, сложнейшей кризисной ситуации в стране, проанализированы причины этого кризиса.
Дана характеристика расстановки социально-политических сил, ближайших и конечных целей КПСС, а программа действий открывается изложением экстренных мер по выходу из кризиса.
Практически заново сформирован и заключительный раздел документа — о перестройке партии. В связи с многочисленными пожеланиями в развернутом виде охарактеризованы ее функции в гражданском обществе, изложены пути, конкретные меры и гарантии демократизации внутрипартийных отношений.
Работа над проектом документа была не столько литературным, сколько политическим процессом: шло сопоставление позиций различных течений в партии, вырабатывались взгляды на важнейшие общественно-политические проблемы, отшлифовывались и выверялись формулировки, которые послужили бы основой широкого партийного компромисса, единства действий и помогли бы предотвратить раскол партии, нежелательный в данных условиях.
По просьбе делегатов Российской партийной конференции проект бьш роздан им в виде рабочего документа, направлен в ЦК компартий республик для ознакомления делегатов из других республик. Он бьш опубликован и в печати.
Так что на съезде проект обсуждался уже будучи достоянием всего общества.
Работа над Программным заявлением была лишь небольшой частью общей подготовки XXVIII съезда партии. Шла параллельно работа над Уставом и, конечно же, над докладом ЦК КПСС. Надо было решать огромное количество организационных вопросов. В этой связи вновь возникла необходимость активизации Секретариата ЦК, тем более что Генсек, став Президентом, лишился возможности, как раньше, заниматься партийными делами. Отошли в какой-то мере от партийных дел, став членами Президентского Совета, Яковлев и Болдин.
При обсуждении со мной состава Президентского Совета Горбачев сказал: «Что касается тебя, то нам надо вместе держать партию, без которой вообще ничего не получится». Свои соображения на сей счет он вскоре, в начале апреля, и высказал на заседании Политбюро, предложив мне организацию работы Секретариата и ведение его заседаний. Члены Политбюро (Шеварднадзе, Зайков и другие), как я заметил, закивали в знак одобрения, но тут подал реплику Фролов, что если бы он имел право голоса, то воздержался бы. Я даже не успел отреагировать, как Горбачев констатировал: «Принимается при одном воздержавшемся».
Я понимал, что не Бог весть о чем идет речь — ведь все это лишь до съезда. Но тем не менее ответственность громадная. Вскоре я провел расширенное заседание Секретариата с обсуждением хода подготовки съезда с докладами заведующих отделами. Надо было поддержать рабочее настроение в аппарате, который все больше оказывался во власти пораженческого синдрома.
Больше внимания и времени пришлось уделять и местным партийным органам. В апреле — мае я побывал в Ленинграде, Горьком, в Витебской области Белоруссии, где был избран делегатом съезда, провел совещание секретарей ЦК компартий, крайкомов и обкомов по идеологии.
Важной вехой на пути к XXVIII съезду КПСС и Российской партийной конференции явилось совещание первых секретарей ЦК компартий республик, крайкомов и обкомов партии, состоявшееся 11 июня 1990 года. На нем были заслушаны — доклад Рыжкова по вопросам перехода к рынку и мое сообщение о подготовке съезда и партконференции. При обсуждении первого вопроса обстановка была крайне напряженной: с большим трудом руководители первого ранга — на уровне членов ЦК КПСС — поворачивались лицом к реалиям, к пониманию необходимости и неизбежности вхождения в рыночные отношения. Но и действия правительства были далеко неоптимальными, начиная с совершенно непродуманного шага — объявления о реформе цен более, чем за полгода до ее проведения, что привело к полной дезорганизации рынка и его окончательному опустошению.
Вторая часть совещания проходила в более спокойной обстановке.
К этому времени сформировался в основном и делегатский корпус. Был проанализирован его состав. Оказалось, что в сравнении с предыдущим съездом в 2,5 раза упала доля рабочих и крестьян. Зато отмечен резкий рост числа и удельного веса партийных работников. Они составили почти половину делегатов съезда. Этому можно было бы и порадоваться, если бы такой рост отражал повышение авторитета партийных работников. Но вопрос, к сожалению, не в этом, а в непомерной личной выборной активности многих партийных руководителей. Вот лишь один пример. В одном из районов столицы в числе семи делегатов, избранных на съезд, оказались все три секретаря районного комитета партии, а кроме них — еще два освобожденных секретаря партийных организаций. Какое уж тут представительство основных социальных слоев!
В результате мы оказались перед фактом, что предстоящий съезд, имеющий ключевое значение для судьбы партии, по своему составу может оказаться по преимуществу съездом функционеров. Чтобы ни говорилось, какие бы объяснения ни приводились, они не могут оправдать того, что партия, претендующая на выражение интересов рабочего класса, крестьянства и интеллигенции, идет на съезд в таком составе.
И еще один характерный факт. Среди делегатов съезда заметно возросло число научных сотрудников, преподавателей вузов, работников технологических и проектных институтов. А вот крупных ученых, видных представителей творческой интеллигенции практически среди делегатов съезда не оказалось. Очень мало женщин: всего 278, что составляет 6,9 процента.
Руководство ЦК не извлекло уроков из последних выборных кампаний, понадеялось на спонтанность демократического процесса. Учитывая сложившуюся ситуацию, Политбюро выступило с инициативой — пригласить на съезд партии 350 рабочих и крестьян, преимущественно из числа тех, кто был выдвинут кандидатами в делегаты и баллотировался по округам или на конференциях.
В своем выступлении я также изложил соображения о количественных параметрах формирования выборных органов партии на съезде. Имелось в виду, что компартии союзных республик получат право иметь по 5 мест в ЦК независимо от их численности. Это дает 75 членов ЦК. Далее. Компартии союзных республик, краевые и областные партийные организации, а также партийные организации Вооруженных Сил и загранучреждений получают возможность избрать одного делегата от 100 тыс. коммунистов. Это еще 230 членов ЦК. Наконец, вновь избранному Председателю (Генеральному секретарю ЦК) предоставляется право выдвинуть в ЦК коммунистов, работающих в центральных органах, видных деятелей культуры и науки и других известных партии людей. Всего, таким образом, численный состав ЦК КПСС был бы в пределах 355–380 человек. Общая численность Центральной Контрольно-Ревизионной Комиссии могла бы составить 162 человека. Этот подход был принят в дальнейшем и на съезде при некоторой корректировке количественных параметров.
В отношении порядка работы и регламента высказано пожелание провести съезд в течение 8–9 дней, причем один из дней отвести для работы 5–7 секций по основным направлениям партийной деятельности.
Доложены предложения Политбюро и по такому вопросу, как участие в съезде представителей зарубежных партий. С учетом подчеркнутого рабочего характера съезда, акцента на обсуждение внутренних проблем, ограниченных возможностей для работы с гостями сочтено целесообразным не приглашать на съезд зарубежные делегации, а просто опубликовать возможные приветствия от партий и движений, использовать в интересах партийного сотрудничества представителей печати соответствующих партий и движений, аккредитованных в Москве.
Партия шла навстречу своему съезду, и никто не мог предположить, что он окажется последним.
На авансцену выходит российский фактор
По мере приближения XXVIII съезда КПСС на политической ситуации в стране и партии все в большей мере сказывались события, происходящие в Российской Федерации.
Первые признаки активизации российского фактора появились примерно за год до этого или несколько раньше в публикациях, заявлениях, исходящих от гуманитарной интеллигенции, и прежде всего от писателей, придерживающихся так называемой русофильской ориентации. Крайние выходки со стороны общества «Память» воспринимались тогда, как нечто одиозное, не отражающее сколько-нибудь глубоких процессов в обществе.
По мере оживления национальных движений в республиках внимание к российской теме стало возрастать, хотя еще в течение какого-то времени к этому не относились серьезно. И когда Валентин Распутин в одном из своих выступлений «пригрозил» выходом России из Советского Союза, это было воспринято, как каламбур.
Ситуация, однако, коренным образом изменилась, когда в повестку дня встал вопрос о выборах народных депутатов и создании новых органов государственной власти в республиках, в том числе и Российской Федерации. Российский фактор стал приобретать более реальные очертания, выдвигаться в центр политической борьбы. Одна за другой выявлялись сложные грани российской проблематики — политические, экономические, социальные, экологические, что вполне естественно: ведь РСФСР, будучи ядром Союза, несла на себе и главную тяжесть возникших в стране проблем.
Пожалуй, быстрее, чем руководство КПСС, уловили это оппозиционные силы, превращая российские проблемы в козырную карту в политической игре. Произошел серьезный поворот к российской проблематике радикально-демократических движений. Они почувствовали, что на волне российского патриотизма можно нажить немалый политический капитал. Ельцин со свойственной ему прямотой открыто говорил о том, что через овладение Россией он намерен «таранить» существующий режим и добиться своих целей.
В то же время в КПСС под российским знаменем возникло фундаменталистское движение за создание Российской коммунистической партии с целью объединить против перестроечного процесса в партии догматические, консервативные силы.
Произошло удивительное — превращение многих людей, очень далеких от российских проблем, никогда раньше их даже не замечавших, в завзятых патриотов и защитников российского народа, радетелей национальных чаяний россиян.
Надо со всей откровенностью признать, что российский угол политики оказался недооцененным партийным руководством — Горбачевым и всеми, кто его окружал. Суть наших рассуждений по этому вопросу сводилась к следующему: и исторически, и политически российский фактор является основообразующим для Союза. РСФСР — естественное ядро союзного государства. Без Российской Федерации Союз существовать не может. Но и Российскую Федерацию в том виде и в той конфигурации, которую она приобрела после Октябрьской революции, представить себе вне Союза просто немыслимо. Ведь РСФСР и Россия — это далеко не одно и тот же. Россия никогда не существовала в границах нынешней РСФСР. РСФСР — это искусственное сталинское образование, мыслимое только в рамках Союза, как его остов, несущая конструкция. Мысль о независимости РСФСР воспринималась, как абсурдная. Мы считали, что надо значительно, резко усилить самостоятельность РСФСР, ее ответственность за свое экономическое и культурное развитие, но в рамках Союза, в рамках взаимодействия с другими союзными республиками при наличии сильного центра.
Что касается партии, то формирование самостоятельной Компартии Российской Федерации неизбежно означало бы превращение КПСС из единой партии в союз партий. Ведь партийная организация России — это костяк КПСС, цементирующий ее как единое целое. К тому же это больше половины КПСС. Организационное оформление Компартии России и образование ею Центрального Комитета означали бы появление второго центра партии, который, опираясь на абсолютное большинство, мог бы предопределять политику и решения партии в целом, с чем другие компартии вряд ли примирились бы.
В партийных делах курс был взят на то, чтобы с учетом общественного мнения создать некие партийно-организационные структуры в Российской Федерации, не доводя дело до создания самостоятельной компартии, и дать поработать времени. Именно в этом смысл решения декабрьского (1989 г.) Пленума ЦК о создании Российского бюро ЦК и некоторых российских структур в аппарате ЦК КПСС. В дальнейшем, однако, на этих позициях удержаться не удалось: под напором общественного мнения пришлось их сильно корректировать, как говорят, «вплоть до наоборот».
Руководство ЦК КПСС не придало должного значения выборам российских народных депутатов, созданию в депутатском корпусе ядра крупных, авторитетных политиков, способных повести за собой депутатский корпус, возглавить важнейшие участки государственной работы.
Такой вопрос при подготовке выборов вставал. Вносилось предложение баллотироваться на выборах таким лицам, как Рыжков, Лукьянов, Бакатин и некоторые другие. Сами они отнеслись к этому негативно, а должной настойчивости проявлено не было. В результате кандидатур, которые могли бы на равных бороться с Ельциным за пост Председателя Верховного Совета РСФСР, не оказалось. При отсутствии устойчивого большинства и наличии группы колеблющихся депутатов это сыграло решающую роль в исходе выборов Председателя Верховного Совета РСФСР.
С мест шли настоятельные требования в ЦК возможно быстрее определиться по кандидатуре Председателя. Но прямо скажу, что до последнего момента мы колебались, на ком остановиться, выбор был слишком ограничен: Власов, Манаенков, Полозков. Промелькнул также Воронин. Вот, пожалуй, все. И лишь перед самым открытием первого Съезда народных депутатов России было отдано предпочтение Власову. Но и эта рекомендация ходом съезда была опрокинута.
Дело в том, что при обсуждении повестки дня оппозиции удалось навязать иную, чем предполагалось, последовательность обсуждения вопросов: вначале, до выборов заслушать и обсудить доклад правительства о положении в России. Александр Владимирович сделал это не лучшим образом, и вероятность избрания его сразу оказалась под вопросом. Уже через несколько дней, как показали контакты с депутатами, выяснилось, что большинство из них больше поддерживает Полозкова, чем Власова.
На встрече с коммунистами-руководителями республик и областей, которую поручено было провести мне и Воротникову, практически все, кроме иркутян, поддержали кандидатуру Полозкова. Я, конечно, считал, что с Полозковым идти на выборы плохо, но выбора просто не было. Договорились о том, что другие кандидатуры — Власов, Мальков, Соколов (а среди них оказались Воротников и Манаенков, выдвинутые оппозицией, видимо, из тактических соображений, чтобы растащить голоса), будут сняты.
Конечно, назавтра при изложении программного выступления Полозков выглядел слабее Ельцина, хотя его ответы на вопросы были довольно бойкими. А ночью стали известны результаты голосования. Ни один кандидат не набрал необходимого количества голосов: у Ельцина — 497, у Полозкова — 473.
Во втором туре Ельцин увеличил число голосов на 6, а Полозков 15 потерял. Решили еще раз все взвесить, поработать с депутациями, узнать их настроения и собраться на следующий день, в воскресенье.
Воскресное совещание секретарей ЦК с участием Воротникова, а также Капто, Бабичева, Дегтярева, Шенина, пришло к выводу, что у Полозкова шансов на продвижение вперед нет. Если даже к голосам, полученным Полозковым во втором туре, прибавить оставшийся 71 голос, не поданный ни за того, ни за другого, все равно он не наберет необходимого минимума в 531 голос, а Ельцину нужно добавить всего 28 голосов.
Несомненно, Полозков отшатнул от себя своим консерватизмом колеблющийся центр. В то же время после снятия Власовым своей кандидатуры его рейтинг заметно повысился. Поэтому решено было переориентироваться на Власова. Наше мнение тут же было доложено Генсеку. Он был несколько удивлен таким предложением, но принял его к сведению.
У меня были самые добрые отношения с Александром Владимировичем, уважал его, как спокойного, делового, порядочного человека. Посоветовал ему собрать в кулак всю энергию, весь запас эмоций и бросить их на чашу весов в понедельник. Он, действительно, выглядел значительно лучше, чем в первый раз. Неплохая получилась и программа, кое в чем — на грани допустимого.
Вечером того же дня в зале Пленумов ЦК собрали коммунистов-руководителей депутаций, плюс тех, кому они доверяют. Было человек 450. В зале, как я заметил, оказались и некоторые «демроссы». Это было трудно предотвратить, да, собственно, и незачем. Горбачев в это время готовился к визиту в США и находился за городом. Но он приехал и недвусмысленно высказался в пользу Власова.
Утром следующего дня, когда провожали Президента в заокеанскую поездку, надежда на благополучный исход российских выборов еще сохранялась. Но и тревога не исчезала. Где-то в районе тринадцати часов появились признаки неудачи. Вскоре состоялось объявление результатов голосования: Власов несколько увеличил число голосов в сравнении с Полозковым, а Ельцин сумел набрать 535 голосов, то есть четырьмя голосами перешел заветный рубеж…
Позвонил из самолета Горбачев и мне пришлось выполнить не очень приятную миссию — сообщить ему об итогах выборов, которые поставили депутатов-коммунистов РСФСР в положение оппозиции, а радикально-демократические силы получили в свои руки серьезный рычаг воздействия на положение в стране.
Не буду описывать всех перепитий дальнейшей борьбы на Съезде народных депутатов России вокруг выборов заместителей Председателя, назначения главы правительства. Могу сказать лишь одно, что, оказавшись перед необходимостью определять тактику в новых условиях, секретари ЦК практически единодушно высказались за то, чтобы не блокировать работу Верховного Совета, вести линию на достижение компромиссов, хотя, конечно же, выстраивать эту линию в зависимости от действий нового Председателя Российского Совета. Именно это позволило сравнительно легко решить вопрос с главой правительства. Ельциным были выдвинуты несколько кандидатур, а в списке для голосования осталось двое — Силаев и Бочаров.
Откровенно говоря, это уже была игра в демократию, а скорее всего — политический маневр. Зачем же выдвигать две кандидатуры, не определив своего предпочтения и перекладывая ответственность за принятие решения на других? Ведь съезд не сам избирает, а назначает главу правительства по представлению Председателя Совета. Депутаты-коммунисты поддержали из двух этих кандидатур Силаева, и это предрешило вопрос в его пользу.
Другим свидетельством конструктивной позиции депутатов-коммунистов может служить поддержка с их стороны Декларации о российском суверенитете, за исключением принципа «верховенства российского законодательства над союзным».
К сожалению, настроя на благоразумный, компромиссный диалог, с которым Ельцин выступал перед выборами Председателя Верховного Совета в первые дни съезда, ему хватило ненадолго. Уже 30 мая в интервью для печати опять стали звучать конфронтационные мотивы о переходе России на полную самостоятельность, о том, что Москва является столицей России, а Союзу столицу надо поискать в другом месте и т. д.
Значение того, что произошло в России весной 1990 г., с точки зрения последующего развития ситуации в стране, трудно переоценить. Как и во всех других процессах здесь причудливо переплетались и позитивные моменты, и действие деструктивных факторов. Полагаю, что фатальной неизбежности в таком развитии событий, когда российский фактор приобрел по отношению к союзному разрушительный характер, не было. Процессам национально-государственного развития Российской Федерации могли быть приданы другие, не столь болезненные формы, негативно влияющие на систему межнациональных отношений в стране в целом.
Своеобразное преломление российская проблематика нашла во внутрипартийной борьбе. Напор по созданию Компартии России был настолько велик, что, осознавая всю противоречивость и неоднозначность последствий такого решения, руководство ЦК после некоторых обсуждений и сомнений пришло к выводу о создании в рамках КПСС Компартии РСФСР.
Весь парадокс ситуации состоял в том, что вокруг идеи создания Компартии России объединились правоконсервативные, фундаменталистские силы в партии. Они имели в виду противопоставить Компартию России КПСС, превратить ее в оплот борьбы с руководством КПСС. Таким образом, и в этом случае разыгрывалась «российская карта», но с диаметрально противоположными целями.
Конечно, нельзя всех поддерживавших создание самостоятельной Компартии России подозревать в политиканстве. Большинство из них было искренне убеждено в необходимости такого шага для укрепления партии, стабилизации обстановки. Нечестную игру вела лишь какая-то группа политиканов, пользующаяся едва скрываемой поддержкой со стороны и отдельных партийных руководителей. Но они ловко спекулировали на настроениях партийных масс.
Эти силы в какой-то мере сумели утвердиться в Подготовительной комиссии по проведению Российской конференции. Когда докладчиком на Российской конференции был утвержден Горбачев, он создал свою группу для этой цели. Но оказалось, что в рамках Подготовительной комиссии продолжалась работа над «докладом». 16 июня на совещании представителей делегаций Российской партконференции, обсуждавшем повестку дня и другие вопросы ее организации, Горбачев ознакомил присутствующих с основным содержанием своего доклада. В связи с этим один из членов Подготовительной комиссии — заведующий кафедрой Кубанского университета Осадчий заявил, что в докладе не учтен материал комиссии и потребовал распространить его среди делегатов конференции. Ему было это обещано. Но ознакомление с этим материалом показало, что размножать и распространять его — значило бы по сути дела представить альтернативный доклад, составленный с позиций существенно, если не коренным образом отличающихся от доклада Горбачева. Это была явная претензия на то, чтобы направить Российскую конференцию в русло догматизма и фундаментализма. Процесс превращения партийной конференции в Учредительный съезд Компартии РСФСР сопровождался истошной критикой в адрес ЦК КПСС и Политбюро, стереотипными требованиями об отчетах членов Политбюро и т. д.
Особенно обострилась обстановка в связи с прямыми выборами на Учредительном съезде первого секретаря Компартии РСФСР.
Еще в процессе подготовительной работы я прилагал усилия к тому, чтобы ЦК Компартии России возглавила крупная фигура, например, Рыжков, а в составе ЦК Компартии России были авторитетные партийные деятели, в том числе из Политбюро ЦК КПСС. Но все эти предложения оказались нереализованными из-за негативной позиции этих товарищей.
На совещании представителей делегаций в ходе обсуждения кандидатур на пост первого секретаря Компартии России со стороны Политбюро были названы кандидатуры Купцова и Шенина. С моей точки зрения, предпочтительной была кандидатура Купцова. Для него это выдвижение оказалось неожиданным. Первоначально он даже отнесся к нему отрицательно. Но после разговоров с Горбачевым и со мной снял свои возражения.
На совещании прямо из зала было выдвинуто еще несколько кандидатур, в том числе Полозкова. Выйдя на трибуну, он сказал, что готов к борьбе, но его смущает, что он не рекомендован Политбюро, «видимо, моя кандидатура неприемлема для какой-то части членов партии». Он снял ее, добавив, что возьмет самоотвод, если будет выдвинут на конференции.
Однако на следующий день это не было сделано. Более того, своим размашистым популизмом, критикой в адрес руководства ЦК, отдельных членов Политбюро, в числе которых был даже и Лигачев, вызвал реакцию в зале в свою пользу. Уже в первом туре голосования Полозков оказался явным лидером, а во втором — победил. В чем тут дело? Конечно же, сказались отсутствие среди кандидатов крупных политических фигур, консервативный настрой делегатов, особенно из периферийных областей и автономий. Тогда, помню высказывалось и еще одно, мне думается, не лишенное оснований соображение: Полозкову отдали голоса… сторонники «Демократической платформы», действовавшие по принципу «чем хуже, тем лучше». Кстати, за день до голосования в одном из интервью Сергей Станкевич высказался именно в таком духе: он голосовал бы за Полозкова, чтобы окончательно все прояснилось. Интересно, что за Лысенко в первом туре проголосовало лишь 90 человек, а где остальные сторонники «Демплатформы», ведь их было в два — три раза больше?
Избрание Полозкова — логическое завершение первого этапа Российского съезда, означавшее по сути дела победу жесткой консервативной линии.
Худшее трудно было себе представить. В самом этом факте уже была заложена неизбежность противостояния Компартии России и КПСС и их центральных комитетов. Но главное — реакция со стороны интеллектуальной части КПСС. Сразу же после завершения Российского съезда поднялась волна протестов, посыпались заявления о нежелании многих членов партии, даже целых партийных организаций состоять в Компартии России, как говорили, «партии Полозкова».
Повторюсь, но еще раз скажу, что руководство партии, члены Политбюро, и я в их числе, допустили серьезные просчеты и ошибки в подходе к российским проблемам. Государственное руководство Российской Федерацией оказалось в руках оппозиции, а Российская компартия — под влиянием правоконсервативных сил. Возник сильный источник конфликтов и нестабильности, в значительной мере предопределивший углубление общественно-политического кризиса в стране.
Последний съезд КПСС
До съезда оставалось несколько дней и вдруг на заседании Политбюро в ходе завершающего обсуждения вопросов подготовки к съезду вносится предложение о том, чтобы отложить проведение съезда. Причем, как говорится, независимо друг от друга, Лигачевым и Яковлевым. Их поддержали Рыжков, Шеварднадзе, да и большинство других членов Политбюро. Генсек тоже, по-видимому, склонялся к этому.
Мне, пожалуй, больше других занимавшемуся подготовкой съезда, было ясно, что приостановить движение невозможно. Да и политически это было вряд ли оправдано. Я понимал, что Учредительный съезд Компартии РСФСР создал неблагоприятный фон для проведения съезда КПСС. У правоконсервативных сил он породил стремление закрепить успех, им было выгодно отодвинуть съезд, чтобы лучше к нему подготовиться; другие, напротив, почувствовали необходимость переломить тенденцию, возникшую на российском съезде, для чего требовалось известное время. Здесь, по-видимому, и заключено объяснение того, что предложение об отсрочке было поддержано с разных сторон.
Будучи уверенным, что оно просто нереально, не пройдет, я высказался за то, что надо взвесить все «за» и «против»., и, главное, — посоветоваться с партийными организациями. Ни в коем случае не идти против сложившегося в партии мнения.
Буквально через несколько дней вопрос об отсрочке съезда отпал, ибо все местные руководители категорически выстуцили против, справедливо полагая, что она могла вызвать политическую бурю в партии и стране.
В последующие дни, вплоть до открытия съезда, мне пришлось вместе с Генсеком и его помощниками, Яковлевым, Болдиным трудиться в Ново-Огареве над доработкой доклада, наезжая в Москву для решения организационных вопросов — открытия пресс-центра съезда, встречи с руководителями средств массовой информации и т. д.
Там же, в Ново-Огареве, состоялось заседание Политбюро, на котором были расставлены точки над «1» по персоналиям. Генсек сообщил о том, что ряд товарищей за последнее время неоднократно ставили вопрос о своем уходе в отставку — Воротников, Зайков, Слюньков, Бирюкова. Это было принято к сведению. Я счел необходимым обнародовать свои намерения и заявить, что обстановка складывается таким образом, что я тоже не собираюсь добиваться сохранения своего пребывания в ЦК и Политбюро. С Горбачевым я раньше уже обсуждал этот вопрос. И мое заявление не было для него неожиданным. Согласившись с этим, Горбачев сказал, что он предпологает использовать меня на другом участке работы по линии Президентского Совета.
Насколько я помню, обсуждался, кроме того вопрос о заместителе Генерального секретаря, а также о целесообразности вхождения в Политбюро главы правительства и руководителей таких государственных ведомств, как Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Госплан, КГБ СССР.
29 июня был проведен Пленум ЦК, на котором Генсек тезисно изложил основные положения своего доклада. Многие не ожидали от него наступательной тональности, твердой защиты перестроенного дела. Были, конечно, и критические выступления в консервативном духе, но без развязности, характерной для предыдущих Пленумов ЦК. Видимо, российский съезд кое-чему научил. Таков, собственно, и был замысел — провести съезд на прогрессивной, перестроечной основе, не поддаваться давлению консервативных сил, постараться вывести партию на новые горизонты, побороться за основной массив партии, расширить идейно-теоретическую базу для партии, предотвратить на этом этапе раскол, но без уступок в принципиальных вопросах.
При открытии съезда не было ни оваций, ни вставания в духе прежних традиций. Все формально-парадные моменты полностью исключались. Президиум съезда, избранный в составе 40 человек, а не 200, как раньше, был действительно рабочим органом, собирался чуть ли не в каждом перерыве для обсуждения и решения вопросов организации съезда.
Сравнительно быстро удалось пройти процедурные вопросы. И уже в первой половине дня Горбачев начал делать свой доклад. Закончил он его после обеда, а потом по утвержденной повестке дня начались отчеты членов и кандидатов в члены Политбюро, секретарей ЦК. Первому слово было предоставлено Рыжкову. Его выступление после доклада Генсека воспринималось «не очень», и уже это стало усложнять обстановку на заседании.
Следующим объявили мое выступление. Оно было в какой-то мере заранее обречено. Уже когда я шел к трибуне, в зале стоял шум и раздавались неодобрительные хлопки. Но все же первая часть выступления — проблемная — была выслушана внимательно, а затем в зале стал нарастать шум и начали вспыхивать «аплодисменты наоборот». Состояние — хуже не придумаешь, хотя я заранее был готов ко всему, зная настроения большинства делегатов. Да и мною была допущена тактическая ошибка — слишком прямолинейное понимание отчета. С большим напряжением удалось довести выступление до конца.
Что касается прений, то они не принесли неожиданностей. Вовсю «полоскали» и Генсека, и членов Политбюро, а среди них, пожалуй, всего сильнее меня. В чем только ни обвиняли — тут и Арбат, и забытое милосердие, и отсутствие идеологической концепции перестройки, и кризис школы, и разложение молодежи, не говоря уже о телевидении и печати. Складывалось впечатление, что началось нечто вроде соревнования в хлесткости, размашистости и разносности критики.
Но со стороны делегатов было немало и поддерживающих, ободряющих знаков. Беседы с делегатами в перерывах в фойе показывали, что многие значительно глубже понимают и лучше чувствуют ситуацию, чем это выглядело в крикливых выступлениях. Да и мое отчетное выступление оценивалось многими, как добротное по содержанию. В более деловой и конструктивной обстановке проходило и заседание Идеологической секции. Я это объясняю тем, что там собрались люди, которые глубже, профессиональнее владеют идеологическими проблемами, чувствуют на себе сложность ситуации. На заседании секции заметил — начинается некий перелом в настроениях. Делегаты почувствовали, что разносность идеологической критики переходит разумные пределы, за которыми уже ничего не выяснишь и не решишь.
Пожалуй, самым ответственным для меня в работе съезда было выступление с ответами на вопросы. Поступило огромное количество записок — 500. Среди них целые послания с изложением своих позиций, оценок. Многие носили эмоциональный характер. Немало было и злых реплик, замечаний в духе старого, догматического мышления.
Вначале такое обилие вопросов привело меня в некоторое замешательство. Но затем постепенно, особенно после Идеологической секции, был нащупан подход к ним. Ни в коем случае нельзя было занять позу обиженного, пытаясь в чем-то оправдаться. Надо было показать, что разносная критика и до съезда, и на нем самом не повергла в транс, поэтому следовало в активной, наступательной форме изложить свою позицию и показать неглубокий, поверхностный характер значительной части критики.
Повторные выступления членов Политбюро с ответами на вопросы начались вновь с Рыжкова. Он накануне подготовил и раздал целую брошюру с ответами на основную массу вопросов и тем самым облегчил выполнение своей задачи.
Затем наступила моя очередь, причем в обстановке очень сильно возбужденного зала. Но первые аккорды выступления заставили всех притихнуть и сосредоточить внимание. Дело в том, что я специально сначала процитировал самые погромные и злые записки не с вопросами, а утверждениями, что Медведев «полностью развалил идеологическую работу», что «уничтожил всю идеологию в партии» и т. д. Некоторые из этих вопросов даже были поддержаны аплодисментами из зала. Все ожидали, как я отвечу.
А ответ был в виде встречного вопроса, обращенного в зал: «Скажите, что же это за идеология, которую можно за короткий срок развалить одному человеку?» Зал (или какая-то часть его) ответил на этот вопрос аплодисментами, но теперь уже в мою пользу.
За первым последовали и другие вопросы, приглашающие слушателей поразмыслить над некоторыми важными вещами: «Какая же идеология развалена, если новая не создана? Если старая идеология — идеология сталинизма и застоя, то, может быть, это не так уж и плохо?
Ведь что получается? В былые времена, когда в идеологии царили лицемерие и ложь, застой мысли, догматизм и узость мышления, огромное расхождение слова и дела, бесстыдное ограничение гласности, идеология была в расцвете. А теперь, когда мы освобождаемся от всего этого и вступаем на путь обновления, — идеология распалась?
Не смещены ли, товарищи, здесь оценки? Не сказывается ли в них ностальгия по прошлым временам? Не смешивается ли агония прошлого с муками родов нового?…»
Такое начало оказалось неожиданным для зала. Ведь все ждали: как же Медведев будет оправдываться, защищаться и выкручиваться из своего положения? А тут вдруг такой натиск.
Одним словом, овладеть вниманием аудитории удалось настолько, что далее можно было ставить и рассматривать те вопросы, которые я счел необходимым затронуть в своем выступлении, тем более что 500 записок давали неограниченную возможность для выбора. Был дан ответ и на утверждение об отсутствии идеологии и концепции перестройки, в том числе о моем личном вкладе, о новом подходе к взаимоотношениям со средствами массовой информации и по другим вопросам.
Когда очередь дошла до культуры, пришлось заметить, что большая часть поступивших ко мне вопросов по этим проблемам носит несколько односторонний характер и касается, главным образом, разгула секса и порнографии. Взрыв смеха и аплодисментов возник в зале, когда я сказал, что приходится давать ответ и на такой вопрос: «Как вы оцениваете сексуальную революцию в СССР и ваш вклад в нее?»
В заключение последовало мое заявление: «Я благодарен судьбе за то, что она дала мне возможность принять участие в процессе обновления нашего общества. Намерен и дальше работать в этом направлении. Считаю возможным заявить, что я никогда не изменю целям и идеалам перестройки. Но и не держусь за руководящую должность и считаю, что должна быть дана дорога более молодым и, может быть, более напористым людям».
Фактически это было мое новое выступление на съезде. За ним последовали и ответы на вопросы прямо из зала, но это уже не составляло проблемы.
Реакция на мое выступление была и в зале, и в кулуарах, и со стороны коллег на сей раз довольно благожелательная. Да и сам я испытывал определенное удовлетворение от того, что удалось реабилитировать себя перед съездом и не за счет подлаживания к чьим-то настроениям, а на принципиальной основе. Горбачев отреагировал на мое выступление в присутствии членов Политбюро так: «Оказывается, тебя надо было разозлить с самого начала».
После меня выступал Яковлев. Отвечать на вопросы ему было значительно сложнее, чем выступать в первый раз, тем более, что его «благожелатели» подбрасывали ему из зала вопросы очень злые. Как всегда, был напорист и энергичен Лигачев. На высоком эмоциональном и интеллектуальном накале и на этот раз выступил Шеварднадзе.
При всем своеобразии это были весомые, фундаментальные выступления, продемонстрировавшие возможности и уровень ведущих членов Политбюро. Они произвели впечатление на присутствующих. Генсек вовремя уловил эти настроения. Он огласил предложение о прекращении ответов на вопросы членов Политбюро, что и было дружно принято. Заодно было переголосовано решение, скоропалительно принятое ранее, о том, чтобы дать оценку работы каждого из членов Политбюро. Отказались и от этого. Такое судилище с учетом различий позиций отдельных членов Политбюро могло бы взвинтить обстановку и привести к расколу на съезде. Благоразумие взяло верх.
Считаю, это был переломный момент на съезде. Стало ясно, что горбачевская линия берет верх, и съезд не удастся столкнуть с этой позиции ни к правоконсервативному откату, ни к нигилистическому радикализму.
В наступательном духе Генсек произнес свое заключительное слово по докладу. Защищая перестроечную линию, он буквально ходил по острию, не останавливаясь перед самыми резкими оценками, самой решительной постановкой вопроса о необходимости обновления партии. Было заявлено, что в руководстве будет практически полное обновление. Но тут же, обращаясь к залу, Генсек высказался за то, чтобы это было сделано и на местах.
В дальнейшем ходе работы съезда мне еще дважды пришлось выходить на его трибуну, как председателю редакционной комиссии по подготовке Программного заявления съезда «К гуманному демократическому социализму». Комиссию съезд образовал на максимально широкой основе. В числе ее членов, например, — один из авторов «Демократической платформы» Лысенко, который представил новый вариант «Демократической платформы», кстати говоря, также названной Программным заявлением. Но сам он признал, что понимает нереальность принятия этого варианта, и интенсивно предлагал поправки к отдельным вопросам. В комиссию входили и люди, зарекомендовавшие себя последовательными сторонниками традиционной идеологии, например, Чикин из Минска.
Преемственность и хорошее взаимопонимание в немалой степени были обеспечены включением в состав комиссии участников предсъездовской рабочей группы. Большую помощь комиссии оказали работники Идеологического отдела Ожерельев, Семенов и особенно Никонов.
Общий подход в работе комиссии по Программному заявлению отражал линию на консолидацию вокруг актуальных задач перестройки, на предотвращение раскола. Сам проект документа служил хорошей основой для достижения этой цели. При его доработке уже на самом съезде мы стремились расширить зону согласия, по максимуму учесть замечания, суждения делегатов съезда, но, вместе с тем, четко определить идейно-политические границы программного документа партии.
В итоге Программное заявление было принято довольно дружно: «за» проголосовало 3777 делегатов при 274 «против» и 61 воздержавшемся. Председательствовавший на этом заседании Горбачев поздравил делегатов с тем, что «мы имеем очень важный документ и важные ориентиры для работы».
Сложнее складывалась работа над Уставом партии. Здесь давление и справа, и слева было еще большим, а возможности для маневра более ограничены. Представители «Демплатформы» и твердые «марксисты» решили дать основной бой именно по Уставу. Предполагалось, что возглавит комиссию Разумовский, но, почувствовав ситуацию, Генсек согласился сам руководить ее работой, взяв, таким образом, на себя ответственность за решение наиболее важных проблем. Это позволило найти развязки проблем и противоречий, открывающие новые возможности для процессов обновления партии.
В таком духе прогрессивного здравомыслия, левого центризма, консолидации удалось принять общую резолюцию съезда и другие его решения, провести выборы руководящих органов.
По новому Уставу непосредственно на съезде избираются Генеральный секретарь и его заместитель. В отношении Генерального секретаря преобладающее настроение было однозначным в пользу Горбачева, и подавляющим большинством Генсеком был избран Горбачев, правда, более тысячи человек голосовали против.
А вот вокруг избрания заместителя Генерального секретаря развернулась острая борьба. Я думаю, вариант с Ивашко возник у Горбачева буквально накануне съезда. На более дальних подступах к съезду, когда в принципе был решен вопрос о введении должности заместителя Генсека, этой кандидатуры не возникало. Ведь Ивашко сравнительно недавно стал первым секретарем ЦК Компартии Украины, только что был избран Председателем Верховного Совета республики. Ситуация там быстро менялась, и мне казалось, что ему следовало оставаться там: ведь Украина есть Украина.
Но оказалось, к открытию XXVIII съезда эта ситуация приобрела уже такой характер, что вопрос об уходе Ивашко не выглядел нежелательным ни для дела, ни для него. В роли заместителя Генерального секретаря Ивашко выглядел, с моей точки зрения, неоднозначно. С одной стороны, это опытный, уравновешенный, разумный, даже с украинской хитрецой, человек. На уровне областного руководителя (я наблюдал его в свое время в Днепропетровске) и даже на уровне республики он выглядел совсем неплохо. Тогда я его активно поддержал, как преемника Щербицкого. С другой стороны, эта кандидатура на столь высокий пост вызывала определенное сомнение с точки зрения теоретической и политической масштабности. Конечно, при каком-то другом, принципиально ином подходе можно было бы мыслить выдвижение совершенно новых, молодых людей из представителей современной интеллектуальной волны. Но об этом речь не заходила, а из того круга лиц, которые обсуждались, Ивашко был наиболее подходящим. Он способен под руководством Генерального секретаря проводить современную политику. Была уверенность, что он получит поддержку у делегатов.
Но тут в атаку пошел Лигачев, поддерживаемый определенной частью съезда. Провозглашая на словах линию Горбачева в вопросах стратегии и подчеркивая, что у него лишь тактические расхождения с ним (эта формула удивительным образом совпала с подобным же утверждением Ельцина), он тем не менее не снял свою кандидатуру, несмотря на ясно выраженную со стороны Генсека поддержку кандидатуры Ивашко. Был и самовыдвиженец. Им оказался Дударев — нынешний ректор Ленинградской «Техноложки», где до перехода на партийную работу я в течение нескольких лет заведовал кафедрой.
В тот день я был плотно занят в Комиссии по Программному заявлению и не принимал участия в совещании представителей делегаций, не был и в комнате президиума. Оказалось, что Лигачеву никто открыто не высказал отрицательного отношения к его намерению баллотироваться заместителем Генсека наперекор желанию последнего. Лишь Шаталин подал реплику по этому поводу.
Вернувшись и узнав, в чем дело, я предложил Рыжкову (Генсеку это делать было, по моему мнению, неудобно) собрать членов Политбюро и поговорить с Лигачевым в открытую, сказать ему, что он берет на себя тяжкую ответственность, противопоставляя свою кандидатуру позиции руководства партии и провоцируя тем самым раскол. Но Рыжков на такой шаг не пошел.
Скажу откровенно, у меня была серьезнейшая тревога за исход голосования. Она еще более усилилась после предвыборных речей кандидатов. Ивашко выступил прилично, а Лигачев — под овацию зала. Да еще подлил масла в огонь Собчак, пытавшийся дискредитировать Лигачева на тбилисской теме, но вызвавший обратную реакцию зала. Возникла тягостная ситуация.
У Горбачева же особой тревоги я не почувствовал. Он мне, правда, сказал, что если, вопреки его желанию, заместителем Генерального секретаря будет избран Лигачев, он уйдет в отставку, ибо это решение будет рассматривать как недоверие к себе.
Примерно в десять вечера стали известны неофициально результаты голосования: сокрушительное поражение Лигачева, набравшего всего 700 с чем-то голосов. Все-таки благоразумие делегатов не покинуло. Конечно, сказались и общий перелом в настроениях, происшедший в ходе съезда, и понимание того, что избрание Лигачева, действительно, могло означать раздрай в руководстве, уход Горбачева. Повторилась, по сути дела, та же картина, которая была на последних Пленумах ЦК: шумная поддержка консервативных, догматических позиций, но когда дело доходит до принятия решения, оно все же оказывается взвешенным и благоразумным.
А Горбачев с участием моим, Яковлева, Разумовского, Болдина продолжал работу над формированием списка будущего состава ЦК партии. Что касается списка № 1 кандидатур в состав ЦК, рекомендованных партийными организациями и делегациями, то тут особых проблем не возникало, ибо квоты эти были заполнены кандидатурами, предложенными и, как правило, уже проголосованными на местах — партийных конференциях и съездах.
Единственный штрих, о котором следует упомянуть, — это осложнения с включением в список № 1 Шенина. Еще перед съездом он заходил ко мне и сетовал на то, что у некоторых товарищей в Орготделе возникают какие-то сомнения в отношении его избрания по этому списку, ввиду якобы неоднозначного отношения к его кандидатуре в самой Красноярской краевой организации. Откровенно скажу, что я заподозрил в этом действия консервативных сил. Пришлось переговорить с Разумовским, и вопрос был решен в пользу Шенина.
Основные сложности возникли со вторым списком кандидатов, избираемых по так называемой «центральной квоте». Окончательно поставили точку в вопросе о невхождении в состав ЦК Яковлева, Примакова и меня. Было решено не включать в список большинство заведующих отделами ЦК, помощников Генерального секретаря, заместителей Председателя Совета Министров, министров. Вместе с тем предусматривалось достаточно весомое представительство ученых, руководителей творческих союзов, средств массовой информации, общественных организаций, рекомендовать в состав ЦК некоторых представителей альтернативных течений.
Когда список от имени совета представителей делегаций был оглашен на съезде, началось нечто невообразимое. Пошли отводы, а вслед за ними и дополнительные выдвижения, остановить которые оказалось делом очень трудным. В конце концов это удалось сделать, но в списке кандидатур оказалось на 11 больше, чем предполагалось. Генсек предложил включить всех их в бюллетень для голосования.
Его результаты породили новую проблему. Все кандидаты набрали больше половины голосов, но в числе 11 кандидатов, получивших наименьшее число голосов, оказались актер Ульянов, председатель Госкомобразования Ягодин, драматург Гельман, академик Абалкин, председатель Гостелерадио Ненашев, заведующие отделами ЦК: Болдин, Вольский, Фалин, Власов, управляющий делами Кручина, а также первый секретарь ЦК ВЛКСМ Зюкин и некоторые другие. Стали решать, что делать. Лукьянов проявил поспешность, поставив на голосование предложение, чтобы считать избранными всех, кто получил больше половины голосов. Но оно не прошло. Возникла критическая ситуация.
Яркую речь произнес Николай Губенко: «Что мы делаем? Отвергаем интеллектуалов!» Говорили также об абсурдности неизбрания первого секретаря ЦК комсомола. Я уже тоже двинулся было к трибуне, чтобы высказаться по этому вопросу. Но тут вновь взял слово Горбачев, овладел ситуацией, и в результате нового голосования прежнее решение отменено и признаны избранными все, получившие больше половины голосов.
Все это происходило 13 июня 1990 года. Повестка дня съезда была исчерпана. В своей заключительной речи при закрытии съезда Горбачев еще раз подчеркнул, что партия «должна решительно и без опоздания перестраивать всю свою работу и все структуры на базе нового Устава и Программного заявления съезда с тем, чтобы в новых условиях эффективно выполнять свою роль партии авангарда».
Первый Пленум нового ЦК КПСС проводился уже за пределами съезда вечером того же дня и утром следующего. Политбюро и Секретариат избрали в том составе, как и предполагалось. Произошло полное обновление Политбюро, за исключением Генерального секретаря. Не могло не обратить на себя внимания отсутствие в составе Политбюро (впервые в истории!) руководителей правительства и главных политических ведомств. Неожиданным для общественности явилось и появление во главе идеологического направления Дзасохова, а не Фролова, как ожидалось, а на международном направлении-Янаева.
Так закончился XXVIII партийный съезд, оказавшийся в истории партии последним. Но тогда это далеко не было очевидным. Напротив, казалось, что съезд разрешил многие проблемы, сделал крупный шаг вперед в обновлении теории, политики и практической деятельности партии, открыл тем самым новые возможности для ее деятельности в направлении демократизации общества и решения насущных проблем страны.
Съезд выровнял политическую линию партии, колебнувшуюся вправо на Российском учредительном съезде, предотвратил в известной мере нарастание разброда и хаоса, распад партии. Горбачеву и руководству партии удалось, правда, с немалыми усилиями, осуществить на съезде те цели, которые ставились перед ним — сохранить партию как общественную силу, дать новый импульс ее обновлению и преобразованию, освобождению от догматизма, от старой идеологии и психологии, закреплению на перестроечных позициях.
Конечно, в рамках единой партии делать это было все труднее. И тогда было ясно, что идейное и организационное размежевание в партии на определенном рубеже неизбежно, но момент для него не назрел. Потом этот вопрос обсуждался не раз. Я не согласен с мнением, которое высказывалось Яковлевым и некоторыми другими собеседниками, что размежевание надо было сделать на съезде. В то время условий для размежевания партии в пользу перестройки не было. Попытки раскола (то ли слева, то ли справа) носили безрассудный, авантюристический характер. Они могли привести лишь к плачевным результатам.
Что было бы, если бы сторонники «Демплатформы», получив поддержку какой-то части руководства, ушли и объявили о создании новой партии? С ними ушла бы часть интеллигенции, но никакой серьезной новой партии на этой основе создать бы не удалось. Это была бы группировка, какие сейчас во множестве существуют в стране, не оказывая существенного влияния на политическую жизнь, а партия бы была отдана в руки консервативных сил. Кто бы от этого выиграл?
Я считаю, что XXVIII съезд лежал в русле закономерного развития событий, заслуживает исторической оценки, как важный рубеж борьбы за утверждение в партии нового курса, как успех прогрессивных, реформаторских сил. Другое дело, что он не разрешил всех проблем, да и не мог их разрешить, поскольку многие из них уже вышли за пределы компетенции и возможностей одной партии.
Могут сказать, что недопущение раскола партии в 1990 году не предотвратило путча и разгрома партии в 1991 году. Но между тем и другим нет жесткой причинно-следственной зависимости и предопределенности. И уж во всяком случае раскол партии не уменьшил бы опасности переворота и установления диктатуры.
В личном плане для меня съезд означал завершение долголетней партийной работы, которой я отдал лучшие годы своей жизни. Но никогда в этой работе я не руководствовался узкопартийными, идеологизированными мотивами и тем более амбициозными, эгоистическими устремлениями. Пусть это звучит несколько выспренно, но она мною рассматривалась не иначе, как служение народу, интересам страны.
Глава V В администрации президента
Программа перехода крынку: чья лучше. — «Парламентский бунт» и реорганизация президентской власти. — Кризис начала 1991 и новоогаревский процесс.
Программа перехода к рынку: чья лучше
Еще в один из последних дней съезда Президент подписал Указ о моем назначении членом Президентского Совета и поздравил меня с этим, а 17 июля Указ был опубликован в печати. Начался полуторалетний период моей работы в администрации Президента.
Сдача дел не отняла много времени и свелась к подробной беседе с Дзасоховым. Он рассказал, с какими большими переживаниями и сомнениями согласился перейти на идеологическое направление. Посочувствовал ему.
Дзасохов производил положительное впечатление своей общительностью, интеллигентностью, знанием международного опыта. Да и внутренняя проблематика ему не была чуждой: он был одним из самых сильных первых секретарей обкомов партии, причем в национальной республике — Северной Осетии. По моим наблюдениями, у него сложилось хорошее взаимопонимание с реформистскими кругами и, вместе с тем, с центристскими и даже традиционалистскими силами. Поддерживал постоянные контакты с Яковлевым и Примаковым и в то же время был в тесных отношениях с Болдиным, который баллотировался в народные депутаты от Северной Осетии.
В беседе с ним я изложил свое понимание идеологической ситуации, переходной к реальному плюрализму, пытался передать ему своего рода эстафету левого центра с учетом стремления Дзасохова проявлять ко всему здравый подход.
Несколькими днями позднее у меня состоялась встреча с Шениным по его просьбе. Тогда в моих глазах Шенин оставался человеком, склонным к реформаторским идеям. Я откровенно сказал ему, что в предшествующей работе ощущался большой разрыв между линией руководства, с одной стороны, и настроениями и действиями функционеров Отдела организационно-партийной работы, с другой. Без обиняков сказал, что этот отдел был аккумулятором и трансформатором консервативных настроений в партии.
Не знаю, как все это было им воспринято, но в свете последующих событий, не исключаю, что все воспринималось наоборот.
В дальнейшем я воздерживался от каких-либо попыток давать советы и тем более вмешиваться в деятельность отделов ЦК, хотя раздавалось немало звонков от бывших сотрудников по разным вопросам. Да к тому же я чувствовал и определенную настороженность со стороны некоторых новых секретарей ЦК, не всегда объективное отношение к людям, которые работали со мной в идеологической сфере.
По линии Президентского Совета мне поручены были внешнеэкономические проблемы, но, конечно же, пришлось заниматься и общеэкономическими вопросами. Как раз на это время — конец лета и начало осени 1990 г. — падает драматическая схватка вокруг Программы перевода экономики на рыночные основы. Примерно в течение двух лет топтались около рубежа рыночной экономики, прикидывали, взвешивали, спорили, но никак не осмеливались сделать решающий шаг.
Реформа 1987 года пошла под откос. Время было упущено, ушло на политические баталии, а когда вернулись к экономическим проблемам, оказалось, что требуются уже более кардинальные меры по переходу к рынку. Стало ясно, что без этого выбраться нам из трясины, в которой мы оказались, невозможно, не говоря уже о том, чтобы выйти на современный уровень эффективной экономики. Произошел в основном поворот к рынку и в общественном сознании, хотя кое-кто и продолжал пугать предстоящими бедствиями и потрясениями.
Иначе говоря, вопрос — переходить или не переходить к рынку — был уже решен самой жизнью и перемещен в плоскость способов этого перехода. Надо было быстрее создать программу конкретных мер и приступить к ее реализации.
Правительство, наконец, решилось на переход к рыночным методам, приступило по поручению Верховного Совета к разработке программы на этот счет. Но было уже поздно, авторитет правительства Рыжкова оказался подорванным. Не помогло ему даже «академическое подкрепление» Абалкиным, которого я считаю одним из способнейших и реалистически мыслящих экономистов.
Смею утверждать, что любая программа правительства Рыжкова — Абалкина была по этой причине обречена, даже если бы она получила полную поддержку Президента. Я думаю, это чувствовал Президент и искал новые подходы с учетом реальной расстановки сил.
В начале августа, находясь в отпуске в Крыму в санатории «Южный», я узнал об образовании под эгидой Горбачева!? Ельцина совместной комиссии Шаталина-Явлинского для разработки программы перехода к рынку. В «Южном» в это время проводили отпуск также Примаков, Яковлев, Осипьян, Бакатин — «президентская рать», как там нас в шутку называли. Образование комиссии оживленно обсуждалось в контексте компромисса между двумя лидерами. Все были единодушны в оценке необходимости такого компромисса, различия касались лишь его возможных границ.
Настораживало то, что, судя по доходившей информации, работа группы Шаталина-Явлинского шла в отрыве от правительства, и даже в противоборстве с ним. В печати и на телевидении еще до того, как родилась программа Шаталина-Явлинского, ее стали сильно расхваливать и, наоборот, превентивной критике подвергать позиции правительства. 30–31 августа после возвращения из отпусков на совместном расширенном заседании Президентского Совета и Совета Федерации, состоявшемся в зале заседаний палат Верховного Совета, произошла первая проба сил. Обсуждались альтернативные проекты перехода к рынку. Правда, сами проекты отсутствовали. Материалы комиссии Шаталина были разосланы членам того и другого Советов только поздно ночью, а записка Рыжкова участникам совещания была роздана в перерыве.
Все ораторы, в числе их был и я, выступали за неотложное принятие рыночных мер, за компромисс. Но со стороны российского руководства компромисс выглядел довольно своеобразно. Ельцин заявил, что программа Явлинского, первоначально разработанная для Российской Федерации, означала бы развал Союза. Поэтому российское руководство предложило Президенту СССР использовать ее в рамках Союза, но для ее осуществления Правительство Союза не нужно. Требования отставки правительства прозвучали в выступлении Хасбулатова, о том же говорил Силаев. Но руководители других республик с этим не согласились.
Подводя итог дискуссии, Горбачев высказался за объединение усилий в разработке компромиссных соглашений, но отвел требования об отставке правительства: «Надо улучшать работу правительства, а не разгонять его. У нас просто нет времени и возможности для того, чтобы заниматься еще одной реорганизацией».
Проштудировав в эти дни программу «500 дней» Шаталина-Явлинского, я написал записку Горбачеву.
Общее мое впечатление было таково, что программа Шаталина-Явлинского представляет собой серьезную разработку, выдержанную в едином ключе. И хотя программы правительства в развернутом виде пока нет, но то, что уже известно, дает основание сказать, что больше шансов на успех у шаталинского варианта, а потому внимание должно быть сосредоточено на нем, как более предпочтительном.
В программе «500 дней» есть и немало слабостей, упущений, которые должны быть устранены при последующей работе. Авторы программы правильно исходят из необходимости оздоровления финансов и денежного обращения, как предпосылки либерализации цен. Но тут проглядывают несколько наивные представления о том, что это оздоровление может быть достигнуто в течение трех месяцев — 100 дней.
Что касается предлагаемых мер по стабилизации, то каждое из них не вызывает возражений. Но в то же время нет уверенности, что осуществление только их может дать существенные результаты в укреплении рубля и нормализации товарно-денежного обращения. Они сводятся в основном к методам монетаристской политики. Такие элегантные меры хороши при сложившейся рыночной экономике, но в наших условиях они могут просто оказаться недостаточными.
Главное, с моей точки зрения, упущение в этой связи состоит в том, что, по сути дела, обойден вопрос о регулировании денежных доходов населения. Или во всяком случае он сведен лишь к политике дорогого кредита и изъятию излишней денежной массы только методами связывания уже выпущенных денег. А это все равно, что пытаться собрать тряпкой воду, залившую комнату, не перекрывая кран, из которого она хлещет. Конечно, введение любых механизмов регулирования денежных доходов — вещь непопулярная, но обойтись без нее не удастся, если ставить задачу предупредить раскручивание спирали и предотвращение гиперинфляции.
Вместе с тем, я со всей определенностью высказался за то, чтобы не противопоставлять, не сталкивать лбами обе программы. Ведь набор проблем, связанных с переходом к рынку, в шаталинском проекте в основном совпадает с тем, который и раньше обсуждался в связи с правительственными предложениями. Способы их решения предлагают разные, но тут, с моей точки зрения, нет абсолютной несовместимости. Можно и нужно сближать их.
Один из центральных пунктов обеих программ — переход к свободному рыночному ценообразованию. Разногласия касаются способов и темпов перехода к такой системе цен. По программе «500 дней» цены просто отпускаются, а правительственная программа предлагает начать либерализацию цен после предварительного проведения единовременного пересмотра цен с 1 января 1991 года.
Разве это такая уж коренная разница? Вопрос, в конечном счете, сводится к тому, с какого уровня отпускать цены, — с ныне существующего или с того уровня, который имелось в виду ввести через реформу оптовых и розничных цен. Мне думается, что предварительная реформа оптовых и розничных цен позволила бы иметь более обоснованный их стартовый уровень, облегчила бы переход к свободному ценообразованию. Во всяком случае тут есть простор для обсуждения и нахождения разумного решения.
В итоге я пришел к выводу, что по проблемам, относящимся к собственно экономическим аспектам перехода к рынку диаметральной противоположности между двумя программами нет. Главные разногласия лежат за пределами экономики и носят скорее политический характер.
Программа «500 дней», собственно, в экономическом отношении более привлекательна, но она и более политизирована. В ней предполагается наличие между республиками лишь экономического соглашения, единого экономического пространства и, по сути дела, предрешается судьба политического союза, т. е. затрагивается вопрос, не имеющий прямого отношения к рыночной реформе, являющейся предметом переговоров о Союзном договоре. Кроме того, как уже отмечалось, программа «500 дней» пронизана духом отторжения союзного правительства. Не случайно, что с появлением программы началась массированная атака на правительство с требованием его отставки.
Этим объясняются и непримиримость противоборствующих сторон, и тщетность моих попыток в контактах и с Шаталиным, и с Абалкиным добиться сближения позиций на основе чисто профессионального, экономического подхода, не отягощенного политическими факторами.
Здесь, по-моему, и кроется объяснение того, почему Президент, отдавая предпочтение программе Шаталина-Явлинского с точки зрения ее экономического профессионализма, не счел возможным принять ее в том виде, в каком она подавалась, а внес предложение создать компромиссную концепцию, поручив это Аганбегяну с участием Шаталина и Абалкина. Практически сведением двух программ под руководством самого Горбачева занимался Петраков.
К середине октября новый документ под названием «Ос-_ новные направления перехода к рынку» был направлен для предварительного ознакомления членам Президентского Совета и Совета Федерации.
16 октября, вечером, я, позвонив Михаилу Сергеевичу, чтобы поздравить его с присуждением Нобелевской премии, высказался за то, чтобы Основные направления перехода к рынку, как можно скорее принимались, хотя по ним еще возникают замечания.
Разговор был кратким, тем более, что началась передача по телевидению выступления Ельцина на заседании Верховного Совета Российской Федерации. Оно оказалось резко конфронтационным по отношению к центру. В адрес президентской власти высказаны обвинения в жесткой линии по отношению к республикам, в стремлении ограничить суверенитет Российской Федерации, сорвать переход экономики к рыночным отношениям, сохранить и упрочить господство административно-командной системы. Оратор не остановился даже перед обвинением в саботаже, правда, было неясно, в чей адрес. По существу высказано нечто вроде ультиматума — или принимаются требования Председателя Верховного Совета РСФСР, или встает вопрос о дележе власти, ключевых государственных постов, собственности, даже Вооруженных Сил. Прозвучал едва прикрытый призыв людей выходить на улицу. В речи, правда, было упоминание о левоцентристском блоке, о диалоге Горбачев-Ельцин, но оно плохо вязалось с выдвижением обвинений и ультимативных требований. По существу, это был ответ на предложенные Президентом Основные направления перехода к рынку.
У Горбачева вначале возникло намерение дать телеинтервью по проблемам перехода к рынку, включив в него и ответ Ельцину, но потом после дополнительного размышления решено было этого не делать, а высказать все необходимое в речи на Верховном Совете, который должен был состояться через два дня.
Как это ни парадоксально, выступление Ельцина имело, пожалуй, противоположные результаты, чем те, на которые было рассчитано. Оно облегчило рассмотрение и принятие Основных направлений перехода к рынку на Верховном Совете СССР, сильно озадачило и, может, даже напугало многих сторонников российского руководства. Верховный Совет Российской Федерации никак не отреагировал на него, продолжая обсуждение текущих проблем, как будто бы выступления Ельцина и не было. Со стороны оппозиции в Союзном Совете не последовало никаких ультимативных акций.
Сразу же после доклада Горбачева проект Основных направлений был поставлен на голосование и в основном принят. А дальше пошло обсуждение конкретных поправок и деталей. Пожалуй, никто не ожидал, что дело обернется таким образом и закончится дружным принятием документа. Против проголосовало всего 12 человек при 26- ти воздержавшихся. Рассчитывая на серьезную дискуссию, я тоже подготовился к выступлению, но почувствовал, что выходить на трибуну не следует. У депутатов складывалось настроение в пользу скорейшего принятия решения, если даже оно не всех удовлетворяет, чтобы побыстрее начать действовать.
Так закончилось противоборство двух рыночных программ.
Правда, вопрос о программе «500 дней» и в последующем часто поднимался в общественных дискуссиях. Непринятие этой программы Президентом вменялось ему в вину, как крупнейшая ошибка, которая чуть ли и не привела к драматическому развитию последующих событий. Президента обвиняли в том, что он осенью резко качнулся вправо, что он несет вину за срыв наметившегося летом диалога и соглашения с российским руководством.
Не претендуя на истину в последней инстанции, хочу высказать некоторые соображения по этому поводу. Вышеприведенные рассуждения исходят из преувеличенного представления о сути и значении программы «500 дней». К тому же принятый в конечном счете документ — Основные направления перехода к рынку — воспроизводил основное экономическое содержание программы Шаталина-Явлинского, освободив ее от налета романтизма и эйфории, декларативности и излишней детализации и, что особенно важно, — от претензий на то, чтобы предопределять будущее Союза, содержание Союзного договора.
А вот отставка правительства, которая маячила за программой «500 дней», реорганизация его на основе президентского правления, то есть то, что Горбачев вынужден был сделать тремя месяцами позднее, могла бы, вероятно, существенно повлиять на ход событий, ускорить осуществление рыночных реформ на основе продолжения и закрепления общественного компромисса.
Качнулся ли Горбачев вправо? Очень сильно сомневаюсь в обоснованности такого утверждения. Оно просто не подтверждается анализом событий лета и осени 1990 года. Я считаю, что Горбачев действовал в духе левоцентристской линии XXVIII съезда партии, рассчитанной на консолидацию перестроечных, реформаторских сил.
Об этом говорит сама попытка разработать совместно с Ельциным программу перехода к рынку. Но тут началось массированное давление на Президента со стороны радикальных демократов, не удовлетворенных, по-видимому, масштабом компромисса, на который пошел Горбачев. Кому-то показалось, что наступил момент, когда от него можно добиться значительно большего — если не полного перехода на противоположные позиции, то во всяком случае крупного шага в этом направлении. Не этим ли объясняются жесткость и ультимативность требований полной, по сути дела, без изъятия поддержки программы «500 дней», включая, в первую очередь, те ее моменты, которые предопределяли характер отношений между республиками, а также требование отставки правительства.
Как истолковывать тот факт, что российское руководство, сознавая, что программа «500 дней» в рамках одной Российской Федерации без развала Союза неосуществима, не дожидаясь реакции Президента СССР и принятия программы Верховным Советом страны, в спешном порядке провело ее через свой Верховный Совет? Кто тут и на кого давил? А когда Горбачев, сохранив практически полностью экономическую ткань программы «500 дней», но освободив ее от неприемлемой политической подоплеки, представил свои конструктивные предложения, давшие к тому же широкий простор для инициативы республик, последовала конфронтационная речь Председателя Верховного Совета Российской Федерации.
Можно ли говорить о какой-то уступке Горбачева консервативным силам, с которыми он в это время вел острейшую борьбу по вопросам перехода к рынку?
О чем, действительно, можно сожалеть, так это о том, что, во-первых, разработка и принятие рыночной программы недопустимо растянулись из-за политический распрей. Было потеряно драгоценное время для разворота стабилизационных мероприятий. И, во-вторых, прошедшая дискуссия не могла не отразиться на авторитете принятой в конечном счете программы, что затруднило ее практическую реализацию.
«Парламентский бунт» и реорганизация президентской власти
С переходом к президентской системе резко ускорился процесс легитимизации власти. Любой непредубежденный человек не мог не видеть, как активно идет размежевание партии и государства, преодолевается сращивание партийных и государственных структур. Никто из государственных руководителей и членов Президентского Совета не остался в составе Политбюро ЦК и никто из членов Политбюро не был введен в Президентский Совет. Не могло быть и речи о том, чтобы Совет действовал по указке Политбюро и тем более штамповал его решения. Утверждаю это с полной ответственностью и доскональным знанием прежних и возникающих вновь механизмов управления. Основные его нити, по крайней мере в центре, действительно, сосредотачивались в правительственных структурах, а партийное влияние все более ограничивалось общеполитическими аспектами в соответствии с принципами правового государства.
Меняющиеся взаимоотношения президентской власти и партии находились под пристальным и придирчивым вниманием общественности. Тема партийного диктата не сходила со страниц газет и из телепередач. Президентский Совет критиковался за то, что в нем состоят бывшие члены Политбюро. Президенту не раз пришлось отвечать на вопросы и в связи с моим назначением на эту роль. В «демократической» печати начался систематический обстрел членов Президентского Совета. Были пропагандистские залпы и в мой адрес. Смысл всего этого ясен — доказать, что, дескать, ничего не изменилось, сохраняется в новых, слегка завуалированных формах прежняя система власти партии.
В то же время в партийных инстанциях, в том числе и в новом Политбюро, стали нарастать критические настроения в адрес президентской власти в связи с тем, что Политбюро отстранено от важнейших вопросов, лишено возможности влиять на них, вынуждено лишь поддерживать уже принятые решения и т. д. Это была если и не ностальгия по старому, то инерция прежних представлений о роли ЦК КПСС, его Политбюро и Секретариата, которые должны решать все — от назначения руководителей до распределения ресурсов и награждения.
Сам процесс становления президентской власти протекал довольно сложно. Постепенно выявлялась неадекватность первоначально созданных президентских структур. Возьмем Президентский Совет. Надобность в таком авторитетном коллективном органе при Президенте, который мог бы служить ему опорой, обсуждать на высшем уровне важнейшие проблемы развития страны и вырабатывать решения, которые могли бы через указы Президента приобретать силу государственного закона, не подлежит сомнению. По сути дела, это те функции, которые во времена, когда партия была ядром государственной системы, взяло на себя Политбюро ЦК, но теперь они выполнялись бы в нормальных легитимных формах. Другое дело — реальная практика образования и функционирования Совета. Тут было многое не отработано и не додумано.
Члены Совета делились как бы на три категории: первая была представлена главой правительства и руководителями его основных ведомств (Рыжков, Бакатин, Крючков, Маслюков, Шеварднадзе, Язов, а позднее Губенко), вторая — штатными членами Совета, не занимавшими государственных постов (Яковлев, Примаков, Ревенко, Болдин, Медведев), третья — лицами, выполнявшими эти обязанности как бы на общественных началах, совмещая их с основной работой (Шаталин, Осипьян, Распутин, Каулс, Ярин). Распределение сфер влияния и круг обязанностей во второй и третьей категориях было проведено вчерне, в какой-то мере условно.
У членов Совета, занимающих высокие государственные посты, не возникало неясностей и вопросов ни с полномочиями, правами и обязанностями, ни с наличием аппарата: тут все было. Но этого нельзя сказать о членах Совета, не входящих в распорядительно-исполнительные структуры.
Мне, например, было поручено заниматься внешнеэкономическими проблемами. Но в правительстве существовал и заместитель Председателя Совмина по этому направлению с большим аппаратом, ряд министерств, ведомств и других организаций. Они через Рыжкова, да и непосредственно, имели выход на Президента, предлагая ему проекты указов, решений. Вторжение в этот процесс, если не отторгалось, то не вызывало положительных эмоций, несмотря на хорошие личные отношения с этими товарищами.
Еще более неопределенным оказалось положение членов Совета «на общественных началах». Я знаю, с каким чувством ответственности и желания внести лепту в общее дело встретили они это назначение. А потом постепенно наступило разочарование из-за невозможности реализовать себя в новом качестве.
Наметились тенденции превратить аппарат Президента в могущественную бюрократическую структуру, контролировать через рутинные, канцелярские функции прохождение крупных вопросов и по существу. Тут чувствовалась рука Болдина. Вместе с тем острая необходимость в серьезных службах политического анализа и планирования, без которых Президент мог превратиться в заложника правительства и разветвленных парламентских структур, не реализовалась.
Дело было не только в неясностях с Президентским Советом. Не отрегулировано распределение полномочий между Президентом и Верховным Советом. Последний, особенно в лице своих комитетов и комиссий,» тянул одеяло на себя», пытаясь выполнять некоторые не свойственные ему контрольные и даже распорядительные функции. Не определен статус Совета Федерации, а его роль должна возрасти и т. д.
Все мы размышляли над этими проблемами, обменивались мнениями. Не раз я излагал свои соображения Президенту, написал ему ряд записок о путях становления сильной президентской власти в стране. Учреждение поста Президента — лишь первый шаг в этом направлении. Предстоит «достройка» президентского режима, как в центре, так и на республиканском и местном уровнях. В связи с переходом к рынку и повышением статуса республик отпадет надобность в большинстве нынешних министерств и во многих других звеньях управления и, напротив, возникнет потребность в создании сравнительно узкого распорядительно-исполнительного органа, работающего под прямым руководством Президента. Он мог бы включать в себя небольшой круг (10–12) должностных лиц, ведающих основными направлениями политики, и составлять правительственный кабинет. Нужен ли в таком случае Президентский Совет?
В конечном счете, мы должны прийти к единой системе исполнительно-распорядительной власти под руководством Президента и связанной определенным образом с представительными государственными органами. Это даст возможность эффективно управлять страной, без соединения в одном лице должности Президента и Генерального секретаря правящей партии. А пока такое совмещение остается необходимым.
Таковы были мои соображения. Они, по-видимому, шли в русле размышлений самого Президента, хотя и не во всем совпадали с ними. Корректировку институтов президентской власти и их функций он имел в виду осуществить на очередном Съезде народных депутатов в декабре. Но ход событий вынудил внести изменения в эти планы и привести в действие только еще формировавшиеся замыслы значительно раньше, чем это намечалось.
14 ноября на общем фоне усложнения ситуации в стране разразился своего рода парламентский бунт, инициированный правоконсервативными силами, в частности лидерами парламентской группы «Союз». Начал складываться своего рода альянс между крайне правыми и крайне левыми на антипрезидентской основе. Сказались влияние определенных сил из партийного аппарата, да и нарастающий критический настрой членов Верховного Совета: дескать, Верховный Совет отодвигается от главных проблем, которые решаются в рамках президентских структур, во взаимодействии между Президентом Союза и Председателем Верховного Совета РСФСР.
Был и предлог: после полосы перепалок Горбачев провел с Ельциным важную встречу, на которой были обсуждены основные моменты нынешней ситуации, пути выхода из нее. Рассмотрены экономические проблемы, последний проект Союзного договора и т. д. Накануне, на заседании Верховного Совета РСФСР Ельцин очень подробно и, естественно, с соответствующими комментариями изложил содержание своей встречи с Президентом, а Горбачев обещал выступить на Верховном Совете лишь через несколько дней. В этом также увидели ущемление прерогатив Союзного парламента.
С разбушевавшимися депутатами справиться не удалось. Начался настоящий депутатский бунт. Предложенная повестка дня была отвергнута и выдвинуто ультимативное требование об обсуждении текущего момента с выступлением Президента.
Я не присутствовал на этом выступлении в пятницу 16 ноября, ибо находился в Сеуле, хотя некоторые сюжеты готовил для него по поручению Горбачева. Выступление не удовлетворило Верховный Совет. Скандал разрастался. Отношения между Президентом и Верховным Советом дошли до точки кипения.
Президенту надо было незамедлительно решаться на крупные шаги и крутые меры. И они были предложены. Как мне потом рассказывали, в итоге бессонной ночи, с пятницы на субботу, родилось Заявление Горбачева, которое им и было произнесено на заседании Верховного Совета страны 17 ноября. Его основной смысл — в радикализа-ции экономических и политических реформ, существенной реорганизации механизма власти и управления. Было предложено упразднить Президентский Совет, создать Кабинет Министров, как распорядительный орган, работающий под непосредственным руководством Президента.
Заявление Горбачева из восьми пунктов, составленное в сжатой, энергичной форме, произвело впечатление на депутатов, было в основном одобрено Верховным Советом и передано на рассмотрение в комитеты и комиссии. В определенной степени напряжение в Верховном Совете удалось снять, но тем самым ожидания еще больше были переключены на предстоящий Съезд народных депутатов.
Открытие Съезда народных депутатов сразу же началось с сюрприза — предложения Умалатовой включить в повестку дня первым вопросом вотум недоверия Президенту. (Именно так был сформулирован вопрос — «вотум недоверия»). Безусловно, это был продуманный и подготовленный шаг со стороны депутатской группы «Союз». Предложение не прошло, но итоги голосования оказались довольно любопытными: в числе примерно 400 депутатов, поддержавших включение в повестку дня вопроса о вотуме недоверия Президенту оказались представители крайних крыльев и межрегионалов и «союзников». А Ельцин, Попов, Станкевич и многие другие их сторонники проголосовали против. Такой результат не мог не сказаться на всем последующем ходе работы съезда, способствовал изоляции крайних и диалогу между силами, тяготеющими к центризму.
Доклад Президента энтузиазма не вызвал, но и неприятия тоже не было. Выступления в большинстве своем отличались большей или меньшей конструктивностью и лояльностью, в том числе и Попова. Пожалуй, наиболее резкие суждения по вопросам суверенитета республик, программы «500 дней», действий Президента прозвучали у Назарбаева. Видимо, чувствуя какое-то неудобство, Назарбаев избегал в первые дни появляться в комнате Президиума. Встретившись с ним в кулуарах, я по старой партийной памяти высказал свое нелицеприятное мнение о его выступлении. В ответ были слова о том, что он поддерживает Горбачева. Но разве так в поддержку выступают?
На грани фола была выдержана речь и другого нашего восточного лидера — Каримова. Формула такая — «Президенту доверяем, а все остальное руководство должны сменить».
Напряженно ожидали выступления Ельцина. Он, к сожалению, не счел возможным воспользоваться открывшимся шансом на развитие диалога, воспроизвел свои осенние конфронтационные мотивы. Своему соседу по депутатским креслам Аркадию Мурашеву — секретарю Межрегиональной депутатской группы — я высказал такое предположение: «Выступление Ельцина, видимо, было подготовлено заранее и не скорректировано с учетом обстановки, складывающейся на самом съезде. Естественно, Горбачев вынужден ему ответить в таком же духе, и в результате мы не продвигаемся ни на шаг.»
Мурашев ответил: «Ельцин просто не мог выступить менее резко, чем Назарбаев… Горбачев должен был вести диалог с Поповым, выражающим точку зрения межрегионалов».
На это я заметил: «Межрегионалам неплохо бы определиться, кто выражает ваши позиции, с кем вести диалог».
20 декабря съезд был потрясен заявлением Шеварднадзе об отставке в знак протеста против «надвигающейся угрозы диктатуры».
Самое прискорбное, что свой шаг Шеварднадзе предпринял без — какого-либо согласования и даже уведомления Президента. Один из самых близких Горбачеву людей поставил его в сложное и ложное положение. Единственно, что мог он сказать, было следующее: «… Не надо ставить точку, тут больше подходит многоточие…»
В эти дни немало говорилось о возможной подоплеке демарша Шеварднадзе. Ссылались на эмоционально-личностные мотивы, темпераментную реакцию на нападки со стороны «полковников». Высказывалось предположение о возможном желании Шеварднадзе в нынешних условиях дистанцироваться от нынешнего руководства. Наконец, указывалось и на грузинский подтекст, необходимость определиться в отношении к событиям в Грузии, приходу к власти Гамсахурдиа, независимости Грузии и т. д. Действительно, как выяснилось впоследствии, здесь больше подходило многоточие — началась полоса поступков Шеварднадзе, понятных, видимо, только ему одному.
Наконец, еще одна страница в работе съезда — решение, которое нельзя отнести к достижениям Горбачева, — избрание Янаева вице-президентом. Что это ошибка, было ясно многим уже тогда. Разговор о кандидатуре на пост вице-президента состоялся у меня с Горбачевым еще в начале декабря. В числе возможных кандидатов назывались Назарбаев и Шеварднадзе, хотя против последнего в это время уже была развернута сильнейшая атака. Я сказал тогда: «Предложите Ельцина. Потерь для Вас в любом случае не будет. Согласится — хорошо, не согласится — тоже будет какая-то ясность».
Президент советовался со мной по этому вопросу и непосредственно перед выборами. Правда, я думаю, что решение у него в голове уже сложилось, просто он хотел найти подтверждение ему. Названы были двое — Янаев и Примаков. Шеварднадзе и Назарбаев по разным причинам отпали. Мой ответ был таков: «Янаев, возможно, будет Вам помогать, но он не прибавит Вам политического капитала. Я бы отдал предпочтение Примакову. Весьма широка поддержка и у Дзасохова».
Высказал и такую крамольную мысль — сделать неожиданный выбор, взять кого-то из молодых, выдвинутых перестройкой. Риска здесь большого нет, ибо этот человек будет при Вас. Вопрос о Ельцине не поднимался.
Президент остановился все же на кандидатуре Янаева. На следующий день Болдин, которому, видимо, стало известно о нашем разговоре с Президентом, упрекнул меня за отрицательное отношение к кандидатуре Янаева и поддержку Примакова. Тут согласия между нами не было.
Как и следовало ожидать, выдвижение кандидатуры Янаева в вице-президенты встречено было тяжело, обсуждение ее было натужным. Он держался даже слишком раскованно, допускал вульгаризмы, плоские шутки, от которых, как потом говорили Лихачев, Гранин, Биккенин, многих покоробило. Депутаты из числа интеллигенции отнеслись к этой кандидатуре резко отрицательно. И ничего неожиданного не было в том, что Янаев не набрал нужного количества голосов.
В перерыве в комнате президиума высказывались предложения перенести избрание вице-президента на Верховный Совет, вообще его пока не избирать. В числе других и я склонялся к этому из-за опасения повторной неудачи с весьма тяжелыми последствиями. Но Президент был тверд и настоял на своем. И не потому, что он испытывал какое-то особое отношение к Янаеву. У меня есть все основания утверждать, что политической и тем более товарищеской близости между ними не было. Решающую роль сыграло нежелание признать свой неудачный выбор, добиться во что бы то ни стало принятия своего предложения. В итоге Янаев был избран, воля и настойчивость Президента одержали верх, но они не принесли ему лавров.
27 декабря съезд завершил свою работу.
Перед Президентом со всей остротой и неотложностью встала проблема персонального наполнения новых органов власти и управления, обновления состава своей команды. Его шаги абсолютным большинством комментаторов и наблюдателей в то время и позднее были расценены практически однозначно — как уступка правым. В подтверждение делались ссылки на уход от Горбачева ряда деятелей реформаторского толка, напротив, приближение к нему Янаева, Павлова, усиление влияния Крючкова и т. д.
Такая интерпретация является примитивно-прямолинейной, не отражает всей сложности отношений в окружении Президента, исходит из того ложного представления, будто Горбачев, как ему вздумается, переставлял бессловесные и безвольные фигуры на доске. В этой связи будет полезным несколько подробнее воспроизвести картину того, что произошло, обстоятельства, в которых принимались решения, касающиеся тех или иных деятелей.
Наиболее ответственным был выбор кандидатуры на должность главы вновь образуемого Кабинета Министров. Более месяца Горбачев вел интенсивные контакты, зондажи и советовался по этому вопросу. Бесспорной кандидатуры не было. Наряду с Павловым назывались Маслюков, Бакланов, Назарбаев, Щербаков, министры — Путин и Величко. Я считал, что было бы неплохо иметь в роли премьер-министра ученого-экономиста и советовал Президенту в этом случае не сбрасывать со счетов Абалкина. Его профессиональные и деловые качества не вызывают сомнений. К тому же он хорошо держит удары. Если же вести речь о фигуре крупного хозяйственника-практика, то я склонялся к кандидатуре В. И. Щербакова.
В отношении Павлова у меня были сомнения в смысле его способности отстаивать свою точку зрения. Решило же вопрос в его пользу мнение руководителей республик. Сыграли свою роль и соображения о том, что в деятельности кабинета возрастет роль денежно-финансовых проблем.
Президент понимал важность сохранения в структуре президентской власти крупных деятелей реформаторского толка. Я полностью разделял эту позицию и неоднократно излагал ее Президенту. Речь шла, в частности, о Шеварднадзе и Бакатине, ушедших в отставку со своих прежних постов в МИДе и МВД, правда, первый — по своей инициативе, а второй — с ведома Президента. Президент сделал свои предложения и тому, и другому, и решение зависело от личной позиции каждого из них. В итоге Шеварднадзе пожелал сосредоточиться на работе в созданной им внешнеполитической ассоциации, а Бакатин стал членом Совета Безопасности по вопросам правопорядка.
Целый ворох деликатных проблем всплыл и в связи с упразднением Президентского Совета. Оно, естественно, не вызывало положительных эмоций у «освобожденных» членов Совета, да и тех, кто выполнял эти функции на общественных началах. К тому же решение вопросов их дальнейшей работы затянулось до начала марта, хотя Президент время от времени собирал нас для обсуждения различных проблем.
Для меня лично это особой сложности не представляло, психологически я был готов сосредоточиться на научной работе еще после партийного съезда. Друзья и коллеги подсказывали мысль о возвращении в Академию общественных наук, передавали, что меня ждут в Институте марксизма-ленинизма. Но я пришел к твердому мнению, что не буду претендовать ни на какую руководящую должность, да еще в партийном заведении, что в политической деятельности для меня настал момент «сушить весла». Если же Президент попросит выполнять какие-то функции в его администрации, решил не уходить от этого.
Не откладывая дело в долгий ящик, еще в начале декабря, написал Горбачеву личное письмо следующего содержания:
«Дорогой Михаил Сергеевич! В момент принятия крупных политических решений неординарного характера, в которых так нуждается страна, естественно, задумываешься о своей работе и роли на новом отрезке перестроечного пути.
Вы знаете мое отношение к реорганизации президентской власти, включая создание Кабинета Министров при Президенте, что делает неоправданным дальнейшее существование Президентского Совета. Безусловно, нужны и персональные перемены, привлечение к руководству новых людей.
Что касается меня, то я был и остаюсь искренним и верным приверженцем проводимой Вами линии. Готов отдавать и впредь все свои силы и возможности для ее защиты и проведения. Но я не хотел бы в столь ответственный момент создавать для Вас какие-то проблемы. Взвесив все обстоятельства, я решил обратиться к Вам с просьбой разрешить мне перейти на другой режим жизнедеятельности, оформить пенсию, которую, как я надеюсь, заслужил, и продолжать помогать Вам в той форме, которую Вы сочтете целесообразной.
Надеюсь на Ваше понимание мотивов этой просьбы и поддержку.
«4» декабря 1990 г. В. МедведевМое письмо Горбачев сложил вчетверо и положил в карман, сказав, что хотел бы, чтобы я продолжал работать с ним и что будет размышлять, как меня использовать. Определилось решение этого вопроса где-то в конце февраля — начале марта. Президент сообщил, что хотел бы иметь меня своим советником по экономическим вопросам. Я согласился.
С Яковлевым, как мне известно, ситуация складывалась иначе. Он тоже не испытывал удовлетворения от выполнения функций члена Президентского Совета ввиду неопределенности его статуса. Но дело не только в этом. Насколько я могу судить, с осени 1990 г. начали проявляться расхождения в его позициях с Президентом по некоторым актуальным проблемам — о судьбе партии, возможности и необходимости опоры на нее, об отношении к программе «500 дней», о границах возможных компромиссов с оппозицией, о роли КГБ и некоторым другим. Я считал эти расхождения опасными, но не неотвратимыми. Их надо постараться преодолеть, не давая простора для эмоций. Но со стороны определенных сил — и левого, и правого направлений предпринимались настойчивые усилия к тому, чтобы раздуть эти противоречия, столкнуть Горбачева то ли влево, то ли вправо, поссорить его с ближайшим окружением.
Разве можно расценить иначе, чем коварный прием, публикации известных авторов в популярных изданиях, в которых утверждалось, что подлинным инициатором и архитектором перестройки является Яковлев, а Горбачев лишь озвучивает его идеи. Или сообщение массового еженедельника о том, что в день демонстративного выхода Ельцина из партии Яковлев позвонил ему и сочувственно призвал держаться. Александр Николаевич потом мне сказал, что звонил не он Ельцину, а Ельцин ему. Существенная деталь! Но комментариев ни в том, ни в другом случае не последовало.
Вместе с тем в отношении Яковлева была организована кампания в консервативной печати, плелась хитрая паутина. Президенту подбрасывалась информация о его, якобы, сепаратистских действиях, подозрительных контактах, чуть ли не о подготовке отъезда из страны и т. д.
Настроение у Яковлева было тяжелым. Он сетовал на невнимание Президента к его советам и мнению. Не стал Яковлев членом Совета Безопасности — нового, только что сформированного органа. С некоторых пор произошли неприятные перемены в его отношениях с Крючковым, хотя еще не так давно они были самыми тесными. Каким-то образом это было связано с конфликтом вокруг Калугина.
По моим наблюдениям, в конце 1990 г. — начале 1991 г. наступило отчуждение или во всяком случае охлаждение у Яковлева с Болдиным. Впрочем, это касалось и моих, да и других членов Президентского Совета отношений с Болдиным: руководитель аппарата Президента стал на себя брать слишком много в решении не только организационных, но и политических вопросов.
Не без участия Болдина возникла неприятная ситуация с определением нашего нового статуса. Горбачев решил создать, как свою ближайшую опору, группу советников, привлечь в нее бывших членов Президентского Совета — Яковлева, Ревенко, меня, а также советников, которые и раньше были в этой должности (Загладив, Ахромеев). Яковлев и по своему политическому опыту, и по старшинству, и по сложившейся системе неофициальных отношений был бы естественным координатором советников, хотя я лично полагал, что группу советников не следует строить на иерархических началах, как обычное структурное подразделение аппарата Президента. Это искажало бы ее смысл.
В дальнейшем вокруг статуса советников была затеяна какая-то возня. Возникла идея сделать Яковлева старшим советником и руководителем группы. Потом пошел разговор о том, чтобы старшим советником назначить и меня. Когда Горбачев сказал мне, что хочет к моему титулу прибавить эпитет «старший», я ответил, что «не воспринимаю всю эту игру с титулами и эпитетами, тем более, когда идет речь о Вашем окружении, где не нужны никакие титулы. Разве дело в этом? Впрочем решайте, как знаете, Вам виднее».
11 марта решение было принято, в том числе и в отношении меня. Узнав о нем, Яковлев сказал мне в разговоре по телефону: «Рад, что не у меня одного такая ответственность. Ты выбрал дерево для себя, ведь в первую очередь будут вешать тех, кто рядом?» — спросил он. «Это не моя забота», — был мой ответ.
Вся эта история отнюдь не укрепила товарищеские отношения в ближайшем президентском окружении, что было так важно в тот момент. Конечно, всем нам надо было подняться над этими вопросами, хотя и болезненными, но рутинными. Мне, по-видимому, следовало занять более жесткую позицию в вопросе манипулирования должностями.
Негативно, не скрывая этого, воспринял ликвидацию Президентского Совета Шаталин. В сочетании с отказом Президента безоговорочно принять программу «500 дней» это толкнуло академика на путь демонстративных шагов и резких заявлений. Порой они носили демагогический и открыто антипрезидентский характер, хотя и сопровождались постоянными заявлениями о том, что он высоко ценит Горбачева и готов с ним сотрудничать.
В свое время я был причастен к привлечению Станислава Сергеевича к работе в президентских структурах, вначале неофициально, затем и в качестве члена Президентского Совета. Хорошо зная его научные работы, считал и считаю его талантливым ученым и яркой, своеобразной личностью, немало сделавшим для становления в стране оригинального и плодотворного направления научной мысли — экономико-математической школы. Наши политикоэкономические воззрения были близки, хотя лично мы были знакомы не так давно — с конца 70-х годов. Долгое время Шаталин не признавался официальными кругами и даже подвергался гонениям.
Высшим своим достижением он считал участие в создании программы «500 дней», всерьез предлагал себя для реализации этой программы в качестве руководителя правительства. Для человека эмоционального непризнание программы оказалось трудно переносимым. Со своей стороны я прилагал все усилия к тому, чтобы удержать его в команде Президента, способствовать достижению взаимопонимания, недопущению резких движений и демаршей. А когда они все-таки произошли (заявление о несогласии с Президентом, поддержка требований о его отставке, выход из партии), я прямо высказал академику свою оценку таких шагов, как неоправданных и опрометчивых. Впрочем, возможности для профессиональных контактов и сотрудничества оставались открытыми.
Почти одновременно по своей инициативе ушел из аппарата Президента и Петраков, мотивируя это тем, что его взгляды по экономическим вопросам расходятся с позициями Президента. Правда, эта отставка не сопровождалась громкими заявлениями и эффектами.
К началу марта Президент завершил формирование Совета Безопасности. По Конституции он должен был согласовать кандидатуры его членов в Верховном Совете СССР. Верховный Совет без затруднений дал свое согласие на назначение в этом качестве Премьер-министра и членов Кабинета. С некоторой заминкой Совет согласился с кандидатурой Бакатина, при втором заходе прошел и Примаков, Болдин вновь оказался за чертой. «Это они напрасно» — прокомментировал Болдин случившееся, и я уловил чуть скрытую, глухую угрозу: ведь он оставался руководителем аппарата Президента.
Кризис начала 1991 и новоогаревский процесс
Наступление 1991 года не предвещало ничего хорошего. Оно было ознаменовано вспышкой бюджетной войны между союзным центром и российскими властями, фактическим обескровливанием союзного бюджета после того, как российское руководство приняло одностороннее решение о сокращении отчислений в него на 100 миллиардов рублей.
Уже в первые месяцы перестали выполняться соглашения между республиками по вопросам бюджета, продовольственного снабжения, межреспубликанским поставкам. Народнохозяйственные связи, особенно межреспубликанские, оказались в состоянии глубокого расстройства. В ожидании реформы цен, которая в силу разных причин откладывалась и состоялась лишь в апреле, была полностью дезорганизована торговля продовольственными и промышленными товарами.
Началось резкое, на грани обвального, падение производства, сопоставимое по темпам с началом великой депрессии на Западе в 1929 году. За январь-февраль по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года произведенный национальный доход упал почти на 10 процентов. Денежные же доходы населения за то же время возросли на 19 процентов.
По стране прокатилась волна забастовочного движения, широких политических выступлений. Она охватила значительную часть шахт Кузбасса, частично перекинулась в Донбасс и на Воркуту. Но на сей раз на первый план были выдвинуты политические требования, и прежде всего об отставке Президента. В таком духе шахтеров настраивали московские визитеры, в том числе из числа народных депутатов.
В ночь с 12 на 13 января разыгралась драма в Вильнюсе, закончившаяся осадой парламента и захватом военными телецентра, гибелью людей. Непосредственной причиной этого явилось образование так называемого «Комитета национального спасения», который при поддержке вильнюсского военного гарнизона предпринял попытку свергнуть правительство республики, объявившей о своем выходе из состава Союза, и вернуть ее таким образом в рамки Союза ССР.
Конфликт в Вильнюсе надо рассматривать во всем контексте развития обстановки в Литве. Да и не только в Литве. Нельзя не учитывать доведенную до крайности тревогу тех, кто остро переживал за свою судьбу в связи с решением литовского руководства о немедленном выходе из СССР. На их настроениях играли приверженцы жестких мер по отношению к новым литовским властям.
В дальнейшем, правда, накал страстей там постепенно спал, «Комитет национального спасения», так и оставшийся анонимным, прекратил свою деятельность, военные части разведены по местам, хотя телецентр до конца августа оставался под их контролем.
События в Вильнюсе вызвали волну возмущения в демократических кругах, как попытка силой сломить движение за независимость. Приписывалась она центральным властям в Москве и даже Президенту СССР. Но критика Президента — не менее ожесточенная — шла и с другой стороны за то, что от Прибалтики он, дескать, отступился, не ввел президентское правление, свалил всю вину на армию. И в дальнейшем январские события в Литве оставались предметом острой дискуссии, различного рода домыслов, вроде того, что это была репетиция августовского путча.
Я не располагаю информацией, чтобы утверждать или отрицать причастность московских военных инстанций к событиям в Вильнюсе, но знаю, что Президент не имел к ним отношения. В любом случае действия так называемого «Комитета национального спасения» и военных руководителей в Вильнюсе были незаконными. Они привели к обратному результату — к сужению или даже к полной утрате возможности конституционного решения литовской проблемы, к укреплению позиций реакционного крыла национально-патриотических сил в республике. Угроза вмешательства военных, продемонстрированная в Вильнюсе, не оказала сдерживающего влияния на позиции руководства и в других прибалтийских республиках. Обстановка в этом районе приобрела еще более взрывоопасный характер.
Общественность страны с большим вниманием следила за первыми шагами нового Кабинета Министров и его руководителя. Бурную реакцию вызвал предпринятый по инициативе правительства обмен крупных купюр, который не принес сколько-нибудь заметного экономического эффекта, но взбудоражил публику, породил слухи о неизбежности большой денежной реформы.
Крайне неуклюжим, конфузным оказалось утверждение Павлова в интервью газете «Труд» с ее 20-миллионным тиражом о, якобы, имевшем место заговоре западных банков осуществить денежную интервенцию в СССР с намеком на то, что операция по обмену купюр была необходима для нейтрализации ее последствий. Эта история мгновенно облетела все западные информационные агентства и газеты. Удастся ли после этого Павлову восстановить свое реноме в западном мире и особенно в финансовых кругах?
Кульминационным моментом политического кризиса в стране явилось заявление Ельцина, в котором он, не стесняясь в выражениях, дал негативную оценку политике Горбачева и его практической деятельности, потребовал отставки Президента СССР и передачи власти Совету Федерации.
Непросто даже сейчас комментировать этот шаг. Могли, конечно, здесь повлиять и общее состояние дел в России, и неблагоприятно складывающаяся для Ельцина обстановка в парламенте, и нетерпение: ведь к тому времени не оправдалось ни одно из его предсказаний и заявлений о предельных сроках пребывания Горбачева у власти. Но, вместе с тем, трудно представить себе, что это был шаг спонтанный, эмоциональный, а не продуманный и взвешенный. Заявление не оставляло сомнений в том, что компромиссы, тактические маневры отодвигаются в сторону, Президенту СССР объявлена открытая война.
К сожалению, в антипрезидентскую кампанию оказались втянутыми и некоторые представители интеллигенции, в том числе сотрудничавшие ранее с Президентом. Впрочем, реакция на ультиматум Ельцина была далеко не однозначной. На некоторых, напротив, он произвел удручающее впечатление, вызвал тревогу за дальнейшее развитие событий. В те дни я встречался с Николаем Шмелевым, который весьма критически отозвался о конфронтационном характере этого шага, не скрывал своего мнения и в печати.
Многие российские депутаты требовали разъяснений, кто поручал Председателю Верховного Совета Федерации выступать с такой декларацией и с такими требованиями.
Сколько-нибудь широкой кампании за отставку Президента вызвать в стране не удалось. Это требование не поддержал ни один высший государственный орган в республиках. Не была подхвачена и забастовочная волна. Более того, постепенно стала возникать обратная реакция на забастовку шахтеров, особенно в металлургии, оставшейся без кокса, в сельском хозяйстве и других отраслях.
Горбачев не терял времени. По его инициативе 17 марта проводился Всесоюзный референдум. Подавляющее большинство граждан РСФСР и других республик, где он проходил, высказалось за сохранение обновленного Союза ССР. Итоги референдума явились сильной поддержкой политики Президента СССР по вопросу, который логикой событий все более становился главным и определяющим. В России, на Украине, в Москве, Ленинграде гражданам было предложено ответить и на дополнительные вопросы. Большинство россиян высказалось за учреждение поста Президента РСФСР, москвичи и ленинградцы — за введение постов мэров этих городов. Все это отражало реальное состояние общественных настроений, его сложность и неоднозначность.
Противоборство продолжалось. Фракция «Коммунисты России» поставила вопрос о созыве чрезвычайного съезда народных депутатов РСФСР с отчетом Председателя и постановкой вопроса о вотуме доверия ему. Но, в конце концов, дело ограничилось приближением сроков проведения очередного съезда с обсуждением положения в России и деятельности его руководства. Съезд был созван 28 марта.
Представители «Демократической России» и сторонники Ельцина решили накануне открытия съезда провести массовую акцию в Москве. Моссовет подтвердил свое разрешение на проведение митинга на Манежной площади и отказался выполнять Указ Президента СССР и постановление Верховного Совета СССР о проведении митинга за пределами исторического центра Москвы. Моссовет был поддержан Верховным Советом РСФСР. Наступила настоящая «война законов» и испытание нервов. А наутро оказалось, что в центре города размещено значительное количество сил МВД, автомобилей, установлены водометы, перекрыты улицы, усилен пропускной режим, в том числе на пути депутатов в Кремль. Возникла довольно острая и напряженная обстановка.
Вечером я был у Горбачева. По поступившей к нему информации, на Арбатской площади, на площади Маяковского, а также на Пушкинской собралось, по оценкам МВД, примерно 50 тысяч человек. Прошли митинги. Примерно с 20 часов люди начали довольно быстро расходиться. Ничего чрезвычайного не произошло, никакой опасности для конституционного правопорядка не возникло. Наводнение Москвы вооруженными силами оказалось мерой излишней и неоправданной, вызвало серьезное недовольство и даже возмущение москвичей, настоящую бурю на Съезде народных депутатов РСФСР. На следующий день улицы и площади города от воинских частей освободились.
Попытка оказать давление на российских депутатов с помощью военных возымела обратное действие, помогла российскому руководству направить работу съезда по своему руслу. Впрочем, и позиции Председателя Верховного Совета РСФСР, изложенные им в докладе, выглядели совсем иначе, чем в его Заявлении от 19 февраля. Конфронтационных формулировок и требований не выдвигалось, воспроизводились многие политические и экономические предложения, близкие к тем, которых придерживалось и руководство страны. Например, о «скорейшем подписании Договора о Союзе Суверенных Государств как федеративного, добровольного и равноправного объединения». В докладе говорилось о «немедленном создании коалиционного правительства народного доверия и национального согласия», но оно подано не как ультимативное требование, а как одно из политических условий. Вновь прозвучало предложение о диалоге, сотрудничестве с центром.
Сделав явные подвижки в сторону реализма, Ельцин обезоружил своих оппонентов, ослабил их критический запал. В конечном счете Полозков заявил, что фракция «Коммунисты России» выступает за сохранение российского руководства в прежнем составе. У «демократов» это вызвало иронию, а у ортодоксальных коммунистов — недоумение. Так или иначе замыслы противостоящих Ельцину сил были сорваны.
Более того, Ельцин решил перейти в наступление: вместо традиционного заключения после обсуждения своего доклада он неожиданно огласил Декларацию с требованием предоставления ему до избрания Президента РСФСР дополнительных полномочий, и оппоненты оказались застигнутыми врасплох, не смогли не то чтобы сделать, но и сказать что-то внятное. В форсированные сроки решено провести выборы Президента России — уже 12 июня.
Таким образом, острейший политический кризис начала 1991 года не удавалось разрешить ни атакой Ельцина на союзный центр (она захлебнулась), ни наступлением на Ельцина в российском парламенте, окончившимся полной неудачей. Следует при этом иметь в виду, что действия фракции «Коммунисты России» в парламенте контролировались правоконсервативным руководством Компартии России и далеко не были адекватными позициям Горбачева.
Возникло своего рода равновесное противостояние, ни одна из противоборствующих сторон не располагала достаточными силами, чтобы осуществить свой курс, свою программу разрешения острейших проблем в экономике, в межнациональных отношениях, в укреплении власти. Сама логика событий поставила вопрос о поисках подвижек и компромиссов.
Чувствуя ослабление поддержки со стороны партии, а также определенный поворот в общественных настроениях не в его пользу, Горбачев все больше задумывался над проблемой политической базы для дальнейшего продвижения страны по пути демократических преобразований. Его внимание привлекла идея центризма, которая спонтанно вырастала из глубины общества. По моей просьбе свои соображения на эту тему подготовили для Президента заместитель главного редактора журнала «Коммунист» Лацис, главный редактор журнала «Диалог» Попов, и. о. директора Института марксизма-ленинизма Горшков. В таком же духе с акцентом на идею государственности состоялся разговор с Ципко, который в свою очередь имел обмен мнениями по этим вопросам со Станкевичем. В контакте с Шахназаровым мы подготовили соответствующие разработки для Президента, и он реализовал их в порядке постановки вопроса на встрече с белорусскими учеными во время пребывания в Минске. Эта работа была своего рода теоретико-идеологической прелюдией к новоогаревскому процессу.
В начале апреля на заседании Совета Безопасности при обсуждении политической ситуации в стране и предложения оппозиции по «круглому столу» впервые, насколько помню, прозвучала мысль о выработке программы действий Президента СССР совместно с руководителями республик, выступающих за сохранение обновленного Союза, включая, разумеется, и Россию. Пусть это будут не все республики, а только «девятка», но нужна доверительная и узкая встреча Президента с государственными руководителями этих республик. Такая встреча была намечена на середину апреля, а 24–25 апреля должен был состояться Пленум ЦК КПСС.
В разговоре со мной Горбачев подчеркивал дилемму: или пойти на серьезное соглашение и подвижки с «девяткой», но тогда это может быть встречено в штыки на Пленуме ЦК, или, наоборот, проводить более жесткую линию с руководителями республик, но получить поддержку на Пленуме ЦК. Я высказался за то, чтобы повести активный диалог с российским руководством и с «девяткой» в целом, выработать совместную программу национального спасения, тем более, что непреодолимых разночтений, если брать существо вопросов, например, в экономической области, а не идеологические интерпретации, нет. С ней пойти на Пленум ЦК, вынудив критиков и слева и справа публично определить свою позицию. Конечно же, партию и поддержку с ее стороны надо постараться сохранить, иначе вас «демократы» проглотят и выплюнут, но сохранить именно на основе общенациональной программы обновления и спасения страны.
Горбачев попросил меня вместе с Шахназаровым продумать платформу для проведения совещания «девятки», имея в виду возможность принятия какого-то итогового документа. Он сообщил мне, не раскрывая существа вопроса, что Яковлев написал большую записку с анализом ситуации и со своими предложениями.
Встреча «1 + 9», положившая начало новоогаревскому процессу, произошла 23 апреля.
Еще поздно вечером стали доходить неофициальные сообщения о достигнутом поистине поворотном шаге. На следующий день в печати было опубликовано Совместное заявление Президента СССР и руководителей девяти республик о безотлагательных мерах по стабилизации обстановки в стране и преодолению кризиса.
Я не был в тот раз в Ново-Огареве, но из рассказов коллег и из того, что говорил Горбачев, стало известно, что заседали с небольшими перерывами девять часов, причем в узком составе только первых руководителей. Шел трудный, но конструктивный диалог, в ходе которого вырабатывались взаимоприемлемые оценки, выводы и формулировки.
Конечно, в Заявлении нашли отражение взаимные уступки и компромиссы, без них оно вообще не могло быть принято. Но в целом, это принципиальное соглашение, открывшее новую полосу в политике и практических действиях на основе широкого социального и межнационального консенсуса. В обстановке острейшего противоборства, экономических неурядиц, социальных и межрегиональных конфликтов появился свет в конце туннеля, надежда на то, что дальнейшее развитие ситуации будет направлено в конструктивное русло.
Президент СССР и руководители республик признали необходимым повсеместное восстановление конституционного порядка в стране, пришли к выводу о необходимости скорейшего заключения нового договора между республиками, объявившими себя вслед за Россией суверенными государствами, с учетом состоявшегося в марте референдума с тем, чтобы в течение шести месяцев после этого принять новую Конституцию и на этой основе провести выборы новых органов Союза. Подчеркнута недопустимость какой-либо дискриминации граждан по национальному признаку.
Чрезвычайно важно подтверждение главами республик экономических соглашений на текущий год, необходимости совместного проведения антикризисных мер, первоочередного обеспечения населения продуктами питания. Осуждены любые подстрекательства к неповиновению, забастовкам, призывы к свержению законных ор-, ганов власти. Последнее было особенно важным с учетом еще совсем недавних требований об отставке Президента СССР.
Апрельское соглашение, открывшее новоогаревский процесс, явилось победой здравомыслия, отразило назревшую в стране потребность общественного согласия во имя национального спасения. Это был, по сути дела, ответ на идею «круглого стола» с участием различных общественно-политических сил. Горбачев, как политик, показал свое умение реагировать на ситуацию в стране, учитывать общественные настроения.
Позицию Ельцина тоже можно понять. Его февральский призыв к отставке Горбачева не получил поддержки. Стало очевидно, что линия на обострение конфронтации и углубление раскола не принесет успеха. А ведь Ельцин шел навстречу президентским выборам… У него было единственно правильное и разумное решение — поддержать идею создания нового эффективного механизма согласованных действий.
Весьма показательно, что в среде оппозиции не было единодушия в оценке новоогаревского соглашения. Кое-кто из крайних радикалов открыто критиковали Ельцина за то, что он подписал Заявление и тем самым чуть ли не предал их и бастующих шахтеров. Но Ельцин на сей раз внял не этим людям, а голосу разума. В обществе же новоога-ревское соглашение было встречено со вздохом облегчения. Но что последует за ним — наступит ли разрядка политической напряженности, не постигнет ли это Заявление плачевная судьба многих других деклараций и заявлений, принимавшихся в последнее время?
Действенность Соглашения была подтверждена в тот же день. К исходу его стало ясно, что назначенная профсоюзами России предупредительная забастовка не имела успеха. В Москве лишь в отдельных цехах прошли митинги в обеденные перерывы, остановок производства практически не было. Да и по стране картина примерно такая же. Забастовка шахтеров Кузбасса продолжалась, но и там наметился спад. А после поездки туда Ельцина в начале мая постепенно все шахты, одна за другой, возобновили работу.
В дальнейшем в рамках новоогаревского процесса рассматривались все основные проблемы общественно-политического и экономического развития страны и главная из них — это выработка нового Союзного договора, вплоть до той ее редакции, которая должна быть подписана 20 августа.
Через день после подписания новоогаревского соглашения открылся объединенный Пленум ЦК и ЦКК КПСС. Обсуждение, вынесенного на Пленум вопроса о положении в стране и путях вывода экономики из кризиса, началось развернутым выступлением Горбачева, которое опиралось на новогаревское Заявление и задало первоначальный тон прениям.
Но этого хватило лишь на первый день. Следующий день отмечен массированной атакой на руководство. Уверен, что она была не спонтанной, а организованной. Началось все с выступления Полозкова, а затем критика Горбачева приобрела разнузданный характер. Предел терпению наступил во время речи секретаря Кемеровского обкома партии. Горбачев подал реплику: «Хватит. После вашего выступления я выскажусь по этому вопросу. Он вышел на трибуну и внешне спокойно произнес буквально несколько фраз, наполненных глубоким внутренним напряжением, смысл которых сводился к тому, что в обстановке такого отношения к Генеральному секретарю он не может дальше выполнять эти функции. Поэтому он предлагает прекратить прения и заявляет об отставке.
Зал оказался в состоянии оцепенения. Объявляется перерыв. Стали собираться группами — где-то военные, где-то по республикам и областям. Подошел Биккенин, поблизости оказался Вольский. Я к нему: «Что будем делать, промышленная партия?»
Минут через 10 зашел в комнату президиума. Там собрались члены Политбюро и секретари. Был и Горбачев.
Кто-то стал уговаривать Генсека отказаться от заявления. Но он стоял на своем, заметив при этом, что и в составе Политбюро нет единой позиции: «В таких условиях работать нельзя, и я настаиваю на том, чтобы заявление об отставке было рассмотрено».
Большинство высказалось за то, чтобы обсуждение не развертывать, а в отношении голосования мнения разошлись. Генсек заявил: «Я высказал свою позицию, а вы тут решайте», — и удалился. Началось вроде бы официальное заседание Политбюро под руководством Ивашко. Я, естественно, вышел (в это время я не занимал какого-либо поста в партии, а в работе Пленума принимал участие как народный депутат от КПСС) и лишь потом узнал, что приняли «соломоново решение» — поставить на голосование вопрос не о самом вотуме доверия Генсеку, а о том — обсуждать этот вопрос или снять его.
В кулуарах Пленума все бурлило. Более 70 членов ЦК поставили свои подписи под заявлением, составленным Вольским, в котором высказывалось категорическое возражение против отставки Генсека, констатировалось, что ЦК в данном составе не в состоянии руководить партией и выдвигалось требование о созыве нового съезда партии. Я уверен, что подписей под заявлением оказалось бы значительно больше, если бы все знали о нем.
Заявление не было оглашено на Пленуме, поскольку сразу же после окончания перерыва проголосовали предложение Политбюро о снятии вопроса об отставке Генсека с обсуждения. Оно было принято подавляющим большинством при 13-ти, по-моему, воздержавшихся. Знакомая ситуация — шумная критика, а при голосовании — в кусты.
Разгулялись страсти вокруг вопроса о Шаталине. Незадолго до этого он сам заявил о выходе из партии. Я не одобрял этого его шага, хотя понимал, что у Шаталина после его заявлений другого выхода не оставалось. Предмета для обсуждения на Пленуме не существовало: надо было просто принять решение о его выводе из состава ЦК, как выбывшего из партии. Тем не менее правоверные партийцы настаивали на исключении Шаталина из КПСС. Это было бы хорошей услугой для критиков партии и ничего, кроме злой усмешки и иронии, не могло вызвать. С большим трудом и не без вмешательства Горбачева удалось этого избежать.
Апрельский Пленум ЦК показал, что внутренние противоречия в партии достигли такой остроты, что размежевание становится не только неизбежным, но теперь уже и необходимым. С учетом новоогаревского процесса появилась надежда на то, что можно добиться привлечения на сторону реформаторов значительного, а может быть, даже и основного массива партии.
К этому времени относятся попытки организации реформаторских сил: образование в парламенте РСФСР фракции «Коммунисты России за демократию» во главе с Руцким, создание «Движение демократических реформ» во главе с Яковлевым и Шеварднадзе.
Мое отношение к этим инициативам было неоднозначным. Понимая их мотивы, связанные с неудовлетворенностью обстановкой в партии, засильем в ее многих структурах консервативных сил, я в то же время считал, что не надо уходить из партии, «убегать от Полозкова», а вести работу внутри не за завоевание и утверждение большинства партийных масс на реформаторских позициях. Тогда раскол партии не будет выливаться в создание небольших и далеких от народа группировок, обреченных на незавидное существование, а, наоборот, приведет к отторжению от нее крайних, прежде всего, правоконсервативных сил.
В связи с этим, по-новому встал вопрос о начатой еще несколько месяцев тому назад работе над новой Программой партии.
Мое отношение к работе над новой Программой партии было сдержанным, если не отрицательным (я был избран на съезде членом Программной комиссии). Ведь совсем недавно, на XXVIII съезде КПСС, принято реформаторское по своему духу Программное заявление. Но теперь с учетом того, что в повестку дня встал вопрос о идейно-политическом размежевании в партии, работа над Программой, напротив, приобретала принципиальное значение. Она могла и должна была стать критерием разделения партии на реформаторов и фундаменталистов.
Обсуждение проекта Программы на заседании Программной комиссии состоялось 28 июня. А еще через месяц, 23–24 июля, его обсудили на Пленуме Центрального комитета партии. Это был последний Пленум ЦК КПСС. На нем, пожалуй, было меньше развязной критики в адрес Генсека и Президента: все понимали, что раскол и размежевание не за горами. Явную заявку на лидерство в традиционном крыле партии сделал в своем выступлении Лукьянов.
К тому же незадолго до Пленума опубликованный Указ Президента Российской Федерации о прекращении деятельности организационных структур политических партий и массовых общественных движений в госорганах, учреждениях и организациях Российской Федерации по-видимому, стимулировал некое «сплочение» партии перед лицом нависшей угрозы…
В сфере внешних сношений новоогаревский процесс тесно корреспондировался с участием Горбачева в лондонской встрече руководителей семи развитых стран мира. Примерно к середине мая 1991 года у большинства этих стран сложилось намерение пригласить Горбачева в Лондон. Колебался лишь Буш.
Президент поручил мне с привлечением ведущих ученых и специалистов вникнуть в проблематику возможной встречи с «семеркой», мобилизовать имеющиеся наработки, продумать весь комплекс вопросов от политико-философского обоснования вхождение СССР в мировое хозяйство до конкретных предложений на этот счет.
К подготовке встречи были привлечены видные ученые Абалкин, Аганбегян, Ситарян, Яременко, Мартынов, Кокошин, председатель Внешэкономбанка Московский, заместитель министра иностранных дел Обминский, руководящие работники экономических министерств и ведомств, специалисты. В нашем распоряжении были разработки Явлинского и Аллисона «Согласие на шанс», Европейского банка реконструкции и развития. Брукингского института (США), Института экономических исследований (Германия), Королевского института международный отношений и других исследовательских центров. Каждый из этих материалов имел свои достоинства, но ни один в полной мере не отвечал стоящей перед нами задаче. Регулярно в Волынское-II, где шла работа, приезжал Горбачев, как правило, вместе с Павловым и Щербаковым, а иногда и Примаковым.
Менее чем за месяц была подготовлена развернутая концепция вхождения страны в мировое экономическое сообщество, а на ее основе — послание Горбачева главам «семерки» с содержательными приложениями, а также устное его выступление на встрече. «Это — фантастическое письмо — заявил Буш на встрече с журналистами, получив послание, — хотя у США существуют некоторые разногласия с отдельными пассажами этого документа».
Горбачев счел необходимым согласовать основные идеи с руководителями республик. Встреча в Ново-Огареве по этому вопросу состоялась в обстановке полного взаимопонимания. Президенту был дан мандат на осуществление его концепции.
В Лондоне Горбачев побеседовал отдельно со всеми лидерами. Что касается основной встречи во дворце «Ланкас-терхауз», то она, по оценке всех ее участников, прошла весьма успешно. Основные выводы из встречи ее хозяин — Дж. Мейджор — сформулировал на пресс-конференции в виде шести пунктов. По сути дела, это было неформальное коммюнике.
Лондонская встреча, как и предполагалось, не дала нам каких-то непосредственных экономических выгод, но она ясно прочертила перспективу экономических отношений с Западом, стала поворотным пунктом вхождения СССР в систему мировых экономических и финансовых структур и институтов.
Должен заметить, что в дальнейшем обсуждения и переговоры с Западом в основном не выходили из того круга идей и тех параметров экономической помощи, которые были обозначены в Лондоне.
В конце июля я ушел в отпуск и уехал с супругой в Крым, в санаторий Нижняя Ореанда близ Ялты. Конец лета 1991 г. выдался погожим. Изумительная черноморская вода, прозрачный крымский воздух, ежедневные трехкилометровые заплывы, прогулки в горы — все это настраивало на благодушный лад.
По сложившейся привычке занимался во время отпуска своими научно-литературными делами, обдумывал и взвешивал проблемы, вытекающие из глубокого кризиса экономической теории, необходимости выработки совершенно новых подходов, свободных от догматических представлений. Готовил доклад по этим вопросам, с которым собирался выступить в Институте экономики. Но внутреннее беспокойство и тревога за то, что происходит в стране, не покидали ни на день, ни на час.
В первый же день я позвонил Михаилу Сергеевичу в Москву, чтобы поделиться с ним своими тревогами и соображениями, особенно в связи с практическим отсутствием реакции со стороны партийных и общественных организаций на Указ Ельцина.
Горбачева на даче не оказалось. Сказали, что он в Ново-Огареве. Попросил соединить с ним, когда он будет на обратном пути в машине. Звонок раздался в 1.30 ночи. Михаил Сергеевич сообщил, что провел в Ново-Огареве откровенный, нелегкий разговор с Ельциным и Назарбаевым, прежде всего о том, как действовать после подписания Союзного Договора.
В разговоре затрагивался и Указ о департизации. Ельцин заверил, что никаких насильственных действий в связи с этим Указом предприниматься не будет, поэтому надобности в каких-то новых шагах со стороны Президента СССР нет. «А в общем надо уходить в отпуск…, - добавил Михаил Сергеевич. — Вероятно 4 или 5 августа. Там увидимся».
Дважды или трижды Горбачев звонил мне уже из Фороса. Один из разговоров был навеян его работой над статьей об исторических судьбах перестройки. В своих рассуждениях он вновь и вновь возвращался к сути начатого нами обновления общества, его смыслу и критериях: следует ли нам опасаться обвинений в социал-демократизме и отмежевываться от них и т. д. Моя позиция по этим вопросам: сейчас важно не размахивать жупелами, не пугать и не пугаться, отдать приоритет прагматическому подходу, социально-экономической эффективности тех или иных форм общественной жизни. В то же время следует четко и определенно отмежеваться от тех, кто тянет к дикому, необузданному капитализму. Ведь это пройденный этап. Наиболее плодотворна идея движения общества разными путями к новой цивилизации. Именно она дает теоретическое и политическое объяснение перестройки и должна быть центральной в новой Программе партии.
Соглашаясь с этим, Горбачев напомнил, что эта идея по существу уже сформулирована нами перед мировой общественностью. Он просил меня «поводить пером», чтобы потом свести все эти сюжеты, сказал, что пришлет материалы к статье, над которыми работает и Черняев. «А в Москве нас ждут важнейшие дела. На 20 августа намечено подписание Союзного договора, а на 21 августа — заседание Совета Безопасности с обсуждением наиболее острых текущих проблем — продовольствия, топлива, финансов».
Разговор зашел и об интервью Яковлева в связи с его заявлением об уходе из президентских структур и намерением ЦКК рассмотреть вопрос о его пребывании в партии. Надо сказать, что в течение последнего времени мои контакты с Яковлевым стали как-то незаметно и постепенно ослабевать и сходить на нет. Я не одобрял его уход от Президента и намерения порвать с партией, независимо от того, какие для этого были причины и побудительные мотивы. Об этом я и раньше говорил ему не раз. Вместе с тем с моей точки зрения, были совершенно неуместными, более того, вызывающими попытки со стороны ЦКК привлечь Яковлева к партийной ответственности, тем более в преддверии неизбежного размежевания в партии. Горбачев не стал вдаваться в обсуждение этого вопроса, я почувствовал, что для него он неприятен и даже болезненен.
Последний мой телефонный разговор с Горбачевым перед форосским заточением был 13 августа. Накануне состоялось заседание Кабинета Министров, на котором возникла конфликтная ситуация с представителями российского руководства по тем неотложным вопросам (продовольствие, топливо, финансы), по которым, кажется, раннее была достигнута принципиальная договоренность. Президент пребывал в состоянии серьезной озабоченности и, я бы сказал, возбужденности из-за того, что хрупкое согласие, достигнутое перед его отпуском, дает трещину.
Возвращаясь сегодня мысленно к тому разговору, я не исключаю того, что конфликт на заседании Кабинета Министров возник из-за попытки Павлова уже тогда провести пробу сил в смысле применения жесткой линии.
В воздухе пахло грозой, но мало кто предполагал, что она разразится столь быстро.
Глава VI Удар в спину. Горбачев теряет власть
Август 91-го. — Кто кого предал. — Борьба за спасение Союза не приносит успеха. — Отставка Президента.
Август 91-го
Еще накануне, в воскресенье, ничто не предвещало беды. Весть о грозных событиях в Москве до меня дошла рано утром 19 августа на берегу моря. Бросился в свой номер к телефонам, но они молчали. Телефоны (спецсвязь и городской), оказывается, у меня отключили еще с вечера, но в воскресенье это просто не было замечено.
В санатории в это время проводил свой отпуск председатель Крымского рессовета Багров, Я — к нему. Но тот тоже толком ничего не знал, ибо был отрезан от правительственной связи, как и Главком Военно-Морского Флота адмирал Чернавин, находившийся в том же санатории. Багров в этот момент ждал машину, чтобы ехать в Симферополь.
Мое решение было ясно и определенно — как можно быстрее попасть в Москву, тем более, что, как сообщил Багров, прошедшей ночью со специального аэропорта Бельбек вылетели один или два самолета. Сразу же возникло опасение, что Горбачева не только отстранили от власти, но и вывезли из Фороса. Я настоятельно попросил Багрова по прибытии в Симферополь принять все меры для того, чтобы сегодня же отправить меня в Москву, может быть, поездом, ибо это в какой-то мере обеспечивает анонимность отъезда. Поддерживать связь договорились через главврача санатория, у которого городской телефон работал.
Попытался связаться с «Южным», где в это время находились Примаков и Шахназаров. Ответил лишь один телефон — в регистратуре. Попросил найти Примакова, чтобы он перезвонил мне тоже через регистратуру. Минут через десять позвали к телефону. Примаков, естественно, ничего нового сообщить не мог, за исключением того, что накануне днем у Горбачева был обычный телефонный разговор с Шахназаровым, значит, версия о болезни Горбачева — вымысел. Связи с Президентом никакой, да и со всем миром тоже, поскольку в «Южном» все телефоны, кроме одного, отключены. Решение у Примакова, как и у меня, — как можно скорее отправиться в Москву.
Настроения среди публики в санатории самые тревожные. Обращаются с расспросами ко мне, но я ничего не могу сказать, кроме того, что это какая-то безрассудная авантюра.
Где-то в четвертом часу через главного врача санатория поступил сигнал, что, кажется, можно улететь самолетом. Чемоданы были уже давно собраны, машина стояла, и через два часа мы с супругой были в Симферополе. В аэропорту встретились с Примаковым и Лучинским, а в самолете с нами летели также Биккенин и Дегтярев. Настроение у всех тяжелое, хуже некуда. Хотя почти ничего не было известно, но ясно — версия о недееспособности Президента прикрывает его насильственное отстранение от власти, над ним нависла серьезная опасность. Поразило более всего то, что за этими антиконституционными действиями стоят подписи известных и довольно близких Президенту людей.
Я был готов ко всему, ожидая каких-то акций и в санатории, и особенно в пути, но все вроде складывалось благополучно. Были опасения, как встретят у трапа во Внукове. Но и тут, как обычно, около депутатской стояли машины, вызванные по нашей просьбе. Будто ничего не произошло. Поразили улицы и площади Москвы, набитые вооруженными людьми и военной техникой.
Приехав домой, я был немало удивлен, узнав, что связь, в том числе и правительственная, работает. Решил прежде всего связаться с Болдиным. Вначале позвонил по его служебному телефону. Ответили, что Валерия Ивановича на месте нет.
— Где он?
— Болен, в ЦКБ.
— Дайте номер телефона.
Пауза. Переспросили, кто говорит, и назвали телефон.
Разговор с Болдиным в больнице около 23-х часов был кратким: по телефону такие вещи обсуждать рискованно. На мой вопрос, что произошло, что вы тут натворили, ответ был такой: «Ты не все знаешь. Завтра я буду на работе, и мы можем встретиться».
Прослушав вечером все официальные сообщения, я еще и еще раз раздумывал о случившемся. В этих сообщениях масса противоречий и несообразностей, которые не могут остаться незамеченными. Если Горбачев не может исполнять обязанности Президента, то почему он сам не заявил об этом? Если болезнь настолько серьезна, что он не в состоянии ни сказать, ни написать хотя бы несколько слов, то почему нет заключения о характере болезни? Зачем прервана его связь с внешним миром? Почему Заявление советского руководства подписывают три лица — Янаев, Павлов и Бакланов? Почему именно они объявляют о создании ГКЧП? В постановлении N 1 этого комитета говорится об учете всех ресурсов продовольствия, об уборке урожая, об ускорении жилищного строительства, но что же мешало Кабинету Министров делать это раньше? И т. д. и т. п.
Не скрою, что уже в первый день в разговорах с некоторыми людьми пришлось столкнуться с подозрением, а не согласовано ли все это с самим Горбачевым? Иными словами, не является ли сам Горбачев участником заговора, предоставляя другим выполнить «черную работу», а самому воспользовив ее результатами? Потом такого рода подозрения не раз фигурировали в печати и даже в заявлениях некоторых видных деятелей, в том числе близких Горбачеву. И для себя, и в разговорах с другими я решительно отвергал такой вариант. Он не согласуется с логикой событий и, главное, с характером и убеждениями самого Горбачева. Его просто надо знать.
На следующий день, 20 августа, как обычно делал, вызвал машину и направился в Кремль. У Боровицких ворот стояло несколько тяжелых танков и мощная бульдозерная установка для развала баррикад. Кремль был набит военными машинами и бронетранспортерами. Опасение, что не пустят в Кремль и в президентское здание, не оправдалось: лишь на въезде усиленная охрана и более тщательная процедура узнавания. Взял ключ в комендатуре, открыл свой пустой кабинет (мои сотрудники в это время находились в отпуске). Связь, как и дома, в порядке, но на всякий случай, «в целях конспирации», звонил не по своему аппарату АТС-1, а из смежного кабинета. Как условились, сделал звонок Болдину, но он, как ответили, на совещании. Какое может быть совещание? С кем?
Связался с Примаковым, а затем и спустился к нему на второй этаж. Там собрались Бакатин, Вольский и Ярин. Все были единого мнения — налицо заговор группы лиц, ими предприняты антиконституционные действия, ввод в Москву танков и вооруженных сил носит провокационный характер, создает реальную угрозу кровопролития, а жизнь Президента в опасности. В этом духе подготовлено Заявление Примакова и Бакатина, как членов Совета Безопасности. По моему предложению в него добавлены два требования — о гарантиях личной неприкосновенности Горбачева и предоставлении ему возможности выступить в средствах массовой информации. Сошлись на том, что нужны усилия, чтобы прекратить военное вмешательство, освободить Президента, потребовать его личного присутствия на заседании Верховного Совета.
Между тем, в Москве вокруг Белого дома развертывается массовое движение против путча, строятся баррикады. Активно действует Ельцин: выпускает обращения и указы. Состоялся мощный митинг, собравший более 100 тысяч человек. Был митинг и у Моссовета, на котором выступили в числе других Яковлев и Шеварднадзе. А со стороны самозванных властей никаких официальных сообщений, кроме указа Янаева об отмене указов Ельцина. По единственной работающей программе телевидения демонстрируются балеты, мультики. Не догадались или не смогли организовать, казалось бы, самое элементарное и выгодное для себя — заявлений, откликов в поддержку путча. Создавалось такое впечатление (оно потом подтвердилось), что среди путчистов царит неуверенность и растерянность.
Во второй половине дня позвонил Болдин, и произошла встреча с ним. У него был, в прямом и переносном смысле, бледный вид. Чувствовал себя он со мной крайне неловко, старался как-то смягчить разговор, подчеркнуть вторичность своего участия в развернувшихся событиях, неактивность ввиду болезни, заботу о судьбе Михаила Сергеевича. Болдин поведал, что 18 августа был вызван из больницы в ГКЧП. Ему с учетом близости к Президенту было предложено выехать в Форос для разговора с Горбачевым. На вопрос, кто был еще с ним, назвал — Бакланова, Варенникова и Шенина.
Эта группа, по рассказу Болдина, должна была убедить Президента в необходимости принятия чрезвычайных мер, а если он не согласится с этим, предложить ему уйти от власти то ли на какой-то период, то ли вообще. А аргументация сводилась к тому, что страна идет к катастрофе, экономика в страшном кризисе, Союз на грани распада в результате сепаратистских действий России и Украины. Ельцин снова встает на деструктивный путь. Без чрезвычайных мер остановить эти процессы невозможно.
«Ну, и как же Горбачев реагировал на вашу миссию?», — спросил я. Ответ на этот вопрос оказался для Болдина, пожалуй, самым трудным. Он не мог сказать правду, ибо она была для него уничтожительной. Но не решился и полностью извратить ее — ведь она все равно стала бы известной: «Президент высказался за то, чтобы действовать в рамках закона» (в действительности, он потребовал немедленно созвать заседание Верховного Совета и там решать все вопросы), «предупредил против нарушения демократических норм», но «я видел, что был внутренне не согласен с нами». (На самом же деле Горбачев обозвал собеседников крепким словом и категорически отверг их предложения). Вопрос о болезни Президента Болдиным вообще не поднимался ввиду очевидной абсурдности этой версии.
«Валерий, как же ты мог пойти на такой шаг?»
«Я сделал это в интересах самого Горбачева, чтобы после какого-то времени он мог вернуться».
Выслушав не очень связные объяснения Болдина, я понял, что он является одним из участников заговора, и заявил ему следующее:
«То, что произошло, — это авантюра, которая непременно закончится провалом. Вопрос лишь во времени, которое может на это уйти и числе жертв, которых это может стоить.
Отстранение Президента от власти и введение чрезвычайного режима не способны решить ни одной проблемы, а лишь приблизят страну к краху. Насилием не добиться политической стабильности, с его помощью невозможно подавить оппозиционное движение, напротив, можно прийти лишь к гражданской войне.
Нормализация экономики тоже недостижима. Пиночетовский вариант с щедрой иностранной помощью не пройдет; напротив, внутренние беспорядки и неизбежное перекрытие каналов внешнеэкономической помощи быстро приведут экономику к катастрофе. Переворот не только не ослабит центробежные тенденции в Союзе, а, напротив, вызовет неминуемый развал Союза, ибо республики не захотят ходить под такой властью».
Болдин заметил: «Да, но руководители республик, в частности, Казахстана и Украины, высказались в поддержку ГКЧП. В таком же духе идет много писем». — «Первая реакция, — продолжал я — не всегда основывается на глубоком понимании происходящего. А с помощью писем, — ты же хорошо знаешь, — можно доказать все, что угодно. Главное же — глубинные процессы и настроения, а тут сомнений быть не может.
Что касается возможного возвращения Горбачева, то на танках и штыках он никогда не вернется, и ты прекрасно это знаешь. А если возвратится, убрав войска, то все зачинщики этой авантюры пойдут под суд. Ты, как лицо, приближенное к Президенту, несешь особую ответственность за его безопасность и за возможное кровопролитие.
Что касается меня, то, конечно, в этой авантюре я не участвую, оставляя за собой право на свои оценки происходящего».
В тот же день я информировал Примакова и Бакатина о состоявшемся разговоре. Вечером, около своего кабинета столкнулся в коридоре лицом к лицу с Баклановым. Тот начал говорить о «противодействии развалу Союза», «авантюризме Ельцина и Кравчука», что «за Ельциным одна пьянь». Таков политический кругозор и уровень мышления.
— Что же вы делаете: обвиняете Ельцина и Кравчука, а бьете по Горбачеву? Что касается того, кто за кем идет, то попробуйте собрать хотя бы один стотысячный митинг.
Утром 21 стало известно, что ночью ситуация была на грани драматической развязки. Какое-то движение произошло в районе проспекта Калинина, погибли люди. Но из-за разногласий в руководящей верхушке ГКЧП события не были доведены до крайности — вооруженного столкновения.
Состоялась встреча с Голиком, работавшим в то время руководителем правового комитета при Президенте. Он попросил накануне об этой встрече. Собеседник больше слушал меня, чем говорил. Я ему, естественно, выложил свое мнение о происходящем, а на вопрос: что же он думает обо всем этом, последовали пространные и не очень внятные рассуждения.
Примерно в это же время раздался звонок по АТС-2 из «Комсомольской правды». Представился — Андрей Подкопалов. Сказал, что выпуск газеты приостановлен, но они надеются, что в ближайшее время она начнет выходить. Привожу заданные мне два вопроса и ответы на них:
— Чем объяснить ситуацию?
— Антиконституционными действиями группы лиц.
— Что надо сделать?
— Вывести войска, освободить Президента и дать ему возможность выступить перед народом.
Часов в 11 зашел к Примакову, там был Бакатин.
Появились явные признаки провала переворота. Стало известно, что коллегия Министерства обороны приняла решение о выводе войск из столицы. Бакатин информировал о том, что ночью Крючков предложил Ельцину совместно лететь в Крым к Горбачеву. Ельцин ответил, что без согласия Верховного Совета этого делать не будет. Вряд ли тут какие-то воинственные планы у Крючкова. Скорее всего это его маневр, чтобы спасти себя или облегчить свою участь. Пришли к выводу, что, если будут предложения со стороны российского руководства, полететь в Крым и Примакову с Бакатиным.
Примерно в это время позвонил Янаев и просил Примакова зайти на пять минут. Вернувшись, Примаков сказал, что Янаев, якобы, ночью отговаривал членов ГКЧП от штурма Белого дома и утром дал указания выводить войска. Сейчас к этому решению примазываются все. Лукьянов, по словам Примакова, тоже, якобы, давал такие указания. Янаеву был дан совет немедленно выступить с покаянием, осуждением путча и заявлением о роспуске ГКЧП.
Позвонил Вольский и сказал, что организует у себя в Научно-промышленном союзе пресс-конференцию. Пригласил принять участие в ней Бакатина и Примакова. Я предложил и свое участие, но настаивать на этом не стал.
Вернувшись к себе, набрал телефон Болдина и сказал ему одну фразу: кончайте эту авантюру и, как можно, быстрее. Ответ был довольно глухой, вроде он с кем-то говорил на эту тему.
Во второй половине дня стало известно, что у Президента восстановлена телефонная связь. Это было его первое требование после того, как он узнал, что к нему направляются Крючков, Язов, Бакланов, Лукьянов и Ивашко. Они вылетели в Крым около 14.00. А где-то вскоре после 16.00 туда направился и российский самолет с Силаевым, Руцким, Примаковым и Бакатиным.
Сделал попытку прорваться по телефону к Горбачеву через спецкоммутатор. Прошло полчаса. Позвонил второй раз, вышел на какого-то начальника, тот сказал, что Горбачев сделал ряд заказов, и потому переговорить с ним нельзя. Я потребовал соединить сразу, как кончится очередной разговор. Возымело. Где-то между 16 и 17 соединили, и я услышал голос Горбачева. Коротко информировал его о коренной перемене в обстановке. Настоятельно советовал вернуться в Москву, как можно, быстрее, ибо ситуация стремительно меняется и могут начаться необратимые процессы. Сказал ему о своих звонках Чернавину по поводу слухов о продолжающейся морской блокаде Фороса, Моисееву, Громову, некоторым секретарям ЦК, кратко информировал о вчерашнем разговоре с Болдиным.
Президент сказал, что он сделал уже ряд звонков в Москву, в некоторые республики и сейчас будет разговаривать с Ельциным, а здесь в Заре ждут приема гекачеписты. Посоветовал ему ни в коем случае их не принимать и не слушать. Горбачев сказал, что встретится с Ивашко и Лукьяновым, а остальных принимать не будет.
В течение вечера и в начале ночи советовались со мною по разным вопросам, информируя о ходе событий, Ярин, Карасев, Голик, находившиеся в Кремле и поддерживавшие связь с его комендантом, а Голик, как он сам выразился, «взял под контроль правоохранительные органы».
Янаев оставался в это время у себя в кабинете этажом, ниже, но за ним присматривали. Как мне сообщили, до 23 часов находился у себя в кабинете и Болдин, а затем уехал из Кремля. Было решено не препятствовать ему в этом. Комендант Кремля получил от Президента указание в Кремль его больше не пускать.
В этот день было чрезвычайно интересно наблюдать поведение многих лиц. Все полезли на телевидение, радио и в печать с интервью. Министр иностранных дел, например, привел с собой на пресс-конференцию даже врача, чтобы подтвердить, что он во время путча был болен. Смотреть на это было как-то неловко. Щербаков зачем-то пустился оправдывать Павлова, всячески его выгораживал, хотя сам вроде бы вел себя вполне прилично.
Поздно вечером стало известно, что Президент вылетел в Москву. Мы решили с Ожерельевым поехать в аэропорт. Встречали Президента Станкевич и Шахрай. Президент прилетел около 2 часов ночи на российском самолете вместе с Руцким, Силаевым, Примаковым, Бакатиным. Он был в легкой спортивной одежде, утомленный, но возбужденный.
В том же самолете летел и Крючков, который, как мне сказали, в начале полета был обыскан, а по прибытии арестован. Всех остальных визитеров доставил следующий самолет — президентский. Позднее в аэропорту был арестован и Язов.
Утром стало известно об арестах других участников заговора российскими властями. Стародубцев вроде бы куда-то уехал. Но куда он денется? Оказывается, и ему, и Тизякову уже были выделены кабинеты в Кремле.
Застрелился Пуго, смертельно ранена его жена. Несколькими днями позже покончили с собой Ахромеев и Кручина. Их трагедия мне понятна: хорошо знал Бориса Карловича, как по-своему цельного, преданного определенной идее человека, чуждого политиканства и карьеризма. Нет у меня сомнений в честности и в отношении Сергея Федоровича и Николая Ефимовича. По этому поводу было немало всякого рода домыслов, не обошлось и без злорадства.
В полдень Президент, прибыв в Кремль, пригласил в Ореховую комнату Яковлева, Бакатина, Примакова, меня, Моисеева, Алексеева, Трубина, Бессмертных, Смоленцева, Шахназарова, Абалкина, Кудрявцева. Потом подошли Черняев и Ожерельев. Я позвонил Президенту в машину и согласовал также приглашение Вольского и Голика. Сам состав приглашенных говорит о том, что полной информации о событиях в Москве и роли тех или иных лиц у Президента не было. Правда, одна ошибка была исправлена оперативно. Горбачев пригласил к себе в кабинет Бессмертных, переговорил с ним, в результате тот удалился и в работе не участвовал.
Позднее стало известно об участии в незаконных действиях генерала Моисеева, о двусмысленном поведении Трубина, Голика. Последний сам мне потом рассказывал (я так и не понял, зачем) о том, что 19 августа он получил в МВД оружие. В дни путча нанес визиты Крючкову, Пуго, лишь Лукьянов его, якобы, не принял. Содержание бесед осталось неясным.
В Ореховой комнате составлены и тут же подписаны указы Президента об отмене антиконституционных актов ГКЧП, об освобождении от обязанностей Павлова, Язова, Крючкова, начальника службы охраны КГБ СССР Плеханова с лишением его воинского звания генерал-лейтенанта.
А вот в назначениях исполняющими обязанности министров обороны и внутренних дел, председателя КГБ проявились недостаточная информированность Президента и всех нас, определенная неадекватность в понимании обстановки. Уже на следующий день пришлось вносить в них коррективы.
Горбачев часто покидал Ореховую комнату, чтобы переговорить со звонившими по телефону многими зарубежными лидерами. Это отняло очень много драгоценного времени, помешало обрести деловой настрой, реалистически оценить складывающуюся ситуацию. Она изменилась коренным образом и продолжала меняться головокружительным темпом.
Последствия путча, в котором участвовали руководители всех основных союзных органов власти и управления, поставил под вопрос само существование союзных структур. В самом начале развития событий Ельцин предпринял ряд шагов, направленных на овладение союзными структурами посредством подчинения их российским. Во все союзные органы, в министерства и ведомства были направлены представители российского правительства с неограниченными функциями. Деятельность союзных органов оказалась практически парализованной. Для противодействия путчистам эти шаги были вынужденными и оправданными, но с поражением путча этот процесс не спешили приостанавливать. Маховик продолжал раскручиваться. Поражение путча начало перерастать в контрпереворот — полный переход власти в Союзе в руки российского руководства неконституционным путем.
Сгустилась обстановка вокруг здания ЦК КПСС. Собралась возбужденная, агрессивная толпа, возникла угроза стихийного захвата и разгрома здания ЦК. Об этом мне сообщили Купцов и Дегтярев. Президент и по его поручению Примаков разговаривали по этому вопросу с Поповым. Бушующая толпа была отведена от здания ЦК, и эпицентр уличных событий переместился на Лубянку, где были предприняты попытки разрушить памятник Дзержинскому. Вмешался Станкевич, заявив, что памятник будет демонтирован с применением техники и правил безопасности. По наблюдениям и оценкам очевидцев, это были уже не те люди, которые смело и самоотверженно встали на защиту Белого дома. Там царили подтянутость и дисциплина, а тут — бушующая толпа хулиганов, в которой было немало пьяных. Конечно же, не обошлось без организаторов и подстрекателей.
Вечером в прямом эфире состоялась пресс-конференция Президента. Провел он ее в своем стиле — максимальной открытости и эмоциональности. Но и здесь, особенно в ответах на вопросы, проскальзывала неадекватность восприятия последних событий, необратимых перемен в стране, как будто после разгрома путча мы просто вернулись к до-августовскому положению.
Считаю, что этот решающий день был по существу потерян с точки зрения реалистических и эффективных мер по приостановке деструктивных процессов начавшегося контрпереворота и разрушения союзных структур. Было бы несправедливо взваливать все это на Президента, упрекать его одного. Не в меньшей, а в большей степени ответственны за это те, кто окружал его в этот момент. К ним я отношу и себя.
23 августа Горбачев собрал совещание руководителей девяти республик, на котором обсуждены первоочередные шаги, согласованы и приняты кадровые назначения: Шапошникова — министром обороны, Бакатина — председателем КГБ, Баранникова — министром внутренних дел СССР. Предрешен был вопрос и о роспуске Кабинета Министров СССР, отстранен от своих обязанностей в МИД СССР Бессмертных, как он сам выразился в разговоре с Бейкером, — «за пассивность во время путча». Участники совещания единодушно признали необходимость скорейшего подписания Союзного договора, как важного фактора нормализации обстановки, экономического положения в стране, достижения межнационального согласия.
Накануне Президент не нашел возможности поехать на заседание Верховного Совета Российской Федерации для того, чтобы высказать ему и Президенту России свою признательность за твердую позицию во время путча. Теперь же это была встреча не с Верховным Советом, работа которого закончилась, а с группой депутатов, журналистов, и она приобрела совсем другой характер. Президент оказался в унизительной роли. Он вынужден был отвечать на многочисленные, порой дерзкие вопросы и реплики в свой адрес, в митинговой, крайне неблагоприятной для него обстановке.
Во время этой злополучной встречи была разыграна еще одна драматическая страница августовской эпопеи: работникам ЦК КПСС под угрозой задержания предписано немедленно покинуть служебное здание. По-видимому, не случайно, что именно тогда Ельцин на встрече Горбачева с депутатами демонстративно подписал Указ о приостановлении деятельности Компартии РСФСР и организаций КПСС на территории Российской Федерации.
В первой половине дня 24 августа похороны Дмитрия Комаря, Ильи Кричевского, Владимира Усова, погибших во время путча. Море людей. В разговоре с Примаковым родилась идея о присвоении им звания Героев Советского Союза посмертно, об этом объявил Горбачев на Манежной площади. Впервые на траурной церемонии я оказался в непривычном для себя окружении руководителей России и Москвы, хотя с каждым из них в отдельности мы были хорошо знакомы.
В тот же день сформирован Комитет по оперативному управлению народным хозяйством. В кабинете Президента были Яковлев, Примаков, Бакатин, Ревенко, Черняев, Шахназаров, потом присоединились Силаев и Вольский, Попов и Лужков. Был и я. Силаев, после того как они с Президентом удалились на пять минут для конфиденциального разговора, согласился быть председателем Комитета, оставаясь главой российского правительства. Дали согласие быть заместителями председателя Вольский и Лужков, а немного позднее — и Явлинский.
Следующий трудный шаг — заседание Верховного Совета СССР, созванное 26 августа. Зал заседаний палат Верховного Совета был переполнен — негде яблоку упасть. Сразу же после лаконичного и самокритичного выступления Президента приняли решение о срочном созыве внеочередного Съезда народных депутатов.
Обсуждение ситуации в стране, как и ожидалось, было тяжелым и острым. Пожалуй, наибольшим накалом отличались выступления из республик. Они проходили под доминантой независимости, критики центра, ликвидации союзных структур и т. д. Даже такие разумные люди, как Акаев, поддались общему настроению.
Со стороны республик поднимается волна недовольства действиями российского руководства, критикуют и Президента СССР, что он действует, якобы, под диктовку россиян. 28 августа, например, стало известно об установлении российского контроля над Госбанком и Вшенэкономбанком, отстранении их руководителей — Геращенко и Московского. В эти банки направлены уполномоченные с целью контроля. Но ведь это банкиры, а не члены правительства, уходящие в отставку. Любое изменение статуса банков вызывает немедленную неблагоприятную реакцию в финансовом мире. А в какое положение ставятся республики Союза? Переговорил по этому вопросу с Силаевым и Вольским, потом доложил Президенту. Все они знали об этой ситуации и были крайне озабочены ею. В тот же день статус-кво в банках было восстановлено.
Одним из центральных на сессии оказался вопрос о Лукьянове. Вначале приняли решение об отстранении его от ведения сессии и руководства аппаратом, а затем в конце сессии он был лишен депутатской неприкосновенности.
Заседание Верховного Совета, продолжавшееся несколько дней, в какой-то мере «выпустило пар», позволило решить некоторые наиболее неотложные вопросы, но главные решения должен был принять предстоящий Съезд народных депутатов.
В эти дни Горбачев предпринимал немалые усилия для того, чтобы возобновить работу Совета Безопасности. Из старого состава, кроме самого Горбачева, в нем оставались только Примаков и Бакатин. Однако восстановить Совет Безопасности в прежнем виде — в составе руководителей основных политических ведомств и авторитетных общественных деятелей — оказалось делом невозможным. Не дали своего согласия стать членами Совета Шеварднадзе, Попов и Собчак. Но главное, без вхождения в него руководителей республик он оказался бы сейчас неэффективным. При создании же Совета из руководителей республик «зависли» бы Бакатин и Примаков.
Непростая ситуация сложилась вокруг МИДа. Я лично считал, что если не получится с Шеварднадзе, то наилучшей кандидатурой является Примаков. Он, думается, и сам был не против сосредоточиться на дипломатическом поприще. Но тут, по-видимому, возникли немалые сложности. Откуда они исходили? То ли от недостаточной поддержки и доверия со стороны российского руководства. То ли от преимущественно восточной, а не американской направленности профессиональных интересов Примакова. То ли от характера его отношений с бывшим мидовским руководством.
28 августа, вечером, в приемной Президента я встретил Панкина, которого хорошо знал еще со времени его работы в «Комсомольской правде», и приветствовал его, как будущего руководителя внешнеполитического ведомства. Такое решение было оправданным с точки зрения позиции Панкина во время путча, да и его интеллектуальных, человеческих качеств. Но Панкин с самого начала попал в трудную ситуацию во взаимоотношениях с российским руководством, будучи вынужденным отстаивать само существование союзного МИДа. Для такой роли его «весовая категория» оказалась явно недостаточной. Когда же через некоторое время было создано единое Министерство внешних сношений, его вновь возглавил Шеварднадзе. Правда, и это не предотвратило ликвидацию союзного ведомства, а Шеварднадзе остался «за бортом».
Что же касается Примакова, то он находился и в неопределенном положении, и в сложном психологическом состоянии, которое через некоторое время разрядилось — неожиданно для многих он возглавил разведывательную службу страны, а затем — Российской Федерации.
События, связанные с путчем, привели к возвращению Яковлева к Президенту и восстановлению сотрудничества между ними. Яковлев принимал самое непосредственное участие в важнейших решениях в те дни, во всех самых конфиденциальных встречах и обсуждениях. В официальных сообщениях Яковлев вновь назвался старшим советником Президента. Из этого следовало, что его решение, принятое в июле или августе об уходе из президентских структур, дезавуировано.
В суматошной обстановке последних дней неоднократно с ним сталкивался, но до поры, до времени не было серьезной встречи и серьезного разговора. 30 августа я позвонил Александру Николаевичу. Его не оказалось, но в конце дня он ответил на звонок, и сразу же состоялась наша встреча, на которой были обсуждены все основные события и перепитии последнего времени.
Поделился своими опасениями о том, что провал путча выливается в контрпереворот, сопровождающийся пренебрежением законами, распадом страны, подменой союзных структур российскими и т. д. Яковлев сказал, что он не хочет представать перед съездом, как кандидат в вице-президенты, но будет помогать Президенту в его усилиях нормализовать обстановку в стране, намерен продолжать работать в Моссовете, куда он был приглашен Поповым в качестве председателя общественного совета.
В конечном счете, идея восстановления Совета Безопасности трансформировалась в создание Государственного Совета в составе Президента СССР и высших руководителей республик. В то же время при Президенте был создан политический консультативный совет, в который вошли Шеварднадзе, Яковлев, Собчак, Попов, другие политические и общественные деятели, ученые.
В воскресенье, 1 сентября, накануне открытия Съезда народных депутатов, состоялось совещание Президента с руководителями республик. По существу, это было первое заседание Государственного Совета, хотя он еще не был конституирован. Оно имело принципиальное, можно сказать, переломное значение. Была выработана концепция структур власти на переходный период до принятия новой Конституции.
В отношении союзных структур она носила тяжелый, можно сказать, шоковый характер. Но иного выхода не было. Предлагалось создать Совет представителей народных депутатов по принципу равного представительства от республик вместо Съезда народных депутатов и Верховного Совета, Государственный Совет в составе Президента СССР и высших должностных лиц союзных республик, а для координации управления народным хозяйством и согласованного проведения экономических реформ — Межреспубликанский экономический комитет с представителями всех республик на паритетных началах. Имелось в виду заключить соглашение о сохранении единых Вооруженных Сил и единого военно-стратегического пространства, проведении радикальных реформ в Вооруженных Силах, КГБ, МВД и Прокуратуре с учетом интересов суверенных республик.
Вместе с тем говорилось о необходимости подготовить и подписать всеми желающими республиками Договор о Союзе Суверенных Государств, заключить экономический союз с целью взаимодействия в рамках единого свободного экономического пространства.
Предлагалось принять декларацию, гарантирующую права и свободы граждан вне зависимости от их национальности, мест проживания, партийной принадлежности и политических взглядов. Ставился вопрос о признании суверенных республик субъектами в ООН.
С заявлением на Съезде народных депутатов поручено выступить Назарбаеву.
2 сентября, когда я направился к Кремлевскому Дворцу съездов, мне был задан вопрос (этот сюжет вечером передали и по телевидению):.
— Какая задача стоит перед предстоящим Съездом?
— Начать работу.
— А потом?
— Продолжить работу.
В общем, это подтвердилось. И начать, и в особенности, продолжить работу съезда оказалось делом довольно трудным.
Первое заседание продолжалось минут десять. После оглашения Назарбаевым заявления Президента СССР и высших руководителей союзных республик председательствующий Лаптев немедленно объявил перерыв. Никто даже не смог опомниться, из зала долго не расходились, пожимали плечами в недоумении, раздавались протесты. Но потом постепенно депутаты стали осмысливать происходящее и приходить в себя.
Я тоже некоторое время оставался в зале, разговаривая с Граниным, который, как и все, пребывал в потрясенном состоянии. Сказал ему, что упреждающий удар был необходим, чтобы вывести Съезд из обычного состояния, не дать ему войти в привычную колею.
А по существу, такие решения необходимы, как последний шанс для спасения страны. Конечно, внешне они выглядят не очень демократично, но такова уж ситуация.
Через несколько часов заседание возобновилось, но шло не в традиционном для съезда, а более деловом духе. Последовали краткие заявления от республик, в том числе Грузии и Молдовы, выступления депутатов, в которых в основном одобрены предложенные меры. Правда, почти единодушное возражение вызвало предложение о роспуске Верховного Совета. Тут, наверное, авторы заявления перегнули палку. Верховный Совет лучше реорганизовать, но сохранить. Так и было сделано, но без восстановления должности Председателя Верховного Совета — категорически возразило российское руководство: достаточно председателей палат.
Постановление Съезда «О мерах, вытекающих из совместного заявления Президента СССР и высших руководителей союзных республик» было принято быстро, а на Законе «Об органах государственной власти и управления Союза ССР» споткнулись: оказалось трудным набрать две трети голосов.
Тогда Президент поставил вопрос так: или внести изменения в Конституцию, чтобы иметь возможность принять закон простым большинством, или прекратить работу Съезда ввиду того, что он не в состоянии принять конструктивное решение. Возникли замешательство и смятение. Провели дополнительную регистрацию. Последовало еще одно голосование и был получен положительный результат с довольно большим запасом. На этом Съезд закончил свою работу.
Первая фаза послепутчевого периода была пройдена. Ценой огромных усилий удалось в какой-то мере задержать, замедлить деструктивные процессы, выстроить некие хрупкие контуры и рамки общественно-политических структур и тем самым предотвратить немедленный распад страны.
Последствия путча были крайне тяжелыми. Говорить о их преодолении в результате принятых мер не приходится. Развязанные путчем разрушительные процессы огромной силы не только не сбавляли, а наоборот, набирали инерцию. Считаю, что драматическая судьба Союза, а вместе с тем и президентской власти, была по существу предрешена еще в августе. В этом главный результат путча и главная ответственность его организаторов.
Какая-то надежда еще существовала, какие-то шансы на предотвращение развала страны еще сохранялись. Они были связаны с действием объединительных, центростремительных сил, осознанием того, что несет распад Союза, что его ведь не остановишь у границ республик, особенно многонациональных.
Всю деятельность Президента в этот период надо было сосредоточить на сохранении отношений экономического и политического союза между республиками, используя для этого малейшие шансы.
Но прежде, чем говорить об этом, считаю своим долгом остановиться на драматических обстоятельствах развала партии.
Кто кого предал
Одним из самых главных последствий августовского путча явились распад партии и фактическое исчезновение ее с политической арены. Оно оказало огромное, далеко идущее влияние на весь последующий процесс развития событий, явилось личной трагедией для многих миллионов членов партии и близких им людей. Что бы ни говорили, партия рекрутировалась за счет самой активной части общества, аккумулировала в себе огромный интеллектуальный, организационный, кадровый потенциал. Не случайно, что и в новых оппозиционных течениях, общественных движениях и партиях тон задавали и задают в прошлом активные члены КПСС, занимавшие сплошь и рядом не последнее место в партийных, государственных и общественных структурах.
Конечно же, партия пала не только под ударами внешних по отношению к ней сил. В ней самой происходили сложнейшие внутренние процессы, порожденные демократизацией, разделением партийных и государственных функций, постепенным превращением партии из ядра административно-государственной системы в подлинно общественную организацию. Плюрализм мнений и убеждений в КПСС достиг к весне и лету 1991 года такой точки, когда соединение в одной партии реформаторов, выступающих за кардинальное обновление общества, и консерваторов-фундаменталистов стало приносить уже больше вреда, чем пользы.
Определились и перспективы размежевания: оно должно было произойти в связи с обсуждением и принятием новой Программы КПСС, проект которой, реформаторский в своей основе, был выработан и предложен для обсуждения. 8 августа его опубликовали в печати. К числу положительных шагов следует отнести изменения в руководстве Компартии РСФСР. 6 августа на Пленуме Центрального Комитета РСФСР Полозков подал в отставку «в связи с переходом на другую работу», и его отставка была принята. Конечно, дело не «в переходе на другую работу», а в том, что надо исправить допущенную ранее ошибку.
На пост первого секретаря ЦК Компартии РСФСР по рекомендации Политбюро был избран Купцов. Человек, хотя и не броский, но достаточно глубокий, тонко чувствующий политическую ситуацию, восприимчивый к новым идеям, пользующийся доверием Генерального секретаря ЦК КПСС. Я хорошо знал Валентина Александровича по его участию в работе в Идеологической комиссии ЦК КПСС, по совместной тяжелейшей поездке в Литву в январе 1990 года.
Благодаря усилиям Горбачева и его сторонников, партийной интеллигенции и печати, в частности, журнала «Коммунист», шаг за шагом постепенно создавались предпосылки для усиления реформаторских позиций, объединения вокруг них основного массива партии, чтобы размежевание имело бы своим результатом образование крупной политической силы, выступающей за обновление общества.
Но обстановка была далека от идиллической.
Реформаторские силы, полагаясь на идейное влияние, должно быть, действовали недостаточно активно, консерваторы же предпочитали старые, «испытанные» методы — окрик, нажим, не останавливаясь перед репрессиями против инакомыслящих. Только так можно истолковать решение бюро Президиума ЦКК, принятое без ведома Генерального секретаря ЦК КПСС, «за действия, противоречащие Уставу КПСС и направленные на раскол партии, считать невозможным дальнейшее пребывание Яковлева в рядах КПСС». Предложение по этому вопросу было направлено в первичную партийную организацию.
О каких действиях идет речь, умалчивалось. Если это идеологические расхождения, то зачем во время обсуждения этих вопросов, связанных с Программой КПСС, прибегать к дисциплинарным мерам, независимо от того, прав или не прав Яковлев в тех или иных вопросах. Последовало заявление Яковлева в партийную организацию о выходе из рядов КПСС. Можно понять мотивы этого, я думаю, непростого для него шага, хотя вывод о том, что «служить делу демократических преобразований в рамках КПСС уже невозможно и аморально», сделанный Яковлевым, с моей точки зрения, не был оправдан.
Попытки расправиться с неугодными в партии со стороны консервативных сил свидетельствовали о том, что почва стала уходить из-под их ног, что в результате широкого политического процесса они могут остаться у разбитого корыта. Это, к слову, та же причина, которая толкнула некоторых партийных лидеров к участию в антиконституционном заговоре и определила линию их поведения в дни самого путча.
Для проведения путча было выбрано такое время, когда Генеральный секретарь в отпуске, заместитель Генерального секретаря в больнице, в Москве отсутствовало большинство членов Политбюро и Секретариата ЦК, и особенно те, кто мог бы оказать какое-то противодействие заговору. В результате от имени партии получили возможность действовать люди, не пользующиеся ее доверием и авторитетом. Этим не хочу смягчить ответственность Политбюро, Секретариата, Центрального Комитета КПСС за их роль в августовские дни. Тем более не хочу высказываться о личной роли кого-либо из партийного руководства. История, в конечном счете, все расставит по своим местам.
Главный факт состоит в том, что партия, сохранявшая еще огромное влияние в обществе и в различных звеньях государства в центре и на местах, не сумела, не нашла в себе силы преградить дорогу путчистам. Более того, в центральном, республиканском, областном звеньях партийные органы во многих случаях выступали фактически в поддержку антиконституционных решений, если не предпринимали каких-то действий на стороне путчистов, то больше сочувствовали им, чем осуждали. И уж совершенно непостижимо, что партия и ее руководящие органы, узнав об отстранении ее лидера от обязанностей Президента, его фактическом аресте, не выступили с осуждением этих действий, с требованием освободить Горбачева и дать ему возможность предстать с оценкой происходящего перед народом.
В те дни, да и после них, вплоть до последнего времени, особенно в общении с бывшими партийными работниками и активистами, оказавшимися не у дел, мне не раз приходилось выслушивать антигорбачевские филиппики, что, дескать, он в трудный момент отвернулся от партии, бросил ее, предал и т. д. Не хочу защищать каждый шаг Горбачева и каждое сказанное им слово, но кто же кого предал, если ни ЦК КПСС с его Секретариатом, ни ЦК компартий республик, насколько известно, не сделали ни одного публичного заявления, не приняли ни одной резолюции в защиту Горбачева, с требованием его освобождения? Зато шли телеграммы и звонки с рекомендацией поддержать действия ГКЧП. Принимались заявления и резолюции в их поддержку со стороны местных партийных органов.
Для противников путча почему-то сомнений не возникло, для них все было ясно — Президент не болен, а насильственно отстранен от власти и изолирован, и, выйдя на улицы, они потребовали его освобождения, а партийные организации, в лучшем случае, пребывали в сомнении, храня мертвое молчание.
О себе хочу сказать следующее: вернувшись в Москву и сориентировавшись в обстановке, я понял, в какую ситуацию поставлены своим руководством партийные массы, какая опасность нависла над партией. В Москве разворачиваются такие грозные события, а руководство партии молчит. Отгоняя от себя мысль о его причастности к заговору, я счел необходимым, хотя и не занимал какого-либо официального положения в партии, переговорить с секретарями ЦК, которым больше доверял и которых сумел найти на месте (Гиренко, Купцовым, Строевым, Дзасоховым), настоятельно советуя руководству ЦК или хотя бы какой-то его части незамедлительно выступить с заявлением, осуждающим антиконституционный захват власти группой лиц, отмежевывающимся от тех партийных деятелей, которые активно участвовали в путче.
Пытался связаться с Ивашко, но нашел его только в середине дня 20 августа, когда он находился на пути во Внуково в машине. Владимир Антонович сослался на постановление Секретариата с просьбой к «исполняющему обязанности Президента СССР» Янаеву о встрече с Горбачевым, чтобы выработать оценку происходящих событий и сориентировать партию. Сказал ему, что такое постановление совершенно недостаточно: нечего тут выяснять, надо действовать, и прежде всего немедленно принять политическое заявление. Счет идет не на часы, а буквально на минуты. Ивашко заявил, что выполняет поручение Секретариата и направляется в Крым. Посоветовал мне связаться с Дзасоховым, с которым я переговорил еще раз, но тот сообщил лишь о том, что на 16 часов назначил пресс-конференцию, где он выскажется от себя. Время было потеряно.
Правда, 22 августа появилось запоздалое Заявление Секретариата ЦК КПСС, но было уже слишком поздно. К тому же оно оказалось очень слабым, размытым, не содержало осуждения путча и его организаторов. Наивной выглядела попытка оправдать позицию партии тем, что руководящие органы КПСС якобы поставлены перед тяжелыми фактами и необходимостью давать оценку уже свершившимся политическим событиям. Спрашивается, что мешало дать такую оценку событиям, когда они только начинали разворачиваться?
Секретариат ЦК выступил «за срочное проведение Пленума ЦК с непременным участием Генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева». А почему Пленум ЦК не был собран 19 или 20 августа с «непременным участием» Горбачева? В Заявлении ничего не сказано об осуждении действий ГКЧП в отношении Генерального секретаря, не дана оценка прямому участию некоторых руководителей партии в заговоре против Президента. Вместе с тем, в прежнем поучительном тоне, как будто бы ничего не произошло, Секретариат ЦК в своем Заявлении призвал «проявлять выдержку и спокойствие», «не допускать сбоев в трудовом ритме», «особое внимание уделять завершению уборки урожая, подготовке к зиме».
Лишь еще через день Секретариат ЦК высказался об участии ряда членов ЦК «в действиях, связанных с попыткой государственного переворота», и обратился в Центральную Контрольную Комиссию КПСС с предложением незамедлительно рассмотреть вопрос об их ответственности.
Такие запоздалые шаги, предпринимавшиеся, как бы нехотя, под давлением событий, ничего уже не могли изменить. Может быть, они даже имели обратное действие и использовались для подогревания настроений против партии, подталкивания к ее разгрому. Становилось все более ясным, что у одних партийных руководителей были связаны руки для каких-то активных действий по спасению партии, у других — не хватило мужества, чтобы пойти на активные действия против заговорщиков, третьи — помогали ГКЧП.
Во второй половине дня 24 августа Горбачев опубликовал Заявление о сложении с себя функций Генерального секретаря ЦК КПСС. Мне пришлось участвовать в его составлении. Скажу, что взвешивался каждый нюанс, каждое слово с учетом принципиального значения этого шага. Считаю полезным воспроизвести его текст полностью, ибо в дальнейшем он оброс всякого рода комментариями, домыслами, которые существенно исказили истинный смысл документа. Вот он:
«Секретариат, Политбюро ЦК КПСС не выступили против государственного переворота, Центральный Комитет не сумел занять решительную позицию осуждения и противодействия, не поднял коммунистов на борьбу против попрания конституционной законности. Среди заговорщиков оказались члены партийного руководства, ряд партийных комитетов, средств массовой информации поддержали действия государственных преступников. Это поставило миллионы коммунистов в ложное положение. Многие члены партии отказались сотрудничать с заговорщиками, осудили переворот и включились в борьбу против него. Никто не имеет морального права огульно обвинять всех коммунистов. И я, как Президент, считаю себя обязанным защищать их, как граждан, от необоснованных обвинений. В этой обстановке ЦК КПСС должен принять трудное, но честное решение о самороспуске. Судьбу республиканских компартий и местных партийных организаций определят они сами.
Не считаю для себя возможным дальнейшее выполнение функций Генерального секретаря ЦК КПСС и слагаю соответствующие полномочия. Верю, что демократически настроенные коммунисты, сохранившие верность конституционной законности, курсу на обновление общества, выступят за создание на новой основе партии, способной вместе со всеми прогрессивными силами активно включиться в продолжение коренных демократических преобразований в интересах людей труда».
Как видно из текста Заявления, Горбачев, сложив с себя функции Генерального секретаря ЦК КПСС, не принимал решения о роспуске партии и даже выходе из нее, не предопределял ее судьбу так же, как и судьбу республиканских партий и местных партийных организаций. Чтобы предотвратить произвольные действия, разгром зданий и самовольный захват партийного имущества, Президент издал Указ, которым Советам народных депутатов поручается взять под охрану имущество КПСС. Вопросы дальнейшего их использования, говорилось в Указе, должны решаться в строгом соответствии с законами СССР и республик.
Во время работы над этим документом, а также Указом о роспуске Кабинета Министров и образовании оперативного Комитета по руководству народным хозяйством я сообщил Горбачеву, что с ним ищет встречи группа членов ЦК, в том числе Биккенин, Дегтярев, Лацис. Такая встреча состоялась в Ореховой комнате. Товарищи были ознакомлены с проектом Заявления Генерального секретаря ЦК КПСС, высказали по нему свои соображения, которые были учтены при окончательном редактировании текста. Они сделали и свое заявление, которое передано по телевидению и опубликовано в печати.
В дальнейшем к Горбачеву не раз, в том числе через меня, пытались обращаться некоторые члены ЦК, ставя вопрос о созыве Пленума. Я считал, что это дело самих членов ЦК, а Горбачева, сложившего обязанности Генсека, не следует втягивать в этот процесс. Рекомендация Горбачева, адресованная ЦК КПСС, так и осталась нереализованной.
На местах же, и в первую очередь в республиках, последовала незамедлительная реакция. Президент Казахстана Назарбаев заявил, что выходит из Политбюро и ставит вопрос о выходе из КПСС всей республиканской компартии. Примерно такое же заявление сделал Малофеев — первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии. О выходе из состава ЦК КПСС и Политбюро ЦК КП Украины объявил Кравчук. В дальнейшем судьба республиканских компартий сложилась по-разному. В одних случаях их деятельность была запрещена, как в РСФСР и на Украине, а затем восстановлена; в других — они были преобразованы в новые партии с сохранением преемственности с компартиями и даже прежних лидеров.
Определенными силами в стране нагнеталась антикоммунистическая истерия. Приостановлен выпуск «Правды», а уже это — нарушение и общедемократических норм. Закрыта и опечатана вооруженными «демороссами» Академия общественных наук; причем опять не обошлось без унизительной и оскорбительной процедуры досмотра ее работников. Несмотря на решение Президента о создании на базе Института общественных наук Фонда исследований, его здание на какой-то период было опечатано. Произведены обыски с нарушением депутатской неприкосновенности у Фалина, Дзасохова и некоторых других секретарей ЦК. В печати началась массированная кампания о сокрытии, якобы, незаконных средств партии.
Эти неприглядные действия не встретили поддержки общественности. Большую роль сыграли принципиальные выступления в ряде газет против запрета «Правды» так же, как и других органов печати, осуждение антикоммунизма многими авторитетными деятелями. Благодаря всему этому удалось не допустить, чтобы страну захлестнула антикоммунистическая истерия. Она ведь не пощадила бы никого, в том числе и партийных деятелей прошлого из числа нынешних реформаторов. В начале сентября возобновился выход «Правды». К сожалению, после этого она еще более сдвинулась вправо.
Тем не менее Президент РСФСР, ссылаясь на итоги двухдневных открытых слушаний в Верховном Совете РСФСР, счел необходимым принять 6 ноября Указ — о прекращении на территории РСФСР деятельности КПСС и КП РСФСР и роспуске их организационных структур. Это была чисто политическая акция, означавшая введение запрета коммунистической партии.
Вызывали серьезные сомнения не только юридическая обоснованность этого указа (как и указа от 23 августа 1991 года о приостановлении деятельности КП РСФСР), но и политическая аргументация. Она построена на том, что КПСС, якобы, «никогда не была политической партией», что руководящие структуры КПСС фактически поглотили государство. Но ведь как раз перестройкой и начат был процесс превращения КПСС из фактора власти в общественно-политическую организацию, а ее руководство явилось инициатором демократического поворота в развитии страны.
Что касается ссылок на поддержку со стороны тех или иных деятелей и структур КПСС попытки переворота 19–21 августа, то одно дело — моральное осуждение, а другое — установление их юридической вины в судебном порядке, что сделано не было.
Дальнейший ход событий известен: Конституционный суд Российской Федерации не нашел оснований для подтверждения запрета на деятельность Коммунистической партии РСФСР, а вопрос о КПСС вообще отказался рассматривать. К сожалению, в возобновившей свою деятельность коммунистической партии России верх взяли фундаменталистские консервативные силы, ее руководство сомкнулось с деятелями пресловутого ГКЧП, отвергло реформаторскую программу. Опираясь на традиционную приверженность коммунистов старших возрастов к партии, особенно на периферии, она в течение предстоящего периода, по-видимому, будет способна играть заметную роль в политической жизни. Но не имея широкой поддержки со стороны молодежи, интеллектуальных слоев общества, не может рассчитывать на сколько-нибудь серьезное будущее.
Возникли и некоторые другие более мелкие партии и группировки коммунистической и социалистической направленности, не располагающие, однако, массовой базой. Ниша демократического социализма и социал-демократии в политическом пространстве страны остается незаполненной.
Следует учитывать, что в общественном сознании пока доминируют по меньшей мере пассивное, а то и резко отрицательное отношение к политическим партиям вообще, своего рода антипартийные настроения: «обжегшись на молоке, дуют и на воду». Конечно, это парадокс — в высшей степени политизированном обществе практически нет спектра серьезных политических партий.
Мое глубокое убеждение состоит в том, что во многом наши нынешние беды и передряги связаны с отсутствием необходимого для нормального общества демократического механизма, который в свою очередь немыслим без системы серьезных политических партий. Процесс политической кристаллизации общества неизбежно должен привести к появлению таких партий.
Борьба за спасение Союза не приносит успеха
Основной смысл деятельности президентской администрации в послеавгустовский период состоял в сохранении Союза республик, предотвращении его начавшегося распада.
В этом вопросе, как в фокусе, сходилось все: и судьба экономической реформы, успех или неуспех антикризисных усилий, и политический климат, духовное и моральное самочувствие народов, и роль страны на международной арене.
Ситуация в межнациональной сфере и раньше предопределялась соотношением двух тенденций. Одна из них связана с экономической интеграцией, производственной кооперацией, развитием научно-технических связей, духовно-культурным взаимодействием народов, процессами миграции населения. Своими корнями эта объединительная тенденция уходит в глубь веков.
Другая тенденция выражается в росте национального самосознания народов, национальной идентификации, развитии языка и культуры, все большего неприятия любых проявлений национального неравенства и тем более притеснения — одним словом, национального самоопределения. Эта тенденция также имеет многовековую историю.
В годы перестройки она получила доминирующее значение. Решительная критика старых порядков, административно-командной системы, проявлений унитаризма, исходивших от Москвы, привели к тому, что центростремительные, интеграционные процессы оказались оттесненными на какой-то период на второй план. И напротив, в бурных формах стало проявляться действие центробежных сил.
Августовский путч взвинтил эти силы. Республики еще острее почувствовали, что от Москвы нельзя ждать ничего хорошего ни политически, ни экономически, а угроза для их национальных устремлений вполне реальная. Ссылки на первоначальные заявления некоторых республиканских руководителей, не содержавшие решительного осуждения переворота в Москве, неосновательны. Отмежевание от Москвы, причем в резких формах, в этом случае было совершенно неизбежно, и оно было чревато серьезнейшими осложнениями и конфликтами.
Но и подавление путча, сопутствующие ему действия российского руководства, не способствовали стабилизации отношений внутри Союза. Республики почувствовали опасность с другой стороны — от тех, кто встал на пути путча, но затем сам оказался во главе власти и приступил к разрушению союзных структур. К этому со стороны сепаратистских сил сложилось двойственное отношение: во-первых, заинтересованность в ослаблении и разрушении центра, открывавшую благоприятные возможности для выхода из Союза, и во-вторых, крайняя обеспокоенность действиями российских руководителей по овладению союзной собственностью, союзными управленческими структурами. Масла в огонь подлили и непродуманные заявления о возможности изменения границ между республиками.
В этих условиях Украина уже 23 августа сделала свое известное заявление о независимости, которое положило начало серии заявлений о независимости и со стороны других республик. Украина объявила о проведении 1 декабря референдума о независимости. Ясно, о чем шла речь. Начался период лавирования украинского руководства, фактического отхода его от договорного процесса, постепенного ограничения участия в работе союзных структур.
Я не думаю, что в этой эскалации распада Союза следует винить лишь одну какую-то республику. Но, конечно же, очень многое определялось политической линией и конкретными шагами Российской Федерации и Украины. Я считал и считаю, что у руководителей этих республик не хватило адекватного обстановке понимания необходимости сохранения Союза, своей ответственности за судьбы страны, многонационального государства, складывавшегося веками и не по чьей-либо субъективной воле, а в силу реальных условий и объективных потребностей.
Эти руководители не новички в политике. Трудно предположить, что они не ведают, что творят. Вольно или невольно рождается подозрение, не принесены ли интересы союзного государства в жертву политическим устремлениям этих лидеров, укреплению их власти. Очень не хотелось бы думать, что это так Но факты, логика событий — очень упрямая вещь: чем другим, если не стремлением к укреплению своей политической власти, объяснить действия российского руководства по подчинению союзных структур властям Российской Федерации даже после того, как путч провалился и было совершенно очевидно, что союзные структуры не представляют никакой опасности.
Компромиссные решения Съезда народных депутатов в начале сентября приостановили этот процесс, на каком-то уровне зафиксировали резкое снижение компетенции союзного руководства и соответствующее расширение прав республик, но этот компромисс, по-видимому, расценивался как временный, промежуточный рубеж в демонтаже Союза. На нем дело не остановилось. Разрыв союзных связей, правда, в иных формах, продолжался.
Линия российского руководства и в дальнейшем была по меньшей мере очень противоречивой. Подтверждая необходимость подготовки и заключения Договора о союзе суверенных республик и экономических соглашений между ними, в то же время в практическом продвижении по этому пути, мягко говоря, не проявлялось никакого энтузиазма, никакой заинтересованности в быстрейшем достижении реальных результатов. Напротив, выдвигались всевозможные проблемы, ставились условия, различного рода большие и малые препятствия, чинились всевозможные помехи для деятельности союзных структур.
По-видимому, в течение определенного времени у российского руководства шел поиск и не было четко выраженной линии. Но вот с начала октября она стала «прорезаться» в виде курса на полную экономическую независимость Российской Федерации при сохранении на какой-то период неких переходных союзных структур. При этом была публично высказана претензия на роль Российской Федерации как правопреемницы Союза. Думается, что оговорка о сохранении на какой-то период политического союза была чисто тактической, не меняющей основной сути курса — на роспуск Союза.
В практической работе и на заседаниях Госсовета шло своеобразное перетягивание канатов, тактическое маневрирование. Тон в этом смысле задавали россияне и украинцы, а на них, естественно, посматривали и другие.
Так, на заседании Госсовета 11 октября Кравчук, не без сочувственной поддержки некоторых других членов Госсовета, предложил ограничиться обсуждением первых двух вопросов — об экономическом соглашении и продовольственном обеспечении, а по остальным (в том числе по работе над союзным договором) ограничиться информацией.
«Секрет» позиции Кравчука обнаружился, когда вопреки его предложению все же начался обмен мнениями по вопросу о работе над Договором о союзе суверенных государств. Кравчук заявил, что Украина не намерена участвовать в этой работе, сославшись на соответствующее решение Верховного Совета республики. Увещевания Кравчука, естественно, не помогли делу, тогда Горбачев внес предложение обратиться от Госсовета к Верховному Совету Украины и народу этой республики, четко сказать, что процесс создания нового Союза немыслим без участия Украины, призвать украинский парламент изменить свое решение, принятое в сложной послепутчевской обстановке 23 августа.
О ходе работы над Договором об экономическом сообществе на Госсовете доложил Явлинский.
В сложившейся ситуации работа над договором об экономическом союзе приобрела особое, можно сказать, решающее значение. Он мог поставить преграду или во всяком случае ограничить процесс дезинтеграции экономики, разрушения народнохозяйственных связей и тем самым устранить одну из главных причин острой фазы экономического кризиса, создать лучшие условия для перехода к рынку. Безусловно, это способствовало бы нормализации и политических отношений между республиками через заключение нового Союзного договора. Проект экономического договора был подготовлен Явлинским в кратчайшие сроки и уже в начале сентября представлен Горбачеву. В нем были, с моей точки зрения, определенные слабости — недостаточная проработка проблем рублевой зоны, рынка труда и социальных гарантий и другие, но основной вопрос — о едином экономическом пространстве выглядел сильнее, чем в программе «500 дней». Имелось в виду, что договор будет дополнен пакетом соглашений по конкретным вопросам.
Дальнейшая работа над Договором уже на многосторонней основе протекала очень трудно. Противоречивую позицию занимали некоторые республики и прежде всего Российская Федерация. Ее представители вроде бы и участвовали в процессе работы над основным текстом Договора и над приложениями к нему, но вместе с тем постоянно резервировали свои позиции. Все ждали, что же скажет Ельцин на Госсовете по этому поводу.
Борис Николаевич высказался в поддержку Договора, даже за «быстрейшее его подписание», но в качестве условия выдвинул подготовку серии соглашений по конкретным вопросам — оговорка, сводящая на нет положительное решение, ведь таких соглашений около 30 и тут впереди была еще трудная работа.
Члены Госсовета основательно «насели» на российского президента, в результате была принята формулировка, предложенная Горбачевым, — подписать Соглашение в ближайшие дни, а ратификацию провести позднее, когда будут подготовлены хотя бы основные соглашения по конкретным вопросам.
Проект Договора теперь уже об «экономическом сообществе» 15 октября был подписан главами правительств в Алма-Ате. От Российской Федерации свою подпись поставил заместитель Премьер-министра Сабуров, но правительство Российской Федерации сразу же дезавуировало эту подпись. Сабуров подал в отставку, и только Ельцин вроде бы разрешил этот конфликт, не приняв отставку Сабурова и высказавшись еще раз за подписание соглашения.
Но все это было маневрирование перед решающим шагом — обнародованием программы, экономическая часть которой была подготовлена новыми людьми, Гайдаром и его командой.
Ожерельев, помощник Горбачева по экономике, и я знали, что такая работа идет. Гайдар был нам хорошо известен.
В течение последних лет он «варился» в экономической, журналистской кухне. Хорошо образован, современен, прошел школу экономического факультета МГУ. На научном поприще сотрудничал с Шаталиным, а в последние годы — с Аганбегяном. Участвовал во многих ситуационных анализах и мозговых атаках и у нас в аппарате Президента. Привлекался к подготовке материалов для Горбачева, последний раз в начале сентября после путча.
Наконец, Ельцин выступил со своим программным заявлением. Это было 28 октября. Оно было составлено в довольно общих выражениях и не позволяло составить сколько-нибудь четкое представление о конкретных шагах. Было ясно одно — намерение совершить решительный прорыв в рынок, независимо от степени согласованности экономической политики с другими республиками. Ознакомление с первыми указами и постановлениями показало, что планы российской администрации носят гораздо более резкий характер, создают серьезную угрозу гиперинфляции и экономической войны между республиками.
Не хочу сказать, что и среди советников Горбачева было какое-то единодушие. Наоборот, разброс мнений оказался довольно широким — от крайне негативных оценок Явлинского до умеренных позиций Ожерельева. Ничего удивительного в этом нет. Даже в ближайшем окружении президента РСФСР были несогласные, например, Руцкой.
После обмена мнениями с Абалкиным, Мартыновым, Яременко Горбачеву была представлена обстоятельная аналитическая записка о Российской экономической программе. В ней содержалась констатация того, что пакет российских указов находится в русле общей линии реформ, большинство из предлагаемых мер уже предлагалось ранее и фигурировало в предыдущих программах.
Вместе с тем, подчеркивалось, что эта программа во многом носит шоковый характер, имеет ряд серьезных изъянов. Реформу предлагается начать во многом спонтанно, без подготовительных мер — прямо с либерализации цен, при отсутствии конкурентной среды, без проведения оздоровительных мероприятий в области бюджетной, налоговой и банковской политики. Это очень опасно.
Упускается из вида важнейшая задача — стимулирование предпринимательства и производства товаров, особенно предметов потребления.
Российская реформа не увязана по содержанию и не синхронизирована во времени с мерами по переходу к рынку в других республиках. Допускаются элементы прямого диктата по отношению к ним. Начинать столь глубокую и решительную рыночную реформу, контролируя лишь немногим больше половины денежной массы, бюджетных и кредитных ресурсов в рублевой зоне, значит обрекать ее на неопределенность и неуправляемость, породить необузданную межреспубликанскую гонку цен и доходов, подстегнуть до гигантских размеров инфляцию.
И тем не менее в записке Горбачеву не предлагалось отмежеваться от ельцинской программы, отвергнуть ее в принципе, что советовали ему некоторые горячие головы. Это было бы ошибкой. Ведь программа получила поддержку на российском съезде да и в самом обществе. Напротив, в принципе, с точки зрения основного смысла ее надо поддержать, но при этом отмежеваться от тактики и методов проведения. И опять-таки не для того, чтобы задержать реформу, а для того, чтобы внести необходимые коррективы и обеспечить ее быстрейшее осуществление при минимальных социальных издержках.
К тому времени единственной союзной структурой, которая еще продолжала действовать и была способна оказывать влияние на ход дел, был Госсовет.
Правда, еще в конце октября была предпринята попытка возобновить работу Верховного Совета СССР в новом составе, но он даже не смог конституировать себя в этом качестве. Не была представлена Украина, естественно, Прибалтика и Грузия, а ряд республик прислал лишь своих наблюдателей. Состав Верховного Совета и от других республик обновился кардинально, был сильно разбавлен российскими и другими республиканскими депутатами. Нишанов и Лаптев ушли со своих постов. Работа Верховного Совета в результате всего этого была практически парализована. Это было нечто вроде собрания некоторой группы депутатов. Межреспубликанский экономический (МЭК) комитет так и не был сформирован.
4 ноября на Госсовете Горбачев сделал развернутое выступление о текущем моменте, в котором остро поставил вопрос — куда же мы идем и не растрачиваем ли политический капитал, полученный в результате разгрома путча. Имелось в виду обменяться мнениями в связи с программным выступлением Ельцина 28 октября.
Российский президент отвел приглашение к дискуссии, предложил «идти по повестке». К нему прислушались, но при обсуждении основного вопроса — об экономических соглашениях и структуре МЭКа — каждый все-таки высказался по волнующим его вопросам. Оказалось, что всех задело за живое одностороннее решение российского руководства о размораживании цен. Звучали с трудом скрываемое недовольство этим решением и настоятельное требование согласовать изменения в ценовой политике.
Бурно проходило заключительное обсуждение Союзного договора на заседании Госсовета 14 ноября. Поздно вечером в разговоре по телефону Горбачев рассказал мне, что по, казалось бы, согласованному вопросу о характере Союза вновь мнения разошлись. Большинство членов Совета высказалось за то, чтобы считать новый Союз лишь союзом государств, но не союзным государством. Он, Горбачев, заявил, что, если формула союзного государства будет отвергнута, то все остальное без него. «Это будет большая беда, и я в этом не участвую. Готов хоть сейчас оставить вас для продолжения обсуждения вопроса в моем отсутствии». Был объявлен перерыв, во время которого состоялся разговор с Ельциным. В итоге после продолжительной дискуссии «вырулили» на формулу Союза, как «демократического, конфедеративного государства».
25 ноября было созвано заседание Госсовета для парафирования Союзного Договора. Уже в середине дня стала поступать тревожная информация о серьезных затруднениях. Камнем преткновения опять явился вопрос о характере Союза — является ли он государством или нет? Парафирования не получилось, но Горбачев, казалось, и тут нашел выход — Государственный Совет не парафирует договор, но одобряет его проект для публикации и обсуждения на Верховных Советах Союза и республик. Конечно, такое обсуждение в ряде республик имело весьма сомнительные перспективы, но ничего другого, по-видимому, не оставалось.
Это заседание Госсовета оказалось последним. По всему было видно, что не только Украина, но и Российская Федерация отворачиваются от Договора о союзе. Не помогло и обсуждение этих вопросов в Политическом Консультативном Совете, заявления некоторых авторитетных деятелей, в том числе, и Собчака, о необходимости предотвратить распад Союза, эмоциональное обращение Президента к парламентариям страны 3 декабря с серьезнейшим призывом выступить против разрушения союзной государственности.
Во всем чувствовалось, что назревают новые шаги, направленные против Союза, в результате которых могут наступить обвал, необратимые перемены.
Отставка Президента
Толчком для развязки послужил референдум на Украине. Даже Крым, юг и восток Украины проголосовали в пользу независимости, не говоря о Киеве и тем более о западных областях республики.
И до референдума и после обнародования его итогов немало говорили о том, что голосующие были поставлены в щекотливое положение — надо было ответить на вопрос: ты за или против уже принятого Верховным Советом республики акта о независимости. Может быть, это действительно повлияло на мнение какой-то части граждан, занимавшей неопределенные или колеблющиеся позиции. Но все же этим объяснять итоги референдума было бы неправильно.
Я думаю, и национальный момент не имел здесь самодовлеющего значения. Ведь и значительное число русских высказалось в пользу независимости республики. По-моему, главное в том, что в глазах населения Украины сильно упал авторитет Москвы, России, Центра. Просто не хотят «ходить под Москвой» с ее неразберихой, экономической нестабильностью и материальной необеспеченностью, угрозой диктатуры. На Украине до этого времени было больше порядка и относительного благополучия. Следует иметь в виду, что настроения отчуждения от Москвы, регионального сепаратизма оживились по всей стране, даже в русских районах Российской Федерации. А тут они переплелись и с национальными моментами.
Как теперь поведет себя украинское руководство, какую линию займет Кравчук? Ведь интерпретация итогов референдума в принципе возможна и в ту, и в другую сторону, некоторые из республик, объявивших ранее о независимости, отнюдь не хотят выходить из Союза. Как будет с Украиной?
Многое здесь зависело от российского руководства. Характерно, что Ельцин практически сразу, после получения итогов референдума, признал независимость Украины, выступил за установление с ней дипломатических отношений и тем самым не оставил никаких сомнений относительно позиции российского руководства. За этим, естественно, последовало признание независимости Украины и со стороны других республик Союза. Началась полоса международно-правового признания Украины и странами мира.
Горбачев пытался воздействовать на ход событий. Еще до референдума он решительно отреагировал на заявление Буша, которое могло оказать давление на избирателей. Заявил о том, что положительный ответ на вопрос референдума сам по себе не означает выхода Украины из Союза. 3 декабря выступил с эмоциональным обращением к парламентариям страны, призвал их со всей ответственностью отнестись к обсуждению Договора о Союзе Суверенных Государств, предостерег от разрушения государственности. 4 декабря все-таки собравшиеся палаты Верховного Совета СССР даже одобрили проект Договора о Союзе Суверенных Государств. Но все это были уже последние, можно сказать, отчаянные усилия. Союз поставлен на грань распада, а вместе с ним рушится и последний рубеж, который защищал его Президент.
2 декабря зашел к Яковлеву в кабинет поздравить его с днем рождения. Появился и Примаков. Естественно, разговор шел о событиях в стране, особенно в связи с референдумом на Украине. Высказывалось недоумение некоторыми действиями российского президента в отношении Союза, методов проведения рыночной реформы. Непонятно, зачем он отталкивает от себя известных политических деятелей реформаторского, демократического толка, не считается с их мнением и вместе с тем допускает доходящий до неприличия «раздрай» в верхнем эшелоне российского руководства. Руцкой, будучи на Алтае, раскритиковал российское правительство, «мальчиков в розовых штанишках», но его тут же «понесла» демократическая печать. Кому нужна напряженность в отношениях правительства и президента с парламентом? Тут же я впервые услышал формулу «бурбулизации России».
В общем, настроение довольно тяжелое. Признание, что (разгром путча демократическими силами дал не тот результат, на который можно было бы надеяться. По мнению Яковлева, если бы защитники Белого дома в августе знали, чем все это обернется, они бы еще подумали, нужно ли было идти на баррикады.
В одном из разговоров, состоявшихся в эти дни с Горбачевым, я сказал ему:
— Михаил Сергеевич, рушится последняя «союзная» позиция, которую Вы защищаете, как президент. Надо уловить момент, когда придется принимать решение, чтобы уйти самому, сохранив свое лицо.
— Да, это так, но буду отстаивать сохранение Союза до конца, опираясь на те общественные силы, которые выступают против разрушения союзной и российской государственности, отбросив идеологические различия во имя одного — спасения государства.
Горбачев попросил меня еще раз вернуться к аргументации о необходимости и важности Союза, пагубности его возможного распада для перспектив экономического развития. 8 декабря, в воскресенье, он позвонил мне на дачу в Успенское и сказал, что материал ему нужен сегодня для подготовки заседания Госсовета, назначенного на 9 декабря, на котором он предполагал вновь вернуться к проблеме подписания Договора о Союзе Суверенных Государств. За несколько часов такой материал был сделан и направлен в приемную, там его перепечатали и отправили Президенту.
Утром позвонил Президенту в машину (это был наиболее удобный «выход» на Горбачева для оперативных переговоров по каким-то вопросам) и спросил, не нужно ли дополнительно что-то подготовить к заседанию Госсовета. Михаил Сергеевич ответил, что теперь уже нужны не аргументы, а нечто другое.
Смысл его слов я понял, когда развернул газеты и увидел «беловежские» документы, подписанные главами РСФСР, Украины и Беларуси. Они в корне меняли дело, создавали совершенно новую обстановку, по сути дела, узаконивали развал Союза.
Этот шаг, хотя в принципе и не был неожиданным, являлся новым потрясением для страны, да и для всего мирового сообщества. Беловежское соглашение трех руководителей — логическое завершение линии на разрушение Союза, проводимой определенными общественно-политическими силами, того контрпереворота, который, по сути дела, начался в стране в ходе подавления августовского путча, на время приобрел подспудные, скрытые формы, а теперь снова вышел наружу и одержал верх, несмотря на все усилия со стороны Президента остановить его.
Что касается декларации об образовании Содружества Независимых Государств (СНГ), то для одних это должно было служить успокоительным средством (не все уничтожается), для других некоей переходной формой, для третьих — просто прикрытием истинных целей.
Соглашение трех руководителей своим острием направлено против Центра. Собственно, его основной смысл и сводится к ликвидации союзных структур. Ведь в том, что касается экономических отношений между республиками, оно воспроизводит многие положения проектов политического и экономического договоров, но решительно отрицается необходимость Центра. Правда, говорится о создании неких координирующих органов с пребыванием в Минске, но никто всерьез этой оговорки не воспринял, она стала предметом шуток
Вот один штрих. Несколько дней спустя я принимал своего частого собеседника последнего времени — посла Республики Корея г-на Ро Мен Кона. Информируя меня о ходе решения вопроса со зданием для Южнокорейского посольства, в котором я ему чем-то помогал, посол, хитро улыбнувшись, спросил: «Может, теперь надо обзаводиться таким зданием в Минске?»
Особый вопрос о законности принятых решений. Как могли руководители трех республик из пятнадцати, входящих в Союз, не имея на то полномочий высших органов власти своих республик, собраться и решить вопрос о существовании СССР? Можно было бы еще понять, если бы они выступили с предложением другим республикам рассмотреть этот вопрос. Но принималось не предложение, а решение, лишь открытое для присоединения других республик и государств.
Никакого заседания Госсовета, естественно, не состоялось. Горбачев встретился с Ельциным и Назарбаевым, а затем с Муталибовым, Набиевым и еще с кем-то. Что касается Кравчука и Шушкевича, то они вообще в Москву не приехали.
Вечером было опубликовано заявление Президента. Оно было выдержано в принципиальном, но не конфронтационном духе. Отмечены даже некоторые позитивные моменты беловежских решений: участие Украины, признание необходимости сохранения единого экономического пространства. И вместе с тем в Заявлении со всей определенностью подчеркивается, что вопрос о судьбе Союза должен решаться только конституционным путем с участием всех суверенных государств и с учетом воли их народов. Необходимо, чтобы все Верховные Советы республик и Верховный Совет СССР обсудили этот документ вместе с проектом Договора о Союзе Суверенных Государств. А с учетом того, что формула государственности входит в компетенцию Съезда народных депутатов СССР, выдвинуто предложение для этой цели созвать съезд. К сожалению, эти предложения, отвечающие конституционным нормам, были проигнорированы.
Беловежские соглашения были буквально на следующий день, что называется сходу, практически без обсуждения ратифицированы парламентом Украины, еще через день — Беларуси, а 12 декабря и Верховным Советом Российской Федерации. Последовали и другие лихорадочные шаги. Кравчук объявил себя Верховным Главнокомандующим вооруженных сил республики с подчинением себе трех военных округов на территории республики и Черноморского флота с оставлением в центральном подчинении лишь стратегических сил. Спрашивается, а разве Черноморский флот — не стратегическая сила? На встрече Ельцина с Бейкером в присутствии Шапошникова и Баранни-кова в открытую обсуждался вопрос о верховном главнокомандовании без Президента СССР.
Реакция со стороны других республик, в частности, среднеазиатских, вначале была недоуменной и даже раздраженной. Шутка ли — без них приняты столь важные для судеб народов решения. Замаячила опасность возникновения «мусульманского» блока республик в противовес «славянскому». Она стала приобретать реальные очертания, когда появилось известие о предстоящем совещании республик Средней Азии и Казахстана в Ашхабаде.
Многое зависело от позиции, которую займет Казахстан. Он мог стать и соединительным мостом между славянским Западом и мусульманским Востоком, но мог превратиться и в глубокий ров между ними. Назарбаев после встречи с Горбачевым и Ельциным уехал к себе в смятении и досаде. Но затем постепенно стали раздаваться заявления со стороны среднеазиатских республик о готовности присоединиться к «тройке», но только в качестве соучредителей.
Что касается настроения общественности, то любопытно было наблюдать, как многие, признавая антиконституционный характер и вероятные негативные последствия Брестских соглашений и высказывая в кулуарах острую критику в их адрес, в то же время не решались заявить об этом открыто. В верховном Совете Российской Федерации лишь Травкин и Бабурин выступили против ратификации Беловежских соглашений и то с оговорками.
На неопределенной ноте закончился съезд Движения демократических реформ (ДДР), проходивший в эти дни, хотя мне было хорошо известно негативное отношение Яковлева к беловежскому сговору.
Попов, реагируя на обстановку, объявил о разногласиях с руководством Российской Федерации и о своей отставке с поста мэра Москвы. Но через некоторое время после встреч и бесед с Ельциным отказался от своего намерения и остался во главе московской администрации.
Во второй половине дня 12 декабря была сделана попытка собрать Верховный Совет Союза. Но это оказалось невозможным. Теперь и российским, и белорусским членам Верховного Совета было не рекомендовано участвовать в его работе. Так что о кворуме, а, значит, и принятии решений, имеющих законную силу, не могло быть и речи. Выступления с самого начала приобрели характер резкой и даже грубой непарламентской ругани, часто с неприемлемых экстремистских позиций. Горбачев вначале имел в виду прийти в Верховный Совет и выступить, но в сложившейся ситуации это утратило смысл, тем более, что заседание было сравнительно быстро прервано и перенесено на вторник.
Больше уже депутаты не собирались. А17 декабря предпринята одна из самых неприглядных акций — разгон Верховного Совета с унизительными процедурами в отношении депутатов и работников аппарата. Основание — акт о переходе имущества Верховного Совета в ведение Российской Федерации. Так через овладение зданием и имуществом при отсутствии законного решения о роспуске решилась судьба высшего органа государственной власти Союза. Чем это лучше действий матроса Железняка?
Можно себе представить состояние Горбачева в эти дни. Я видел, как он тяжело переживал распад Союзного государства, мучительно делая выбор между тем, чтобы «хлопнуть дверью», и реалистическим подходом, склоняясь к последнему.
Мне не раз приходилось в последующем выслушивать мнение, что, дескать, Горбачев в декабре вновь проявил нерешительность, склонность к соглашательству, не принял всех, якобы, имевшихся в его распоряжении средств, чтобы сорвать сговор лидеров некоторых республик и предотвратить распад Союза, ведь он оставался его Президентом, главнокомандующим и т. д.
Конечно, можно было даже в конституционных рамках начать открытую конфронтацию, попытаться мобилизовать общественные силы к резервы, выступающие за сохранение союзной государственности, обратиться к трудовым коллективам, общественным движениям и партиям с призывом провести митинги и манифестации. Рассмотреть ситуацию на Совете Обороны, активизировать деятельность Политического консультативного совета, обратиться к международной общественности и т. д.
Такие предложения делались Горбачеву, но для их реализации не было уже ни сил, ни времени. Основные рычаги власти с августа находились не в руках Президента, и пожалуй, главное — не было адекватной общественной поддержки. Президент мог рассчитывать, по существу, лишь на свой личный авторитет, который был, конечно, уже не таким, как два года или даже год назад. Оставался один путь — дав принципиальную оценку принятых решений, стремиться оказывать конструктивное влияние на начавшийся процесс с целью предотвращения его наиболее тяжелых последствий и сохранения всего полезного, что накоплено в отношениях между республиками.
В одном из телефонных разговоров, видимо, проверяя себя, рассуждая вслух, он говорил о том, что «необходимо как-то помогать выруливать на более приемлемые формы сотрудничества республик с учетом возникающих реальностей». Я согласился с этим: «Чтобы без оглядки действовать в этом духе, Вам надо бы еще раз отмежеваться от версии, что, дескать, Горбачев цепляется за власть. Конечно, повернуть кардинально дело не удастся, но использовать сохранившиеся возможности до конца надо». Пожелал ему душевного равновесия, хотя это и не просто, добавив, что готов помогать, чем могу.
На продолжительной и откровенной встрече с прессой 12 декабря Горбачев заявил, что «в случае создания аморфной структуры на месте Союзного государства он не видит в ней места для себя и уйдет в отставку по принципиальным соображениям». Вместе с тем обратился с письмом к участникам предстоящей встречи руководителей республик в Алма-Ате, в котором изложил свой взгляд на характер отношений между государствами содружества. Он предложил сохранить «гражданство содружества» наряду с гражданством входящих в него государств, подтвердить решимость участников Содружества соблюдать Договор об экономическом сообществе, безотлагательно определить структуры единого контроля и главнокомандования стратегическими силами, придать содружеству статус субъекта международного права, договориться о координации в области науки и культуры. Горбачев предложил назвать новое политическое образование Содружеством Европейских и Азиатских государств (СЕАГ), а после ратификации документа о содружестве провести заключительное заседание Верховного Совета СССР.
Вокруг алма-атинской встречи складывалась непростая ситуация. Кравчук вообще не хотел туда ехать, но, видимо, вовремя понял, что это было бы явным признаком его негативного и пренебрежительного отношения к соглашению о СНГ. Встреча переносилась, но в конечном счете состоялась, приняв декларацию и ряд документов. К сожалению, к предложениям Горбачева опять не прислушались.
Руководители одиннадцати республик приняли протокол к Соглашению о создании СНГ, подписанному в Беловежской пуще в декабре Республикой Беларусь, Российской Федерацией и Украиной. Это значит, что конституционная ошибка и бестактность, допущенные тремя руководителями, так и не были поправлены: Соглашение трех республик о ликвидации Союза и образовании СНГ так и осталось основополагающим, а документ 11 декабря — лишь протоколом к нему.
Но дело, в конце концов, теперь было не в этом. Путь назад оказался окончательно отрезанным. Невозможными стали и конституционное решение о роспуске Союза, и прекращение деятельности союзных органов. Добиваться созыва Съезда народных депутатов СССР, откладывая дело на январь, было бессмысленно: результат был бы тот же, но в скандальном варианте.
Еще 19 декабря стало известно, что подготовлен Указ о переходе имущества Президента в распоряжение российских властей, который вот-вот должен быть выпущен. Переведены в российское подчинение служба охраны Президента и правительственная связь, так что в любой момент ниточка могла быть окончательно перерезана. И здесь назревал «железняковский» финал.
23 декабря весь день Горбачев вел переговоры с Ельциным (к ним подключался и Яковлев) о порядке и характере завершения деятельности союзных президентских структур. Позиции российского руководителя были достаточно жесткими, в частности, отвергнуто предложение о сохранении статуса неприкосновенности Президента СССР после ухода его в отставку. На ближайшей пресс-конференции Ельцин по этому поводу язвительно заметил: «Если Горбачев что-то хочет сказать и в чем-то признаться, пусть делает это сейчас».
24 декабря Президент в зале заседаний Госсовета (раньше там заседало Политбюро) провел заключительную встречу со своим аппаратом. Присутствовало человек сорок — пятьдесят. Президент поблагодарил всех за сотрудничество в столь сложной обстановке. Он объявил о прекращении деятельности аппарата с 29 декабря и предпринимаемых шагах по трудоустройству работников аппарата. Президент объявил, что сам он переходит работать в образуемый фонд его имени.
25 декабря состоялось выступление Горбачева по телевидению — выступление искреннее, откровенное, принципиальное, в определенной мере самокритичное. Отклики были разные. Со стороны бывших партийцев сетования на то, что Горбачев опять, якобы, забыл о своих сторонниках, недостаточно отмежевался от Ельцина. Другие, напротив, восприняли его, как слишком оппозиционное.
Говорят, его смотрели всем российским правительством. Ельцину оно почему-то сильно не понравилось. Последовала реакция. Ельцин не приехал на процедуру принятия «черного портфеля», стал «досрочно» вытеснять Горбачева из главного Президентского кабинета.
Во второй половине дня 26 декабря, зайдя к Горбачеву, я нашел его во взвинченном состоянии. Через охрану ему было дано понять, что Ельцин собирается уже наутро занять этот кабинет вопреки ясной договоренности о том, что до конца недели будет продолжаться работа Президента и его аппарата. При мне Михаил Сергеевич переговорил с товарищами из окружения Ельцина, дал поручение Ревенко связаться по этому вопросу с Петровым. Вроде бы все было урегулировано.
27 декабря, в полдень, я позвонил в приемную, чтобы, как обычно, перед тем, как поднять трубку прямой связи с Президентом, узнать у ребят в приемной, на месте ли он и кто у него. Ответил незнакомый голос: «Его в кабинете нет и не будет». Я был немало удивлен. И лишь после этого узнал о том, что в тот день произошло.
Ранним утром в аппарат Горбачева сообщили, что Ельцин в 8.30 начнет свою работу в этом кабинете. У Горбачева на утро была намечена беседа с японскими журналистами, предусматривались и другие встречи, да и кабинет не был еще полностью освобожден. Пришлось ему встречаться с иностранцами в другом месте, а оставшиеся в кабинете вещи перебазировать в комнату охраны.
Рассказывают, что новый хозяин кабинета прибыл туда в девятом часу, встретился в течение короткого времени с несколькими людьми, поднял тост со своими ближайшими сподвижниками и уехал в другое место. Спрашивается, для чего нужна была вся эта унизительная концовка?
28 декабря я в последний раз накоротке заехал в Кремль, в свой кабинет. В Президентском здании уже царили другие люди. Забрал оставшиеся бумаги и книги и уехал домой, пребывая во власти сложной гаммы чувств. В чем-то они были схожи с теми, которые владели мной после последнего партийного съезда. Вроде бы, как и тогда, с плеч спала огромная тяжесть ответственности, но теперь несравненно мучительнее были размышления о происшедшем в стране, острей тревога за настоящее и будущее.
Страна вступала в новый, 1992 год, а вместе с ним — и в новый период, полный неизвестности и суровых испытаний.
Эпоха Горбачева закончилась? Не считаю так, ибо она измеряется не датами пребывания Горбачева у власти, а тем мощным импульсом перемен, который был придан им развитию общества и который будет, я уверен, действовать до тех пор, пока страна не выйдет из глубочайшего кризиса, в который ее ввергла командно-бюрократическая система, и не вольется в общий поток современной цивилизации.
Заключительное слово
Льщу себя надеждой, что в обширном потоке публикаций о бурных событиях, пережитых народами бывшего Советского Союза в последние годы, не затеряется и моя книга.
Это не историческое исследование, но, как имел возможность убедиться читатель, она имеет документальную основу в виде подлинных текстов, записей, свидетельств о деятельности Горбачева и его команды на узловых этапах перестройки.
Конечно, в событийной канве и особенно в интерпретации былого, автору приходится много говорить о себе, о своих действиях, о своем отношении к происходящему. Но такова уж природа жанра, а не мое желание выпятить свою роль, выставить себя в положительном свете.
Работая над книгой и знакомясь с другими публикациями, я лишний раз убедился в том, какой большой соблазн показать личный «заметный», «значительный», а то и «решающий» вклад в те или иные позитивные процессы, и в то же время отмежеваться от неудач и провалов, тем более что последних оказалось больше, чем побед и достижений.
Я заметил, что некоторые мемуарные произведения моих коллег по прежней работе в Политбюро построены по простой схеме: «Вот если бы Горбачев следовал моим советам, все было бы по-другому и с экономикой, и с партией, и с межнациональными отношениями». Но ведь советы-то давались различные, очень часто противоположные. Получается — все правы, кроме Горбачева.
Может быть, и мне не удалось избежать этой схемы, описывая те случаи, когда мои советы и предложения не принимались во внимание. Такие ситуации просто лучше врезаются в память. Но у меня вызывает внутренний протест и отвращение осознанное стремление задним числом в угоду переменчивым настроениям обыденного сознания, а то и власть имущим во что бы то ни стало отмежеваться от Горбачева, побольнее лягнуть его, пообиднее задеть человеческое достоинство. Хотел бы, чтобы читатель воспринимал критический анализ действий горбачевского руководства в этой книге не иначе, как исходящий от человека из ближайшего окружения Горбачева, который разделяет ответственность за эти действия, независимо от того, какую позицию он занимал и какие советы давал Горбачеву.
На страницах книги читатель постоянно приглашался автором поразмышлять над смыслом и значением происходивших в стране событий, решений и шагов руководства. И все же, думаю, будет нелишним в заключение попытаться подвести некоторые итоги, обобщить то, что сказано в книге. Выразить свою точку зрения по проблемам, которые являются объектом острых дискуссий в обществе.
О причинах и характере нынешнего кризиса
Сейчас уже мало кто сомневается, может быть, за исключением самых закоренелых приверженцев сталинизма, что наше общество не могло дальше существовать и развиваться без коренных перемен. Складывавшаяся на протяжении многих десятилетий и лишь слегка, время от времени подновляемая система завела страну в тупик, далеко отстоящий от столбовой дороги современной цивилизации. Идя по ней, другие страны совершили огромный скачок в своем экономическом и социальном развитии, а мы топтались на месте и в конце концов оказались в тяжелейшем положении.
Нынешний кризис — это общий кризис той модели общества, которая называлась у нас социализмом и выдавалась чуть ли не за его образец, а на самом деле являлась командной, авторитарно-централистской, антидемократической системой. На первых порах она позволяла решать какие-то чрезвычайные, мобилизационные задачи, но перед лицом современного научно-технического и социального прогресса обнаружила свою несостоятельность. При ее сохранении нашему народу ничего «не светило», кроме экономической и политической стагнации, падения жизненного уровня, конфликтов и потрясений.
С коренными преобразования мы опоздали на 15–20 лет. Тогда все могло бы сложиться по-иному. Переход к современным формам общественной жизни мог бы пройти сравнительно безболезненно. Могли бы быть иными и формы этого перехода. Этого уже не вернешь.
Болезнь общества оказалась сильно запущенной, ее метастазы поразили основные системы жизнеобеспечения. Возникла потребность в таком лечении, которое сочетало бы в себе и хирургическое отсечение безнадежно больных тканей, и применение сильнодействующих средств терапии.
Благодаря политике перестройке, демократизации и гласности в первые годы открылась возможность предотвратить общественный взрыв огромной разрушительной силы, перевести его в режим регулируемой реакции, получить определенный запас политического доверия и резерв времени для осуществления коренных общественных преобразований. Однако эта возможность не была использована, крупных потрясений избежать не удалось.
Конечно, было бы неправильно все сваливать на наследие прошлого. Были и новые ошибки, упущения. Кто от них гарантирован? И все же они носят вторичный, производный характер. Это ошибки в рамках процесса демонтажа старой системы и создания новой.
Была ли правильной и последовательной политика Горбачева?
С отставкой Горбачева с новой силой вспыхнула дискуссия вокруг его политики. Сразу же прибавилось открытых противников перестройки, которые в принципе ее отвергают: одни — с позиции догматического, казарменного социализма, а другие — напротив, из-за того, что политика Горбачева, с их точки зрения, не заключает в себе, якобы, решительного разрыва с прошлым.
В многоголосом хоре критиков Горбачева звучит такая нота: его политика вначале-де была правильной, отражающей потребности развития страны, а затем в ней, якобы, произошел крутой поворот. По одной версии — Горбачев, отказавшись от коренных преобразований, сомкнулся с консервативными силами, а по другой — предал идеалы социализма и встал на путь заимствования чуждых нам западных моделей.
Конечно, внутренняя и внешняя политика горбачевского руководства без малого семь лет не оставалась неизменной. Она углублялась, уточнялась, конкретизировалась, наполнялась новым содержанием с учетом реального хода событий. Об этом говорится и в данной книге. Но суть политики перестройки, ее стержень оставались неизменным. Это — демократизация, обновление всех сторон общественной жизни, экономическое, политическое и интеллектуальное раскрепощение человека, развитие его инициативы и предприимчивости, новое политическое мышление на международной арене, основанное на приоритете общечеловеческих интересов. От этой линии оно никогда не отказывалось и не отходило ни влево ни вправо на всех этапах перестройки, во всех ее сложнейших перепитиях. Нельзя же тактические шаги, которые абсолютно необходимы, допущенные ошибки, которые в той или иной мере неизбежны, принимать за изменение политического курса.
Что касается вышеприведенных негативных оценок политического курса Горбачева, то они продиктованы не столько поиском истины, сколько узкопартийными мотивами, проистекают из позиций различных политических сил, ставящих идеологические догмы выше всего.
В чем же причина поражения Горбачева и его команды, почему им не удалось добиться тех целей, которые они сами выдвинули?
Многие критики Горбачева далее и благосклонно относящиеся к нему аналитики в качестве чуть ли не главной причины его неудач отмечают нерешительность, колебания, постоянное запаздывание с принятием практических мер. С таким объяснением я согласиться не могу. Оно поверхностно, да и по существу неверно.
Представление о Горбачеве, как человеке с замедленной реакцией, склонном к чрезмерной рефлексии, бесплодным обсуждениям и неспособном к быстрым и решительным действиям, опровергается самой постановкой вопроса о перестройке, коренном пересмотре внутренней и внешней политики, его смелыми и энергичными шагами по разрешению возникавших кризисных ситуаций в политической жизни страны, в международных делах и т. д. Инициатива в основных сферах внутренней и внешней политики находилась в его руках.
Конечно, запаздывание в решении тех или иных вопросов было. В книге об этом говорится. Но оно проистекало не из каких-то личностно-психо-логических качеств Горбачева, а из его неизменного стремления находить оптимальные решения возникающих проблем на основе консенсуса, нежелания действовать антидемократическими методами, идти против общественного мнения. Истины ради следует сказать, что порой Горбачевым принимались и скоропалительные, недостаточно взвешенные решения, относящиеся к различным сторонам перестройки и к кадровым вопросам.
Надо анализировать деятельность Горбачева и его администрации непредвзято и по существу, причем, обязательно в контексте действий всех общественно-политических сил, как поддерживавших Горбачева, так и противостоявших ему. Ведь с определенного момента демократизации страны, когда возникла и начала набирать силу оппозиция, далеко не все решалось действиями официального руководства, далеко не все было подвластно ему.
Вопрос об оценке итогов семилетнего правления Горбачева я бы перевел в другую плоскость: а вообще сохранялась ли к середине 80-х годов возможность более или менее безболезненной, некатастрофичной трансформации нашего общества, перевода его в совершенно новое состояние, под силу ли было осуществить ее в рамках одной администрации?
Можно ли было предотвратить потрясение и развал народного хозяйства при переходе от мощной, неповоротливой, милитаризированной экономики, невосприимчивой к научно-техническому прогрессу и отвернувшейся от потребителя, к современному социально-ориентированному рыночному хозяйству?
Можно ли было без общественных катаклизмов, демократическим путем перейти от авторитарной политической системы, основанной на всевластии одной партии, по сути дела, сросшейся с государством и контролирующей все стороны общественной жизни, к современному гражданскому обществу и правовому государству, где во главу угла ставятся права и свободы человека, идеологический и политический плюрализм?
Можно ли было предотвратить распад Союза в условиях демократизации межнациональных отношений, подлинного самоопределения народов с учетом огромных различий в укладе жизни, традициях отдельных народов, доставшихся от истории острых проблем в их взаимоотношениях?
Трудные, мучительные вопросы! Они не до конца ясны и сегодня. И все же, я думаю, что шанс осуществить этот сложнейший поворот в истории страны без национальной катастрофы — хотя бы один из ста — был, и он еще не окончательно утрачен.
Горбачевское руководство нащупывало его, ходило близко, но не смогло полностью обнаружить и реализовать. И тут, конечно же, сказались ошибки, упущения.
Следует иметь в виду, что в условиях, когда общество выведено из определенного режима жизнедеятельности и пребывает в неустойчивом, переходном состоянии, значение субъективного фактора, да и вообще фактора случайности резко возрастает. Цена даже небольших ошибок, неадекватных действий становится исключительно высокой. Это, кстати, относится не только к социальным, но и к естественным, и к техническим системам, и к живым организмам.
Где же пролегал этот единственный шанс и что не позволило его реализовать?
Здесь я должен кратко свести воедино то, что по разным поводам говорилось в книге.
Главным поприщем преобразований была и остается экономика, а их возможные пределы очерчивались социально-экономической ситуацией в стране.
По-видимому, полностью предотвратить экономический кризис было невозможно, ибо его корни не только в изжившей себя административно-командной системе управления, но и в устаревшей структуре экономики, ее экстенсивном характере, в милитаризации, глубоко проникшей во все поры народного хозяйства, искусственной отчужденности страны от мирового рынка и т. д. Но выстроив решение всех этих проблем в определенной последовательности, раздвинув их во времени, можно было бы повлиять на течение кризиса, уменьшить его разрушительные последствия.
Мы располагали 4–5 годами для проведения экономических реформ, отделявших нас от начала 90-х годов, когда должен был наступить пик экономических трудностей. Имели в начале перестройки и солидный запас политической прочности. Но эти возможности были утрачены. Не был взят необходимый темп преобразований в 1985-1986-х гг. После XXVII съезда партии потеряно немало времени. И самое главное — по истечении еще одного года после Июньского Пленума 1987 года намеченные программы экономических преобразований оказались вообще похороненными. Консервативные силы включили мощнейший тормоз, преодолеть который не хватило сил и духу.
В результате страна оказалась ввергнутой в тяжелейший экономический кризис, который пагубно отразился на всей политической ситуации, затруднил осуществление демократических преобразований, активизировал деструктивные, центробежные силы, привел к резкому падению авторитета Горбачева и дискредитации самой идеи перестройки.
Что касается политической реформы, то ее пришлось вести в крайне неблагоприятных условиях, в обстановке растущего недовольства перестройкой, обостряющейся политической борьбы. Была нарушена синхронность и взаимоувязанность политических и экономических преобразований. Старые рычаги и методы управления демонтировались, когда новые экономические механизмы еще не созданы.
Коренной вопрос политической реформы — о роли КПСС. Без партии и вне ее перестройка не могла бы начаться или приняла бы необузданные, хаотические формы. Ведь в обществе не было никакой другой общественной силы, способной начать такого рода преобразования. Но в то же время эти преобразования не могли не охватить и саму партию. В этом вся проблема, весь парадокс ситуации: перестройки не могло быть без партии, но и партия не могла дальше существовать без собственной перестройки. И тут не было никакого другого выхода, кроме как постепенное, шаг за шагом, преобразование партии и ее превращение из ядра государственной системы в подлинную общественно-политическую организацию. Эту линию и проводил Горбачев, но обновление партии шло медленно, с пробуксовкой, при нарастающем сопротивлении консервативных сил.
Реформаторам в партии, наверное, следовало бы действовать более энергично, не полагаясь на традиционную приспосабливаемость партии к ее руководству, не просто отбиваться от консервативных нападок, а вести более активную наступательную работу, смелее выдвигать людей новой формации. В решающий момент в августе 1991 года партия не смогла занять правильную позицию, и этим была предрешена ее судьба.
И наконец, самый тяжелый вопрос — о распаде Союза. Экономический кризис, даже в его худшем варианте — явление временное. В конце концов, методом проб и ошибок будут найдены и оптимальные формы демократических институтов. А вот распад страны может оказаться процессом необратимым и непоправимым на многие десятилетия, а может быть, и навсегда. Он оставил кровоточащие раны, стал источником нестабильности. Это, собственно, подтвердили уже первые месяцы после роспуска Союза развернувшиеся широкомасштабные вооруженные конфликты в Южной Осетии и Приднестровье, Нагорном Карабахе и Таджикистане, Абхазии.
Распад Союза имеет свои причины. Он возник на фоне экономического и политического кризиса страны и, в свою очередь, стал мощнейшим фактором дестабилизации. Но я уверен, что фатальной неизбежности распада Союза не было. Многое зависело от субъективного фактора, от позиций и действий политических сил и их лидеров.
Возвращаясь мысленно к началу перестройки, к размышлениям и настроениям тех лет, не могу не сказать, что, по-видимому, нами тогда была в какой-то мере недооценена опасность распада Союза под влиянием старых стереотипов о «нерушимом» Союзе, вечной дружбе и т. д. Казалось, что тут-то мы имеем прочные завоевания. Вспыхнувшие очаги межнациональной розни были восприняты не как проявления надвигающейся грозной полосы обострения межнациональных проблем, а как локальные явления, не имеющие под собой глубокой, серьезной почвы. Как уже говорилось в книге, недооцененным оказался и российский фактор. Да что там: до поры до времени никто всерьез и не воспринимал борьбу за суверенитет и независимость России, не представлял, во что она может вылиться, какие силы в республиках поощрить, какие процессы стимулировать.
В этом смысле можно и нужно говорить об упущениях и ошибках горбачевского руководства в сфере межнациональной политики. Но никто не может отрицать очевидное: оно вело настойчивый поиск путей обновления Союза, избавления его от унитаризма и самоуправства со стороны Центра, углубления и укрепления доверия и связей между республиками. Обвинять Горбачева в развале Союза — значит, валить с больной головы на здоровую, искать виновника преступления среди потерпевших.
Этим, видимо, хотят отвести ответственность за распад Союза от тех, кто был инициатором парада суверенитетов и независимостей, кто под подобными лозунгами вел борьбу за влияние в обществе и за политическую власть. Сейчас перед лицом тяжелых последствий роспуска Союза все труднее найти политического деятеля, который бы одобрял этот шаг. Со стороны имеющих непосредственное отношение к нему, раздается немало лицемерных сожалений по поводу распада Союза. Но история верит лишь реальным фактам и действиям, а не словам.
Что же дальше?
Мы вступили в полосу больших трудностей, мучительных поисков, серьезных испытаний. Но всякий кризис не только бедствие, не и момент развития, обновления. Он завершает одну эпоху и открывает другую. От чего же мы уходим и к чему хотим прийти?
Ответ на первую часть вопроса несложен: мы уходим от этатистской бюрократической системы, командной экономики, основанной на жесткой централизации управления, огосударствлении собственности и всех процессов производства, распределения и обмена продукцией, от тотальной регламентации всех сторон жизни людей, от принижения личности, от идеологической монополии и насаждения единомыслия, от всего того, что в свое время пытались выдать чуть ли не за образец социалистической организации общества.
А вот вторая часть вопроса — к чему мы идем — требует дальнейших серьезных размышлений. Ясно одно: получить ответ на этот вопрос в рамках традиционных представлений о сути современной эпохи, как борьбы двух противоположных общественных систем — капитализма и социализма — было бы совершенно ошибочным и несерьезным.
В плену этих представлений сейчас остаются не только приверженцы коммунистического фундаментализма, но и их некоторые противники. И те, и другие пытаются втиснуть все многообразие современной жизни в альтернативу — «капитализм или социализм». А отсюда вытекает плоская упрощенная схема: социализм потерпел неудачу в историческом соревновании, капитализм одержал победу, и поэтому страна должна вернуться в лоно буржуазного общества.
Вроде бы все просто. Но не все простое гениально. Чаще за простотой скрываются примитивизм, стереотипность мышления. Основанное на конфронтационной методологии понимание современного общества имело определенное основание для первых трех четвертей нынешнего столетия. Но затем в мировом развитии начались столь глубокие фундаментальные изменения, что они отодвигают на второй план противостояние социальных систем, а на первый план выходят проблемы формирования новой цивилизации — цивилизации XXI века, способной опереться на все лучшее, прогрессивное, передовое, что накоплено опытом человечества в различных социальных условиях. Она открывает простор для гуманизации всех сфер жизни и деятельности людей, для реализации общечеловеческих ценностей, обеспечения всей полноты политических, экономических и идеологических прав и свобод человека, наиболее благоприятных условий развития индивидуальности при прочных социальных гарантиях.
Цивилизация XXI века немыслима без экономического, политического и идеологического плюрализма, без гибких и эффективных общественных структур, способных выразить и уловить всю гамму интересов общества, социальных групп, индивидуальных интересов и потребностей людей, без утверждения общечеловеческих норм нравственности, беспрепятственного, свободного развития культуры и художественного творчества.
И конечно же, она может основываться только на всесторонней и глубокой демократизации международных отношений, избавлении общества от кошмара ядерной угрозы и бремени военных расходов, сотрудничестве народов в решении глобальных и региональных политических, экономических, экологических проблем, формировании общемирового научного и культурного пространства.
Такой масштабный и коренной переход общества из одного состояния в другое не может протекать просто и бесконфликтно, потребует огромных конструктивных усилий. Неизбежны приливы и отливы, накаты и откаты, быстрые подвижки и периоды более плавного развития. Но обновление общества на принципах цивилизации XXI века — реальная перспектива человечества. Этот путь открыт для нашей страны перестройкой.
Другого просто нет.


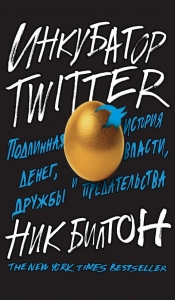



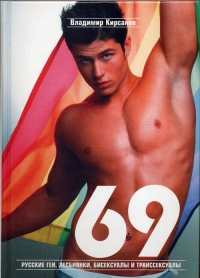
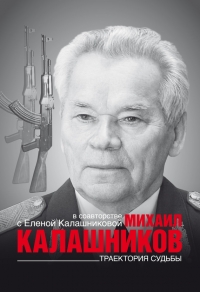
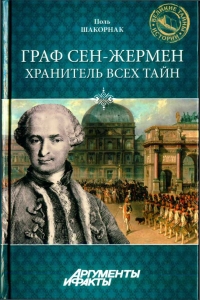

Комментарии к книге «В команде Горбачева: взгляд изнутри», Вадим Андреевич Медведев
Всего 0 комментариев