Ежи Климковский Я был адъютантом генерала Андерса
Предисловие к польскому изданию
Ежи Климковский до войны был кадровым офицером, ротмистром Войска Польского. Сентябрьскую кампанию 1939 года он провел так же, как и другие офицеры и солдаты, в условиях, которые мы знаем достаточно хорошо по собственному опыту и по рассказам других.
Затем судьба бросала автора в СССР и на Ближний Восток, нелегально через «зеленую границу» в Польшу и обратно, вводила его в непосредственный контакт с людьми, занимавшими в то время самые высокие посты в эмиграции и в армии. Книга Климковского не является историческим исследованием. Это мемуары. Автор использует только личные воспоминания и весьма редко цитирует доступные ему в свое время документы или же рассказы третьих лиц. Самым ценным в книге являются наблюдения автором событий, в которых он непосредственно участвовал. Особенно интересна часть книги, повествующая о судьбах польской армии в СССР, которой командовал генерал Андерс. Климковский, офицер для особых поручений при Андерсе, стал весьма близок к верховному командованию и главе эмиграции. Через его руки проходила не подлежащая оглашению переписка, что давало ему возможность наблюдать за действиями и поведением как современных ему авторитетных генералов, дипломатов, политиков, так и обычных рядовых эмигрантов.
Весь этот период новейшей истории Польши нам почти неизвестен. В Польше на эту тему почти ничего не публиковалось, если не считать книг эмигрантов, в частности самого Андерса. Но они, претенциозно напыщены и необъективны, поэтому трудно ориентироваться только на них, восстанавливая достоверную картину событий 1939–1945 гг.
Мы не хотим утверждать, что свидетельство Климковского целиком беспристрастно. Вполне понятно, что автор, вступивший в прямой конфликт с генералом Андерсом и военно-гражданской иерархией эмиграции, не может в своих воспоминаниях показывать только их положительные стороны, не руководствуясь приобретенным опытом. Но все же он не всегда объективен, особенно в оценках и характеристиках отдельных лиц.
Однако это не снижает ценности книги Климковского. Хотя автор, не мог исследовать всех тайн и не мог ответить на все проблемы, тем не менее его воспоминания проливают свет на неясный до сих пор вопрос о выводе польской армии из СССР, осуществленный вопреки договору между Сикорским и Сталиным, а также на всю политическую игру Андерса в Советском Союзе и на Ближнем Востоке. Кроме того, более рельефно выглядят теперь и другие герои этого периода: проф. С. Кот, замечательный историк, но весьма посредственный политик и никудышный идеолог макиавеллиевского типа, генералы Шишко-Богуш, Токаржевский, Соснковский и многие другие, лондонская «верхушка», формально сплоченная вокруг Сикорского, а фактически препятствующая его деятельности как премьер-министра и верховного главнокомандующего, ряд чиновников и «двуйкажей»[1], министра бывших воевод и будущих «непоколебимых патриотов». При скудости мемуарной политической литературы, охватывающей последние десятилетия нашей истории, достоверное свидетельство подобного рода восполняет серьезный пробел.
Следует обратить внимание на раздел, в котором рассказывается о смерти генерала Сикорского. Хотя автор говорит здесь о том, что он слышал от третьих лиц, тем не менее он приводит много новых подробностей и фактов об отношениях между генералами Андерсом и Сикорским. Оживленная дискуссия на страницах прессы в Польше и в эмигрантской печати, которая велась летом 1958 года в пятнадцатую годовщину со дня трагической гибели Сикорского, не смогла выяснить до конца этой мрачной тайны. Не дает на это ответа и Климковский. Может именно на Ближнем Востоке следует искать ключ к разгадке драмы, ареной которой был Гибралтар...
Книга Климковского носит характер воспоминаний. Отсюда некоторая неровность в изложении, обилие деталей в одном случае, и излишняя краткость в другом. Отсюда также те или иные пробелы в показе хода событий. Будет хорошо, если эта книга вызовет среди участников описываемых событий споры и если таким образом она будет способствовать публикации новых документов, касающихся Польши и поляков в период Второй мировой войны.
Сентябрь
30 августа 1939 года военным транспортом я прибыл в штаб командования во Львове. С первых же минут на вокзале я понял, что хотя движение военных эшелонов было налажено, вагонов катастрофически не хватало. Сотни солдат Львовской дивизии и других воинских частей, воевавших подо Львовом, скопились на вокзале в ожидании отправки. Слышалась русская, польская, украинская речь. Войска прибывали, усиливая ощущение хаоса.
Дирекция Львовской железной дороги делала все, чтобы ускорить комплектование эшелонов. Я старался вырвать как можно больше вагонов, чтобы скомплектовать более полный состав для отправки польских частей.
31 августа я поехал дрезиной в Жулкевь проверить готовность частей к отправке. В шестом кавалерийском полку под командованием кадрового полковника Стефана Моссора господствовал заслуживавший похвалы порядок. Повсюду чувствовалась опытная рука командира, предусмотревшего все для того, чтобы полк в полном составе в назначенное время прибыл к месту дислокации. Большая часть полка уже отбыла к месту концентрации под Серадз. Остальные ждали своей очереди. В казармах не прекращалась лихорадочная работа по приему резервистов и подготовке пополнений.
Из Жулкеви я вновь вернулся во Львов. Надо было провести погрузку приданных бригаде вспомогательных отрядов, и я обеспечивал отправку роты бронемашин, танкеток и батарей противовоздушной артиллерии. До 1 сентября удалось скомплектовать все составы, погрузить части и отправить их к месту назначения.
В ночь с 1 на 2 сентября с последним эшелоном я покинул Львов. С дивизионом конной артиллерии, проводившем погрузку в Бродах, я должен был следовать под Серадз, где присоединиться к штабу бригады.
Первый налет немецких самолетов на Львов начался еще днем. Около полудня раздался сигнал воздушной тревоги. Глухие взрывы в районе вокзала изредка прерывались нашей противовоздушной артиллерией. Спустя некоторое время послышался так хорошо узнаваемый нами впоследствии гул авиационных моторов. Гул сопровождался свистом, за годы войны накрепко врезавшимся в память каждому поляку. С борта самолета застучали пулеметы.
Впервые я увидел немецкие «Дорнье». С удивлением наблюдал, как, блистая на солнце, они описывали круги над городом, почти безнаказанно сбрасывая свой смертоносный груз. Время от времени то один, то другой отрывался от общей группы из более десяти самолетов и резко снижаясь обстреливал город из пулеметов.
Было очевидным, что главной целью налета являются вокзал и аэродром. Вокзал тогда не пострадал. На аэродром же упало несколько бомб, но они не причинили серьезных повреждений. Налет, продолжавшийся полчаса, не показался слишком грозным. После отбоя воздушной тревоги я пошел в город. Первое потрясение я испытал от вида разрушенных домов на улице Гружецкой. Помню огромное количество разбитых окон. Среди развалин и груды осколков стекла хлопотали санитары, подбирая раненых. Это были первые раненые, которых я видел, и первая кровь, пролитая за Польшу. Мною овладело чувство ненависти и желание отомстить.
Большая часть города осталась неповрежденной. Налет был небольшой. И хотя в основном пострадало гражданское население, в городе не возникло паники.
Ночью, а точнее рано утром 2 сентября, я выехал из Львова. В пути из газет я узнал об официальном начале войны.
1 сентября на рассвете немцы ударили по нашей границе, и в этот же день почти над всей Польшей появились неприятельские самолеты. Сразу же напрашивался вопрос: А мы? Сколько выслали мы против них своих самолетов и что уничтожили? Этого мы не знали.
К месту назначения доехали благополучно, без особых приключений, но с большим опозданием. Поезд тащился страшно медленно. Узловые станции были перегружены, забиты вагонами и войсками. Поезда шли один за другим, пути кое-где были повреждены и это создавало пробки. Зато наши железнодорожники, надо отдать им должное, работали удивительно четко и прилагали все силы к тому, чтобы эшелоны быстрее двигались. Трудились они результативно, но все же задержки в пути были.
Дольше всего мы стояли в Люблине, Варшаве и Лодзи.
Вместо того, чтобы прибыть 3 сентября утром, мы прибыли вечером около 18 часов.
Нас задержали на станции Ласк и приказали выгружаться. До места назначения оставалось еще сорок километров. Всюду чувствовалось состояние крайней нервозности, возбуждения, и уже начала проявляться неразбериха. Никто ничего не знал. Никто не мог ни о чем информировать. Я выгрузил свой мотоцикл и доехал, наконец, до городка Шадек, где в здании начальной школы расположилось командование. Настроение у всех подавленное, граничащее с паникой. Генерала Пшевлоцкого я не застал, его в первый же день войны отозвали для формирования какой-то группы войск, но которой, между прочим, он никогда так и не сформировал. Как я узнал позже, мой генерал, имея на руках письменный приказ по организации группы, 17 сентября, в погоне за этой именно «группой», перешел румынскую границу, захватив по пути своих детей из г. Броды.
Командир бригады полковник Ханка-Кулеш после двух дней мужественного и полного воинской доблести командования был снят с должности командующим армией «Лодзь» генералом Руммелем (которому тогда подчинялась бригада) за сдачу немцам мостов на Варте под Серадзем.
Я застал его в тот момент, когда он в полном отчаянии одиноко сидел на каком-то стуле в углу комнаты, с опущенной головой, не похожий на себя. Совершенно беспомощный, не знающий, что с собой делать, подобно ребенку, который не знает, чего хочет. Так после трех дней даже не особенно тяжелых боев выглядел человек, который «собственной грудью должен был прикрывать Польшу». Исчезла его обычная спесь и самоуверенность, остался лишь маленький человек. Все старые почитатели бросили его, и Он теперь никому уже не был нужен. Эта метаморфоза произошла очень быстро. Мне припомнилось его любимое выражение, которое он часто употреблял: «Мы добыли Польшу саблями и саблями ее защитим».
А в это время в подразделениях его бригады суетился новый командир, который уже успел «прославиться» в сражении, полковник Ежи Гробицкий.
Что касается сдачи немцам мостов на Варте под Серадзем, то оказалось, что бригада попросту их плохо укрепила и не удержала отведенного ей участка. Кроме того, я узнал, что мы отступаем по всему фронту. Немцы нас бьют, и бригада отступает.
Где находились части бригады, трудно было определить, да этого никто, собственно говоря, точно и не знал. На левом фланге у нас была брешь около 60 километров, немцы могли там проходить, как угодно. Не было ничего и никого, кто мог бы им в этом помешать. На правом фланге находилась 10 пехотная дивизия, с которой связь была потеряна, так что было неизвестно, где она в настоящее время находится.
Я получил приказ полковника Гробицкого немедленно отправиться в десятую пехотную дивизию, отыскать ее командира, доложить о положении бригады, а также сообщить о том, что наша бригада сосредоточивается в районе Шадке. Из штаба этой дивизии я обязан был привезти план ее расположения и намерения командира дивизии о действиях на следующий день.
Я сел на мотоцикл и поехал по направлению к фронту на участок, где должна была находиться упомянутая дивизия.
Был приятный, тихий вечер, девять часов.
Я прихватил с собой несколько гранат. Водителя тоже вооружил. Впрочем, это был замечательный парень, разбитной малый из-подо Львова, он уже ездил со мной по Львову и вместе прибыл в бригаду. Он очень обрадовался тому, что мы совершаем нашу первую поездку на фронт. Двинулись по дороге в указанном нам направлении. Дивизия была значительно выдвинута на предполье.
Через полчаса езды уже почувствовалось, что это район боевых действий. Шоссе, по которому мы ехали, имело много воронок от бомбежки, деревни стояли тихими, как вымершие, ни одной живой души. Кругом царила полная тишина. Время от времени мы встречали какие-то армейские части, которые или стояли на месте, или двигались в обратном нашему направлении. Это были малочисленные отряды разыскиваемой мною десятой дивизии. Но где находилось командование, этого никто указать не мог. Мы ехали, все приближаясь к линии фронта. Перед нами на горизонте виднелось лишь зарево пожаров. Нас скрывала темная, глухая ночь. Трагичность и жуть этой ночи подчеркивали полыхающие кругом очаги пожаров. Мы держали курс в направлении зарева. На горизонте, на сколько видел глаз, все было охвачено огнем. Несколько деревень пылали морем яркого бушующего пламени. Людей нигде не было видно. Мы подъехали так близко к пожару, что невооруженным глазом можно было различать отдельные дома и слышать грохот, с каким рушились перекрытия, выбрасывая при этом в небо снопы искр.
Продвигались вперед мы очень медленно, настороженно всматриваясь, так как знали, что где-то здесь неподалеку должны находиться наши части. И действительно, через несколько минут езды нас на каком-то перекрестке задержала одна из пехотных рот десятой дивизии. Командир роты объяснил, что командир дивизии в нескольких километрах, в усадьбе одной из соседних деревень. Он дал мне связного, севшего с нами на мотоцикл, чтобы показал дорогу. После двадцатиминутной езды по проселочным дорогам и каким-то перелескам мы добрались до довольно большой, но сейчас совершенно пустой деревни; население вместе со всем скарбом убежало в ближайшие леса или еще дальше на восток, вглубь Польши. Мы подъехали к стоящему невдалеке поместью, где расположилось командование дивизии.
Это была довольно большая усадьба, целиком погруженная в темноту. Никаких караулов, никаких постов. Такое пренебрежение опасностью меня поразило. Открыл дверь в сени. В них горела маленькая лампа, на полу лежало несколько солдат, вероятно связных, которые на вопрос, здесь ли командование дивизии, ответили утвердительно и указали на дверь. Я постучал и не дожидаясь разрешения отворил ее. В комнате царил страшный беспорядок. Несколько офицеров спало на полу, другие на каких-то диванах, наполовину прикрытые одеялами. На столе такая же, как в сенях, керосиновая лампочка. За столом над картами склонилось несколько офицеров. В одной из групп находился офицер в чине генерала. Это был бригадный генерал Диндорф-Анкович, командир десятой пехотной дивизии. На всех лицах проступало какое-то отупление и огромная усталость. Я знал, что дивизия сражалась замечательно, но в боях была совершенно одинокой и, имея перед собой во много раз более сильного противника, вынуждена была отступать. На лице генерала лежала печать глубокой озабоченности, а в немного потухшем взгляде огромная усталость.
Я представился генералу. На какой-то момент он оживился, обрадовался установлению связи с бригадой. Было видно, что это один из тех командиров, которые хотели сражаться и умели командовать, только все несчастье заключилось в том, что командовать было некем. Дивизия, командиром которой был Диндорф-Анкович, в течение трех дней беспрерывно находилась в боях, не имела никаких резервов. Билась остатками сил, и никто ее не сменял. А в это время враг бросал в бой все новые и новые части, воевал армией свежей и отдохнувшей. Командир дивизии еще точно не представлял, что будет делать дальше. Получил от командования армии приказ об обороне своего участка, но не имел возможностей для его выполнения. Он не знал собственного положения, так как не имел точных данных, где находятся его части и в каком они состоянии. Не имел также сведений о положении противника. Знал лишь то, что его великое множество, что напирает со всех сторон. Не располагая силами для сопротивления, сам находился в окружении. Наконец, после долгого размышления он сказал, что с рассветом начнет отступление по направлению к Шадке, то есть туда, где находилось командование моей бригады. Просил, чтобы бригада поддерживала с ним связь.
Обратный путь прошел значительно быстрее, так что около двух часов ночи уже прибыл в бригаду. Доложил полковнику Гробицкому обо всем виденном в дороге и в десятой пехотной дивизии, а также о том, что намеревался предпринять командир этой дивизии.
Командование бригады через несколько часов собиралось передислоцироваться и еще на десяток километров продвинуться в направлении Серадза. На этом участке пока сохранялось спокойствие и немцы стояли на месте.
Положение бригады было неясным.
В восемь часов утра мы прибыли на новую стоянку в какую-то местность в небольшом лесочке и только отсюда начались поиски подразделений бригады, о местонахождении которых до сих пор никто не знал.
Шестой кавалерийский полк был единственным, с которым поддерживалась связь. Впрочем, командование бригады не имело к этому никакого отношения. Поддерживалась связь, благодаря хлопотам командира полка подполковника Моссора, приславшего в бригаду своего офицера связи.
4 сентября около одиннадцати часов меня направили в Лодзь в штаб армии генерала Руммеля за приказами, поскольку связи с армией не было. Уже в течение нескольких дней мы не получали никаких приказов и не знали, что делать дальше. Одновременно начали ощущать недостаток в боеприпасах, продовольствии и фураже для лошадей, хотя фуражом обеспечивались на месте.
Итак, я снова сел на мотоцикл и поехал на этот раз в Лодзь. Дорога проходила через Шадек, оставленный нами несколько часов назад.
Всего лишь за час до нашего приезда вражеская авиация обрушила лавину огня на этот маленький городок. Издали он стал похож на пылающий факел. Школу, где мы расквартировались, разбомбило, видимо немцы знали, что там располагался какой-то штаб. Большинство домов лежало в развалинах. На улицах полно трупов, главным образом, гражданских лиц, в основном, женщин и детей. На дороге валялось множество пораженных осколками бомб лошадей. Никто не занимался ни убитыми, ни ранеными. Человеческих и лошадиных трупов встречалось все больше. Я стискивал зубы в бессильной злобе на врага и на свою беспомощность.
Полное молчание верхов при такой картине приводило в состояние не только недоумения, но прямо-таки негодования. За четыре дня ни одного приказа от верховного командования, и ни одного приказа от командующего армией!
Шоссе, ведущее в Лодзь, было забито. Все виды шоссейного транспорта, военного и гражданского, машины и повозки, переполненные домашним скарбом, толпы крестьян, убегавших от приближающегося врага шли за войсками, не ведая куда и зачем. За телегами брели лошади, коровы, телята, стада свиней. Все это сбивалось в кучи, совершенно загромождая дорогу. Люди плакали и возмущались, особенно когда проходили мимо солдат. Паника охватила всех. Кроме того, на шоссе было полно солдат-одиночек или небольших групп, не то военных, не то гражданских, еще не мобилизованных, но приписанных, спешивших догнать свои части. Они были вооружены винтовками. Все они, собственно говоря, блуждали. Отстали от своих подразделений и теперь не знали, куда идти и что делать. Не было никого, кто мог бы дать им какое-то указание. Они чувствовали, что являются лишь обузой, обременительной для этого странного командования, не нуждавшегося в солдате, рвущемся в бой. Никогда не поймет этого тот, кто не видел тогда, как в поте лица, голодные, измученные солдаты шли и шли вперед, лишь бы к своим, только бы в свои части, с одним лишь желанием: чтобы кто-нибудь повел их на врага.
К трем часам дня мы приехали в Лодзь, где я разыскал штаб армии генерала Руммеля, разместившийся в Радогощи в нескольких километрах от города в каком-то дворце, расположенном в большом старом красивом парке. Здесь вокруг стояла тишина и спокойствие. Никаких караулов и постов не было. Подобные явления можно было наблюдать во время всей кампании. Преступная беспечность наших штабов и командующих. Какой-нибудь небольшой неприятельский патруль или диверсионный отряд украинских националистов, или местных немцев могли, как из мешка, повытаскивать наших командиров, попросту ликвидировать их, захватить оперативные планы и приказы, и никто бы этому не воспрепятствовал, а, может быть, даже никто бы об этом и не узнал.
Штаб армии Руммеля занимал весь обширный дворец. Здесь находились квартиры офицеров и обслуживающего персонала. Здесь же было казино (столовая) и солдатские лавочки, а перед зданием в парке стояло много различных грузовых и легковых автомобилей, санитарных машин, мотоциклов и т. п.
В штабе очень трудно было ориентироваться, где что помещается и как кого найти. Можно было ходить по лабиринту залов, не будучи никем задержанным. Поэтому я довольно долго блуждал в поисках оперативного отдела. Наконец, мне дали солдата-посыльного. Он привел меня к комнате, на дверях которой виднелась надпись «III отдел штаба». В комнате находилось три офицера и среди них хорошо мне знакомый майор, мой недавний инструктор и наставник по Высшей военной школе. На стенках множество карт с прикрепленными флажками, которые должны были отмечать движение и концентрацию войск как своих, так и неприятельских. На столе лежали кальки, красиво раскрашенные в голубой и красный цвета со стройно расставленными черточками, кружками и другими знаками. Это создавало видимость образцового порядка.
Майор И. подбежал ко мне с радостным возгласом: «Ну вот, видите, у нас война, настоящая война, не на бумаге. Прошу Вас посмотреть, вот сюда». Показал на линию фронта, которая, впрочем, была уже устаревшей, ибо десятая пехотная дивизия, ни наша бригада уже не занимали отмеченных штабом на карте позиций. Эти соединения отошли на многие километры в тыл.
Я был безмерно поражен полным отсутствием резервных сил. Высказал опасение, что армия не сможет помочь десятой дивизии, которая в течение двух дней ведет тяжелые оборонительные бои и в настоящее время проходит через городок Шадек. Довольная физиономия майора сразу поблекла. Обмен мнениями о положении на фронте был прерван воздушной тревогой. Страх, охвативший майора, был так силен, что это меня несказанно удивило.
Я вышел из комнаты. Нигде ни живой души. Все пропали, оставив на столах приказы, донесения, инструкции и шифры. Оставили все то, что должно было, как материал совершенно секретный, находиться под замком. Через разбитые окна гулял ветер и разбрасывал бумаги по полу.
Я направился в парк, где часть офицеров и подофицеров вместе со случайными, вроде меня, гостями, оказавшимися в это время в штабе, стояла под огромными деревьями и наблюдала за налетом. Между прочим, я встретил здесь своего гимназического коллегу поручика Станислава Войцешку. Сейчас он был в бронетанковых войсках и с несколькими бронемашинами прятался в парке от авиации.
— Как живешь, старый друг? — обратился я к Войцешке.
— Я живу хорошо, но ты посмотри сюда, — он показал рукой на город, где видны были огромные клубы дыма. — Кажется, немцы подожгли склады бензина и какие-то предприятия около вокзала.
— Ты давно в Лодзи? — спросил я его.
— Недавно.
— А налеты часто бывают?
— Ежедневно, а иногда и по несколько раз в сутки, но пока они не особенно нам навредили.
— А что еще слышно?
— Англия и Франция объявили Германии войну. Как будто даже линия Зигфрида уже прорвана. Бьют немцев на западе. Сегодня наши разбомбили Берлин, говорят, что весь лежит в развалинах.
Я чувствовал, что это неправда, однако так хотелось поверить. Схватив Сташка в объятия, я начал целовать его, страстно желая внушить себе самому, что есть от чего радоваться.
Когда налет закончился, я пошел снова искать начальство. В результате наткнулся на полковника Прагловского, начальника штаба армии «Лодзь». Начальник штаба спокойно меня выслушал, а затем предложил возвратиться в бригаду, куда, как только армия получит инструкции от главного командования, будут высланы необходимые приказы.
На дорогах было еще хуже, чем утром. Люди, таща свое имущество на себе и на телегах, двигались огромным потоком. В этой массе брели группы солдат и полицейских.
До наступления сумерек я прибыл в штаб бригады. Бригада вновь переменила свою стоянку. Продолжала отступать. На этот раз уже безо всякого соприкосновения с неприятелем, а лишь в результате сложившейся общей обстановки, в частности отхода десятой дивизии. Отыскались все полки бригады. Они получили приказ к отступлению и занятию своих позиций в новой местности, находившейся в тридцати километрах дальше на восток. Там они должны были ждать новых приказов.
К сожалению, приказов из армии не поступало. По сути и фронта уже не было. Отступали и мы. Никто не мог дать себе отчета в том, что, собственно говоря, происходит. Никакие известия до нас не доходили. Связи с армией по-прежнему не имелось.
6 сентября вблизи Бжезин, под Лодзью, вдруг пронесся слух, будто немцы окружают нас и уже приближаются их передовые части. Сразу же началась паника и разнобой в отдаче приказов. Полковник Гробицкий вызвал к себе подполковника Моссора, который со своим полком всегда находился под рукой, и отдал ему следующий приказ:
— Господин подполковник, бригада будет двигаться в направлении Варшавы (карт не было). Вы останетесь на этом скрещении дорог и будете оказывать сопротивление. Вы должны продержаться здесь до вечера (было 10 часов утра), даже если бы Вам вместе с полком пришлось погибнуть. Вы должны выстоять, иначе бригаду не спасти.
Подполковник Моссор, слушая приказ, кивал головой. Тяжело. Но приказ остается приказом. Он остановил свой полк и с тех пор об этом полку мы ничего не знали до конца войны. Был слух, что этот отважный командир довел свой полк до Варшавы и там принимал участие в обороне столицы.
В это время произошел мелкий, но неприятный и, к сожалению, характерный эпизод. Как я уже говорил, по армии прошел никем не проверенный слух, будто за нами идут немцы, и их мотоциклисты вот-вот должны появиться. Начальник штаба бригады подполковник Витковский, чтобы лично проверить достоверность слуха, сколько в нем правды, сел в коляску мотоцикла. Взял с собой улана, посадив его на седло за водителем, и направился в сторону, откуда ожидался противник.
Мы стояли в деревне, а за изгородью по направлению к шоссе была установлена противотанковая пушечка. Уланы, обслуживающие пушчонку, хорошо видели, как подполковник Витковский отправлялся и их командир лично перед этим с ним разговаривал. Вдруг через несколько минут нас поднял на ноги внезапный выстрел из этой пушки. Но так как стрельбы больше не было, мы не обратили особого внимания на происшедшее. Однако вскоре к нам подъехал на лошади Витковский, весь залитый кровью, едва державшийся в седле, в изорванной одежде. На вопрос о том, что произошло, подполковник рассказал, что когда он возвращался, в него с расстоянии каких-нибудь трехсот шагов выстрелили из этой пушки. Выстрел был такой меткий, что оторвал водителю мотоцикла голову, а улану, сидевшему за ним, этим же снарядом пробило грудь. Подполковник же вместе с мотоциклом упал в ров, расшибся, ободрал лицо и вывихнул руку. Когда он выкарабкался и пытался идти в сторону деревни, уланы узнали его и дали коня, на котором он и приехал к нам.
О противнике сообщений не поступало, а шоссе в том направлении, откуда он мог появиться, было свободно на протяжении многих километров. Подполковник после своего рассказа отправился в госпиталь в Варшаву. А тех двоих наскоро похоронили.
Бригада начала отходить. Ускоренным маршем двигались к Варшаве. Никакие приказы до нас так и не доходили, а ждали их с нетерпением как в армии, так и в бригаде, не проявляя при этом никакой собственной инициативы, никакой предприимчивости, ни малейшего действия, продиктованного требованием обстановки. Полная апатия.
А возможности драться и уничтожать врага имелись весьма большие. Хорошо помню, как мы проходили через Кампиноскую Пущу. Буквально тысячи хорошо вооруженных солдат бродили по лесу совершенно бесцельно. Прямо-таки напрашивалось использовать их для боев в лесу, для устройств засад и партизанских действий в тылу врага в широком масштабе. Можно было создать множество очагов сопротивления, нападать на врага врасплох. Вся территория между Вартой и Вислой должна была быть единой огромной сетью ловушек для врага. Наша полумиллионная армия, использованная в этом районе для партизанской борьбы, была бы в состоянии нанести немцам неизмеримо большие потери при меньших потерях со своей стороны, чем это было в действительности.
Об этом я говорил подполковнику Плонке, командиру 22-го уланского полка, с которым несколько часов мы ехали рядом на лошадях, как раз через леса и перелески Кампиноской Пущи. Никакого впечатления. Он считал: «У нас нет приказа, мы должны спешить в Варшаву, а кроме того мы не можем позволить нас опередить и окружить».
Не дать возможности себя опередить, окружить — это была какая-то мания, какой-то психоз, который охватил умы и души наших командиров и заслонил все.
Словом, происходило соревнование с немецкими бронетанковыми частями — кто скорее дойдет до Варшавы — они или мы. Никто не думал о том, чтобы задержать врага хотя бы на несколько часов, если не на несколько дней или дольше.
В Варшаву, как можно скорее в Варшаву!
8 сентября через Модлин мы прибыли в Отвоцк. Штаб бригады разместился в замечательном пансионате, в сосновом парке. Здесь бригада, наконец, получила долгожданный приказ, на основе которого она придавалась группе генерала Андерса. Состояние бригады было плачевным. Фактически она перестала существовать, числилась лишь на бумаге и в воспоминаниях.
1 сентября бригада вступила в бой в составе четырех кавалерийских полков, дивизиона конной артиллерии (4 батареи), бронетанковой роты, зенитной батареи, разведывательного эскадрона и эскадрона связи. Это было крупное, сильное боевое соединение.
После двух дней не очень тяжелых боев и после нескольких дней марша без сражений и даже без соприкосновения с противником от этого замечательного боевого соединения из-за неумелого его использования командиром почти ничего не осталось. Бригада буквально развалилась и рассыпалась. Я особо подчеркиваю: это случилось без каких-либо боев с немцами! Даже самолеты нам не очень досаждали. Только один раз мы стали объектом налета, и то небольшого, около Скерневиц, причем, мы не понесли никаких потерь.
В Отвоцке состав бригады выглядел следующим образом: восемь офицеров командования с командиром бригады полковником Гробицким, поручиком Зигмунтом Янке, ротмистром Скорупка и со мной, интендантом бригады, несколько офицеров запаса и немного подофицеров. Транспорт состоял из двух легковых автомобилей и нескольких десятков лошадей.
Из 20-го уланского полка остался только один взвод в составе 30 конников. Остальные потерялись где-то в пути. Шестого кавалерийского полка вообще не было, он остался на месте, получив задачу прикрывать наш отход. Из 22-го полка имелся неполный эскадрон. Один кавалерийский полк вообще нельзя было найти, от дивизиона конной артиллерии, от бронемашин и зенитной батареи не осталось и следа. То же самое произошло с эскадроном связи и разведывательным, которые пропали неизвестно где и когда. Принимались меры к розыску кавалерийского полка, о котором имелись непроверенные данные, что он находился где-то недалеко от нас. В таком составе мы были включены в группу генерала Андерса.
«Оперативная группа» Андерса, перед которой была поставлена задача обороны Вислы на юг от Варшавы, собственно говоря, никогда до конца не была сформирована. Группа фактически состояла из Барановичской кавалерийской бригады, командиром которой являлся Андерс, Волынской кавалерийской бригады, под командованием полковника Филиповича, а также несуществующей группы полковника Гробицкого. Штаб оперативной группы во главе с Андерсом находился под Вянзовной.
12-го утром мы получили приказ, чтобы бригада прикрывала тылы группы Андерса, которая должна была нанести удар по Миньску Мазовецки и одновременно оборонять Вислу под Отвоцком. При этом забыли только об одном, о том, что бригада не существует.
Выполнение этого приказа выглядело так: все, что было способно двигаться, объединялось в походную колонну, которая с небольшим интервалом следовала бы по шоссе за частями, имевшими задачу осуществить удар по Миньску. Около 22-х часов мы тронулись все вместе, это значит: два легковых автомобиля, один военный вездеход, одна грузовая автомашина и приблизительно около ста всадников. Чуть дальше за нами, сзади, следовало тридцать конных повозок бригады. Общее направление двигаться за группой Андерса.
Поход на Миньск Мазовецки полностью провалился.
Мы вынуждены отступать на Люблин. Хаос на дорогах царил невероятный. Темная ночь еще более затрудняла какое бы то ни было передвижение. Колонны походили на сплетенные тела огромных ужей, конвульсивно вздрагивающих и не могущих двинуться в какую-либо сторону. Транспортные же средства забили не только шоссе, но и обочины. Путь отступления был отмечен опрокинутыми машинами, телегами, изломанными колесами. Колонны шли в разных направлениях, но никто не знал, куда и зачем. Часто было неизвестно, где конец одной, а где начало другой. Командиров нигде не было видно. Воинских частей также. Только машины и повозки всевозможных видов и назначений. Извивающаяся бесконечная лента. Казалось, что этому нет конца. О каком-то организованном продвижении не могло быть и речи. Приказы опять не приходили.
В такой обстановке я потерял остатки группы и с трудом, часто сворачивая в поле, наконец добрался до Гарволина, который выглядел как огромный фейерверк. На фоне темной ночи, в свете пожаров, виднелись сотни двигающихся мужчин, женщин, стариков, детей, телег, лошадей, коров, овец. Все это двигалось в различных направлениях, шумело, поднимая невообразимый гомон. Выли и лаяли собаки, мычали коровы, блеяли овцы, ржали лошади. Люди бегали, как безумные, с красными от огня лицами.
О проезде через Гарволин не могло быть и речи. Я отъехал на машине несколько километров от города в поле и остановился около шоссе на стерне в ожидании, пока это смешение людей и средств транспорта удалится в одну или другую сторону. Так и дождался утра. Утром на шоссе стало немного свободнее, а главное — виднее. В воздухе носился дым и запах горелого. Пожар уже утих, поглотив все, что могло гореть.
Я приехал в Гарволин и увидел страшную картину. Города попросту не существовало. Скелеты домов, руины и еще дымящиеся развалины. Ни души. Проехал в казармы за городом.
Застал там нескольких офицеров и два-три десятка солдат. От них я узнал, что все должны следовать на Люблин, так как там должна быть сформирована новая ударная армия генерала Домб-Бернацкого.
О группе Андерса ничего не слышали. Некоторые говорили, что кавалерия получила приказ двигаться по направлению на Парчев. Я поехал в сторону Люблина. Вся дорога Гарволин — Люблин была забита людьми. Шли гражданские со своим имуществом, молодые добровольцы и мобилизованные. Двигались небольшие группки военных, пробиравшихся вперед пешком, на телегах, иногда на автомобилях или верхом. Время от времени встречались отдельные пушки и даже целые батареи. Около шоссе валялось множество убитых лошадей, разбитых телег и перевернутых автомашин.
Вдруг появился один немецкий самолет. Начал пикировать и обстреливать шоссе из пулемета. Какие-то обезумевшие лошади в разъяренном галопе понесли одинокую пушку серединой дороги. Эта пушка зацепила боком за мой автомобиль и мгновенно опрокинула его в ров. Вместе с шофером кое-как выкарабкались из-под машины, подняли нашу «декавку» и поставили вновь на шоссе. Оказалось, что мотор не был поврежден, вырваны лишь дверцы и погнуты крылья. Таким образом могли следовать дальше. Я стал вглядываться, пытаясь увидеть, что произошло с пушкой. Невдалеке, метрах в ста от нас, на шоссе столпотворение. Видимо, раненые кони упали, другие не могли освободиться от упряжи, тем более, что их всей своей тяжестью придавила пушка. Прохожие стали обрубать постромки и освобождать бедных животных. Не задерживаясь, поехал дальше. В этот же день под вечер добрался до Люблина.
Движение здесь было необыкновенное. Войсками забиты улицы, казармы, город и окрестности. Найти кого-либо было делом трудным. Учреждения уже не действовали, и никаких властей я не мог разыскать. Пришлось дожидаться утра.
Утром в казармах, от каких-то офицеров узнал, что Люблин должен быть эвакуирован, и все войска покинут город. Гражданские и военные власти это уже сделали.
Это было 14 сентября 1939 года.
Об ударной группе Домб-Бернацкого, которая должна была формироваться в Люблине, никто ничего не знал, а его самого в Люблине не было.
Масса солдат блуждала без командиров и не знала, что делать. Общее направление эвакуации проходило в сторону юга, к румынской и венгерской границам, где якобы будет происходить сосредоточение войск. Однако ничего более подробного узнать было нельзя. Почти все указывали мне на Хелм-Влодаву как на ближайший ориентировочный пункт. Когда спрашивал о кавалерии и о группе Андерса, обычно слышал тот же самый ответ — направление Влодава. Мне не оставалось ничего иного, как направиться в эту Влодаву, новую Мекку, куда сейчас все устремлялись.
Положение на дорогах было такое же, как под Лодзью, Варшавой или Люблином. Масса кочующих была прямо-таки замечательной целью для «Дорнье» и «Мессершмиттов», которые, используя обстановку, сеяли вокруг смерть и опустошение, а прежде всего дезорганизацию.
15 сентября в 16 часов добрался до Влодавы.
Военных здесь было, как муравьев, а хаос и беспорядок царил еще больший, чем где-нибудь в другом месте. Никто не командовал, не издавал приказов, не знал обстановки. Никто не знал, что делать дальше, а главное, что было самым тяжким, никто не старался овладеть положением на месте. Единственно, что мне удалось узнать, что группа Андерса находится в ближайших лесах, а Восточная бригада, которой командовал полковник Гробицкий, совсем близко в какой-то деревне, в нескольких километрах от Хелма. Мне даже указывали предполагаемое название местности.
Такие сведения удавалось получать от знакомых и случайных офицеров, которые в поисках своих частей при случае узнавали о других и таким образом приблизительно ориентировались, кто где находится.
Осмотревшись в городе, я решил, чтобы не возвращаться в бригаду с пустыми руками, собрать немного солдат. Мне ведь было известно, что бригада фактически не существует, а тут солдат всюду полно. С этой целью поехал по направлению на Люблин под Хелм. Тут начал задерживать небольшие группки и отдельных уланов, потерявших свои подразделения. Через несколько часов уже набрал около сотни человек. Разделил их на взводы, приказал расседлать лошадей, приготовить обед в случайно приобретенной полевой кухне и дать коням корм. Видя организованную часть, к нам все больше стало приставать солдат. Стоило кому-нибудь предложить присоединиться к нам, как это предложение с радостью принималось.
Таким образом, я обзавелся двумя противотанковыми пушечками, двумя крупнокалиберными пулеметами и походной кухней.
В течение немногих часов я уже имел часть, состоящую из ста двадцати сабель, восьмидесяти самокатчиков, а также пулеметы и пушки. Всего около трехсот человек.
На следующий день на рассвете тронулся в путь, чтобы отыскать группу Андерса и бригаду. Через несколько километров марша, проезжая через одну из деревень, я наткнулся на Гробицкого.
Полковник Гробицкий вместе с поручиком Янке сидел в саду в одном из домишек. Увидев меня, очень обрадовался, выбежал на дорогу, приветствуя издалека и крича. Он думал, что немцы взяли меня в плен под Гарволином. Я доложил, что веду солдат в бригаду для ее усиления. В потухших глазах полковника я заметил блеск. Слегка сгорбившаяся фигура выпрямилась. Он снова почувствовал себя командиром, ведь теперь он имел солдат.
Как позже выяснилось, штаб бригады в тот момент состоял из трех офицеров: полковника Гробицкого, ротмистра Скорупки и поручика Янки, а также нескольких уланов, одного автомобиля и пяти повозок. Следовательно, приведенный отряд являл собой в этих условиях силу, какой не было вокруг, — непостижимую мечту командира бригады.
В тот же день я представлялся в штабе Андерса, где от моих добрых друзей ротмистра Кучинского и поручика Кедача узнал много неприятных вещей. Они мне сообщили, что как будто есть приказ о движении к румынской или к венгерской границе и даже о переходе через нее, что правительство и верховный главнокомандующий покинули Варшаву, и никто не владеет обстановкой. Говорили, что Андерс совершенно потерял голову, не хочет сражаться, а старается сторонкой, избегая всякой возможной встречи с неприятелем, как можно быстрее пробраться в Венгрию. Говорили о том, что единственным человеком, который думает и работает за всех, является майор Адам Солтан, начальник штаба Андерса, и что если бы не он, то от всей группы и помину не было бы...
Проходили дни. Наша группировка продвигалась к югу. Примерно 21 сентября мы оказались в Грабовских лесах около г. Замосц. Никто на нас не нападал. Шли мы проселочными, глухими дорогами. Противника не было видно, даже немецкие летчики оставили нас в покое.
Андерс приказал бросить все повозки, все, что могло отяготить наши части, даже походные кухни и повозки с боеприпасами. Солдат должен был взять с собой только то, что сможет унести он или его лошадь. Таким образом, предполагалось сократить растянутость колонны и облегчить переход через границу.
Какая-то глухая боль давила нас от таких распоряжений. Было совершенно ясно, что уже ничего не готовилось для борьбы с немцами. Никаких сведений мы не имели и не знали, что вокруг нас происходит. Доходили лишь неясные вести, будто Красная Армия вошла на территорию Польши. Никто однако не знал точно, правда ли это, а если да, то с какой целью. Ходили самые фантастические слухи.
В таком состоянии духа и организации мы находились, когда 22 или 23 сентября под Замосцем нам преградили дорогу немцы. Части Андерса вынуждены были пробиваться по направлению на Красныбруд.
Генерал вызвал меня и приказал продвигаться в нескольких километрах за ним, в качестве боевого охранения, прикрывавшего его главные силы. Задача была неясная. Карт не было, и никаких больше уточнений не получил. Мне даже не указали, на какой ширине участка я должен был прикрывать части. Средств связи, кроме конного посыльного и самокатчика, я не имел никаких. Видно было, что генерал и сам не мог уточнить своего приказа, не знал, в какой обстановке находится он и подчиненные ему части. В заключение он сказал, чтобы я сам ориентировался по своему усмотрению и действовал, исходя из условий.
Я собрал солдат, разделил их на отделения и стал ждать, пока двинутся главные силы. Мы находились в лесу. Нас обстреливала немецкая артиллерия. Снаряды с глухим шумом падали в лес, внося замешательство. Разрывались, ударяясь о деревья, что усиливало впечатление боя, но нам особого вреда на приносило. Лишь в 19-м уланском полку имелось немного раненых лошадей. Наше движение продолжалось. Прибывали раненые. Перевязочных пунктов не было. Раненый солдат был предоставлен сам себе или оставался на попечение и добрую волю местных жителей, которые в этой местности относилась к нам, пожалуй, враждебно. Это были, главным образом, деревни украинские.
В каком-то доме у дороги мы соорудили нечто вроде приемного пункта, где раненые могли хоть немного отдохнуть, сделать себе перевязку. Кроме того, мы могли дать им горячего чаю из приобретенной походной кухни.
Продвижение шло как будто хорошо. Я вел своих подчиненных, стараясь через связных поддерживать связь с главными силами. Под вечер стрельба утихла, а ночью установилась полная тишина. Догнать своих я не мог. Какая-либо связь с ними прекратилась. Встречали много всадников, едущих нам навстречу. От них я узнал, что группа перестала существовать, рассеявшись под Красныбрудом. Андерс хотел издать приказ о том, чтобы каждый солдат по своему усмотрению пробирался в Венгрию или Румынию, куда направлялся и он сам. Однако большинство его частей предпочитало остаться в Польше. Многие совершенно недвусмысленно заявляли о своем желании возвратиться в Варшаву, о которой было известно, что она сражается.
Из леса мы вышли на рассвете. Подходивший к деревне патруль был встречен огнем. В деревне находились немцы. Поручик Хвалек и спешенные самокатчики с ожесточением, проявляя чудеса храбрости, бросились на деревню. Захватили ее половину. Это наступление мы поддерживали пулеметами и противотанковыми пушками. Однако, получив подкрепление, немцы вынудили нас отступать к лесу, где к нам присоединился какой-то артиллерийский офицер с несколькими солдатами и двумя 75-миллиметровыми пушками. Нашу артиллерию и пулеметы мы замаскировали в лесу. Солдаты посменно отдыхали. Был замечательный, погожий день. Тишина и ничем не нарушаемый покой царили в лесу.
Однако наш отдых через несколько часов был прерван. Из деревни, находившейся в двух километрах от нас, показалась немецкая моторизованная колонна. Она, видимо, ничего не опасалась, ибо двигалась без всякого боевого охранения. Перед колонной ехало только четыре мотоциклиста и одна бронемашина, а за ними на расстоянии каких-нибудь двухсот метров два легковых автомобиля. Еще через полкилометра шла колонна грузовых автомашин с пехотой.
Добыча замечательная. Уланы застыли в ожидании. Все наше оружие мы навели на эту колонну. Противотанковой пушкой взяли на прицел бронемашину. Я залег за ручной пулемет и запретил стрелять, пока сам не открою огня.
Очень боялся, чтобы кто-нибудь из уланов, не выдержав нервного напряжения, не начал стрелять преждевременно: он мог вспугнуть немцев и выдать засаду. Сердце стучало, как никогда. В этой войне я впервые так близко встретился с немцами. Ждал терпеливо, секунды казались часами. Позволил группе самокатчиков подойти к нам на расстояние каких-нибудь двухсот метров и только тогда нажал на спусковой крючок. Помню, что оторвался от пулемета лишь тогда, когда магазинная коробка оказалась пустой. Весь лес задрожал и вдруг ожил. Немцы были застигнуты врасплох. Бронемашина от прицельного огня свалилась в ров. Один легковой автомобиль горел, а второй перевернулся. Мотоциклисты повернули обратно, но далеко не ушли. Наши две пушки били вдоль дороги по колонне. Станковые и ручные пулеметы били по поспешно разгружавшейся немецкой пехоте. Немного погодя, и на нас со стороны неприятеля стали падать снаряды. Колонна осталась на дороге. Большинство машин было разбито. Немцы суетились около них, вытаскивая пулеметы и минометы. Они начали отходить к лесу, но, придавленные нашим огнем, залегли в поле.
Мы держались так около часа. Через час из деревни откликнулись немецкие пулеметы. Однако их огонь нас не достигал. Все же через несколько минут батальон немецкой пехоты перешел в наступление. Следовало уходить. У нас не было ни одного убитого, лишь немного легко раненых, которых я приказал поместить на повозки. Постепенно все было готово, и мы, прикрываясь лесом, могли оторваться от неприятеля.
Скрываясь по лесам и ведя бои, где удавалось, мы продержались до 29 сентября. У нас уже не было боеприпасов. Пушки стали ненужными. Велосипеды были поломаны, большинство лошадей хромало, поэтому их пришлось оставить на месте. Людей убывало тоже с каждым днем. Мы были измучены и голодны. Вечером 29-го мы уничтожили пушки и пулеметы. Я разбил солдат на маленькие группки, чтобы они без потерь смогли вернуться к себе домой.
Мы уже знали, что Красная Армия вошла на территорию Польши. До нас доходили слухи, что наши части ею разоружаются и распускаются по домам.
В ночь с 29 на 30 сентября после молитвы и пения «Роты» мы сердечно распрощались. Момент был торжественный, но печальный и мучительный.
Каждый пошел в свою сторону. Мы знали, что боевые действия для нас в Польше кончились. Тем не менее все отдавали себе отчет в том, что это еще не конец, что война еще продолжается, и наш долг еще не выполнен.
С несколькими уланами я направился на Сокаль, а оттуда во Львов. По дороге встречались советские войска. Они нас не задерживали, и мы продолжали идти спокойно. В пути встречались такие же группки, как наша. Иногда объединялись, иногда только обменивались советами или замечаниями. Местное украинское население относилось к нам весьма враждебно. Его приходилось избегать. Только присутствию Красной Армии мы обязаны тем, что в это время не дошло до крупных погромов или массовой резни поляков.
Печальное это было время. Куда не кинешь взгляд — пепелища и руины. Безграничное отчаяние, вытекающее из невозможности оказать сопротивление, из отсутствия оружия, руководства, вождя...
Через несколько дней путешествия, не раз подсаживаясь на крестьянскую телегу, а иногда на советскую грузовую автомашину, 4-го октября я добрался до Львова.
Львов был полон жизни, полон людьми: нашими военными и советскими войсками. Город внешне выглядел почти нормально. Разрушения, причиненные военными действиями, были минимальны. Некоторые районы совсем не пострадали. Но жизнь во Львове протекала в ускоренном темпе. Гостиницы, рестораны, кафе были переполнены. Ничего удивительного, ведь население города увеличилось вдвое. Несмотря на убыстренный темп, всюду преобладала необыкновенная серьезность.
Я встречал множество друзей, товарищей по оружию. Почти все хотели попасть во Францию. Мы уже узнали, что генерал Сикорский формирует там польскую армию, что создано новое правительство, что будем продолжать сражаться, что Польша еще не погибла, как говорилось в польском гимне.
Во Львове я установил контакт с генералом Янушайтисом, Борута-Спеховичем, Андерсом, который находился в госпитале, и с рядом других офицеров.
Здесь же я узнал, что наш президент Игнаци Мосьцицкий, верховный главнокомандующий маршал Рыдз-Смиглы, все правительство вместе с генералитетом бросало Польшу, чтобы спасать свои драгоценные особы...
Во Францию
После многих бесед, проведенных с коллегами во Львове, а также с генералами Янушайтисом и Борута-Спеховичем, руководителями тогдашнего только зарождавшегося подпольного движения сопротивления я был послан Янушайтисом курьером в Париж к Сикорскому.
Тогда во Львове находилось больше шести тысяч офицеров. Часть из них должна была перейти границу и влиться в польскую армию во Франции, часть намеревалась остаться в Польше. Необходимо было также определить и выяснить наши отношения с Советскими властями. Кроме того, необходимо было установить постоянную и прочную связь с Парижем и получить деньги на проведение акций в Польше.
Однако наиболее нетерпящим отлагательства вопросом были наши отношения с русскими. Ситуация была неясная и с каждым днем ухудшалась, а урегулировать вопрос можно было только на высшем уровне обоих государств.
Мы вступили в тот период, который для одних стал долгим пеклом плена, для других же порой скитаний, конца которому не было видно.
Собираясь как специальный курьер в Париж к генералу Сикорскому для доклада о положении в Польше и получения инструкций для подпольной работы, я решил, что мне удобнее будет идти вдвоем. В качестве компаньона в это опасное путешествие я пригласил человека симпатичного и с характером, инженера Стефана Богдановича. К этому походу мы готовились солидно. Необходимо было иметь гражданские документы. Их мы имели. До Кут, где мы предполагали перейти румынскую границу, нам нужно было ехать под предлогом закупки ковров. Поэтому в одной из известных во Львове фирм мы достали рекомендательные письма и так, снабженные необходимыми документами, делали последние приготовления в дорогу. Нужно было иметь хорошие и удобные сапоги, теплое белье и немного денег.
Во время приготовлений случайно встретил своего бывшего командира 12-го уланского полка, полковника Бронислава Раковского. Это был уже не тот когда-то уверенный в себе человек, лишь развалина. От полковника Раковского я узнал, что во время войны он являлся офицером для специальных поручений при генерале Соснковском и принимал участие в обороне Львова, а затем был одним из членов военной комиссии, передававшей Львов советским властям. Он сказал мне, что имеет разрешение, выданное советскими органами, на право свободного проживания и передвижения по территории, занятой советскими войсками.
Когда Раковский узнал, что я еду в Париж, он начал просить меня взять его с собой. Мне стало жаль его, и я согласился. Полковник был счастлив. С этого момента он выполнял только даваемые ему поручения, не проявлял никакой инициативы, не обнаруживал никаких стремлений, кроме желания убежать за границу.
Навещая несколько раз Андерса в одном из львовских госпиталей, я узнал, что в последние дни сентября он с несколькими офицерами пробирался к венгерской границе, но был окружен группой местных украинцев и во время ночной перестрелки дважды ранен. Он сообщил об этом факте советским властям, попросив оказать помощь, и в результате оказался в госпитале во Львове. Он утверждал, что в госпитале хорошо, а представители советских органов относятся к нему доброжелательно и даже предлагали вступить в Красную Армию. В одной из бесед я сказал ему, что отправляюсь в Париж, к Сикорскому. Генерал просил, чтобы перед уходом я зашел к нему, он хотел через меня передать о своих делах Сикорскому. Как-то я привел к Андерсу полковника Раковского, а примерно 15 октября мне удалось через знакомых отыскать во Львове жену и дочь Андерса и при помощи тех же знакомых связать их с генералом.
Через несколько дней к нашей компании присоединился подхорунжий Бочковский. Дельный, развитой и ловкий паренек, молодой артиллерист, у которого я жил на улице Калечей, 24.
Незадолго перед отъездом я пришел к Андерсу. Генерал просил доложить Сикорскому о своем лояльном отношении к нему и желании служить под его командованием. Резко нападал на санацию[2], легионистов[3], осуждал Бека[4] и Рыдз-Смиглы[5], а в заключение просил, чтобы Сикорский каким-либо дипломатическим путем вызволил его из Львова и переправил в Париж, потому что состояние здоровья не позволяет решаться на нелегальный переход границы. Я обещал генералу, что все устрою так, как он хочет, и после получасовой беседы, сердечно попрощавшись, мы расстались.
Утром 22 октября 1939 года мы тронулись в путь.
Вышли из Львова пешком, добрались до первой железнодорожной станции и там купили билеты до Коломыи. Покупали билеты каждый в отдельности. Движение на вокзале было огромное, поэтому мы старались не привлекать внимания. В купе входили по одному, как совершенно незнакомые люди. Полковник Раковский страшно нервничал. Казалось, что он не выдержит напряжения. Достаточно было не него взглянуть, чтобы догадаться — с этим человеком что-то не в порядке. С тревогой он озирался по сторонам, со страхом в глазах подскакивал, как только открывались двери и кто-нибудь заглядывал в купе. Он курил папиросу за папиросой и пальцы дрожали так, что спички выскакивали из рук. Становилось ясным, что этот человек подведет, он не в состоянии пройти наш путь.
Однако до Коломыи мы доехали благополучно. Вышли на станцию. Нас никто не задерживал. Впрочем, здесь, как всюду в то время, вертелось множество народа. Люди ехали в разные стороны. В городе мы разместились у знакомых и в случайных домах, каждый отдельно. В ночлеге нам не отказывали, жители к этому привыкли, почти ежедневно принимали в свои квартиры кого-нибудь незнакомого. Всегда оказывали помощь, кормили, давали ночлег и почти никогда не брали за это денег, а во многих случаях оказывали небольшие услуги, вроде поддержания связей между нами, сбора сведений или подавали советы. Люди еще верили друг другу, доверяли, смотрели в глаза, оказывали взаимную помощь.
Я занялся подготовкой к переходу границы. Это было не простым делом. Граница охранялась бдительно. Несмотря на многие трудности, через несколько дней мне удалось подготовить переход границы около Кут.
Из Коломыи автобусом мы поехали в Косов. Дорога была спокойной. Ехали мимо красивых предгорий, лесов, убранных в октябрьский золотой и красный наряд.
Вот и проверочный пункт. Здесь задерживался каждый автобус, и местные власти — это значит милиция — его перетряхивали, внимательно оглядывая пассажиров. Каждого, кто казался подозрительным, задерживали. Так происходило и в этот раз. Когда в автобус вошли милиционеры, сердца наши забились учащенно. Мы старались не смотреть друг на друга. Каких-то двоих задержали и забрали, нас же не тронули. Необъяснимым чудом мы не показались им подозрительными. После проверки автобус двинулся дальше в сторону Кут. Не доезжая трех километров до города, мы сошли и, разделившись по двое, направились в город. Я с инженером Богдановичем впереди, а в двухстах шагах за нами полковник Раковский с подхорунжим Бончковским. Когда мы подходили к предместью, около нас стало крутиться несколько подростков. Мы поняли, что попали под наблюдение. В нашем распоряжении оставалось совсем немного времени. Встретиться с проводником с которым условились еще ранее в Коломыи, я мог лишь после заката солнца. Он обещал провести известным только ему путем.
Около Кут нас задержала милиция, состоявшая тогда главным образом из украинских юношей в гражданской одежде, с красными повязками на левом рукаве и с винтовками. Нас отвели на пост, помещавшийся в одном из домов у рынка. На первом этаже в дежурной комнате на лавках около стен сидели милиционеры, выглядевшие так же, как и те, что нас задержали. В руках винтовки, а у некоторых были даже примкнуты штыки. За столом на лавке сидел «старшина милиции», человек пожилого возраста, рядом его помощник, лет двадцати с небольшим, а с другой стороны, кажется, лейтенант Красной Армии. Мы предстали перед ними. Старшина, хорошо владеющий польским языком, спросил нас, кто мы. Я ответил, что являюсь студентом, а Богданович инженером. Предъявили свои паспорта. Документы у нас были в порядке. Затем он спросил, зачем мы сюда приехали. Мы отвечали, что начали торговать коврами, а Куты славятся их производством. Поэтому приехали сюда, чтобы закупить партию ковров для Львова. Нашим ответом очень заинтересовался помощник начальника, родители которого, как оказалось позже, имели в Кутах большой магазин ковров. Он расспрашивал нас, знаем ли, где их искать, а затем дал адреса нескольких магазинов, после чего мы уже без всяких трудностей получили разрешение на двухдневное пребывание в Кутах.
Во время нашего допроса на пост привели Раковского и Бончковского. Как оказалось, каждого неместного, появившегося в городе, задерживали и отводили в милицию. Мы сделали вид, что не знакомы. По выражению лица и поведению полковника я сделал вывод, что он «выдохся». Весь трясся, как студень. Было видно: Раковский полностью капитулировал. Мы покидали пост с пропусками, разрешившими свободно пребывать в городе. После нас начали допрашивать тех двоих. Мы решили их подождать. По рыночной улице прохаживались взад и вперед, наблюдая, не выйдут ли. Примерно после сорока минут такой прогулки, решили больше не ждать, вероятно, их задержали.
С обоими моими товарищами по путешествию я встретился много лет спустя, уже в совершенно иных условиях.
А тогда мы пошли в гостиницу, сняли номер и спросили, где можно что-либо поесть. Хозяин гостиницы, предприимчивый и любезный человек с бегающими глазами, проверил наши пропуска и дал комнату, зарегистрировав нас в книге. Он слегка улыбался, кивая головой, и, хотя лицо у него было хитрое, чувствовалось, человек он не плохой. Между нами возникла симпатия.
Умывшись, мы снова пошли в город. Зашли в ресторан и поужинали. Я надеялся, что полковнику как-то удастся освободиться. Посматривал на улицу. Выйдя из ресторана, мы еще долго прогуливались, но напрасно. Наконец, подошло условленное время встречи с проводником и я пошел к месту встречи. Было уже совершенно темно. Проводник ждал и хотел нас сразу же вести. Надо было пойти за город, в горы и лесами дойти до реки Прут, являвшейся границей. Все это казалось делом простым. Проводник знал дорогу прекрасно и заверял, что она совершенно безопасна. Советовал идти немедленно. Именно так и следовало поступить, но я подумал, что непорядочно уйти, ничего не узнав о судьбе полковника и его товарища. А вдруг сегодня или завтра рано утром их отпустят, а без нас они не сумеют перейти через границу, особенно полковник. Я вспомнил, как Раковский говаривал: «Я дал бы себе отрезать ногу, только бы вырваться отсюда, только бы убежать». И я решил остаться. Проводник стал меня упрекать, вероятно, подумал, что я струсил. Он успокоился только когда я заплатил ему условленную сумму, несмотря на то, что мы не воспользовались его помощью. Однако придти на следующую ночь отказался.
Ничего не поделаешь. Нет, так нет.
Дело начало осложняться. Я вернулся к Богдановичу, и мы еще немного пошатались по городу. Вроде все было спокойно. Всюду болталось довольно много людей. Городишко, хотя небольшой, был довольно оживленным. Около одиннадцати часов вечера мы направились в гостиницу.
Поприветствовав хозяина, мы задали ему обычный вопрос: Что слышно? Что нового?
— Ничего особенного, ответил хозяин. — Сегодня задержали несколько подозрительных лиц. Они будто хотели, перейти границу. А перед вечером арестовали какого-то полковника, который шел с молодым парнем, выдававшим себя за крестьянина. Кажется, этот юноша оказался тоже военным.
Мы онемели. Поняли, речь идет о наших спутниках. Именно подхорунжий Бончковский должен был выдавать себя за сына крестьянина. Однако вида не подали, проявив полное безразличие. Через минуту Богданович все же спросил:
— Ну и что делают с такими задержанными?
— Их машинами отвозят в Колымыю, а оттуда во Львов.
Все было ясно. Но очень хотелось надеяться им как-нибудь удастся сбежать. Мы пошли спать, а в пять утра были уже на ногах. Хотели разузнать, когда и как их повезут. Но наши намерения оказались невыполнимыми.
Надо было думать о своем переходе. Мы бродили по городу и его окрестностям. Несколько раз нас задерживали, но выданные нам пропуска всюду открывали путь. О переходе границы около города Куты не могло быть и речи. Вдоль всей границы было полно пограничных застав. Через каждые пятнадцать минут проходил патруль. Пройти к самой пограничной полосе было делом не простым, милиционеры задерживали всех, неизвестных им лиц. Положение становилось мучительным. Мы вернулись в гостиницу с вытянутыми физиономиями. И это не укрылось от внимания нашего хозяина. Приветствуя нас, он спросил, как идут дела:
— Видимо не особенно хорошо, а?
Слово за слово, и мы договорились. Хозяин обещал оказать нам содействие. У него был родственник, лесничий, который мог нам в переходе границы помочь. Условились, что на машине, которая придет рано утром, доедем до шоссе, идущего вдоль реки Прут или вдоль границы. А оттуда попытаемся перейти границу. Может, удастся во время проезда мимо постов. Мы были благодарны. За оказание этой услуги хозяин гостиницы ничего взять не захотел. Он считал, что выполняет свой долг и радуется при виде молодых людей, стремящихся в армию сражаться против немцев. Он рассказал, что помог уже так нескольким. Отъезд назначили на следующий день в семь утра.
Успокоившись, что самый важный вопрос решен, мы с облегчением вздохнули и пошли снова в город. На этот раз ненадолго, только чтобы кое-как поесть, и около восьми уже вернулись. Легли спать, чтобы на следующий день, который мог принести нам различные приключения и неожиданности, быть отдохнувшими.
28 октября около половины восьмого к гостинице подъехал автомобиль. Шофер был в компании с какой-то дамой. Машина была побитая, ободранная и выглядела такой развалиной, что мы садились в нее с опаской. На счастье, внешний вид не совпадал с состоянием мотора. Это был замечательный шестицилиндровый «Австро-Даймлер». Мотор работал великолепно, внешний же вид был закамуфлирован для того, чтобы машина не бросалась в глаза. Мотор свободно давал сто километров. Лицо у шофера было умное и энергичное. Его спутница, молоденькая девушка лет восемнадцати оказалась, дочерью лесничего. Жизнерадостная блондинка с огромными глазами, она рассказала нам, что довольно часто так ездит и ей весело смотреть, как «господа в костюмах прыгают в воду. Гоп, и уже на другой стороне».
Мы тронулись в сторону Косова, где должны были повернуть к деревне, в нескольких километрах от места перехода вдоль границы, совсем близко от реки, служившей границей. Погода стояла замечательная, немного прохладная, но мы, тепло одетые, не чувствовали холода. Прохладный воздух освежал нас. Путешествие действительно было приятным. До места назначения оставалось два километра. Движение на шоссе небольшое. Время подходило к 9 часам. Каждая минута приближала нас к месту, избранному для перехода. Шоссе проходило через огромное ущелье, по обе стороны которого тянулись покрытые лесами горы. Внизу, в ущелье рядом с шоссе, протекал Прут. Наступил момент, когда наша соседка, показывая глазами на реку, давала понять, что приближаемся к условленному месту. Сильно забилось сердце. На другой стороне находилась Румыния. Первая цель, которую мы наметили, была рядом, здесь. Машина задержалась, и наша покровительница сказала: — Прыгайте в этом месте. Счастливого пути! Мы поцеловали ей ручки, обменялись крепким рукопожатием с шофером и через минуту оказались в ледяной воде. Река была мелкой, вода не доходила даже до пояса, но быстрой, и это затрудняло движение. Скользкие камни, устилавшие дно, вынуждали нас ежеминутно терять равновесие. Во время перехода реки, которая в этом месте имела около сорока метров ширины, мы выглядели довольно смешно. Когда мы оказались на другом берегу, машина повернула обратно. Дочь лесничего на прощание помахала платочком. Прощаясь с девушкой, мы поклонились. Автомобиль поехал, а мы направились к лесу.
Мы находились уже в Румынии.
Сейчас, когда с тех пор прошло много лет, все это кажется простым и легким, но сколько мы тогда пережили, знают только те, кто сам совершал подобные путешествия.
Мы все время углублялись в лес. Идти было тяжело.
Горная дорога была крутой и очень тяжелой. Со всех сторон нас окружали высокие хвойные деревья. Вокруг царила тишина. Ни одной живой души, ни патрулей, никакой пограничной охраны. Мы решили добраться до нашего ближайшего консульства в Черновицах[6].
Богданович, имея знакомство, еще в Польше обеспечил себя румынской визой, поэтому ему ничто не грозило. Я, не имея визы, мог быть задержан местными властями.
Через несколько часов путешествия мы, вероятно, удалились от границы километров на пять. Подошли к какому-то горному лугу, на котором стояло несколько домов, а так как мы были измучены и голодны (подходило к двум часам дня), то решили войти в одну из хат, отдохнуть и что-нибудь поесть. Кроме того следовало разузнать, где мы находимся и далеко ли отсюда Черновицы. Вошли в дом, стоявший немного в стороне. В типичной горной хате, крытой дранкой, состоящей из одной большой комнаты и кухни, мы застали хозяина, его жену и двоих детей. Достаточно было бросить на нас лишь взгляд, чтобы узнать, что мы нездешние. Мы с ними объяснились на ломаном украинском языке, который все здесь знали. Дали нам овечьего сыра, немного мамалыги и молока. После еды и нескольких часов отдыха мы двинулись в путь. Хозяин вызвался проводить нас до ближайшего шоссе, находящегося в каких-нибудь четырех километрах. Там можно было нанять телегу или ехать дальше по железной дороге. До Черновиц было примерно восемьдесят километров. По дороге намеревались заехать в Хлибоки, где двоюродные сестры Богдановича, Скибневские, владели именьицем.
Тропинкой через горы, покрытые густым лесом, мы добрались до шоссе. Не прошли и полкилометра, как на мосту, через который нам нужно было проходить, нас задержал военный патруль. Вообще на шоссе было полно румынских солдат, обозов, кухонь и т. п.
Это румыны укрепляли свою границу.
Перед военными властями всякие уловки были напрасны.
Пользы никакой, а повредить, пожалуй, могли. Поэтому мы без обиняков рассказали, что идем из Польши и держим курс на Черновицы, а по дороге хотели завернуть в Хлибоки. Поместье и его хозяева были хорошо известны в окрестностях. Нас отвели в какой-то стоящий в стороне домик, где размещались румынские офицеры. Приняли нас вежливо. Уже привыкли к таким путешественникам, как мы. Разговор проходил без затруднений, так как один из них хорошо владел французским, а этот язык неплохо знал Богданович. Я же мог объясниться на русском языке, которым сносно владели несколько румынских офицеров. Составили протокол нашего допроса и заявили, что обязаны направить нас в полк, имеют такой приказ. Они предупредили, что мы не являемся арестованными, но в связи с объявленным чрезвычайным положением они должны задерживать каждого иностранца и направлять его на допрос. Нам дали военную повозку с подофицером, и мы поехали в штаб полка, расположенный в маленьком городке в десяти километрах. Такой оборот нас, пожалуй, устраивал. Попрощавшись с офицерами, мы двинулись в дальнейший путь. Когда подъехали к месту назначения, наступил уже вечер.
В штабе полка нас провели к дежурному офицеру, который, ознакомившись с рапортом, направил нас к офицеру, вероятно из румынской разведки, повторившему допрос. Закончив его, он заявил, что мы будем отправлены в Черновицы в штаб дивизии, так как существует такой порядок. Затем нас провели в какую-то комнату, где стояло две кровати. Офицер приказал выставить охрану у окна и у дверей. Он заявил, что мы задержаны до выяснения за нелегальный переход границы, что влечет за собой уголовную ответственность. Тем не менее он был предупредителен и вежлив. Когда мы сказали, что хотели б поесть, он пошел с нами в ресторан. Мы сказали, что не имеем румынских денег, а лишь польские злотые. Он спросил, есть ли у нас серебро. Стефан показал ему пять злотых в серебре. Офицер взял эти деньги и дал нам как бы в обмен пятьдесят лей, сказав, что этих денег хватит не только на ужин, но еще останется. Как выяснилось позже, за пять злотых в серебре всюду давали сто пятьдесят лей. Но тогда мы не знали этого и были ему благодарны. Вошли в почти безлюдный ресторан. После ужина вернулись в свою комнату, с уже выставленной охраной. Мы впервые были задержаны таким образом. Это походило на арест, но не расстраивало нас. Настроение было хорошее. Легли спать и уже через минуту заснули крепким сном. Никто нас не будил и не мешал спать. На следующий день поднялись около восьми часов утра. Примерно в десять часов начали напоминать о завтраке. Расспрашивали о нашей дальнейшей судьбе, но безрезультатно. Нам ничего не отвечали, и никого к нам не впускали. Из комнаты выйти тоже было нельзя, не разрешали постовые. Положение становилось неясным и неприятным. Наконец, около двенадцати часов пришел подофицер и отвел нас в канцелярию, в ту самую, в которой вчера нас допрашивали. Офицер, с которым мы ужинали, передал нас капралу жандармерии, сказав, что еще сегодня после обеда нас отвезут в Черновицы. Мы очень обрадовались этой вести, надеясь хоть на какую-то перемену. Мы даже забыли о завтраке, не чувствовали голода. Попрощавшись, жандарм взял документы, касающиеся нашего дела, и мы пошли.
Прикомандированный к нам капрал был молодым парнем лет около двадцати. Он тоже радовался поездке в Черновицы. С ним мы направились на находящийся в двух-трех километрах жандармский пост. Там никто нами не поинтересовался. Оставили нас в садочке около дома, предупредив, чтобы мы никуда не отходили. Место было красивым. Кругом были скалистые, почти отвесные, поросшие лесом горы. Мы с интересом рассматривали пейзаж. Выехать должны были в пять часов, чтобы в семь прибыть в Черновицы. Наш конвоир несколько раз заглядывал к нам. Купил нам хлеба и колбасы и больше нами особенно не интересовался. Когда мы рассказали ему, что имеем в Хлиботе родственников и хотели бы им сообщить о нашем прибытии в Румынию, он ничего определенного не ответил, так что мы не знали, согласится ли он задержаться на станции, чтобы мы могли известить родственников Богдановича. Затем мы пообещали ему пятьдесят лей, если согласится задержаться с нами в Хлиботе до следующего поезда. Согласился. Около пяти часов пошли на железнодорожную станцию, находящуюся совсем близко. Конвоир купил билеты, и мы поехали дальше, напомнив ему об обещании задержаться в Хлиботе. Почти через час поезд прибыл в Хлибот. Вместе с жандармом мы вышли из вагона и направились в сторону поместья, расположенного в километре от станции.
Вошли в старую усадьбу, стоявшую посредине большого парка, оставив конвоира перед домом. Навстречу нам выбежали две молодые барышни. Одна, совсем молоденькая девушка, почти подросток, с длинными светлыми как лен косами, смуглая, почти как Зося из «Пана Тадеуша»[7].
Вторая, чуть постарше, Кристина. Узнав Стефана, сестры ему очень обрадовались. Меня также сердечно приветствовали. Поднялись наверх, где нас представили хозяйке дома. В доме было довольно оживленно. Съехалось много гостей родных и знакомых. От пани Кристины мы узнали, что можем спокойно ехать в Черновицы, поскольку их дом имеет замечательные отношения с властями, и нам ничто не угрожает. Она обещала завтра поехать вслед за нами и поставить в известность обо всем консула Буйновского, резиденция которого находилась в Черновицах. Кристина заверяла, что сама позаботится о нас. Как я позже узнал, это была очень дельная девушка, полная энергии и ради поляков готовая на самопожертвование.
После ужина мы стали подумывать об отъезде, чтобы не опоздать на следующий поезд в Черновицы. Довольно большая компания гостей проводила нас на станцию. Жандарм получил обещанные пятьдесят лей и обильный ужин и был доволен.
В Черновицы мы прибыли в нервом часу ночи. Нас никуда не хотели принять. Кончилось тем, что после нескольких часов шатанья мы пошли ночевать в гостиницу.
На следующий день нас отвели в префектуру. Здесь состоялся еще один допрос. Никакой другой вины, кроме нелегального перехода границы, нам не вменялось. Инженера Богдановича освободили сразу, поскольку у него имелась румынская виза, мне же заявили, что до суда, как и все, нелегально переходящие границу, буду содержаться в тюрьме. Ничего не поделаешь. Попрощался со Стефаном, обещавшим оказать всяческую помощь со стороны своих родных. До сих пор отношение румынских властей не было враждебным, поэтому я особенно не протестовал и в сопровождении конвоира направился в тюрьму. Это было огромное, мрачное и грязное здание. Я проходил какие-то коридоры и закоулки, ни с какой тюремной администрацией не соприкасался. У меня ничего не отобрали: часы, перочинный ножик, карманный фонарь и другие мелкие предметы, включая лезвия для бритья, оставили при мне. Надзиратель открыл окованные двери, и я вошел в большую светлую камеру. В ней находилось около сорока человек, как выяснилось позже, все поляки, задержанные за нелегальный переход границы. Пол был цементный. У стен стояли нары. Меня приветствовали возгласом, что вот, мол, прибыл еще один товарищ. Здесь находилось несколько офицеров, два-три чиновника, однако больше всего было учащейся молодежи.
Сначала жилось довольно сносно. Спать можно было без ограничения, кормили три раза в день, но почти никто этой пищи не ел, так как приносили ее в лохани, словно поросятам. Кроме того, кто хотел мог покупать еду в любом количестве. Надзиратель собирал деньги и записывал, кому что надо. Временами приносил даже пиво и вино. Если у кого не было денег в лейях, то он приобретал их, продавая часы и другие вещи и даже обменивая на польские злотые. Одно, что всех нас страшно беспокоило, это вши. Их тут было невероятное количество. Недостаток воды усугублял положение. Вообще гигиенические условия были страшные.
На второй день пребывания в тюрьме я имел свидание с консулом Буйновским, которого Богданович уже известил, рассказав, что я являюсь курьером, следующим в Париж, и что нахожусь в тюрьме. Вежливый и деловитый консул спросил, действительно ли я являюсь курьером, от кого и к кому. Я все рассказал ему, просил проявить заботу и оказать помощь в следовании к месту назначения. Просил как можно быстрее вызволить меня из тюрьмы. Консул обещал свое заступничество, предупредив, что все это может занять несколько дней. Спрашивал, не нуждаюсь ли я в чем, в каких условиях содержимся и т. п. После получасовой беседы мы расстались, и я вернулся в камеру.
Ежедневно в тюрьму прибывало по несколько человек. В камере становилось тесно. Через несколько дней после разговора с консулом меня вызвали в коридор. Там находился Стефан с каким-то господином, представившимся как инженер Фрейман. Стефан мне сообщил, что надзиратель подкуплен и согласился на несколько часов выпустить меня в город. Я с радостью встретил эту весть. В автомобиле, которым управлял инженер Фрейман, поехали к нему домой. Стефан мне объяснил, что инженер является его хорошим знакомым и может быть нам в этих местах полезным. Сейчас он занимается подготовкой необходимых документов для моей поездки. Я сообщил нужные данные для паспорта, который мне хотели сделать в консульстве. Стефан меня невероятно растрогал, предложив пойти вместо меня в тюрьму, пока я занимался бы оформлением, связанным с дальнейшей дорогой. Но я не принял такого предложения. Надзиратель очень обрадовался, увидев нас, успокоился, что не будет иметь неприятностей с начальством, да и мы были заинтересованы иметь своего надзирателя. На будущее это могло пригодиться.
Мы ждали суда, но дело затягивалось. Прошла неделя, в камере уже насчитывалось почти шестьдесят человек. В один из дней перед обедом нам совершенно неожиданно заявили, что все выходим. Но куда не сказали. Через минуту предложили забрать все вещи и выйти в коридор. В коридоре какой-то чиновник из консульства объявил нам, что мы поступаем под опеку консула, который дал гарантию, что никто из нас не убежит. Зная наше тяжелое положение и лишения, каким мы подвергаемся, нам мол, приготовили специальные помещения, очень удобные, и именно туда мы переходим. Однако перед этим нам следует вымыться, а одежда пройдет дезинфекцию. Такой оборот дела нас очень обрадовал.
После бани и дезинфекции одежды нас отвели в какой-то дом, где в коридорах стояла румынская охрана, а в одной из комнат работал представитель консульства. Чиновник развел нас по трем большим залам, переданным в наше распоряжение. В каждом стояло около сорока кроватей. Чистая постель, тут же ванна и т. п. Даже библиотека была предоставлена в наше пользование. Одним словом, все удобства, почти как в пансионате. Размещались довольные. Из нашей новой обители теоретически выходить не разрешалось, но практически выходили почти все без ограничения. В то же время официально разрешались свидания без всяких оговорок и ограничений.
Тем временем чиновник из консульства оформлял наши паспортные дела. Во всем этом деле было большое участие консула Буйновского, который заботился о нас уже не только как чиновник, но прежде всего как человек, хорошо понимающий беду своего земляка. Он считал ненужным держать нас в румынских тюрьмах лишь за то, что мы хотели добраться до формирующихся частей Войска Польского.
Должен признать, что за всю прожитую жизнь я не встречал другого чиновника, который бы вот так по-человечески понимал свои обязанности, не «служил», а сердцем решал вопросы. Жена консула была для нас доброй феей. Для каждого пани Мария имела доброе слово, умела утешить, посоветовать, дать указание, разыскивала знакомых, думала обо всем, обо всем заботилась. Она проявляла много энергии и одновременно обладала таким женским обаянием, что разоружала и привлекла сердце каждого.
Временами нас навещали инженер Фрейман и советник консульства Фрюлинг. Часто приходил Стефан, иногда даже по нескольку раз в день. Так прошла еще неделя, и наконец наступил день суда. Нас вводили в зал заседания по двадцать человек. Там находились судья и прокурор, обвинявший нас, и адвокат, который должен был нас защищать. Было видно, что прокурор, хотя нас и обвинял, делал это больше по обязанности. Свою речь он строил на том, что к переходу границы нас вынуждали специфические условия. Это предусматривало смягчающие обстоятельства. Было очевидно, что мы не являемся преступниками, но для порядка и уважения закона подлежим наказанию.
Защитник обратился к суду с призывом принять во внимание переживаемую нами трагедию в такое невероятно тяжелое время и просил освободить нас от наказания. Нас ни о чем не спрашивали. После выступления сторон суд вынес приговор, осуждающий каждого из нас к четырем неделям лишения свободы с учетом предварительного заключения. Срок наказания мы должны были отбывать в том же самом помещении и в тех же условиях.
Возвратившись из зала суда к себе, я обратился к нашему опекуну (пани Марии) действительно ли я должен здесь просидеть еще две недели. Жена консула ответила, что я ни одной минуты не должен здесь находиться и немедленно могу покинуть это помещение, так как документы мои уже готовы. В тот же день мы были приглашены к господам Буйновским на обед, а на следующий день рано утром поездом направились в Бухарест.
Прибыли туда под вечер. Документы наши были в порядке, однако у нас не имелось требуемого специального разрешения на проживание в столице. Его следовало добыть в префектуре. Без такого разрешения пребывание в городе было небезопасным и обременительным. Мы могли вновь быть арестованными и даже попасть в один из военных концлагерей. Мы пошли к генеральному консулу в Бухаресте г. Микуцкому, чтобы рассказать о своих трудностях. Пожилой седой господин, солидный, с очень умными глазами, проявил к нам много доброжелательства и понимания. Разделяя наши опасения, он распорядился приготовить нам две постели, а утром послал чиновника оформить разрешение на временное пребывание в Бухаресте.
Около одиннадцати утра я пошел к военному атташе подполковнику Тадеушу Закшевскому. В атташате ко мне отнеслись недоброжелательно. Не понравилось, что какие-то «курьеры» направляются к генералу Сикорскому. Зачем ехать к Сикорскому, когда здесь на месте находятся все самые высокие военные и гражданские власти? Мою поездку во Францию они сочли совершенно ненужной. Хотели, чтобы я им все доложил, а они, если сочтут необходимым, передадут это сообщение верховному командованию сами. Я ответил, что имею приказ все передать лично верховному главнокомандующему и как человек военный должен этот приказ выполнить. Мой собеседник, офицер в гражданском костюме вспылил и начал поучать меня кто здесь наивысшая власть и кто может приказывать. После долгого обмена мнениями по этому поводу под аккомпанемент «милых и поучающих слов», в заключение (не знаю, каким чудом, может, желая от меня отвязаться), он обещал устроить визу и отъезд. Я должен был в письменной форме представить доклад, к кому и по какому делу еду. Это требование являлось незаконным, оно было правом сильнейшего.
Когда я вновь пришел через несколько дней, меня принял подполковник Закшевский. Он заявил, что генерал Сикорский обо всем проинформирован телеграммой, а поскольку через каждые несколько дней в Париж ездят курьеры, в моей поездке нет необходимости. Я вновь повторил, что мною получен приказ и я обязан его выполнить. После некоторого размышления подполковник предложил мне явиться через несколько дней.
Я не видел препятствий к своему выезду, поскольку знал, что ежедневно во Францию выезжало по 30–40 человек, следовательно мог уехать и я. Однако минула неделя, а виз мы еще не получили. Трудно было понять эту проволочку. В рассчитанных играх и интригах высших офицеров я еще не разбирался. Первые уроки в этом отношении я получил только в Бухаресте. Позже я узнал, что трудности создавал второй[8] отдел, руководимый полковником Венде, стремившемся помешать Сикорскому установить связи с Польшей.
Не дождавшись получения визы, я пошел в посольство. Посла Рачинского не застал. Его замещал первый советник Понинский. На счастье, здесь оказался советник Щенсный-Залевский, которого я знал еще до войны. Он приезжал в наш полк с докладами об экономике страны. Я интересовался этими вопросами, между нами не раз завязывались споры. Залевский сразу меня узнал и предложил свою помощь. Разузнав у военного атташе о моем деле, он с улыбкой сказал, что через два дня я буду иметь все нужные визы. Он объяснил, что в атташате люди с амбициями, упрямые, не любят, когда их обходят. В большинстве случаев они предпочитают скорей мешать, чем помогать. Кроме того, они преследуют, как правило, свои закулисные интересы. Поручают посредничество только старшим офицерам, сотрудникам второго отдела и т. п.
Через два дня я получил все необходимые проездные визы и по рекомендации советника Залевского поехал не поездом, а автомобилем. Мне дали замечательный автомобиль «Кадиллак», на котором обычно в Париже ездил маршал Рыдз-Смиглы. После моего приезда в Париж автомобиль взял в свое распоряжение верховный главнокомандующий генерал Сикорский. Он стал пользоваться этим автомобилем постоянно.
Жизнь в Бухаресте была совершенно иной, чем в Черновицах, и уж совсем далекой от той, что оставил во Львове. В Бухаресте все развлекались, все безумствовали. Отели, рестораны, кафе были переполнены. Дансинги действовали, как обычно, бридж процветал, как в лучшие времена. Вечерами разодетые дамы и не менее элегантные мужчины собирались в залах ресторанов, где веселились и пили. Наши пани, жены сановников, как гражданских, так и военных, развлекались во всех кафе и множестве дансингов, Все в бриллиантах, разряженные, напомаженные, с декольте до пояса спереди и сзади, они млели в объятиях партнеров, главным образом, офицеров румынской армии. Множество алкоголя и новое, неизвестное окружение порождали раскованность. Все вокруг плясало, веселилось и упивалось, словно ничего не произошло, словно эти люди приехали сюда на летний отдых только для того, чтобы веселиться, веселиться и еще раз веселиться, до умопомрачения.
С работой на общее дело здесь все выглядело иначе, чем в Черновицах. Среди польских эмигрантов царили групповщина и сектантство. Каждый думал только о себе, друга считал врагом, подлежащим уничтожению. Сплетни и клевета возникали постоянно и служили орудием борьбы. Посольство, консульство и военный атташе действовали каждый сам по себе. Всюду царило самоуправление, процветала протекция.
Картина была бы односторонней, если бы я видел одно это. Встречались люди, готовые к самопожертвованию, полные энтузиазма, рвущиеся в бой, желавшие любым способом пробраться во Францию, чтобы стать в ряды бойцов, а не прозябать в праздности. Но это были, главным образом, люди неизвестные, называемые обычно «низы», а не руководство, занимавшее высокие и почетные должности.
Получив документы на себя и на автомобиль, я пошел к военному атташе доложить о своем отъезде. Показав документы, попросил дать мне направление прямо в Париж. На этот раз препятствий мне не чинили. Подполковник Закшевский дал направление к начальнику штаба верховного командования полковнику Кендзеру.
Попрощавшись со знакомыми, 19 ноября 1939 года мы вместе со Стефаном Богдановичем и каким-то господином, не помню фамилии и двумя дамами: Геленой Новосельской и Яниной Бжеской, сели в автомобиль. Дамы были представительницами именно той немногочисленной группы женщин, которые желали работать на общее дело и переносить все трудности. Обе были очень милые, симпатичные, полные энтузиазма. С первого дня своего пребывания в Бухаресте им опротивел этот большой город и они хотели, как любой честный поляк, выполнять свой долг до конца.
В десять вечера мы покинули Бухарест. Автомобиль шел отлично. Ехали в далекое неизвестное.
На следующий день пересекли румынско-югославскую границу. В прекраснейших горах Югославии уже выпал снег, причинивший нам немного хлопот. Миновали Белград, Загреб, и под вечер 22 ноября перед нами раскинулся незабываемый, очаровательный пейзаж Триеста, освещенного мириадами ламп, буквально утопающего в море огня в долине у подножья гор, прямо над морем.
В Триесте переночевали, а на следующий день через Венецию, центральную Италию и итальянскую Ривьеру доехали до французской границы, откуда послали в Париж телеграмму о нашем прибытии. Утром пришел ответ о том, что верховный главнокомандующий находится в Лондоне, но приказал мне явиться прямо в Париж.
Мы двинулись в дальнейший путь через Марсель и вечером этого же дня приехали в Париж.
Первая цель моего путешествия была осуществлена.
В Париже остановились в маленьком чистеньком отеле на бульваре Гауссмана. На второй день рано утром, отдохнувший после утомительной и полной впечатлений поездки, я пошел в город, чтобы отыскать место пребывания наших властей. Правительство и верховное командование располагалось тогда в красивом отеле «Регина», почти в сердце Парижа, рядом с Лувром и дворцом «Конкордия», невдалеке от Вандомской колонны. Перед самым отелем стоял небольшой памятник Жанне д'Арк, В гостинице я спросил, где находится начальник штаба верховного командования полковник Кендзер. Меня поразил вид тех хорошо известных физиономий генералов и офицеров периода предсентябрьской Польши, весь этот санационный антураж. Было видно, что и здесь санация хорошо себя чувствовала.
Приема у начальника штаба я должен был ожидать довольно долго. Оказалось, что и им постоянно ни на что не хватало времени. С любопытством я разглядывал окружающих, прислушивался к разговорам и частично принимал в них участие. Вскоре банальный разговор перешел в оживленный общий обмен мнениями о Польше и о сентябрьской кампании. Я заметил, хотя сентябрьская катастрофа была еще не забыта, понимание ее причин уже отчетливо вырисовывалось как в сознании тогдашнего правительства, так и у людей из польского общества, не боявшихся мыслить самостоятельно.
От дискуссии меня отвлек адъютант начальника штаба, проводивший в его кабинет. За столом сидел небольшого роста, симпатичный, еще не старый полковник. Я представился ему. Он указал мне на кресло, мы сели, и полковник засыпал меня вопросами, касающимися положения в Польше. После часовой беседы предложил написать подробный рапорт. Предупредил, что я буду докладывать верховному главнокомандующему, по его возвращении из Лондона и генералу Соснковскому, министру по делам Польши. Точной даты не было назначено, но предполагалось, что это произойдет через два-три дня. На прощание полковник спросил, как я устроился, не нужно ли мне чего, где живу. Дал мне ряд указаний и товарищеских советов.
В ожидании приема верховным главнокомандующим я ходил по Парижу. Почти ежедневно заглядывал в министерство по военным делам, где работал верховный главнокомандующий. Хотел по возможности ближе узнать его окружение. Таким образом, все больше я узнавал людей, как из правительства и главного штаба, так и из непосредственного окружения Сикорского. Внимательно присматривался к людям и их работе. Я уже давно написал рапорт и почти в течение недели имел возможность всесторонне наблюдать за происходящим вокруг.
Каково же было мое удивление, когда на беседе у начальника второго штаба, подполковника Тадеуша Василевского, увидел на его столе мой дословно переписанный рапорт, им подписанный и адресованный министру Соснковскому. Видимо, я как поручик был слишком маленьким человеком, чтобы подписывать свой рапорт.
С негодованием я наблюдал, как наша эмиграция сразу после разгрома продолжала сохранять строптивость. Видел вновь увивающихся около государственной «кормушки» людей, скомпрометировавших себя тем, что скопом приложили руку к одному из позорнейших поражений в нашей истории.
Такие отношения в тогдашней ситуации свидетельствовали, что наши руководители и вожди опять не дорастают до уровня стоящих перед ними задач, которые требовалось решать на каждом шагу без проволочек для спасения Польши и ее будущего.
Изучая взаимоотношения внутри польской эмиграции, я дождался наконец, приема 1 декабря у Соснковского.
Соснковского я раньше не знал. В Польше его не видел и никогда с ним не соприкасался. Знал его лишь понаслышке и из прессы.
Предполагалось, что я пойду к нему в сопровождении офицеров его штаба: полковника Багинского и полковника Демеля. Мне сказали, что генерал будет расспрашивать о положении в Польше. Готовясь к этому визиту, я делал заметки и приводил в порядок вопросы, чтобы вернуться в Польшу с самыми точными инструкциями правительства. Вечером, около восьми часов я прибыл в резиденцию Соснковского. Доложил о своем прибытии дежурному офицеру. Меня ввели в большой зал, где шесть человек что-то срочно переписывали на пишущих машинках. Здесь мне следовало ожидать. Сел, думая, что, как всегда, придется ждать часами. На этот раз вышло по-иному. Через минуту меня пригласили в следующую комнату, в которой уже находились полковник Багинский и Демель. Через несколько минут в комнату вошел высокий, представительный, в гражданском костюме, пожилой господин. По его движениям можно было определить в нем военного. Мы встали, приветствуя его. Это был генерал Соснковский. Когда я представился, мы сели за стол. Я сидел напротив Соснковского. Присматривался к нему. Он был почти весь седой. Со спокойного, симпатичного лица смотрели темные, потухшие, как бы очень усталые глаза. Между генералом и мною завязался разговор. Оба полковника были лишь его немыми свидетелями.
После моего исчерпывающего рапорта относительно Польши и ее потребностей мы перешли к вопросам, на мой взгляд больше всего интересовавшим генерала.
— Что говорят в Польше о сентябрьской кампании? — спросил он. — Что говорят о защите столицы? Разве не жалко было Варшавы?
Я поочередно ответил на поставленные вопросы так, как об этом говорили в Польше: что все были возмущены поведением власть имущих, санацией, правительством и военными властями, что все страшно разочарованы, помнят нанесенную им обиду и не хотят ее простить, что Варшава чтит своих защитников и своих героев.
— Верно, я тоже не мог примириться с существовавшими порядками в Польше, — ответил генерал, — но что я мог сделать?
Поощряемый такой позицией генерала, видя, что кругом делается и кто снова берет бразды правления в свои руки, я в присутствии полковников заявил, что сентябрьская катастрофа явилась лишь естественным следствием того, что было в Польше перед сентябрем.
Наша беседа продолжалась больше часа. Когда я прощался, генерал сказал, что через несколько дней я должен быть снова у него, а послезавтра мне надлежит быть на докладе у верховного главнокомандующего, генерала Сикорского. Прощание, пожалуй, получилось даже сердечным.
Второго декабря около десяти часов я прибыл в отель «Регина» в приемную верховного главнокомандующего. Меня принял начальник его кабинета майор Борковский. Здороваясь, он сказал, что придется немного подождать, так как генерал еще занят. Через несколько минут из кабинета Сикорского вышел Тадеуш Белецкий, председатель Строництва народового, а за ним показался в дверях Сикорский. Майор Борковский доложил:
— Господин генерал, эмиссар из Польши.
Я хотел рапортовать ему, но Сикорский прервал меня, делая знак рукой следовать за ним в кабинет.
— Ваш доклад читал, — после этих слов он подал мне руку и показал на кресло, а сам занял место за столом.
Только теперь я мог спокойно сосредоточиться и собраться с мыслями. Мог приглядеться к особе верховного главнокомандующего и премьера. Минуты две продолжалось молчание. С большим интересом я разглядывал Сикорского.
В 1926 году генерал Сикорский, тогда командующий Львовским военным округом, не пошел за Пилсудским и не поспешил к нему на помощь. Существовали даже серьезные опасения, что он может в будующем выступить против власти Пилсудского. В связи с этим Сикорский был отстранен от командования округом и вынужден был покинуть Польшу, чтобы не разделить участи генерала Загурского, убитого при невыясненных обстоятельствах, или генерала Розвадовского, просидевшего в Вильно в тюрьме два года, а затем через полгода после освобождения умершего. Сикорский направился во Францию и жил там, принимая активное участие в общественной и политической жизни. В 1938 году он хотел вернуться в Польшу на постоянное жительство, но тогдашний премьер, генерал Складовский, отказал ему в этом, заявив, что «у него не хватит полиции, чтобы охранять особу генерала Сикорского». Сикорский лично рассказывал мне об этом.
В 1939 году, сразу же после начала войны, он возвращался в Польшу и обращался к маршалу Рыдз-Смиглы с просьбой поручить ему командование каким-либо соединением. Он хотел идти на фронт и сражаться. Маршал отказал, Сикорский вернулся в Париж.
Сикорский был среднего роста, с довольно крупным лицом, с высоким и слегка выпуклым лбом. Глаза голубые, быстрые, очень живые, свидетельствующие о его интеллекте. Одет он был в темный гражданский пиджак и в чуть более светлые брюки. Весь вид генерала дышал солидностью и энергией. Заметны были настойчивость и сила воли. Какая же огромная разница была между двумя генералами: Сикорским и Соснковским. Соснковский, вялый, сибарит, был явно сломан обстоятельствами, а Сикорский полон энтузиазма, энергии и желания действовать.
Верховный главнокомандующий начал расспрашивать о положении в Польше, условиях жизни. Он говорил, что старается организовать помощь Польше, что живет единственной мыслью о том, как ей помочь, и делает в этом направлении все возможное, но пока эта помощь придет, пройдет много времени.
Наша беседа продолжалась почти сорок минут. Сикорский очень спешил, несколько человек, которым он назначил прием, уже ждали своей очереди в адъютантской. В заключение он мне сказал: — Я задерживаю вас в своем распоряжении, через два — три дня вы ко мне явитесь.
Я напомнил ему, что обязан возвращаться в Польшу, поскольку прибыл сюда только за получением его приказов и инструкций.
— Да, знаю, прервал он меня. Но пока задерживаю Вас при себе. У меня нет людей, а дальше увидим. Когда вы захотите возвратиться, я Вас отпущу, — он подал мне руку, давая понять, что беседа закончена.
Меня прикомандировали к кабинету Сикорского для специальной работы по вопросам Польши.
Свободного времени у меня было довольно много. Я все больше познавал людей из правительства, известных деятелей, принимавших активное участие в тогдашней политической жизни Польши.
Так я познакомился с министром Марианом Сейда, Станиславом Котом, Августом Залесским, генерал-полковником Юзефом Галлером, которого знал еще до войны, и генералом Желиговским. Неоднокртно я встречался с епископом Гавлиной, генералом Кукелем, генералом Модельским. Из гражданских лиц я познакомился с ксендзом ректором Цегелка, адвокатом Битнером, Ксаверием Прушинским, Тадеушом Белецким, Цат-Мацкевичем, Софией Залевской и рядом других лиц.
Встречаясь с коллегами, я вел разговоры на актуальные темы, касавшиеся главным образом польских дел как в самой Польше, так и за границей. Многие вещи, увиденные с близкого расстояния, наполняли нас, молодых офицеров, озабоченностью и беспокойством за будующее.
Начиная свою работу, я решил привлечь к сотрудничеству молодежь. Я намеревался внушить руководителям, чтобы они опирались на молодых офицеров, людей способных, которых у нас было очень много. Это были ребята энергичные, готовые пожертвовать собой, не зараженные угодничеством, горечью и разочарованием, жаждущие служить Польше. Когда в ноябре 1939 года я приехал в Париж, то убедился, что в новом правительстве Сикорского самый большой голос имели санационные «двуйкажи», целый аппарат которых сохранился на Западе нетронутым, а также высшие санационные офицеры, которые постепенно, но настойчиво, благодаря своим высоким военным званиям и знакомству, втирались в штаб Сикорского. Один из важнейших и самых существенных разделов работы — деятельность в Польше, была поручена Соснковскому, а санация, которая довела страну до сентябрьской катастрофы, не только не была привлечена к ответственности за свои происки, но начинала вновь верховодить и снова все забирать в свои руки.
Я начал тогда объединять молодых офицеров, имеющих одинаковые со мной взгляды на санацию и предсентябрьский режим.
После бесед с капитаном Мацеем Каленкевичем, Яном Гурским, Здиславом Тулодзецким, Ядзвинским и рядом других я приступил к созданию «группы молодых». Не знаю, кто дал это название, может быть санационная «двуйка», а может и сам Сикорский, который хорошо о нас знал как непосредственно от меня, так и от своих генералов Модельского и Пашкевича, которые от его имени часто приходили на наши собрания. Во всяком случае это название за нами закрепилось и с течением времени стало довольно известным.
Мы не создавали какой-либо организации в строгом смысле с собственным уставом. Мы были заинтересованы лишь в том, чтобы держаться вместе и помогать Сикорскому.
Собирались мы главным образом у меня на квартире, на улице Риволи, 178, недалеко от отеля «Регина». На собраниях обсуждали вопросы политического положения, оказания помощи Польше, сотрудничества с Сикорским. Как правило, такие собрания были открытыми, на них мог приходить любой желающий.
Через несколько дней в соответствии с приказом я вновь явился к Соснковскому. У меня было достаточно времени, чтобы должным образом оценить его и ознакомиться с его работой. В определенной степени я был связан по работе с его ведомством, кроме того, мои коллеги капитаны Каленкевич и Джевецкий входили в штаб Соснковского. Многие из нашей группы, например капитан Антосевич, поручик Богданович, подпоручик Гродзицкий и другие являлись курьерами, ездившими в Польшу.
Соснковский, по моему мнению, не обладал и каплей силы воли. Он был совершенно бесхарактерным и в жизненных ситуациях беспомощный, но упрямый. Заботился он лишь о собственном удобстве, стараясь всюду сохранить видимость приличия. В этом он был особенно заинтересован. На нем лежала ответственность за послемайский режим и компрометацию нашей армии. Это угнетало его и влияло на поведение и принимаемые решения. Я убеждался и в том, что мнение о Соснковском, распространенное еще в Польше, подтверждалось.
Ближайший приятель и соратник Пилсудского еще со времен легионов, Соснковский только благодаря ему пользовался в Польше большим почетом, получая по линии военной иерархии самые высокие посты и почетные звания. Однако когда пришел час «майского испытания», Соснковский не оправдал возлагаемых на него надежд, поэтому 1926 год стал переломным в его жизни. В перевороте, организованном Пилсудским, никакой роли он на себя не взял. У Соснковского попросту не хватало решимости. Он не знал на чью сторону стать. Честь солдата, о которой он столько распространялся среди окружавших его офицеров, присяга, принесенная президенту, требовали, чтобы он стал на сторону президента Речи Посполитой. Но он не мог выступить против Пилсудского. Это было не в его характере. Слишком уж он обязан был Пилсудскому всем достигнутым в жизни. Желая соблюсти видимость порядочности, о которой он больше всего заботился, будучи командиром корпуса в Познани Соснковский инсценировал самоубийство. Вылечившись и получив прощение, он позже принимал участие в правительствах санации в качестве одного из самых высоких военных лиц. Он являлся украшением и обязательным участником всех высоких собраний и охот.
После смерти Пилсудского в 1935 году его надежды на получение маршальской булавы были обмануты, так как придворная камарилья во главе с Венявой-Длугошевским вручила эту булаву Рыдз-Смиглы, который пользовался большими симпатиями президента. Соснковский обиделся и на президента, и на Рыдз-Смиглы. Но это было лишь внешне и проистекало не из иных взглядов на методы и форму правления в Польше, а из чувства обиды, ведь Соснковский считал себя духовным душеприказчиком маршала Пилсудского.
Это не мешало Соснковскому во Франции усиленно стараться подчеркивать, что он не был сторонником предсентябрьского режима и чуть ли не преследовался им. Он утверждал, что якобы видел творившийся у нас балаган и хаос, и только из высоких побуждений, не выступил активно против этого. Ему трудно было объяснить по существу, почему, собственно, он не соглашался с предсентябрьским режимом: потому ли, что, в его понимании, он был недостаточно фашистским или недостаточно демократичным. Вернее же всего потому, что он не играл в этом режиме решающей роли. Во всяком случае очевидно лишь одно: он не был способен ни на сопротивление, ни на протест. И сейчас он являлся опорой всего того, что было перед сентябрем.
Как-то в первой декаде декабря, когда я снова пришел с докладом с Соснковскому, он принял меня в своем кабинете в «Регине». Мы беседовали больше часа. Я изложил генералу свои соображения о положении в Польше. Как раз в это время мы составили инструкцию для подпольной работы в стране, а он должен был ее утвердить. Я обратил внимание на то, что на ответственные должности назначаются старшие офицеры, те, кто не выдерживал испытаний в трудные для страны минуты. На это генерал спокойно ответил, что «ведь они будут пользоваться псевдонимами, поэтому никто не будет знать, кто тот, кто этот». Я заметил, что подобная позиция может повредить делу, особенно если учесть, что уже происходили затруднения в связи с плохой организацией перехода через границу. Генерал откровенно заявил, что ведь ответственных постов за границей так мало...
Меня поразил такой подход. Невежество и потворство Соснковского были столь велики, что их невозможно понять, а тем более простить.
Соснковский стал мне жаловаться на порядки, прежде всего на нынешнее правительство и штаб верховного главнокомандующего. Он говорил об отсутствии согласованности между ним и Сикорским, между его офицерами и офицерами Сикорского. Соснковский подчеркивал отсутствие взаимного доверия и трудности порожденные этим. Он говорил о претензиях при подборе людей на различные важные посты. Хотя, по его словам, существует письменное соглашение о разделении функций и сотрудничестве, а также об ограничении возможности перестановок кадров. Как ни странно, но именно это обстоятельство содержало в себе, кроме положительных, и отрицательные стороны. Соснковский давал понять, что все обстоит плохо, раз не он назначен президентом. По его мнению все было бы иначе. Он имел бы большую свободу действий, а так он связан и отодвинут на второй план.
Действительно после сентябрьской кампании 1939 года Соснковский был, пожалуй, наиболее вероятным кандидатом в президенты Речи Посполитой. Однако он опоздал приехать в Париж. После неудавшегося в Париже «назначения» в президенты генерала Венявы-Длугошевского президентом стал Владислав Рачкевич.
Я спросил генерала, что произошло с Венявой и почему он отказался от поста президента.
— Это не он отказался, — ответил генерал. — Он вынужден был отказаться, поскольку представители других государств, в особенности Франции, не соглашались с его кандидатурой. Французский посол решительно заявил, что его правительство не признает Веняву. Соснковский также добавил, что это была «работа» Сикорского и что вообще с постом президента были хлопоты. Сначала хотели, чтобы президентом стал кардинал Хлонд. И, собственно, все соглашались на эту кандидатуру.
— Однако по непонятным причинам, — продолжал Соснковский, — этот проект не бы реализован. Веняву предлагал сам президент Мосьцицкий. Учитывая пожелание французского правительства, президентом был избран Рачкевич. Я прибыл в Париж, когда опять возник торг по поводу этого поста. На этот раз я уже сам не согласился его принять, — рассказывал генерал. Потому что со стороны могло показаться, будто Польша меняет президентов, как перчатки. Не солидным было в течение месяца сменить трех президентов. Я согласился, — сказал Соснковский, — принять только пост заместителя президента с перспективой через некоторое время стать президентом. Сосновского назначили государственным министром по делам Польши и главнокомандующим подпольной Армией Крайовой[9], которую надо было организовывать.
Во Франции Соснковский сразу же стал играть руководящую роль. Было совершенно ясно, что он необходим деятелям старого режима, с самого начала жаждавшим любой ценой устранить Сикорского. Борьба против него велась санацией еще до сформирования эмигрантского правительства во Франции. Она не могла смириться с тем, что уйдя из армии в 1926 году Сикорский не нес никакой ответственности за события в Польше.
Санация выдвинула Соснковского в качестве своеобразного противовеса Сикорскому. Приоритет признавался за Польшей. Считали: «Решать все будет Польша». В стране все должно быть организовано руками санации, заинтересованной в устранении влияния Сикорского. По этой же причине командование подпольной армии в Польше должно было формироваться только из представителей санации, из надежных и преданных ей людей. В то же время по расчетам санации эмиграция не могла сыграть серьезной роли, как, например, армия Галлера после 20 года. Временно армия могла быть оставлена в руках Сикорского. Старая санационная гвардия начала создавать вокруг Соснковского новую легенду. Трубили о его «героических сражениях в сентябре «, что ему очень импонировало. Таким образом, все в этом ансамбле взаимного обожания были собой довольны. Полковники все плотнее окружали и подчиняли своему влиянию Соснковского, чувствуя в нем решительную поддержку. Со своей стороны он компенсировал их постами как в Польше, так и за границей.
Этот спевшийся кружок начинал все отчетливее и планомернее вести наступление против Сикорского.
Через некоторое время я вторично был у Сикорского. Он хорошо понимал, что творится на польском дворе во Франции.
Когда я пришел, генерал принял меня в том же кабинете, что и в прошлый раз. Одет он был в военный мундир. Я с удовольствием смотрел на его фигуру, столько в ней было юношеского темперамента и простоты.
После приветствия верховный главнокомандующий вернулся к нашему первому разговору. Он расспрашивал о знакомых и я рассказал ему об Андерсе, что он болен, лежит в госпитале и обращается к нему с просьбой каким-либо дипломатическим путем отозвать его из Польши. Сикорский сказал, что уже думал об Андерсе, что пока он назначен командующим подпольной армией Краковского округа под кличкой «Валигора». По этому вопросу Сикорский имел даже столкновение с Соснковским. Против этого назначения возражал Соснковский, но Сикорский был убедительнее. Когда я сказал Сикорскому, что Андерс заявляет о своей лояльности и очень хотел бы служить под его командованием и находиться здесь около него в Париже, он ответил, что он также с удовольствием сотрудничал бы с ним, так как их многое связывает еще с 1926 года. Тогда оба были против Пилсудского. Он считает, что может сейчас еще больше рассчитывать на антисанационные взгляды Андерса.
Затем Сикорский спросил, что говорят о Беке и Рыдз-Смиглы. Я ответил, что почти все считают их предателями. Сикорский даже привстал со своего места.
— Это же замечательно! Мне здесь будет легче, хотя они там в Румынии начали против меня кампанию. Особенно активен Венда. При этом они стараются повлиять на Францию и на Польшу. Не могут пережить того, что я принял пост премьера и верховного главнокомандующего. Ну, ничего, как-нибудь с этим справимся. Хуже с Польшей, поскольку не могу знать точно, что там делается. Готовлю для вас инструкцию. Как только все будет готово, поедете и расскажите, что здесь видели и как мы работаем.
Как всегда генерал очень торопился. Заканчивая беседу, он сказал: — Здесь у меня нет времени. Приезжайте пожалуйста ко мне в Ангерс. Знаете что, я приглашаю Вас приехать ко мне на ужин, там мы спокойно побеседуем. Я дам вам знать, когда буду более свободен, и буду располагать большим временем в спокойной обстановке.
Правительство Польши во Франции существовало тогда около трех месяцев, но дела двигались с трудом. Правительство не имело четкого, определенного облика, не имело основной идеи. Кроме того, не было единства. Министры вели между собой партизанскую войну. Желание быть на первом месте заслоняло все. При таком положении вещей не обращали внимания на самые существенные вопросы будущего Польши, не согласовывали ни своих взглядов, ни мероприятий, занимались лишь взаимными претензиями и унижением друг друга.
Нужно признать, что французы не были гостеприимными хозяевами. Они считали, что война разразилась из-за Польши. «Большое дело, затеянное маленькой нацией». Каждый второй француз повторял, что он сражается за Польшу, за польский Гданьск, каждый третий по меньшей мере вообще не хотел воевать.
Польско-французский договор еще не был подписан. Пока имелись лишь проекты и временное соглашение, осложняло работу призывных комиссий, которые уже с конца октября начали функционировать. Добровольцев было очень немного.
Польские деятели, оказавшиеся в Венгрии и Румынии, предпринимали все, чтобы не допустить большого притока добровольцев во Францию, в армию Сикорского. В этом направлении работали целые санационные штабы во главе с полковником Венде. Послушные им польские дипломатические миссии, прежде всего военные атташе, охотно выполняли их указания. То же самое делали делегатуры правительства в Венгрии и Румынии. Они не только не направляли добровольцев во Францию, но и оказывали давление, вынуждающее поляков возвращаться под немецкую оккупацию. Другие говорили отчетливо: «Отсюда, из Румынии и Венгрии, ближе до польской границы, поэтому как только кончится война (по их официальным данным это должно было произойти весной 1940 года), мы первыми войдем в Польшу с готовыми частями, которые сейчас стоят в лагерях. Лишь после этого мы будем разговаривать с Сикорским. Будет так, как в свое время мы поступали с армией Галлера — распустим части, и конец.
А в это время с призывом добровольцев во Франции дело шло не лучшим образом, и Сикорский стал добиваться у французских властей согласия на издание распоряжения о привлечении в армию поляков эмигрантов, проживающих на французских землях, и в конце концов это ему удалось.
Как-то в половине декабря я пошел к генералу Пашкевичу, тогдашнему вице-министру и заместителю Соснковского по делам Польши. Генерал жил в небольшой комнатке, недалеко от резиденции штаба. Я застал его за уроком французского языка.
Это, пожалуй, был один из очень немногих генералов, желавших помочь Сикорскому в его работе. Он видел и понимал нагромождавшиеся трудности, пытался их устранять. Поэтому, между ним и сторонниками санации, находящейся в Париже, возникали большие трения. Пашкевич хорошо понимал всю глубину трагизма нашего тогдашнего положения, он лучше других разбирался в общих проблемах, хорошо ориентировался в обстановке. Будучи когда-то начальником известной Варшавской школы подхорунжих, он благосклонно относился к молодежи, видя в ней опору для планов Сикорского. Поэтому пользовался у молодых огромной симпатией и доверием.
Генерал встретил меня очень приветливо.
Разговаривали мы о Польше, в частности о подборе людей на пограничных пунктах. За последнее время произошло несколько провалов во время перехода границ. Организация дела была явно плохой. Генерал возмущался тем, что ему мешают работать. Особенно сокрушался по поводу второго отдела, личный состав которого сохранился без изменений и старался все захватить в свои руки и, имея своих людей на местах, делал это довольно легко. К этим людям генерал явно не питал доверия и обещал на этом участке произвести изменения.
Я выразил свои опасения и сомнения по поводу этого, учитывая проводимую санацией борьбу за посты. Генерал разделял мое мнение, сожалея о том, что в Польше почти все важные посты уже перешли в руки санации.
В это время я познакомился с ксендзом-епископом Гавлиной, который проявлял большую активность, но не столько в области духовной, сколько в области политической.
Воспитанник немецких школ, он принимал участие в первой мировой войне как капрал в одном из полков немецкой армии. После войны Гавлина вернулся во Вроцлав и там окончил высшее учебное заведение. Получив посвящение в сан ксендза, он приехал в Польшу. Сначала он выполнял обязанности секретаря кардинала Хлонда, а затем был настоятелем одного из силезских приходов.
После ухода епископа Галля с поста главы военного духовенства и некоторых хлопот и столкновений с военными кругами по предложению кардинала Хлонда епископ Гавлина, наконец, был назначен шефом католических пастырей в армии. Благодаря ходатайству кардинала Хлонда в Риме он получил митру епископа.
Епископ Гавлина оказался довольно податливым инструментом лагеря легионеров. Он сразу же провел чистку среди католического духовенства в армии, снимая с должностей тех капелланов и деканов, которые, по его мнению, не особенно ревностно проводили санационную политику. С тех пор епископ Гавлина принимал весьма активное участие в политической жизни сначала в работе санационно-легионерского лагеря, а затем «Озона». Выступал с рядом проповедей, в которых воспевал хвалебные гимны в честь господствующего режима и руководящих деятелей Польши и прежде всего Рыдз-Смиглы.
После сентября, оказавшись во Франции, епископ Гавлина усиленно добивался расположения Сикорского, заверяя его в своей лояльности, что позволило ему сохранить занимаемую должность главы духовных пастырей в армии как «епископа полевых польских войск». Он сумел так вкрасться в доверие, что вскоре вошел в состав первой Рады Народовой, созванной Сикорским во Франции. Таким образом, он обеспечил себе свободу действий и большие возможности. Сначала тихо, а потом все активнее он стал помогать санации и брать ее под защиту. Как говорит молва, он принимал даже деятельное участие в так называемом «комитете защиты чести маршала Рыдз-Смиглы», созданном бывшим начальником второго отдела во время господства маршала его любимчиком полковником Смоленским.
Епископ состоял в дружбе и с нынешним начальником второго отдела подполковником Тадеушом Василевским и с его заместителем подполковником Гано. Они представляли весьма активные круги в работе по восстановлению через санацию влияния в правительстве и армии. Кроме того, они принимали участие в возрастающих атаках на верховного главнокомандующего.
Примерно 20 декабря я был приглашен Сикорским в Ангерс, вернее в маленький замок, находящийся в нескольких километрах от Ангерса. Это был старый охотничий замок какого-то французского графа, очень красивый, расположенный в живописной местности. Французское правительство передало его в распоряжение Сикорского, чтобы он в свободное время мог отдохнуть вдали от гомона и шума большого города. В Ангерс я приехал во второй половине дня. Пошел в здание президиума совета министров, которое, собственно, являлось резиденцией правительства Речи Посполитой. В секретариате генерала я ближе познакомился с его секретарем профессором Каролем Эстрейшером и с профессором Станиславом Котом, с которым встречался уже несколько раз. Так получилось, что с ним пришлось побеседовать несколько дольше.
Одной из главных черт профессора Кота была ловкость и большая житейская расторопность, умение извлечь для себя выгоду из любой ситуации.
После сентябрьской кампании уже в конце сентября или начале октября он попал во Францию, где вошел в состав правительства Сикорского. Благодаря своей активности, ловкости и навыкам он вскоре стал важным чином и главной особой в правительстве. Он стал буквально живым духом правительства Сикорского. Достигал этого тем проще, что всюду его принимали за большого личного друга Сикорского, что сам он подчеркивал на каждом шагу, да и Сикорский против этого отнюдь не возражал. В правительстве профессор Кот занимал пост государственного министра по делам Польши, кроме того являлся вице-премьером. Однако амбиции профессора Кота были невероятно большими. Было общеизвестно, что в это время он стремился получить пост премьера, желая оставить в руках Сикорского лишь высший военный пост. Он выражал опасение, что сосредоточение в одних руках власти премьера и верховного главнокомандующего может привести к военной диктатуре. Поэтому усиленно старался разделить эти обязанности, резервируя для себя пост премьера. Пока это у него не получалось, однако от этого плана никогда не отказывался, а через несколько лет даже приобрел ценного соучастника своих намерений в лице Андерса. Но об этом — потом.
В этот раз профессор хотел меня очаровать. Прохаживаясь по комнате, спросил:
— Вы сегодня вечером едете к Сикорскому? Это хорошо. Будете иметь возможность с ним спокойно поговорить. Вы хотите возвратиться в Польшу?
— Хотел бы, и как можно скорее: там ждут, а ожидание выглядит там немного иначе, чем здесь.
— Да, это очень хорошо с Вашей стороны, что хотите возвратиться. В Польшу должны идти прежде всего молодые, вообще молодежь должна больше участвовать в жизни общества, особенно в политической. А как обстоит дело с группой, которую Вы организуете? — спросил меня вновь.
Я ответил, что нас огорчает то, что видим, а особенно все возрастающие ссоры и интриги, отрицательно влияющие на ход работ.
— Вы едете во Львов. Это тяжелое дело, более тяжелое, чем добраться до Варшавы. Трудно должным образом определить позицию нашего правительства в отношение советских властей, решения этого вопроса вам придется немного подождать. А эта группа, может, конспиративная? — добавил через минуту.
— Нет, господин профессор, совершенно явная. Даже сегодня хочу о ней подробно доложить Сикорскому, — ответил я.
Поговорили еще некоторое время, после чего профессор Кот попрощался.
Пользуясь свободным временем, я пошел посмотреть город.
Вечером около семи часов вновь вернулся в здание президиума. Перед домом меня ожидал автомобиль, на котором поехал в замок Сикорского.
Кроме Сикорского там находилось немного обслуживающего персонала и два — три подофицера. Даже никакого поста не было. Когда подъехал автомобиль, вышел какой-то вахмистр и только спросил: «Это Вы поручик Климковский?».
Я вошел в большой холл, увешанный старинным оружием и разными охотничьими трофеями: чучелами голов кабанов, большими оленьими рогами, шкурами леопардов и тигров. Там уже находился майор Борковский, который провел меня в гостиную и сказал, что генерал ждет. Мы прошли в зал больших размеров. Деревянный потолок придавал ему особенный вид, а непременный камин с весело горящим огоньком производил очень приятное впечатление. На стенах висело множество картин из истории Франции, портреты владельцев замка и их предков.
В ожидании генерала я просматривал фотографии, вклеенные в красивый отделанный кожей альбом. И не успел я еще всего просмотреть, как в комнату вошел уже известный мне вахмистр и доложил, что ужин подан.
В столовой уже находились Соснковский и какой-то господин в гражданском костюме. Поздоровавшись, я стал разглядывать комнату. Зала была небольшой, посредине стоял круглый стол, накрытый на пять персон. Большой пушистый ковер покрывал весь пол. На белых стенах виднелись развешанные кое-где пейзажи.
Через минуту вошел Сикорский. Он был в гражданском костюме (впрочем, все мы были одеты в гражданское). Поздоровался с присутствующими и попросил всех к столу. Мне досталось место между Сикорским и Соснковским. Напротив сидел майор Борковский и гражданский господин. Во время ужина ни о чем серьезном не говорили, обычная товарищеская беседа.
После ужина мы разделились на две группы. Соснковский с майором Борковским и гражданским перешли в салон, а меня Сикорский забрал в свой кабинет, куда попросил принести кофе. Он снял пиджак, одел синюю пижаму, уселся в глубокое удобное кресло, указав мне место напротив. Извинился, что все делает так по-домашнему, что хочет чувствовать себя совершенно свободно.
Генерал начал разговор, скорее похожий на длинный монолог. Он строил свои проекты и планы на будущее, говорил о теперешних трудностях. Упоминал, что имеет много хлопот, и сетовал на отсутствие понимания как со стороны иностранцев, так и со стороны своих. Ему постоянно стараются помешать, все нужно делать лично самому, всюду лично присутствовать. Он никогда не имеет времени и, собственно говоря, ниоткуда не имеет помощи. Очень переживает по поводу наших отношений с Россией. По этому вопросу в правительстве существует большие разногласия. Сикорский считал, что поскольку мы не находились с Советским Союзом в состоянии войны и его положение, а также наше благополучие требуют, чтобы мы установили дипломатические отношения с СССР. Следовало бы урегулировать спорные вопросы и прежде всего позаботиться о населении, оставшемся на территории, на которую сейчас вступила Красная Армия, а также вытащить как можно больше годных к военной службе людей в польскую армию во Франции. В то же время такие члены правительства, как министры Залесский, Сейа, и прежде всего Соснковский выступают против этого и считают, что нет смысла разговаривать с Советским Союзом, поскольку после окончания войны русские вынуждены будут уступить под давлением победоносных французов, а особенно англичан, которые гарантировали нам границу. А пока, подчиняясь влиянию некоторых реакционных кругов Запада, необходимо считать СССР врагом и готовиться к войне с ним. Сикорский считал это колоссальной политической ошибкой и вопреки позиции других старался добиться соглашения с СССР, — но вынужден был делать это очень осторожно, чтобы собственные министры при иностранной помощи не сорвали его планов. Он сожалел, что не может лично вести переговоры по этому вопросу, а вынужден пользоваться услугами посредников, в доброй воле которых он совершенно не был уверен.
Находясь в Лондоне, он предпринял там определенные шаги с целью придти к какому-то соглашению с Россией. Он должен был это сделать, при посредничестве Англии, так как установление контактов с помощью Франции не могло дать результата. Пока он не получил никакого ответа на свою памятную записку. Очень хотел бы иметь возможность в первую очередь заполучить оттуда наших людей для борьбы с Германией. Но поймут ли его — неизвестно.
— Да, впрочем, — махнул он рукой с явной апатией, — что здесь говорить о чужих, если наши этого не понимают! Они дрались бы со всем миром, а в жизни, если хочешь идти вперед, так поступать нельзя.
Хотел бы создать воинские формирования на Востоке или на Юге, чтобы иметь возможность двигаться в Польшу по нескольким направлениям — ибо неизвестно, какая дорога окажется ближайшей и лучшей. Французы будут концентрировать часть своих вооруженных сил на Среднем Востоке для защиты своих колоний и возможного использования их для удара по Германии со стороны юга или Востока. Это могло бы произойти на второй фазе войны. С этой точки зрения было бы желательно, чтобы там находилось и определенное количество наших сил. В пользу такой точки зрения то обстоятельство, что можно будет сохранить наши части от преждевременного обескровливания.
Польские части, находящиеся на территории Франции, не следует дробить. Как в интересах правительства, так и в интересах мирового общественного мнения необходимо, чтобы где-то находились значительные польские силы. Они должны добиться больших успехов, чтобы смыть сентябрьское пятно. Однако уже теперь хотелось бы создавать на Среднем Востоке новые польские части. Он еще не знает, кого туда послать, может быть Пашкевича, но это должно быть очень хорошо продумано. Пашкевич, пожалуй, более нужен ему здесь, так как он наблюдает за тем, чтобы санация не особенно распускалась. Во Франции он хотел бы иметь около ста тысяч солдат. Этой армией будет командовать сам. Однако дело двигается с трудом: не хватает людей. Впрочем, людей недостает всюду. Недавно создал Раду Народову, чтобы не говорили, что все делает сам, что стремится к диктатуре, в чем его уже подозревают. Председательство в Раде Народовой принял Падеревский[10] — замечательное имя, особенно для Америки. Падеревский его друг, но он немного староват и в текущие дела особого вклада внести не в состоянии.
В то же время французы тянут с военным договором, а это серьезно задерживает работу по организации армии. В связи с активизацией санации он испытывает серьезное беспокойство, эти вопросы он передал, главным образом, генералу Кукелю. Не может понять, чего еще хотят эти люди. Понесли такое поражение, — так по крайней мере сидели бы тихо! — Опять махнул рукой.
Я спросил, когда могу выехать в Польшу. Генерал ответил, что, вероятно, через два-три месяца, пока ряд вопросов выяснится и определится. Поговорив так еще несколько минут, мы сошли вниз в салон к остальным гостям. В салоне застали еще полковника Микулича-Радецкого, приехавшего поздним вечером. Посидев еще с полчаса, мы стали прощаться. Соснковский остался ночевать у Сикорского, а я с полковником Микулич-Радецки уехал.
Атмосфера в польской колонии в Париже была очень нездоровой. Характерным для нее были взаимные обвинения. Одни огульно осуждали все, что было перед сентябрем, другие же ожесточенно защищались, не брезгуя никакой клеветой по адресу новых властей.
Вот в такой обстановке в конце декабря 1939 года в Париже в атмосфере общей подавленности, с одной стороны, и дикой гонки за постами представителей старого режима — с другой, собиралась и начинала работать немногочисленная группа молодых.
Борьбу против группы организовал и вел второй отдел штаба во главе с подполковниками Василевским и Гано. Эти подполковники вместе со своим старшим коллегой по специальности полковником Смоленским, а также рядом других штабных офицеров, выполняя задания и инструкции бывших польских властей, ожесточенно защищали старый режим и его прерогативы. Они пытались опутать и подчинить санации и ее планам Сикорского, как верховного главнокомандующего и премьера. Уже тогда усиленно старались парализовать его деятельность и решительно отстранить от влияния на положение дел в Польше.
В то время к группе молодых присматривался со стороны, но с симпатией, как он сам утверждал, министр профессор Кот. Однако, я должен с сожалением заявить, что его расположение было лишь внешним. В связи с моим отъездом в Польшу я провел с ним ряд бесед. Тогда я сам питал к нему симпатию и серьезно считался с ним. Я считал его, пожалуй, единственным министром, который знал, чего он хочет. Поэтому меня удивило и очень огорчило то, что профессор Кот, вроде бы оказывающий нам свое расположение, после моего рассказа о враждебном отношении второго отдела к группе молодых нас не защитил. Наоборот (я подчеркиваю это) он отвернулся от нас, решительно поддержав позицию старых полковников.
Он заявил лишь об одном: что в ближайшее время в Румынии и Венгрии будет создано бюро для ведения политической работы за пределами учреждения Соснковского. Это бюро должно служить также связующим звеном с Польшей исключительно по вопросам политическим. Большую симпатию проявляли к нам в это время и часто были гостями на наших собраниях генералы Модельский, второй заместитель министра по военным делам, и Пашкевич, являвшийся заместителем Соснковского. Они присматривались к нашей работе и были вроде идейных связных между нами и Сикорским.
Насколько я мог ориентироваться, отношения между профессором Котом и Пашкевичем были почти всегда натянутыми. Они никак не могли придти к согласию, особенно по вопросу работы в Польше и отправки курьеров. Между ними возникали столкновения и недоразумения, которые не однократно улаживал лично Сикорский, почти всегда поддерживающий позицию Пашкевича.
Прошло несколько месяцев.
Французы, совершенно не заботясь о нас, выделили нам очень плохие казармы, не оборудованные самым необходимым для нормального существования. За водой нужно было ходить несколько сот метров. С отоплением дело обстояло еще хуже. Несмотря на зимнюю пору, казармы не отапливались. Оружия для обучения имелось немного, да и то устаревшего.
Капитан Тулодзейский и я проводили расширенные собрания коллег, находящихся в Париже, и офицеров, приезжающих время от времени из различных пунктов дислокации наших частей.
Один из наших коллег, капитан Тадеуш Керн, на беседе в школе подхорунжих, между прочим, заявил, что если мы будем возвращаться в Польшу, то следовало бы на границе перестрелять всех офицеров от майора и выше. Это вызвало в санационных кругах страшный шум, так что я вынужден был лично улаживать этот инцидент у Сикорского.
В тот период Сикорский, как всегда, проявлял огромную энергию, большой энтузиазм и подвижность, всюду присутствовал сам, принимал дипломатов, проводил ряд переговоров. Наконец, в январе 1940 года он подписал военное польско-французское соглашение. Словом, не имел ни одной свободной минуты. А тут еще приходилось тратить свое драгоценное время на препирательства с санацией, которая пытаясь действовать самостоятельно, часто выступала против официального правительства. Интриги и ссоры возрастали. Внутренняя борьба достигала такого накала, что, например, генерал Домб-Бернацкий позволил себе направить письмо президенту Франции Лебрену, в котором назвал Сикорского узурпатором, требовал его отставки и просил французское правительство сделать это.
Против Пашкевича совершались все более частые выпады. Желая от него избавиться, санация поддерживала его кандидатуру на пост командующего в Сирии. Во Франции он, пожалуй, являлся одним из тех, чьи позиции разбивали планы санации.
После довольно крупных трений Сикорский все же задержал Пашкевича при себе, а ради успокоения санации, пошел на компромисс, назначив на пост командующего польскими войсками в Сирии полковника Станислава Копаньского. Полковник Копаньский придерживался санационного лозунга «хватай все, что удастся, лишь бы как можно больше захватить в свои руки руководящих постов». Он с удовольствием принял назначение. Хотя этот офицер вел свою родословную не из легионов, а во Франции вел себя скромно и в политической жизни не принимал заметного участия, однако среди старых сенаторов из-за занимаемой перед сентябрем должности считался своим. Полковник Копаньский являлся тогда начальником оперативного отдела штаба маршала Рыдз-Смиглы.
Замещение высших должностей «проводилось» следующим образом: какой-нибудь генерал или полковник вербовал себе офицеров, давая им различные должности или обещание в повышении звания. Когда таким образом он сколачивал вокруг себя солидное количество офицеров, пошедших на его приманку, он под аккомпанемент санационной рекламы хорошего организатора — получал командование дивизией или полком. Через несколько месяцев такой командир снимался с должности, потому что оказывалось, что он никуда не годится, а на его место приходил новый, опять со своей фалангой верных и преданных.
В самой Франции тоже было нехорошо, вернее, хуже некуда. Раздвоение в обществе было огромным. Реакция брала верх. Палата депутатов во второй половине февраля лишила депутатских мандатов депутатов-коммунистов, а месяцем позже наступил правительственный кризис. Ушел в отставку Даладье, а новое правительство сформировал Поль Рейно. Эта перемена произвела на всех удручающее впечатление. Только наше правительство и штаб совсем не задумывались над положением во Франции, вообще не желая его замечать или понимать.
Так дождались мы апреля 1940 года.
С этого времени события стали разворачиваться с ужасающей быстротой.
Поражение и возвращение
9 апреля 1940 года немецкие армии внезапно напали на Норвегию и Данию и сразу же добились серьезных успехов. Это произошло с такой неожиданностью, что союзники не в состоянии были оказать помощь странам, подвергающимся нападению. Для спасения Норвегии подготовили экспедиционный корпус, в состав которого входила и польская часть, Подхалянская бригада.
Французские воинские части, которые должны были входить в состав этого корпуса, так и не добрались до Норвегии. Но Подхалянская бригада была переброшена и успела принять участие в последних боях. Эту бригаду сформировали второпях из готовых батальонов различных полков, вытащенных из пунктов формирования и дивизий еще за несколько месяцев до этого. Сначала ее предполагалось использовать в Финляндии в марте 1940 года в войне против СССР. Сикорский возражал против посылки войск в Финляндию, так как это противоречило его основной мысли добиться соглашения с Советским Союзом. В то же время реакционные политики, опираясь на консервативные круги Англии, а в особенности Франции, толкали на это, сломя голову. Они хотели вести войну против Советского Союза, послать польские части в Финляндию, на территорию, на которую вступила Красная Армия. Шли срочные приказы из отделов Соснковского об организации вооруженных отрядов и проведении в широких масштабах диверсионных актов. Французский генерал Вейган проводил на Ближнем Востоке политическое маневрирование, а нашим санационным политикам казалось, что это уже война против СССР, о которой они постоянно мечтали.
Когда я как-то спросил Сикорского, что он думает об этом, то он ответил, что это только политическое маневрирование западных государств, попытки оказать нажим на Советский Союз. В принципе мы должны от этого держаться как можно дальше. Лично он будет стараться не допустить отправки наших подразделений в Финляндию. Одновременно он отдает себе отчет в том, что вопрос этот очень трудный, поскольку наша политика не является самостоятельной, а находится в зависимости от хозяев. Во многих случаях мы вынуждены делать то, чего от нас хотят, даже вопреки нашим собственным интересам. Однако в связи с этим он не предвидит каких-либо крупных осложнений. Считает, что все закончится лишь демонстрациями.
Следовательно, все то, что по планам союзников должно было являться политическим пугалом, служащим их комбинациям и дипломатическим маневрам, в умах большинства наших политиков принималось за чистую монету и на этом они строили свои политические планы на будущее.
Подхалянская бригада насчитывала пять тысяч человек. Командовал ею полковник Зигмунт Богуш-Шишко. Бригада не была еще надлежащим образом обучена и вооружена. Однако, чтобы подчеркнуть нашу готовность и желание сражаться, а также под давлением англичан, ее выслали на фронт. В вооружении ей не хватало артиллерии, противовоздушных средств, танков и средств связи. Даже такое оружие, как пулеметы и минометы, имелось не полностью, их просто не хватало. Это все же не помешало бригаду отправить. Энтузиазм и желание были огромны, поэтому считали, что все в порядке. Тем более, что этого требовали союзники. Верховный главнокомандующий посетил бригаду накануне ее отправки, вдохновил на борьбу, а командира, полковника Богуша, для большей солидности и авторитета, произвел в генералы.
8 мая немцы ударили по Бельгии, Голландии и Люксембургу. Как всюду до сих пор, так и на этот раз, они добились молниеносного успеха. Как в Польше, так и здесь полилась кровь.
Мир начал понимать, что такое Германия. Моторизованная и замечательно организованная немецкая армия устремилась вперед, всюду неся опустошение, оставляя за собой слезы, могилы и нужду. Эта лавина неумолимо приближалась к Франции. Массы беженцев запрудили все дороги. Обстановка становилась до ужаса очевидной.
В конце мая я снова был у Соснковского. Мы обсуждали положение во Франции, я старался убедить генерала, что военные возможности Франции, возможности сопротивления с ее стороны весьма ничтожны, что Франция вынуждена будет покориться и что час ее падения уже совсем близок.
Генерал ответил, что не верит в возможность поражения Франции, а если бы так случилось, все же Франция всегда останется Францией, с которой все обязаны считаться. Поэтому ничего не следует менять в нашей внешней политике, а идти дальше по линии политики Франции. После минутного размышления добавил: «и Англии» как бы под влиянием проблеска мысли, что ведь только на Францию уже опираться нельзя. Мы должны делать то, что хотят эти два государства, а они нам гарантируют будущее Польши. О России генерал вообще не хотел ничего слушать. Он считал ее врагом, который должен будет уступить, и его не следовало брать в расчет. Как эта уступка будет выглядеть, генерал еще сам не знал.
Такой была наша внешняя политика и главная мысль всех мероприятий в период приближающегося поражения Франции. Во главе этой политики стоял министр иностранных дел Август Залесский, а горячим его сторонником и исполнителем планов являлся Соснковский и весь предсентябрский аппарат, собравшийся в эмиграции.
Сикорский продолжал жаловаться на неприятности, какие он имеет со стороны собственного окружения. Временами даже взрывался: «Меня обманывают, клевещут, не выполняют моих приказов и поручений. Временами даже не знаю, кому должен верить».
К сожалению, это была правда. Печальная правда. Он даже не знал, были ли получаемые им из Польши донесения правдивыми. Не раз случалось, что присылаемое из Польши донесение, если его содержание являлось невыгодным для санации, сразу же в шифровальном бюро переделывалось и в иной версии докладывалось Сикорскому.
Я как-то спросил: — Господин генерал, кто собственно руководит? Вы или Ваше окружение во главе со вторым отделом? Почему я, несмотря на Ваше предложение о моем выезде в Польшу в течение несколько месяцев не могу тронуться с места?
С февраля по июнь шла ожесточенная борьба за то, чтобы любым способом задержать мой выезд в Польшу, санкционированный Сикорским, Соснковским, Модельским, Пашкевичем и профессором Котом. Видимо опасались, как бы в Польше от меня не узнали о продолжающейся губительной деятельности санации, о ее планах и намерениях, о том, как, невзирая на позорное прошлое, она вновь стремилась, не разбираясь в способах, захватить власть. Я сказал ему тогда следующее:
— Господин генерал, Вы окружили себя болотом, и я боюсь, что в этом болоте Вы и утонете.
Генерал вздрогнул.
— Но что делать, что делать? — воскликнул он, а через минуту добавил: — В Польшу Вы поедете в ближайшие дни.
Мы решили, что я поеду не один, а подберу себе двух-трех офицеров, которые помогали бы мне в работе. Я некоторым образом должен был представлять Сикорского по политическим вопросам в организациях, находящихся на занятых советскими войсками землях. Кроме того генерал не знал точно, что делается в подпольных вооруженных силах Польши, не знал, что там происходили большие внутренние трения. Он хотел, чтобы я обстоятельно выяснил, как это выглядит и выполняются ли его инструкции и указания. Мы решили, что с этой целью я возьму с собой капитана Тулодзейского, который будет меня сопровождать и непосредственно помогать, а также двух офицеров из группы молодых — подпоручиков Гродзицкого и Романовского, которые войдут в состав подпольных вооруженных сил. Двое последних должны были выехать через бюро Соснковского, как его курьеры, и одновременно будут помогать мне. Совершенно очевидно, что об этом не должны были знать ни Соснковский, ни второй отдел.
Сикорский написал министру Залесскому записку о выдаче нам всем дипломатических паспортов до Румынии. Мне с капитаном Тулодзейским предстояло ехать автомобилем, а подпоручикам Гродзицкому и Романовскому поездом. В Румынии я должен был с ними встретиться и составить план дальнейших действий.
После обсуждения этих вопросов генерал, как бы возвращаясь к мысли, которая не давала ему покоя, сказал, что за Францию он все же спокоен. У нее ведь только одна граница подвержена угрозе, но и она в значительной степени защищена линией Мажино. Генерал, как и другие, непоколебимо верил в линию Мажино.
— А Италия? — спросил я.
— За нее я совершенно спокоен. Как раз несколько дней тому назад я получил от генерала Венявы (нашего тогдашнего посла в Италии) письмо, в котором он сообщает, ссылаясь на достоверные источники, что Италия не нападет на Францию. Хотя он и не сообщает об источнике, но заверяет словом чести, что это точно. Это письмо я даже показывал генералу Вейгану и премьеру Рейно, желая их успокоить относительно итальянской границы.
— Так ли это, господин генерал?
— У меня нет оснований предполагать, что это сообщение не соответствует действительности. Я знаю только один случай большого вранья Венявы, но это было давно.
Я с любопытством взглянул на генерала.
— Когда уже стало известно, что маршал Пилсудский умирает, начался спор о его преемнике. Кандидатов имелось несколько. Наиболее вероятным были Соснковский и Рыдз-Смиглы. Президент Мосьцицкий не любил Соснковского и хотел каким-либо способом его отстранить, да и Веняве кандидатура Смиглы была более близкой. Поэтому Венява прибег к совершенно необыкновенному коварству. Как-то, перед самой кончиной маршала, когда тот находился уже в агонии, а генералитет пребывал в соседней комнате, Венява, всегда имевший свободный вход к постели больного, вошел к нему, посмотрел на лежащего маршала, нагнулся над ним и через минуту вышел, заявив, что маршал на минуту пришел в сознание и назначил своим преемником Рыдз-Смиглы. Присутствующие восприняли это как приказ. Как-то Венява проболтался, что это была шутка. Президент Мосьцицкий всегда очень ценил эту услугу, и в доказательство благодарности даже теперь передал свою власть в руки Венявы.
После этого рассказа меня тем более удивило то доверие, которое питал Сикорский к написанному Венявой-Длугошевским. Но здесь все было таким странным, что собственно говоря, я должен был отучиться чему-либо удивляться.
— Тем не менее я все же не считаю, — продолжал генерал, — чтобы в данном случае Венява хотел ввести меня в заблуждение. Это был бы слишком большой скандал. Тогда бы моя особа и престиж подверглись дискредитации в глазах французских властей. Это могло быть похожим на предательство.
Через несколько минут, прощаясь со мной, генерал предупредил, что скоро меня вызовет и даст инструкции относительно работы в Польше.
Заранее, еще не совсем веря в свой отъезд, я стал готовиться в дорогу. Получил дипломатический паспорт на проезд в Румынию, откуда должен был совершить нелегальный переход через границу во Львов.
8 июня 1940 года меня от имени верховного главнокомандующего пригласили в польское посольство в Париже, где в это время он работал. Генерал очень спешил, так как через несколько часов собирался выехать на фронт. Франция была разбита. Немцы уже глубоко врезались во французскую территорию, временная оборона на линии Вейгана, которая должна была их задержать, совершенно не оправдала возложенных на нее надежд. 1 июня 1940 года она была прорвана.
Сикорский принял меня в одном из салонов посольства. Я должен был взять с собой специальную инструкцию и в тот же день, как курьер верховного главнокомандующего и премьера, выехать. Во время инструктирования и информации об общей ситуации присутствовал начальник кабинета верховного главнокомандующего Борковский. Сикорский категорически возражал против каких-либо вооруженных выступлений, направленных против СССР. Предлагал воздержаться от саботажа и диверсий, которые, по его мнению, кроме жертв и вреда для нашего общего дела до сих пор ничего хорошего не принесли. Требовал вести политическую работу среди населения, чтобы сплотить и объединить всех вокруг общих целей и руководителей, а также поисков на месте возможностей соглашения с СССР.
Информируя меня об общей политической обстановке, он многократно подчеркивал, что Англия очень серьезно надеется на возможность вовлечения СССР в войну против Германии и на этом строит свои будущие военные расчеты. Когда это произойдет, — Россия станет нашим союзником, из чего возникнет необходимость политического и военного сотрудничества. Сикорский утверждал, что в противном случае не могло быть и речи о победе. Он еще раз подчеркнул, что Англия усиленно хлопочет о вовлечении Советского Союза в войну, видя в этом единственное для себя спасение. На сопротивление Франции Англия серьезно не рассчитывает, хотя он лично полагает, что Франция может обороняться еще довольно продолжительное время. Оказавшись фактически в одиночестве, Англия поспешно ищет нового союзника, причем такого, который мог бы всю тяжесть войны взять на себя, ибо одна не в состоянии вести войну. Поэтому совершенно ясно, какие в такой обстановке возлагаются на нас обязанности и какие вырисовываются возможности.
Продолжая, Сикорский обращал мое внимание на то, что мысль о соглашении с Россией очень непопулярна среди эмиграции, ее считают даже абсурдной. Военные деятели относятся к этому особенно враждебно. Сикорский подчеркнул, что это проблема деликатная и требуются большие политические способности для того, чтобы воплотить эту мысль в действие.
Я покинул Париж 8 июня 1940 года. Вместе с капитаном Здиславом Тулодзейским сел в «Бьюик», полученный в мое распоряжение от ксендза ректора Цегелки, и поехал в сторону французско-итальянской границы. Девятого июня рано утром пересек границу Италии. На границе мне не чинили никаких препятствий. Дипломатические паспорта все облегчали и открывали путь. На пограничной станции мне вручили маршрут, каким я должен доехать до югославской границы. Я поехал через Турин, Милан, Верону, Падую (где мы переночевали), а затем через Венецию и Триест в Югославию.
На французско-итальянской границе, на итальянской стороне находилось множество военных частей, чего нельзя было видеть на стороне французской. То же самое происходило у югославской границы, где итальянцы также сконцентрировали крупные силы. В то же время на югославской стороне вообще войск не было видно.
Десятого июня примерно в полдень я пересек границу, а 11 июня уже в Белграде я узнал, что Италия объявила Франции войну. Мне тогда вспомнился разговор с Сикорским о письме Венявы.
Четырнадцатого июня я благополучно прибыл в Бухарест.
...А в это время события во Франции развивались с потрясающей быстротой. Уже 14 июня немцы вступили в Париж, а 16-го было создано новое правительство маршала Петэна. 17-го июня французское правительство выступило с просьбой о перемирии, а 22-го произошла капитуляция Франции.
Все это совершенно поразило наше правительство и штаб. Взаимно пожирая друг друга и ссорясь по пустякам, они не имели ни возможности, ни времени заняться должным образом армией и политическими делами. Поэтому в дни поражения они совсем потеряли головы.
В Англию вместе с отступившими через Дюнкерк английскими войсками попало около двух тысяч наших офицеров и около четырех тысяч солдат. Офицеры были главным образом из штаба и министерства по военным делам, а также из тех, которые по приказу Кукеля бросили свои части, чтобы спасти свою жизнь.
Я не собираюсь заниматься описанием нашей неповоротливости, не хочу подробно рассказывать даже о преступлениях, совершенных в это время, тем не менее некоторые факты вынужден привести.
Подхалянская бригада, действительно отважно сражавшаяся в Нарвике (оставила в могилах больше ста пятидесяти своих солдат), вдруг, уже после падения Франции, была направлена в Бретань. Ее командир Богуш, который обязан был точно знать обстановку, не запротестовал против этого, в результате вся бригада почти до последнего человека была уничтожена. А ведь в ней насчитавалось четыре с половиной тысячи человек. Ее остатки попали в немецкий плен. Все это было следствием неспособности командования. Командир, боясь последствий своего командования, а вернее его отсутствия, составил приказы задним числом, например, относительно обстановки 15 июня он издавал приказы 17-го, но датированные 14-м июня. Таким образом, его приказы оказывались очень удачными, а разгром бригады вытекал из общей обстановки, превосходства противника и т. п. То же самое касалось рапортов об обстановке и иных документов.
После его высадки в Англии вместе с несколькими десятками оставшихся в живых, Богуша ожидала неприятность: против него было создано судебное дело за махинации с приказами и рапортами.
Однако до суда дело не дошло...
Вот с таким багажом наше правительство и штаб оказались 20 июня 1940 года на английской земле, чтобы «вести дальше борьбу за Польшу».
Позиция правительства была не особенно крепкой. Этот факт умело использовали санационные элементы, усиленно стремясь устранить Сикорского в целях осуществления перемен в правительстве. Едва ступив на английскую землю, после только что отзвучавшего эха приветственных церемоний и визитов вежливости, едва успев должным образом разместиться, они начали интриговать.
Прежде всего начались атаки на тех, кто лояльнее других относился к Сикорскому. Первая самая мощная атака обрушилась на генералов Модельского и Пашкевича. Особенно сильные удары вынужден был выдержать Пашкевич в связи с вопросом посылки курьеров в Польшу. Однажды Пашкевич не захотел дать своего согласия на выезд курьера, некоего Микициньского, сильно подозреваемого в сотрудничестве с немцами. Несмотря на это, его все же решили послать, поскольку он взялся привезти из Польши жену Соснковского. Профессор Кот, в то время желавший понравиться Соснковскому, оформил выезд Микициньского. Получив личные инструкции от Соснковского и профессора Кота для организаций в Польше, а также шифры и деньги, он выехал. Это происходило еще в Париже, в апреле 1940 года. Проведенное позже расследование (не нашими властями, а английскими) установило, что Микициньский полученные инструкции и шифры передал соответствующим органам как польским, так и немецким, — за что и получил согласие на вывоз Соснковской. В результате того, что немцы располагали теперь соответствующей информацией, в Польше начались первые серьезные провалы. Английская разведка установила, что это было предательство. Микициньского заманили в Турцию, где устроили по поводу удавшейся акции обильный ужин, после чего его в совершенно пьяном виде посадили в самолет и вывезли с территории нейтральной Турции в Польшу, где Микициньский был расстрелян. Скандалы и компрометация высокопоставленных лиц достигли невероятных размеров. Особенно это касалось профессора Кота. Совершенно очевидно, что перед Польшей это скрывалось самым тщательным образом.
В это время, в июле 1940 года, Пашкевич — как он мне рассказывал позже, когда прибыл в Лондон в мае 1942 года, имел довольно резкий разговор с верховным главнокомандующим по поводу посылки курьеров в Польшу и существующих в Польше отношений. Пашкевич требовал снятия с постов комендантов подпольной армии в Польше генерала Токаржевского, полковника Клеменса Рудницкого и полковника Пелчинского. Сикорский утверждал, что он пока не в состоянии этого обещать и в принципе запрещает делать перестановки в этой области. Однако позже избавились от Токаржевского и полковника Рудницкого, выслав их во Львов. Там же они были арестованы. Таким образом довольно часто избавлялись от неугодных людей. Такая процедура широко применялась в условиях взаимного «съедания».
Пашкевич, возмущенный некоторыми неудачными мероприятиями Сикорского, обратил внимание на деятельность генералов Бурхард-Букацкого и Домб-Бернацкого, подчеркивая их враждебные отношения к верховному главнокомандующему и выступления как в самом Лондоне, так и в распоряжении военных лагерей в Шотландии. Разоблачил их подлинную роль в попытке устранить Сикорского с поста верховного главнокомандующего, не останавливаясь перед организацией в армии бунта. Этот разговор между генералами вызвал определенное охлаждение в их взаимоотношениях. Пашкевич, видя, что не встречает необходимого понимания со стороны Сикорского, решил отказаться от поста вице-министра по делам Польши и отойти от активного участия в политической жизни. Сикорский удовлетворил просьбу Пашкевича и назначил его командиром танковой бригады в Шотландии.
Что касается самого Сикорского, то были использованы любые способы, чтобы изолировать от него преданных ему офицеров, чему пожалуй, и как это ни удивительно, помогал сам генерал, проявляя удивительное неумение разбираться в людях.
Наконец, решено было начать генеральную атаку на премьера и верховного главнокомандующего. В результате этой атаки в июле 1940 года президент Рачкевич под нажимом санационных кругов дал премьеру Сикорскому отставку, выдвинув на этот пост министра Августа Залесского. Одновременно такую же деятельность вели в армии генералы Бурхард-Букацкий и Домб-Бернацкий. Однако, кто должен был стать верховным главнокомандующим, решено не было. Обсуждались следующие кандидатуры: Соснковского, Бурхард-Букацхого и Домб-Бернацкого. Такое отсутствие единодушия в ошошении поста верховного главнокомандующего несколько задержало всю атаку на Сикорского. Соснковский сохранял спокойствие и определенную сдержанность, несмотря на то, что ранее принимал во всем этом деле довольно активное участие. Это немного озадачило других генералов. Бурхард-Букацкий решительно, но без шума выступил против Сикорского, а Домб-Бернацкий открыто агитировал против верховного главнокомандующего, стремясь вызвать в лагерях бунт.
В то время, как в армии этот вопрос представлялся еще неопределенным, министр Залесский, не откладывая дела, приступил к формированию нового правительства. Тогда Бурхард-Букацкий в виду нерешительности Соснковского сам стал готовиться к принятию поста верховного главнокомандующего.
Поскольку споры и переговоры затягивались, вследствие недостатка решимости как у одних, так и у других, исход событий как всегда в подобных случаях решила энергичность Сикорского. Сначала он был поражен наглостью выступлений против него, а затем решил молниеносно покончить со смутами и бунтами в армии, считая всю эту кампанию позорящей его имя на чужбине.
Несколько офицеров из близлежащего окружения Сикорского: полковник Климецкий, начальник штаба верховного главнокомандующего, подполковник Крупский и еще некоторые, пошли к министру Залесскому и принудили его отказаться от миссии формирования кабинета, а также отослать свое назначение президенту Рачкевичу с заявлением, что он не берется за создание нового правительства. Одновременно и президент Рачкевич был принужден взять обратно отставку Сикорского и подписать декрет о его назначени на пост премьера.
Весьма характерным во всей этой афере было поведение двух человек: Соснковского и профессора Кота.
Первый из них, прояви он решительность, довольно легко мог бы стать верховным главнокомандующим. Если этого не произошло, то только в результате типичной для него пассивности в решительные моменты. Перед этим он принимал активное участие во всей этой аморальной заговорщической подпольной афере. Когда же наступил решающий момент, он устранился от участия в этом деле, чем невольно его ослабил, так как никто не знал его действительных намерений и его позиций в случае, если бы в самом деле потребовалось применить силу.
Соснковский до последнего момента приглядывался ко всему на расстоянии, как бы выжидая, кто победит. Совершенно естественно, если бы Домб-Бернацкий добился успеха и предложил ему пост верховного главнокомандующего или премьера, он бы принял его без промедления. Больше того, он считал бы, что на этот пост нет более достойного, чем он и что этот пост только ему подходит. Однако он находил, что выгоднее будет официально не ввязываться в это дело. Поэтому, когда министр Залесский под нажимом отказался от поста премьера, а президент Рачкевич взял обратно согласие на отставку Сикорского, Соснковский продолжал держаться так, будто ни о чем не ведал.
Другим лицом, которое вообще могло недопустить этой неразумной и очень вредной акции, являлся профессор Кот. Своим вмешательством в поддержку Сикорского он мог с самого начала предотвратить какие бы то ни было действия против него. К сожалению, располагая для этого всеми возможностями, он не только не сделал этого, но, наоборот, вел себя выжидательно, а это придавало смелости противникам Сикорского. Не следует забывать, что профессор Кот сам стремился занять пост премьера и ждал только удобного момента для этого.
После того как Сикорский удержался на посту верховного главнокомандующего и премьера, профессор Кот начал играть роль его «преданного» и верного друга. Тем не менее он начал открыто поддерживать офицеров старого режима, устраивая им ответственные должности в штабе Сикорского. В результате этого санация стала настойчиво «втираться» в штаб, захватывая в свои руки ряд важнейших должностей. В штаб попали такие люди, как полковник Глябиш, бывший офицер для поручений у Рыдз-Смиглы, получивший должность начальника Первого отдела (организационного), генерал Глуховский — бывший вице-министр по военным делам до 1939 года и ряд других. Приобрел большой вес также полковник Климецкий, получивший звание генерала за свое выступление в защиту Сикорского перед президентом. Присвоение этого звания в армии вызвало недовольство. Впрочем, все участники событий, выступавшие перед президентом против министра Залесского, были повышены в званиях.
В результате всей этой истории, как это обычно бывает, одни пострадали, а другие получили высокие назначения.
Епископ Гавлина, который слишком демонстративно защищал санацию, оказался в состоянии конфликта с Сикорским, в результате его удалили из новой Рады Народовой. Однако он сумел при поддержке Кукеля и министра Кота сохранить за собой должность епископа полевых польских войск. Все же он был вынужден как верховный пастырь изменить тон и суждения, ибо ему начали напоминать период деятельности в Польше, когда он провел среди ксендзов генеральную чистку. Епископ немного притих. В то же время Богуш-Шишко, которого должны были судить за служебные злоупотребления и поддержку приказов, вышел из этого дела не только не потерпев урона, а приобретя еще и расположение. В этот период он сослужил большую услугу Сикорскому. Желая поддержать свой авторитет и престиж в армии, а также наказать тех, кто наиболее резко выступал против него, Сикорский отдал под суд военного трибунала генерала Домб-Бернацкого за попытку вызвать мятеж в армии. Чтобы осудить его, он должен был подобрать преданных себе судей и заседателей, чтобы иметь возможность разжаловать Домб-Бернацкого.
Поэтому он вызвал к себе Богуша и сказал примерно так (передаю по рассказу самого Богуша): «Против Вас имеется дело, господин генерал, дело очень серьезное, но если Вы на суде как один из заседателей добьетесь разжалования и тюремного заключения Домбу, то я забуду о Вашем деле». Богуш этому страшно обрадовался и, конечно, на все согласился. Вошел в состав суда заседателем. С порученным ему заданием справился как нельзя лучше. Домб-Бернацкий был разжалован и приговорен к двухлетнему заключению.
Вот каким образом закончился первый этап «борьбы за Польшу» на английской земле. Эту борьбу инспирировали санационные деятели, пребывавшие в Румынии и Америке, которые в лагере пилсудчиков считались главными.
В это время наши дипломатические и военные учреждения в Румынии, а также группы Соснковского по переброске через границу вели себя весьма своеобразно. Они не только не помогали правительству Сикорского, считая, что оно падет, и ожидая возвращения власти санации, но и мешали, где и как только можно. Они предельно осложняли, а то и делали вовсе невозможным выезд в Польшу тем курьерам, а выезд во Францию, а затем на Ближний Восток тем молодым офицерам, которые, по их мнению, слишком лояльно относились к правительству Сикорского.
Кроме того, неумелость наших властей, особенно военных, переходила всякие границы. В качестве примера можно привести работу групп по переброске в Польшу. Эти группы были созданы на основе «соглашения» с румынской разведкой таким образом, что перебрасываемое в Польшу лицо бралось на учет в румынской разведке Сигуранце и только с ее разрешения и после соответствующей оплаты ее чинов происходила переброска.
Технически переброска выглядела следующим образом: когда уже все вопросы были решены — обеспечение документами и т. п. — офицер нашего второго отдела в Румынии и офицер румынской разведки вместе с перебрасываемым ехали на границу в указанное румынской разведкой место, где румынский пограничник по приказу офицера Сигуранцы пропускал «нарушителя» через границу. Я уже не говорю о том, что румыны знали о каждом, кто переходил границу. Часто знали, с чем идет, куда и зачем. При этом следует помнить, что в это время румынская разведка уже сотрудничала с немецкой довольно тесно, вследствие чего последняя была осведомлена о движении наших курьеров. Кроме того, румынская разведка под давлением немцев могла согласиться или отказаться от переброски людей. А что тогда? Словом, в важнейшем разделе нашей работы (действия на Польшу) мы находились в зависимости от румынской разведки, а если идти дальше, то и от немцев. О какой-либо самостоятельной организации переходов через границу не могло быть и речи.
Об этом даже не подумали. Персонал наших учреждений был многочисленным, доходил до нескольких сот человек, поэтому организовать серьезную работу было вполне возможно, особенно с помощью польской колонии в Румынии, которая нам очень сочувствовала. Однако довольствовались существующим положением вещей, который целиком отдавал нас в чужие руки.
Чтобы проиллюстрировать, чем занимались наши руководящие деятели в Румынии, приведу небольшой пример.
Когда в Лондоне произошел польский правительственный кризис, руководящие деятели санации непременно хотели видеть бывшего министра Бека вновь в составе правительства, если не премьером, то по крайней мере министром иностранных дел, они считали его человеком наиболее подходящим и наиболее способным. Вели пропаганду, утверждая, что именно министр Бек заключил в августе 1939 года договор с Англией, что это именно ему англичане дали гарантию стабильности наших границ и поэтому никто другой, как только он должен формировать правительство на английской земле. Тем более, что он пользуется у англичан уважением, твердила санация, и они с удовлетворением видели бы его на этом посту. С этой целью второй отдел в Румынии, возглавляемый доктором Осташевским (полковник Орловский), изготовил министру Беку паспорт на имя Яна Карпинского и поставил в нем соответствующие визы. Поручик Петр Высоцкий должен был перевезти его на автомобиле через румынскую границу в Югославию, чтобы оттуда он выехал в Англию. Однако все это предприятие сорвалось, так как румыны обо всем знали и задержали Бека на границе. Вследствие всего этого, ему запретили покидать занимаемую виллу.
О компрометирующей деятельности второго отдела в Румынии может свидетельствовать эпилог дела подполковника Орловского, которого на территории Палестины, опасаясь разглашения им секретов, отравили иные разведывательные органы.
Когда после всех этих историй положение стало спокойнее, правительство Сикорского удержалось, а санация пока понесла поражение как в Лондоне, так и в Румынии. Можно было рассчитывать на относительное спокойствие, хотя бы на два-три месяца.
Через несколько дней после моего прибытия в Бухарест военный атташе подполковник Тадеуш Закшевский заявил мне, что есть указание отменить мой выезд, а меня направить на Ближний Восток в бригаду генерала Копаньского. Мне это показалось подозрительным, тем более, что я имел поручение и инструкции, полученные непосредственно от Сикорского, а о том, какая происходила борьба между ними и санацистко-легионерскими кругами, я хорошо знал.
Подпоручикам Кшиштофу Гродзицкому и Яну Романовскому, приехавшим в Бухарест на несколько дней раньше меня, как посланцам бюро Соснковского не чинили никаких препятствий и они нормально могли следовать в Польшу. Я заявил подполковнику Закшевскому, что все же в Польшу пойду, потому что имею на этот счет определенный приказ Сикорского и его выполню. Закшевский ответил, что здесь он представляет высшую военную власть, а не Сикорский, и я должен подчиняться ему. Я сказал, что этого не будет.
Через несколько недель после неудавшегося побега Бека и компрометации военного атташе, активно участвовавшего в этом деле, подполковник Закшевский был снят со своей должности, а его обязанности принял майор Зимналь. Тем не менее споры о моем переходе в Польшу продолжались. В половине июля Зимналь показал мне приказ, переданный из Лондона и подписанный начальником штаба Климецким о том, что согласно приказу Сикорского, я обязан направиться на Ближний Восток.
Зная, в каком одиночестве находится Сикорский, как его обманывают и сбивают с толку, я решения своего не изменил и снова подтвердил, что иду в Польшу. В то же время капитан Здислав Тулодзейский на основании приказа (не знаю, действительного ли) выехал в Сирию в бригаду Копаньского.
Тем временем я установил контакт с организованной министром Котом политической ячейкой, о которой он мне говорил еще в Париже. Эта ячейка должна была вести политическую работу на Польшу. Руководил ею вице-консул Каньский при помощи сотрудников Залевского и Ольшевского. Я рассказал им о своих перипетиях. Они посмеялись по этому поводу. Дали мне явки на Львов и деньги на дорогу, а также средства для передачи организациям в Польше. Трудно было понять, смеяться или плакать следует по поводу такой деятельности польского правительства. Одно учреждение, представляющее лондонское правительство, чинило мне всяческие препятствия и усиленно добивалось, якобы от имени Сикорского, моего отзыва. Другое учреждение, также представлявшее правительство Сикорского, помогало мне, снабжало деньгами не только меня, а и организации на восточных землях. Это лишь небольшой пример пресловутой «единодушной» и «дружной» работы.
Я договорился с подпоручиком Гродзицким, что я пойду через несколько дней после них и назначил нашу встречу во Львове в доме 24 по улице Калечей, где я предполагал остановиться.
В это время я узнал, что военный атташе в Румынии не признал себя побежденным и, будучи уверен в своей возможности помешать каким-либо способом моему переходу в Польшу, посылал в Лондон одно письмо за другим в соответствующие отделы, предлагая употребить любые способы и влияния на генерала Сикорского, чтобы он согласился на мой отзыв. Будто бы он, Сикорский, склонялся уступить этим наговорам, в которых меня изображали бунтовщиком против него, и должен был дать указание, чтобы наши учреждения в Румынии не помогали мне в переходе границы и не проявляли в отношении меня никакой заботы.
Несмотря на это, в первой половине августа я выбрался из Бухареста в Польшу. Не имея возможности, а точнее, не желая пользоваться любезностью наших учреждений, я сам при помощи знакомых организовал свой переход. Приехал в Сучаву, расположенную почти в тридцати километрах от границы. По карте выбрал место предполагаемого перехода границы. Терпеливо ожидал дождя, который был довольно частым явлением в это время года. Во время проливного дождя нанял такси и поехал в одну из деревень, находящихся рядом с границей. Я знал, что в такой ливень даже паршивого пса нигде не встречу. Отослав машину, я пошел с картой и компасом в сторону ближайшего леса, краем которого проходила граница. Через несколько часов углубился в лес, оставив границу далеко за собой. Было девять часов вечера. Чувствовал я себя довольно неважно на совершенно неизвестной территории, совсем один среди огромного леса и глубокой темноты, лишь изредка проясняемой молнией. Ориентироваться было очень трудно, не попадалось на пути ни дороги или даже тропинки. Держался лишь направления, отмеченного по компасу на карте. Еще несколько часов медленно продвигался вперед. Промок до нитки, даже резиновый плащ не помогал, провалился в овраг с водой почти по шею. За каждым кустом или деревом, возникавшем в свете молнии, чудились какие-то фигуры. Наконец, после многих часов ходьбы дошел до поляны, на которой стояло несколько стогов сена. Промокший, озябший и измученный, я решил немного отдохнуть. С головой зарылся в один из стогов. Чтобы разогреться, выпил коньяку из бутылки, закусил колбасой и с блаженным чувством покоя и относительной безопасности заснул.
Проснувшись, взглянул на часы, было 14.20. Снова глотнул коньяку. Чувствовал себя отлично. Одежда на мне высохла. Высунул голову из своей берлоги и осмотрелся вокруг. Поляна небольшая, окружена лесом. Нигде не заметил присутствия человека, это успокаивало. Не спеша оглядываясь по сторонам, вылез из своего укрытия и двинулся в путь. О точных ориентирах не могло быть и речи, не было никаких знаков. Встречи с людьми не искал, они сразу узнали бы, что я «нездешний», а это могло быть опасным. Шел я значительно бодрее, чем ночью. Погода благоприятствовала, было сухо и солнечно. В лесу была легкая прохлада, а воздух освежающий. Шел все время пользуясь компасом. Через несколько часов дошел до деревни, обозначенной на карте. Теперь я точно ориентировался на местности. Я находился в каких-нибудь двадцати с лишним километрах от границы. Однако меня еще ожидала большая переправа через реку Сирет, находившуюся в десяти километрах, форсирование которой требовало больших усилий. Решил до наступления вечера до нее дойти, чтобы выбрать место переправы. В шесть вечера подошел к Сирету. О переходе по мосту не могло быть и речи. Там стоял усиленный патруль. Нужно было проверить возможности перехода в брод и выбрать для этого подходящее место. Река не патрулировалась. Спокойно пошел вдоль Сирета, который, как все горные реки, не мог быть глубоким. Пройдя немногим более километра, наметил место, где как мне показалось, течение было более тихим. В этом месте река была довольно широкой, на дне виднелись камни, а на расстоянии одной трети от противоположного берега была мель. Я удалился от реки на несколько сот метров и решил подождать сумерек. Как говорится: «береженого бог бережет». С наступлением темноты, я разделся, но ботинки не снял, скользкие и острые камни на дне реки могли поранить ноги и замедлить движение. Одежду завернул в пальто. Когда совсем стемнело, вошел в ледяную воду и медленно стал двигаться вперед. Мое предположение оказалось правильным — река в этом месте была неглубокой, зато течение было значительно сильнее, чем я думал. Очень пригодились ботинки, они позволяли твердо ступать по дну и увереннее шагать. С напряжением добрался до мели, где немного отдохнул. До берега оставалось не больше пятнадцати метров, но тут, к несчастью меня подстерегала неприятная неожиданность.
Когда я вошел в воду, оказалось, что здесь значительно глубже, чем я предполагал. Через несколько шагов меня подхватило течение. О какой-либо борьбе с течением не могло быть и речи, я старался лишь держаться на поверхности и двигаться в сторону берега. Проплыв по течению метров около сорока, я счастливо добрался до берега. Только тогда почувствовал огромную усталость. Поскольку в этот день я и так преодолел большой путь, решил отдохнуть и лишь на рассвете двинуться дальше, чтобы в течение дня пройти километров двадцать до другой переправы, через Прут. Свое намерение я осуществил, с той лишь разницей, что переходил Прут не под вечер, а на рассвете следующего дня около четырех часов утра. После перехода через Прут кое-как привел в порядок свой внешний вид, побрился, расправил и вычистил костюм. Пошел по тропинке, которая должна была вывести меня на шоссе Куты-Косов. После часа ходьбы оказался на шоссе и направился в сторону Косова.
Меня охватило какое-то чувство легкости и свободы. Я находился в уже знакомых местах, среди людей, от которых ничем. не выделялся. Чувствовал себя так, словно с меня свалился огромный груз. Через несколько минут пути присел на попутную подводу, направлявшуюся за досками на лесопильный завод в Коломыю, и в этот же день под вечер прибыл туда. Чувствовал себя, как дома. Ведь я отсюда выбирался в путешествие в Париж. Прошелся по городу, который выглядел так же, как тогда, когда я покидая его, направляясь в Румынию. С того времени прошло десять месяцев. Я несколько раз прошел мимо знакомых домов, стараясь заметить, не произошло ли каких-либо перемен, все ли осталось по-старому. Через некоторое время вошел к одному из знакомых. Когда хозяева меня увидели, то без конца удивлялись, как я сюда попал, и вопросам не было конца. Переночевав, я на следующий день поездом поехал во Львов. Чувствовал себя как-то странно, возбужденно и нервно.
Во Львов прибыл поздно, около восьми часов вечера. На вокзале было полно пассажиров. На улицах происходило такое же оживленное движение, как перед войной. Пошел к знакомым, у которых жил до отъезда из Львова, на улицу Калечу, 24, к Бонковским. Здесь также, как в Коломые, меня забросали бесконечным числом вопросов. Не могло быть и речи, чтобы идти куда-нибудь искать ночлега. Меня оставили и устроили, как когда-то.
Итак, я снова во Львове.
На следующий день вышел в город, в тот город, который хорошо знал еще со времен школьных экскурсий, а также по тому времени, когда проходил службу в 12-м уланском полку. Теперь все рассматривал с интересом. То же движение, те же лица и сплошь да рядом хитрая, понимающая улыбка на губах львовских «бацяров».
Побродив немного по городу, стал разыскивать знакомых по имеющимся у меня адресам. Связи оказались хорошими. Уже через несколько часов установил контакт с ячейкой подпольных организаций. В течение последующих двух-трех дней принимал участие в двух собраниях, на которых ознакомил участников с общим направлением политики Сикорского. Уже несколько месяцев у них отсутствовал личный контакт с Парижем. Я был поражен, тем, что эти люди, как-никак представляющие подпольный мир и, как они сами считали, весь народ, все польское общество, совершенно не ориентировались в вопросах внешней политики, в оценке положения и возможности продолжительной войны. Они буквально жили только сегодняшним днем. Прожить до весны, а «там — что будет!». Неустанно ожидали какого-то чуда. Конкретные факты для них не существовали. Кроме того, я убедился, что они были совершенно неправильно информированы. Они были уверены, что наша армия, около трехсот тысяч человек, сконцентрирована на границах Венгрии и Румынии и вот-вот вступит на территорию Польши. Они также были убеждены, что в Англии находится почти полумиллионная польская армия.
С этой точки зрения члены подпольного руководства мало чем отличались от любого завсегдатая кафе, склонного всегда оперировать миллионными армиями и особыми сведениями. Каково же было разочарование моих слушателей, когда я им в осторожной форме показал всю правду о нашей жизни в эмиграции. Я рассказал о том, что ни в Румынии, ни в Венгрии нет никакой нашей армии, рассказал и о том, как все происходило во Франции и с каким багажом наше правительство переехало в Англию. Конечно, я не сказал о происходивших закулисных интригах различного рода. Этого в данный момент они и не поняли бы, да в этом и не было необходимости. Старался внушить им лишь то, что было ясным за границей каждому: война продлится еще верных несколько лет, поэтому мы должны сейчас искать новые политические пути. Должен отметить, что хотя я сообщал им вести, диаметрально противоположные тем, которые доходили до них раньше через курьеров или по письмам, все же моя информация, принятая сначала, по правде говоря, с некоторой сдержанностью, вызвала доверие. В этом мне помогли сводки радио, совершенно ясно излагавшие общее положение. Я несколько раз подчеркивал необходимость создания из всех политических группировок единого политического руководства, чему Сикорский придавал большое значение.
Хуже обстояло дело с военными деятелями, так как на этом участке существовала страшная раздробленность на множество самостоятельных групп и группочек. Было неизвестно, кто кого слушает, кто кому подчиняется. При этом имелось немало самозванных руководителей. Одни не верили другим, а порой вступали между собой в борьбу. Их контакты с Парижем были очень слабыми, из-за чего они не могли связаться с верховным командованием, а с Лондоном вообще не имели связи.
Значительной частью Союза вооруженной борьбы (СВБ) на территории Львовского округа руководил майор Зигмунд Добровольский. С ним я тоже имел несколько встреч, во время которых разъяснил ему точку зрения Сикорского. С другой частью СВБ, руководимой майором Мацелинским, имевшим официальный мандат из Парижа на Львовский округ, я тоже установил связь.
Мне удалось также удачно встретиться со всеми, с кем было поручено. Я старался выполнить все поручения Сикорского, а его приказы и инструкции передать. Обстоятельно проинформировал участников организаций о том, что происходит за границей, в частности в области международной политики. В то же время я не мог проследить за выполнением инструкций и осуществлением планов Сикорского, так как моя работа неожиданно была прервана. Через несколько дней после прибытия, 6 августа 1940 года я был арестован во Львове органами НКВД.
Предполагаю, что находящиеся в Польше санационные деятели, которых не устраивали инструкции Сикорского, попросту выдали меня в руки советских органов, желая тем самым устранить меня с поля политической борьбы. Сделали это они не только по собственной инициативе, но и с тайного указания санационных властей в Румынии, которые представлял наш атташат.
Военный атташат, получив через второй отдел указание о том, чтобы я был направлен на Ближний Восток и чтобы наши учреждения не помогали мне при переходе границы в Польшу, через командование СВБ, подчиненное Соснковскому и сотрудничавшее с атташатом в Румынии, узнал, что я нахожусь во Львове. Он направил в штаб верховного командования в Лондоне донесение, о том, что я во время перехода границы был ранен и, вероятно, умер или арестован. Одновременно с отправкой этого донесения передали указание командованию СВБ во Львове о том, чтобы на меня донесли советским органам.
Сразу же после разговора с адъютантом майора Мацелинского и одним из чинов командования СВБ Тельманом — я был арестован. О том, что меня выдал Тельман, я узнал уже в Москве от органов НКВД, а затем от Бонкевича в штабе нашей армии в Бузулуке, где Тельман рассказывал об этой истории.
Это был, конечно, подлый способ, но, как я уже говорил, применяемый довольно часто. Впрочем, санация не брезговала ничем. Я был не первый и, наверняка, не последний, от которого избавились таким образом. Мне, например, известно что майор Домбровский, переходивший как курьер из Польши в Париж, противниками Сикорского был выдан в Югославии местным властям по спровоцированному обвинению, будто он подозревается в работе на Германию. Майор Домбровский полгода пробыл в тюрьме в страшных условиях пока не узнали, где он находится и не вызволили его. Подобная вещь произошла значительно позже, в 1943 году еще с одним курьером, которого, собственно, из-за какой-то личной неприязни обрекли на смерть и чуть было не привели приговор в исполнение. Он остался жив лишь потому, что я, зная, почему он осужден, не допустил исполнения приговора. Тем не менее он просидел в заключении в Палестине три года.
После ареста меня привезли в Москву в тюрьму на Лубянку, где находился одиннадцать месяцев, вплоть до заключения июльского польско-советского договора.
Советские органы по имеющемуся у них доносу хорошо знали, что я прибыл из Парижа как курьер Сикорского. Находясь в тюрьме в Москве, я несколько раз разговаривал с представителями власти на тему польско-советских отношений и дважды по этому вопросу писал Сталину.
В это время Германия находилась в зените своего могущества. Это был период самых крупных успехов фашистов, и могло казаться, что их стремление господствовать над миром будет осуществлено. Это был год самых больших побед и вместе с тем год самой большой слабости Англии. Может быть, никогда во всей истории Англия не была такой слабой, как в те памятные 1940–1941 годы. Она была по сути одинокой, с небольшой армией, без каких-либо серьезных военных сил, способных сразиться с немецкой мощью.
Поражение Англии, а вместе с нею и ее союзников, казалось неизбежным. Все в огромном напряжении ожидали чего-то, надеялись, на какое-то событие или чудо, которое изменило бы ход военных действий и почти неизбежное поражение превратилось бы в победу.
Даже самый большой оптимист в Англии в 1940–1941 годах не мог себе представить, каким образом Англия может победить Германию. Самый большой пессимист в Германии не мог бы себе представить бело-красного знамени, водруженного рукой польского солдата над стенами рейхстага в Берлине.
Но все же наступил тот памятный в истории день 22 июня 1941 года, который решил судьбу войны.
В своем конечном результате неизбежное поражение превратилось в победу.
В Москве
10 августа 1941 года был для меня таким же тюремным днем, как и каждый из 337 дней, проведенных на Лубянке в Москве. Я уже знал, что подписан польско-советский договор и что нас будут освобождать из заключения. Ожидал, когда наступит мой черед.
Сидя на кровати, читал. Вдруг вошел обычно молчаливый надзиратель и вывел меня из камеры. Вел меня узкими, извилистыми коридорами, выстланными новыми мягкими красными ковровыми дорожками, хорошо глушившими шаги. Спустились в лифте с шестого на четвертый этаж. Когда лифт остановился, я понял, что меня ведут не к следователю, а куда-то в другое место. Следователи работали на седьмом или восьмом этажах. Таким же узким коридором меня привели в другую камеру.
Это была парикмахерская.
Парикмахерская, если принять во внимание тюремные условия, оборудована была замечательно. Зеркала, мягкие кресла, одеколон, пудра и т. п. Бритв не было, только электробритвы. Обычно парикмахер обрабатывал нас в камере один раз в десять дней. Только один раз меня побрили лезвием, и то перед допросом Меркулова (впоследствии министра). Сегодня еще не подошла моя очередь к парикмахеру, — а только через четыре дня. В этом было что-то необычное.
После бритья надзиратель опять отвел меня в камеру. И я остался один. Но через пятнадцать минут он вновь появился. Сказал по-русски безразличным тоном, так хорошо известным при перемещении из одной камеры в другую: «Собирайтесь с вещами». Это могло просто означать перемену камеры. На этот раз он повез меня на восьмой этаж, где ввел в хорошо обставленную комнату. Там стоял кожаный диван, два таких же мягких глубоких кресла, письменный стол, на котором лежало стекло, а на стенах висели портреты руководителей Советского Союза.
Я знал сидящего за столом высокого худощавого блондина славянской внешности, который раньше меня допрашивал. Он доброжелательно улыбался. Звали его Павел Мазур. Это был майор НКВД. Неплохо говорил по-польски. Он приветствовал меня словами:
— Юрий Мечиславович, Вы свободны, идем вместе в город. Покажу Вам новую квартиру.
Я почувствовал, как во мне что-то оборвалось. Меня охватила какая-то общая расслабленность.
Значит кончилась тюремная жизнь.
Итак, 10 августа 1941 года около двенадцати часов я вышел из тюрьмы на Лубянке, после одиннадцатимесячного пребывания в ее стенах. Это было огромное здание, переделанное во время революции из гостиницы. Находилось она в самом центре Москвы, недалеко от Кремля. Внутри всегда была глухая тишина, похожая на монастырскую. Сокровищем этого дома была обширная библиотека, которой с большим рвением пользовались все заключенные.
Но это уже осталось позади. Я выходил на свободу.
Из тюремного здания я вышел в обществе майора Мазура. Мы направились в сторону гостиницы «Метрополь», расположенной недалеко от Большого театра. Это одна из известных гостиниц, где обычно останавливались иностранцы, особенно корреспонденты различных газет.
В гостинице меня устроили замечательно. Один в комнате, с радостным сознанием свободы, хозяин своих движений и поступков. Это, пожалуй, предел мечтаний заключенного. Я поблагодарил сопровождавшего меня офицера за опеку. При прощании он обещал придти, чтобы показать мне исторические памятники столицы. Обещание свое он выполнил.
В один из августовских дней перед полуднем я ходил по улицам с чувством легкости и радости, забывая о том, что было, а временами даже о своем спутнике. Впервые за год всей грудью, полными легкими мог вдыхать свежий воздух.
Уже полтора месяца велись тяжелые бои между Германией и Советским Союзом. Еще находясь в тюрьме, мы каждый день слышали мощную канонаду зенитной артиллерии, которая потрясала стены домов столицы СССР. Идя по улицам, я с любопытством разыскивал следы неприятельских налетов. Однако нигде не обнаруживал разрушений. Я нашел объяснение этому спустя некоторое время.
Через несколько недель я смог убедиться, что противовоздушная оборона Москвы действительно была замечательной. Наблюдения показали, что всяческие попытки налета на Москву отражались далеко от столицы. Москва была единственной из столиц, успешно боровшейся с немецкой авиацией. Лишь иногда одиночным самолетам удавалось добраться до окраин города и уж совсем редко до центра Москвы, причем они не причиняли при этом каких-либо серьезных повреждений.
Даже в тех отдельных случаях, когда бомба падала в центр города и проводила некоторый беспорядок, искусно и быстро заделывались следы и убирались развалины. Помню, как однажды, проходя мимо памятника Тимирязеву, увидел его бюст, отброшенный на несколько метров от разбитого цоколя, около разрушенного дома. Каково же было мое удивление, когда на следующий день на этом месте я не увидел следов разрушения. Памятник Тимирязеву стоял на цоколе, а от разрушенного дома не осталось и следа — просто чисто подметенная площадка. Трудно было представить, что вчера здесь все было в руинах, торчали остовы стен, валялись кучи развалин. Восхищение вызывала маскировка города. Не только крыши домов и стены здания были окрашены самыми разнообразными узорами, на площадях рисовали огромные здания, которые с птичьего полета сливались с натуральными постройками. Строились бутафорские дома, менявшие внешний вид некоторых районов до неузнаваемости. Они в огромной степени дезориентировали фашистских летчиков. Замечательна была маскировка Москвы-реки. На специальных плотах строили много искусственных крыш, спускали на воду плавучие подобия тротуаров. Если смотреть на реку сверху, она становилась неузнаваемой. Мешками с песком обкладывались не только памятники, как в других городах, но и все витрины, что очень предохраняло от осколков бомб, обломков камней или взрывной волны. Маскировка осуществлялась так обстоятельно, что и Кремль был этому подвергнут и выкрашен в защитный цвет. В противовоздушной обороне принимала участие вся столица. Многие жители дежурили на крышах домов, наблюдая, чтобы случайно нигде не пробивался в окнах свет и борясь с зажигательными бомбами. На крышах огромных зданий часто устанавливались пулеметы и небольшие зенитные пушки.
Подобной хорошо и эффективно организованной противовоздушной обороны я нигде не встречал.
На улицах царило спокойствие, жизнь шла своим нормальным чередом, без признаков паники или нервозности. Уличное движение не нарушалось. Трамваи, троллейбусы, автомобили курсировали, как обычно. В магазинах было много покупателей, нередко перед магазином выстраивались довольно большие очереди. И хотя это были первые месяцы войны, когда немцы одерживали победы, улицы выглядели нормально и спокойно.
Обедать я вернулся в гостиницу. Потом вновь пошел в город, теперь уже на розыск подполковника Юзефа Спыхальского, сотоварища по тюрьме. Спыхальский был моим старым знакомым, сердечным коллегой-преподавателем тактики пехоты в Центральной пехотной школе в Рембертове.
В тюрьме для разнообразия нашего жития нас переводили из камеры в камеру, чем мы были очень довольны, так как это была единственная возможность видеть новые лица, получать кое-какие сведения, а прежде всего иметь возможность встретить многих знакомых и коллег. Как раз во время одного такого перемещения меня ввели в камеру, в которой уже находилось несколько сотоварищей. С любопытством разглядывая присутствующих, я вдруг, увидел и не мог поверить своим глазам... Неужели это Юзеф? Подполковник, стоявший в профиль, повернулся. Меня поразил тогда вид его огромных усищ (хотя я тогда тоже носил усы). Обращаясь к подполковнику, я употребил известное еще со школьной скамьи прозвище (мы называли его «князем пехоты»). Взволнованные, мы бросились в объятия друг другу.
С подполковником мы провели вместе довольно продолжительное время. Он хотел как можно скорее вернуться в Польшу. Мы договорились возвращаться вместе, как только появится возможность. Подполковник вышел из тюрьмы на несколько дней раньше. Он жил в замечательной гостинице «Москва», в каком-нибудь полукилометре от меня. Встретил меня он очень сердечно, с радостью говоря, что как-то благополучно прожили тяжелые времена, целы и здоровы, сохранили энергию и не потеряли энтузиазма. Юзеф поделился со мной новостями. Он сообщил, что генерал Янушайтис уже неделю на свободе и живет у своих знакомых в Москве. Андерс также освобожден и назначен командующим польскими вооруженными силами в СССР. Я задумался над тем, какие обстоятельства повлияли на это назначение и почему обошли известного политического деятеля Янушайтиса, обладающего большими данными для командующего, и во всех отношениях лучше подходившего на эту должность.
Кроме того, я узнал, что в Москве находится недавно прибывший из Лондона наш поверенный в делах доктор Юзеф Реттингер, секретарь посольства Веслав Арлет, начальник польской военной миссии генерал Зигмунт Шишко-Богуш и его помощник майор Бортнсвский, последнего я знал довольно хорошо еще с парижских времен. Он был старым санационным сотрудником второго отдела.
В тот же день я решил побывать у Янушайтиса. Генералу Андерсу я решил представиться на следующий день, 11 августа.
В это время в Москву поляков прибывало все больше. Освобождали нас группами, а после этого направляли всех в лучшие гостиницы столицы.
Пришел я к Янушайтису около семнадцати часов. Он жил у своих старых знакомых в очень скромной комнатке. Удобно усевшись, мы начали разговор с воспоминаний о нашей встрече во Львове в 1939 году. Вспоминали те времена. И у меня снова перед глазами возникал образ незабываемого для всех поляков трагического сентября. Мои мысли прервал Янушайтис:
— Вы первый, кто пошел и вернулся, другие уходили, но не возвращались, — сказал он, обращаясь ко мне.
Перешли к темам текущим: что будем делать и как? Мы знали, что польско-советский договор подписан, но не знали его содержания. Военного соглашения еще не было. Янушайтис еще не знал, куда его назначат и какой будет его работа.
После приятной беседы, длившейся в течение часа, я начал прощаться. Видя, что я одет только в рубашку без пиджака генерал дал мне один из своих со словами, «У меня два, так что поделимся». Он покорил меня своей простотой и доброжелательностью, я поблагодарил его сердечным пожатием руки.
Вечером я пошел к подполковнику Спыхальскому, у которого застал еще неизвестного мне полковника Леона Окулицкого, ставшего позже начальником штаба нашей армии в России. В ходе разговора я узнал, что уже вышли на свободу подполковник Петроконьский, ставший позже интендантом армии, подполковник Аксентович, впоследствии начальник второго отдела армии (для лучшей маскировки он взял себе фамилию Гелгуд), майор Бонкевич, ставший его заместителем, а со временем и преемником, подхорунжий Игла-Иглевский и ряд других лиц.
На следующий день, примерно в полдень, я направился к Андерсу. Он был в синем гражданском костюме. Выглядел немного бледным и осунувшимся. Встретил меня он весьма сердечно, говоря:
— Я очень рад, что мы вместе. Будем вместе работать. Дел много, а людей пока мало, но следует ожидать, что наплыв будет большой.
Во время чая он стал рассказывать мне о своих переживаниях с тех пор, как мы расстались во Львове. В свою очередь я поделился собственными приключениями. Рассказал о дороге в Париж, обо всем там увиденном, причинах разочарований, возвращении, своем аресте и освобождении. Генерал разделял мои взгляды на санацию. В тот период он не любил санацию, хотя на самом деле не любил ее никогда. Стали говорить об омоложении армии, чего не было сделано во Франции. Генерал обещал осуществить это у себя.
Андерс чувствовал себя еще не совсем здоровым, испытывал боли в пояснице, беспокоила также нога — в сентябре он был ранен. Когда вставал или ходил, еще пользовался тростью, потому что, как он говорил, не хотел напрасно расходовать своих сил, которые могут пригодиться.
После беседы длившейся несколько часов, он, провожая меня говорил, что в любое время и при любых обстоятельствах я могу к нему являться.
Число поляков в Москве с каждым днем увеличивалось.
Был освобожден полковник Сулик-Сарнецкий, впоследствии командир полка в пятой дивизии; полковник Каземеж Висьневский, будущий начальник III отдела штаба армии; майор Капиани, вскоре назначенный начальником юридической службы армии; майор Каминский; ксендз Ценьский, позже возглавивший духовных пастырей армии; подхорунжий Пасек, брат Янушайтиса; ксендз Вальчак, будущий капеллан пятой пехотной дивизии; полковник Шманский, бывший военный атташе в Берлине, позднее командовавший полком в пятой пехотной дивизии; госпожа Влада Пеховская, впоследствии главный инспектор военной подготовки женщин; Гермина Наглер — писательница; поручик Ентыс, капитан Мрозек, майор Зигмунт Добровольский, поручик Ян Зелинский, вахмистр Шидловский и много других. Группы поляков в Москве росли. В общем чувствовали себя превосходно, никто из нас уже не думал о вынесенных обидах или недавно пережитых тяжелых временах. Вернее сказать, было много радостных надежд и раздумий о занимающейся заре в связи с созданием польской армии. Все мы хотели биться с немцами, и как можно скорее. Долгая вынужденная бездеятельность, к счастью, нас не разложила, наоборот, оказалось, что мы сохранили в себе большой запас энтузиазма и энергии. Каждый хотел что-нибудь делать, как можно скорее дорваться до работы.
Вести с фронта поступали безрадостные. Немецкое наступление развивалось с каждым днем все успешнее для Германии. Немецкие войска, продвигаясь вперед, уже в июле овладели Смоленском, а в августе Буденный отошел за Днепр. Пал Днепропетровск. Гитлеровские армии захватывали все большие пространства плодородной украинской и белорусской земли. Промышленные районы центральной России начали испытывать давление неприятельских войск. Немецкая авиация неистовствовала. И хотя непосредственно нас это не затрагивало, поскольку мы находились вдали от фронта и войны не ощущали, а улицы Москвы благодаря организованности и порядку действовали успокаивающе, тем не менее каждый из нас осознал какую-то внутреннюю потребность как можно быстрее вырваться на фронт.
Мы с нетерпением ожидали претворения в жизнь военного соглашения. Его выполнение проходило, если так можно выразиться, через несколько стадий. Первой был июльский пакт от 30 июля 1941 года, создавший основу для установления отношений и дальнейшего сотрудничества. Его следствием явилось военное соглашение, подписанное в Москве 14 августа 1941 года. Затем в декабре 1941 года был дополнен как июльский договор, так и военное соглашение. Все это произошло под личным влиянием Сикорского во время пребывания его в Кремле. Завершением и как бы подтверждением установления дружественных советско-польских отношений этого периода стала декларация Сикорский — Сталин от 4 декабря 1941 года.
Осмысливая заключение договора, посмотрим, кому же Сикорский доверил следить за реализацией таких необыкновенно важных вопросов в нашей государственной жизни, которые должны были обеспечить наше будущее и почти полностью изменить основную линию нашей предыдущей политики.
Доверенным лицом, способным обеспечить проведение договора в жизнь в полной мере и следить, чтобы он не нарушался, случайно стал профессор Станислав Кот. Именно случайно, так как сам профессор Кот признавался, что Сикорский обратился к нему с этим предложением сразу же после подписания договора 30 июля, еще в кабинете Черчилля. Он был так поражен этим предложением Сикорского, что, как сам говорил, «просто остолбенел». Действительно, было от чего остолбенеть. Этот выбор во всех отношениях оказался роковым.
Профессор Кот не был подготовлен к такой роли ни политически, ни морально. И уж во всяком случае для нее не созрел. Он был лишен политического опыта, совершенно не знал ни Советского Союза, ни русского языка, никогда там не жил и обо всем советском имел лишь весьма смутное представление: «терра инкогнита» — неизвестная земля. Самое важное, что он не понимал, в чем должна заключаться его миссия, в чем суть польско-советских отношений. Одним словом, он совершенно не понимал той роли, какую должен был играть. Он не осознавал всей важности вопроса и возложенной на него персональной ответственности за возможные неудачи, не понимал роли, на которую его выдвинуло стечение обстоятельств, эта роль обязывала его укреплять взаимную дружбу, он должен был строить, создавать сосуществование, основанное на взаимном уважении. Он не имел необходимого личного авторитета и не умел его создать. Совершенно не имел в данном случае необходимой способности руководить, не умея не только навязать и осуществить свою волю, но даже проследить за тем, чтобы воля Сикорского соблюдалась и претворялась в жизнь. Кроме того, он был исключительно никудышним организатором.
Имел ли Сикорский на примете кого-либо другого? К сожалению, тогда фактически не имел. Попросту никто ни из министерства иностранных дел, ни из правительства, ни из армии не хотел идти на этот пост. Как я уже говорил, Сикорский был совершенно одинок, не умел найти людей, не умел их подобрать. Поэтому в силу создавшегося положения и отсутствия другого кандидата он вынужден был просить своего «друга» и во имя этой дружбы поехать и проследить за проведением его политической линии.
Вот так профессор Кот стал послом на одном из самых ответственных форпостов. Следует подчеркнуть, что это было не обычное поприще, как многие иные, где могло быть немного лучше или хуже, где послом мог быть тот или другой. От этого учреждения, от его хорошего функционирования, без всякого преувеличения зависело будущее Польши.
Необходимо еще разъяснить, что профессор Кот не получил никакой определенной инструкции или указаний о своем поведении. Он рассуждал, по его признанию, следующим образом:
«Находясь на посту в Москве, я не видел возможности ведения большой политики. Ведь там мы не имели в своих руках никаких козырей или возможности давления.
Главную задачу посольства Речи Посполитой я усматривал в материальной, моральной и политической защите и поддержке польского населения в России, а также в оказании помощи Войску Польскому».
Где же после этого создание общих, пропитанных дружеским духом отношений? Об этом с самого начала не подумали, а думали только о «нажиме» и о «представлении аргументов и материалов для защиты нашего вопроса на международной арене.»
Не был также отрегулирован важнейший вопрос, наиболее существенный в нашей жизни в Советском Союзе: сотрудничество между польскими вооруженными силами и посольством. Не была определена взаимная зависимость и подчиненность. Это все имело самые пагубные последствия.
Второй фигурой, очень важной и ответственной, которая, по крайней мере в первой стадии должна сыграть не менее важную роль, являлся «глава военной миссии», бригадный генерал[11] Зигмунт Шишко-Богуш. Он должен был подготовить и заключить военное соглашение. Так же, как и профессор Кот, Богуш не понимал, что он должен делать, не отдавал себе отчета, какая роль выпала на его долю. Из штаба он получил самые отвратительные антисоветские установки, с Сикорским не имел времени обсудить все вопросы, так как его вызвали из Шотландии, где он находился, за двое суток до выезда в Москву. Он даже не успел привести в порядок свои личные дела, когда узнал о своей миссии и о своем немедленном отъезде.
Вызванный первого августа к Сикорскому, уже третьего должен был вылететь в Москву, куда и прибыл шестого августа 1941 года. Его сопровождали майор Бортновский из второго отдела и первый секретарь посольства Веслав Арлет.
Не имея указаний и директив, он ограничился обычной формальностью подписания соглашения, непродуманного и подготовленного неряшливо, кое-как, наспех.
Богуш не только не понимал, как и профессор Кот, своей миссии, но никогда и не пытался понять. В то же время его злой дух сказался на многих очень важных наших вопросах в Советском Союзе. Кроме того, он враждебно относился к профессору Коту, что не обещало доброго сотрудничества. Единственным его «положительным качеством» было знание русского языка и тот факт, что он «воспитывался в пажеском корпусе».
Третьей фигурой, которая сыграла исключительную роль в истории польских вооруженных сил в СССР, как и вообще оказала большое, несоразмерное по своей величине влияние на отношения между Польшей и Советским Союзом, был командующий польскими вооруженными силами в СССР генерал Владислав Андерс.
Андерса я знал много лет и, как мне казалось, довольно хорошо. Видел его при различных обстоятельствах, встречались часто. Ведь он являлся командиром бригады, в состав которой в течение нескольких лет входил мой полк. Часто приезжал на смотры. С каждым годом знакомились ближе на маневрах, на конных состязаниях «Милитари», а недавно во время сентябрьской кампании он снова был моим командиром. Его положительные качества — вежливость и предупредительность. Этим он значительно отличался от многих известных мне высших офицеров.
Андерс никогда долго не задерживался на одном месте, его постоянно переводили из одного гарнизона в другой. Он был командиром кавалерийской бригады в Ровно, в Бялокурнице около Кременца, в Бродах, а накануне войны в Барановичах. Все эти переводы носили дисциплинарный характер и были наказанием за систематические махинации и злоупотребления, которые даже тогдашним властям, относящимся весьма снисходительно к подобного рода проступкам, не нравились, как слишком расходящиеся с честью офицера.
Об участии Андерса в сентябрьской кампании я уже писал.
В конце сентября, раненый случайными пулями, он через ротмистра Кучинского дал знать о себе советским органам. Через пару часов Андерса перевезли в Самбор, где его принял командующий одной из армии Тюленев. Затем, по его просьбе, он был отправлен на лечение во Львов. После прибытия во Львов его поместили в госпиталь на улице Курковой, весь персонал которого состоял из поляков. Здесь к генералу относились очень хорошо, врачебная забота была исключительной. К тому же генерал не имел никаких ограничений, его могли навещать гости в течение всех дней, этим широко пользовались все посетители госпиталя.
Высшие офицеры Красной Армии посещали его несколько раз, вели переговоры и предлагали вступить в Красную Армию.
После подписания июльского договора, открывшего для поляков горизонты и возможности, Сикорский начал искать кандидата на командующего войсками, которые должны были формироваться на территории СССР. Сначала он собирался назначить на эту должность генерала Станислава Галлера. Но его нигде нельзя было найти, а время торопило. Тогда Сикорский вспомнил об Андерсе, который неоднократно заверял его в своей лояльности и горячо стремился с ним сотрудничать.
Помня об этом, Сикорский по согласованию с правительством Советского Союза 6 августа 1941 года назначает Андерса командующим польскими вооруженными силами в СССР, одновременно для поднятия его авторитета 10 августа 1941 года присваивает ему звание генерала дивизии[12].
Однако сразу его охватывают некоторые сомнения, и в разговоре с послом Котом он высказывает свои опасения, захочет ли Андерс быть лояльным, а кроме того, он не уверен в его политических взглядах.
А тем временем договор входил в силу и приносил первые результаты. Сразу же после его подписания масса польских граждан, разбросанных по всей огромной территории СССР, почувствовала значительное облегчение. Уже с первых дней началось массовое освобождение из мест заключения. Со 2 августа начали выпускать из тюрьмы в Москве. Освобождали этапами. Одновременно в Москве был создан временный сборный пункт, где многие могли задержаться на более длительный срок. Первым руководителем этого пункта стал ротмистр Ян Пумфт.
С нетерпением мы ожидали подписания и начала осуществления военного соглашения, верили и рассчитывали, что оно откроет перед нами все возможности и, наконец, осуществит наши мечты и надежды.
Только через несколько дней после подписания договора я мог его прочитать и поговорить на эту тему с Андерсом. Военное соглашение вызывало немалое недоумение и, к сожалению, не решало исчерпывающим образом ни одного вопроса. К нему следовало присовокупить еще ряд меньших соглашений или проколов. Оно сразу же разочаровало и внесло первый неприятный осадок в наше замечательное настроение.
Богуш, к которому мы обратились по поводу соглашения, признал, что оно действительно содержит много недостатков и недомолвок (а ведь он сам его готовил и затем подписал), но не имел времени обстоятельно его обсудить с Сикорским, так как в период польско-советских переговоров находился в Шотландии, не интересовался этим, и вообще не знал ни о каких переговорах. Лишь 30 июля 1941 года он был вызван телеграммой к Сикорскому в Лондон, а там ему приказали немедленно в качестве главы военной миссии направиться в Москву. Только тогда Богуш узнал, что заключен какой-то договор, но как он выглядел — не имел никакого представления. Этих вопросов с Сикорским он почти не обсуждал. Сикорский обратил особое внимание на летчиков и предложил ему лично следить за этим делом. Вот только это и запечатлелось в его памяти. Остальное предполагалось определить позже. Когда позже — неизвестно, поскольку сразу же он должен был вылететь. С послом Котом вопросов по военному соглашению Богуш не обсуждал, во-первых, потому, что считал их делами военными и посла не касающимися, а во-вторых, потому, что не переносил профессора Кота и поэтому не считал нужным вообще вести с ним какие-либо разговоры.
С Андерсом, который хотя и находился на месте и уже был командующим польскими вооруженными силами в СССР, Богуш не считал уместным обстоятельно обсудить военное соглашение, точно так же, как не считал нужным привлечь Андерса к переговорам и к участию в его составлении, хотя следовало предполагать, что это соглашение никого так не касается и никто более в нем так не заинтересован, как именно командующий, которому на его основе предстояло действовать.
Вскоре я познакомился с доктором Реттингером, нашим временным поверенным в делах, о котором молва широко разнесла, что он находится в большой дружбе с англичанами, в частности с английским послом в Москве Криппсом, и что якобы по его личному предложению доктора Реттингера прислали в Москву. Я понял, что за многими нашими делами постоянно как тень стоит Англия.
Андерс очень быстро установил отношения с англичанами. Еще накануне предстоящих первых переговоров с советскими органами Андерс посетил начальника английской военной миссии в Москве генерала Макфарлана, с которым очень подружился и которого просил прикомандировать постоянно к командованию польских вооруженных сил своего представителя, что, конечно, вскоре осуществилось. Через доктора Реттингера Андерс также познакомился с послом Криппсом.
В это же время обнаружилась первая интрига, которую плел Богуш, приятель доктора Реттингера. Он посоветовал Реттингеру, чтобы тот еще до приезда в Москву посла Кота, постарался добиться каких-либо политических успехов.
В понимании генерала, как, впрочем, и многих других высокопоставленных лиц, не следовало решать вопросов срочных и важных, а стараться лишь обеспечить себе «личные успехи», к этому всегда стремилась, часто путем именно интриг и происков, и всегда, принося вред общему делу.
Военное соглашение, в понимании Богуша, должно было явиться его большим личным успехом.
В принципе первую деловую беседу с советскими органами по военным вопросам Андерс провел лишь 16 августа, через два дня после подписания соглашения. Беседа была краткой, вступительной, затрагивающей вопросы организации польских частей в СССР. На этой встрече генерал Памфилов проинформировал Андерса о лагерях военнопленных, бывших польских солдат, и назвал их число — около двадцати тысяч рядовых и свыше тысячи офицеров. Это должно было стать основой для формирования первых воинских частей в Советском Союзе.
Уполномоченным Советского правительства по вопросам формирования Польской армии в СССР был назначен генерал-майор Жуков Георгий Сергеевич, его постоянным офицером связи при штабе Польской армии — полковник Волковыский, уполномоченным же Генерального Штаба Красной Армии — генерал Памфилов, заместитель начальника Генерального Штаба маршала Шапошникова, а постоянным офицером связи Генерального Штаба Красной Армии при штабе Польской армии — полковник Евстигнеев.
Примерно 20 августа Андерс назначил меня своим адъютантом.
С этого момента я принимал участие во всех важных совещаниях, заседаниях и других собраниях и встречах, как польских, так и польско-советских. Мое назначение адъютантом Андерса не регламентировалось какими-либо определенными обязанностями. Я делал все, что мне поручалось, включая представительство его особы, а иногда и замещение генерала. Я писал приказы, составлял речи, ездил на совещания, писал протоколы, вел переписку генерала как служебную, так и личную, а также секретную, а иногда и сугубо личную. Участвовал в заседаниях, ездил по различным делам к Памфилову в Генеральный штаб Красной Армии, а также к Жукову, с которым мы решали вопросы освобождения польских граждан из тюрем, лагерей и т. п. Я жил вместе с Андерсом и выполнял много обязанностей, замещая его. Профессор Кот так определил мое положение: «В течение двух лет Климковский являлся адъютантом, секретарем, архивариусом, казначеем и ближайшим поверенным генерала Андерса».
Для облегчения моей работы, приобретавшей самый различный характер, я получил от Андерса письменную доверенность следующего содержания:
«Доверяю поручику Климковскому Ежи, офицеру для особых поручений, вести от моего имени все вопросы, касающиеся польских вооруженных сил в СССР, со всеми представителями органов СССР».
Такую же доверенность имел полковник Окулицкий, начальник штаба армии.
Это были далеко идущие полномочия, дававшие мне полную самостоятельность в решении вопросов. С другой стороны, они позволяли обстоятельно познать совокупность всех наших проблем в Советском Союзе. Я был также уполномочен отдавать от имени генерала приказы, чем никогда не пользовался.
Тем временем все больше самых разных людей приходило к Андерсу то по личным, то по общим вопросам. Близкие знакомые приходили почти каждый день то на обед, то на завтрак. Вечера Андерс резервировал для себя. Но завтраки и обеды вскоре приобрели известность. На них ежедневно собиралось больше восьми человек. Еды было вдоволь. Самые изысканные блюда, причем в неограниченном количестве, всегда были в распоряжении собеседников, количество всяческих напитков также было немалым. Эти популярные приемы у генерала называли «опасением» — объеданием.
В это время обсуждался также вопрос о выезде Жукова вместе со мной в Лондон к Сикорскому для подробного обсуждения военного польско-советского соглашения и сотрудничества военного характера. Однако выезд не состоялся, так как мы получили сведения, что Сикорский сам собирается прибыть в Москву.
19 августа в Генеральном штабе Красной Армии состоялось широкое совещание по вопросу организации польских вооруженных сил в СССР. На этом совещании решили сформировать две польских пехотных дивизии и один запасной полк. Это было очень мало. Одновременно выразили надежду, что если наплыв будет большим, то будет обсужден вопрос об организации новых частей. Формирование дивизий было решено проводить на основе советских уставов в уменьшенном составе: одиннадцать тысяч человек. На этом же совещании решили, что полное вооружение эти дивизии получат от советских органов сразу же при их организации. Кроме того, ко всем польским частям определили офицеров связи Красной Армии.
Во второй половине августа освободились из Лубянки генералы Михал Карашевич-Токаржевский, Ярнушкевич, Пшездецкий и много других сотоварищей.
Но тогда же и начались первые интриги и происки. Велось неустанное соперничество по поводу должностей. Непрекращающиеся интриги становились какой-то эпидемией, сводившей на нет самые лучшие намерения и парализовавшие все наши усилия. Момент благородного порыва у наших высокопоставленных лиц прошел быстро и началось взаимное «уничтожение», кляузы, склоки и т. п. В результате начали транжирить время и силы на междоусобную войну и погружаться в отвратительную грязь.
Все меньше говорилось о неотложных делах, о существе вопросов (конечно, за исключением официальных речей), а все больше о должностях, званиях и почестях.
Первое столкновение произошло между Андерсом и Токаржевским. Токаржевский чувствовал себя глубоко оскорбленным тем, что не он, а именно генерал Андерс стал командующим польскими вооруженными силами в СССР. Его больше всего задевало, что он, старший по званию генерал и «создатель подпольной армии в Польше», был так недооценен и обойден. К тому же между Андерсом и Токаржевским с давних лет велась старая вражда. Сейчас оба считали, что настало наилучшее время отыграться друг на друге, подходящий момент для того, чтобы рассчитаться с недругом.
В это период, стали распространяться разговоры с массой подробностей, весьма компрометирующих Андерса, о котором, правду говоря, довольно много слухов ходило еще в Польше.
Генерал Андерс, сын помещика немецкого происхождения, воспитанный в русских школах, привык с ранней молодости к беззаботной и вольготной жизни. Он не мог примириться со скромными условиями, в которые его ставила военная служба. Для того чтобы пополнить свое жалованье и одновременно, чтобы войти в среду польской аристократии, он начал заниматься «конным спортом», для чего обзавелся собственной конюшней скаковых лошадей. Это вскоре переросло в привычку, алчность, и в результате превратилось в заурядный азарт. Причем этот «спорт» требовал крупных денежных сумм и риска. Свою частную конюшню он содержал на казенном фураже, что было только началом. Первый крупный скандал по этому поводу разразился в 1929–1930 г. в Бялокрынице, где полковник Владислав Андерс командовал бригадой, а своих скаковых, рысистых лошадей содержал в конюшнях 12-го уланского полка. Подполковник Рупп, командир этого полка, подал командованию Люблинского военного округа рапорт, в котором обвинял полковника Андерса в злоупотреблениях и требовал возмещения стоимости фуража, израсходованного на его лошадей. Дело, конечно, до суда не дошло, чему способствовал бывший в то время начальником интендантской службы генерал Даниель-Конаржевский. Все окончилось переводом командования бригады из Бялокрыницы в Броды с полковником Андерсом и его лошадьми. Подполковник Рупп за то, что осмелился обвинить своего начальника в злоупотреблениях, был уволен на пенсию.
Второй скандал произошел уже в Бродах в связи с продажей экипажа, принадлежащего хозяйственной части 22-го уланского полка и использованием полученной суммы для личных нужд. История эта была тем пикантнее, что этот же проданный им экипаж командир бригады Андерс, тем временем получивший повышение в звании, приказал вернуть обратно и определить его как служебный для своего личного пользования. Дело попало во Львовский военный округ. По этому поводу между тогдашним командующим Львовским военным округом Токаржевским и Андерсом возник серьезный скандал. В результате Андерс был в дисциплинарном порядке переведен на аналогичную должность в Барановичи. Это уже было второе дисциплинарное перемещение, но и на этот раз все прошло очень тихо. Андерс, спасая свое положение, стал искать опору в политическом движении — студенческих кружках корпорации «Аркония». Тогда же начались его политические выступления.
Через сравнительно короткое время всплыло еще одно дело. На этот раз оно попало в суд стюартов — суд чести в Варшаве и касалось злоупотреблений и жульнических махинаций на бегах. Дело осталось незаконченным в связи с войной, но Андерсу грозило удаление из армии. (Это, вероятно, явилось одним из поводов, по которым Сикорский назначил Андерса командующим войсками в СССР. Он считал, что таким образом купит для себя генерала, к которому плохо относилась санация.)
Лишь в Москве Андерс вторично встретился с Токаржевским, который всюду потихоньку напоминал о скандальных делах Андерса — об «овсе, сене, экипаже и деньгах».
Сначала Андерс не хотел давать Токаржевскому никакого назначения. Тот старался, как мог. В конце концов, ничего не добившись он заявил, что устроит скандал и вытащит на свет все дела Андерса. Тогда Андерс сдался, однако колебался в выборе подходящей должности для Токаржевского. Он понимал, что обязан ему что-то предоставить не только для того, чтобы от него «отделаться», но прежде всего, чтобы избавиться от опасного соперника и личного врага. Он хотел назначить его своим заместителем, хотя эта должность была лишь номинальной: он считал это слишком большой честью для Токаржевского. Не хотел сделать его и инспектором подготовки войск, поскольку эта должность давала большую свободу и некоторую независимость. Наконец, назначил его на должность командира шестой пехотной дивизии, считая, что, с одной стороны, это назначение унизит Токаржевского, а с другой, — он будет иметь его на глазах.
Токаржевский согласился принять эту должность. Был заключен негласный мир и преданы забвению старые счеты. Союз был скреплен брудершафтом.
Очередное, но более резкое столкновение произошло у Андерса с Ярнушкевичем. Оба генерала враждовали с давних времен и имели между собой старые счеты на почве конных бегов в Варшаве, где лошади Ярнушкевича бегали лучше. Теперь судьба Ярнушкевича целиком находилась в руках его заклятого врага. Андерс, искушенный и ловкий в делах подобного рода, не упустил случая. Решил на нем отыграться и, пользуясь благоприятным моментом, уничтожить своего старого соперника. Он воспользовался первой оказией, первым подвернувшимся предлогом, чтобы от него избавиться. В это время Ярнушкевич обратился к д-ру Реттигеру с просьбой одолжить ему несколько тысяч рублей для покупки «каменя» — драгоценных камней. Это было не вовремя, но не было преступлением. Тем не менее, узнав об этом от Богуша, Андерс применил коварный маневр. Он направил в Лондон Сикорскому телеграмму, в которой обвинял Ярнушкевича в скупке драгоценных камней и использовании в этих целях казенных денег. Ответ Сикорского гласил:
«Дело Ярнушкевича направить в суд чести для генералов. Пока назначения не давать».
Для направления дела в суд не было никаких оснований, но зато на основе приказа можно было не давать должности. На неоднократные просьбы о выяснении выдвинутых против него обвинений Ярнушкевич никакого ответа не получил.
Отношение Андерса к Янушайтису, в котором он инстинктивно чувствовал соперника, оставляло желать много лучшего. Янушайтис, правда, для завоевания этого поста костьми не ложился. К Андерсу относился доброжелательно. Янушайтис был намного старше Андерса, как по званию, так и по занимаемым перед войной должностям. Превосходил его кругозором и политическим опытом. Располагал к себе окружающих тактом и серьезностью. Среди офицеров, знающих его еще с предвоенного времени и по подпольной деятельности, пользовался большим уважением. Он не занимался сплетнями или интригами. Всегда уравновешенный и приветливый, он вызывал всеобщую симпатию, а в нем не было ничего натянутого и официального. Кроме того он был единственным генералом, не на словах, а на деле доказавшим свое критическое, даже осуждающее отношение к послемайскому и предсентябрьскому режиму в Польше.
Однако Андерс старался держать его в стороне. Он стремился как можно скорее отправить его с территории Советского Союза. Это вскоре ему удалось: Янушайтис уехал в Лондон.
Подобные взаимоотношения сложились и с генералом Пшездецким. Андерс не хотел привлекать его ни к какой работе. Попросту не любил этого серьезного не подходящего к «обществу» человека. Андерс знал, что НКВД еще за несколько месяцев до заключения июльского договора предлагал Пшездецкому формирование в СССР польского легиона. Этого было достаточно, чтобы Андерс не допускал его ни к чему. Лишь после длительного размышления, как он говорил, «на одчепне» — чтобы отвязаться, определил его в качестве референта по вопросу уставов. Несмотря на личную неприязнь к Пшезденскому, Андерс не мог все же найти против него какого-либо предлога для дискредитации, поскольку как по службе, так и вне ее этот человек суровых правил был безупречным.
Примерно 25 августа были освобождены из тюрьмы генерал Борута-Спехович и еще ряд военных и гражданских лиц. Борута проживал там же, где и большинство поляков, в гостинице «Москва».
Все освобождаемые из заключения получали денежное пособие. Генералы получали пять тысяч рублей, старшие офицеры три тысячи, младшие две тысячи. Это было единовременным безвозвратным пособием.
Борута, хотя был еще слаб, всегда улыбался, его глаза светились врожденной энергией и юмором. Он очень интересовался всеми вопросами, охотно разговаривал о новых планах, о создании польской армии, часто навещал Андерса.
Договор с Советским Союзом Андерс считал прочной основой дальнейшего сотрудничества. Он рассматривал его как необходимое временное зло. К офицерам Красной Армии он относился с презрительным пренебрежением, хотя внешне в их присутствии никогда этого не показывал. Он постоянно носился с каким-то странным «комплексом превосходства», проявляя пренебрежение ко всему советскому. Правда, эти чувства генерал хорошо маскировал умением вести себя в обществе, но в откровенных беседах со знакомыми не стеснялся, и было видно, он ожидает лишь момента, когда Советский Союз будет побежден. В возможность победы Советского Союза Андерс никогда не верил. В таком духе информировал и посла Кота.
С начала деятельности, и в течение всего пребывания в СССР он стремился что-нибудь придумать, чтобы не посылать польских войск на советско-германский фронт и любой ценой сохранить их до момента, «когда Советский Союз будет разбит», или при удобной возможности вывести их с территории Советского Союза.
Это были принципы, целиком противоречащие польско-советскому договору и военному соглашению.
Во время своих предварительных разговоров с подполковником Берлингом в ночь с 5 на 6 августа 1941 года, Андерс высказывал эти взгляды и радовался, что польская армия будет формироваться где-то в центральной России за Волгой, поэтому, когда Советский Союз падет, он будет иметь полную свободу деятельности и маневрирования.
Впрочем, такой позиции придерживалась почти вся военная верхушка.
Из Лондона доходили самые неприятные вести относительно договора — там подвергали сомнению его значение.
Некоторые лица как в Лондоне, так и в Советском Союзе протягивали друг другу руки, чтобы бороться против договора, не допустить его реализации, сорвать его выполнение.
Тем не менее договор приносил свои плоды, причем весьма положительные. Работа шла нормально, благодаря молодежи и самоотверженной, спокойной и деловой позиции всего польского общества. Это вызывало доброжелательное отношение к нам советских властей.
Весь август был заполнен подготовительной организационной работой, разрешением вопросов, связанных с текущими нуждами армии, созданием штабного аппарата, и прежде всего с освобождением людей из лагерей и тюрем.
12 августа 1941 года по радио передали, что во исполнение польско-советского договора президиум Верховного Совета СССР объявил амнистию для всех польских граждан, находящихся на территории Советского Союза.
Таким образом, для многотысячных масс поляков, разбросанных по бескрайним просторам советской земли, закончились дни неуверенности, дни без просвета, ночи без сна.
Энтузиазм несколько охладило сообщение Андерса, о том, что 19 августа на заседании в Генеральном штабе Красной Армии состав польских вооруженных сил временно определен в две пехотных дивизии и один запасной полк. Это очень немного. Считалось, что в Советском Союзе находятся около трехсот тысяч польских граждан, годных к военной службе, поэтому две дивизии совсем немного. Но, передавалось шепотом, что это будут лишь первые части будущей армии, когда и где будут формироваться следующие, никто не знал.
Количественный состав польских вооруженных сил был установлен — следовало приступить к их организации.
Одним из первых национальных дел было назначение начальника штаба. Приступая к созданию штаба, Андерс хотел остановиться на кандидатурах генерала Петра Скуратовича или полковника Бронислава Раковского. Их обоих он знал очень хорошо, был с ним и в дружеских отношениях, высоко ценил их военные качества. Но ни одного из них в это время не было рядом. Выбор пал на полковника Леопольда Окулицкого, дипломированного офицера, находившегося в резерве. Андерс познакомился с ним в Москве буквально накануне назначения.
Выбор был совершенно случайным и, возможно, неосмотрительным. Впрочем, полковник Окулицкий производил хорошее впечатление. Очень подвижной, деятельный, он проявлял бурную энергию и предприимчивость, так что Андерс был им доволен.
Временный штаб армии был сформирован в следующем составе:
Командующий польскими вооруженными силами — генерал Вл. Андерс
Адъютант командующего — поручик Е. Климковский
Начальник штаба армии — полковник Л. Окулицкий
Адъютант начальника штаба армии — подпоручик Е. Романовский
Начальник I отдела (организационного) — подполковник Крогульский
Начальник II отдела (разведывательного) — подполковник Аксентович (Гелгуд)
Начальник III отдела (оперативного) — подполковник К. Висьневский
Интендант армии — подполковник Пстроконьский
Начальник юридической службы — майор Кипиани
Начальник медицинской службы — полковник Б. Шарецкий
Глава духовных пастырей — ксендз Ценьский
Сектор культурно-просветительный — поручик Харкевич
Главный инспектор военной подготовки женщины — Вл. Пеховская.
Сразу же после укомплектования штаба 22 августа 1941 года Андерс издал свой первый приказ, обращенный к личному составу армии. В этом приказе он сообщал о заключенном между Польшей и Советским Союзом договоре и о создании на территории СССР суверенной Польской армии. Приказ заканчивался призывом, чтобы все лица польского подданства, выполняли свой долг и вступали в организуемое войско.
В тот же день, 22 августа, на совещании в штабе Красной Армии нам сообщили места, где будут создаваться польские формирования:
Штаб армии в Бузулуке.
5 пехотная дивизия в Татищеве около Саратова.
6 пехотная дивизия в Тоцкое, в 30 километрах от Бузулука.
Запасный полк в пос. Колтубановский.
В третьей декаде августа Андерс вместе с генералом Жуковым посетил лагеря польских солдат в Грязове и Суздале, откуда направили несколько тысяч солдат и офицеров в места формирования польских частей. Офицерский лагерь в Грязнове насчитывал около 1400 офицеров. Это были главным образом офицеры, перешедшие в 1939 году в Литву, а оттуда перевезенные в СССР. Состав этого лагеря с военной точки зрения не был полноценным — в нем находились главным образом офицеры старших возрастов, нестроевые, сотрудники управлений различных военных округов, уездных военных комиссариатов и других учреждений — интенданства, боеснабжения, квартирмейстерства и т. д. Было там также немного офицеров жандармерии, полиции и суда. Значительную часть составляли офицеры запаса, преимущественно государственные служащие.
Общая работа шла достаточно хорошо. Для создания канцелярии мы получили пишущие машинки и различное оборудование. Временно обязанности начальника канцелярии принял поручик Кшиштоф Гродзицкий, а на время нашего пребывания в Москве поручик Игла-Иглевский.
29 августа в Генеральном штабе Красной Армии состоялось совещание. На нем затронули вопрос обмундирования; приближалась зима, а обмундирование из Англии еще не прибыло; Андерс просил об увеличении продовольственных пайков. Теплое обмундирование на зиму нам обещали прислать в формируемые части, а количество продовольственных пайков увеличить до тридцати тысяч.
Поскольку первые отделы штаба были уже укомплектованы, назначили командиров дивизий, их заместителей и начальников штабов.
Командиром 5 пехотной дивизии стал генерал Борута-Спехович, заместителем полковник Ежи Гробицкий, начальником штаба подполковник Зигмунт Берлинг.
Командиром 6 дивизии, как я уже об этом писал, был назначен генерал Карашевич-Токаржевский, заместителем генерал Ежи Волковицкий, начальником штаба майор Домонь.
Командиром запасного полка стал полковник Януш Гала дык. На этой подготовительной организационной штабной работе, собственно, и закончился август.
В первых числах сентября, буквально со всех сторон, даже с самых отдаленных северо-восточных окраин Советского Союза, начали прибывать польские граждане: одиночки, иногда небольшие группки, а часто целыми семьями. Многие группы имели самодельные знамена национальных цветов, всегда с орлами, пели солдатские песни, демонстрируя горячее желание вступить в армию.
Положение польских граждан изменилось до неузнаваемости. Перепуганные, боязливые, неуверенные в завтрашнем дне, они благодаря договору стали свободными людьми. Все им помогали, как в лагерях, так и в дороге. Советские органы никого не задерживали и не раз смотрели сквозь пальцы на самовольные разъезды по всей территории Советского Союза тех, кто говорил, что направляется в польское войско.
Опьяненные и ошеломленные свободой, они бежали, спешили, проявляли почти чудеса предприимчивости и находчивости в добывании мест в купе, а иногда захватывали целиком не только купе, но и вагоны. Люди устремлялись в места, о которых было известно, что там формируются польские части — в Бузулук, Тоцкое, Татищево.
Ехали разные люди: были старики, молодежь, дети, женщины. Все они устремлялись в лагеря. Одежда у них была самая разнообразная, часть ехали в старых польских мундирах. Таких пожалуй, было больше всего, некоторые были одеты в гражданское, одни в сапогах, другие в лаптях, а иногда совершенно босиком. У одних были сундучки, у других какие-то чемоданы, иногда вещевые мешки, а чаще всего обыкновенный узелок в руках.
Так собирались разбросанные по всему Советскому Союзу поляки. Одни находились в концлагерях, другие работали в колхозах или на лесозаготовках или же на дорожных работах. Одни пребывали в свободной ссылке, Другие в так называемых стройбатальонах, а часть находилась в рядах Красной Армии. Поляков прибывало очень много. Еще в Москве из первых донесений штаб польской армии узнал, что количество прибывших давно превзошло не только те первые двадцать шесть тысяч пайков, но и те тридцать тысяч, что были даны нам в конце августа.
4 августа в Москву приехал посол Кот. Вместе с ним прибыли: советник посольства министр Сокольницкий, советник Ян Табачиньский, секретарь посольства Александр Мнишек и военный атташе генерал Воликовский. Все представлявшие правительство и войско высокопоставленные лица, были в сборе и могли начать работу.
Первое совещание состоялось с участием Воликовского, который, к сожалению, с любой точки зрения выглядел довольно убого. Трудно было понять, почему Сикорский выдвигал подобных людей, повышал их в звании и направлял на такие ответственные посты. Вероятно, лишь для того, чтобы они вносили замешательство и характеризовали наши власти с самой плохой стороны. Именно Воликовский, видимо в знак «благодарности» Сикорскому, в секрете от него, будучи его представителем, принял письмо от Тадеуша Белецкого, представителя Строництва народового, он находился в резкой оппозиции по отношению к Сикорскому и договору, для передачи его Андерсу. Воликовский рассказал Андерсу об оппозиции, возникшей против Сикорского, после подписания договора.
Вторым совещанием, проходившем в тот же день 4 октября 1941 года, был первый разговор Андерса с послом Котом. Собственно, это не было совещанием, а только знакомством и дружественной беседой во время общего ужина, устроенного посольством по случаю прибытия посла. Лишь на следующий день в шестнадцать часов должна была состояться настоящая беседа.
Андерс подготовился к ней солидно. Настраиваемый недоброжелательно в отношении к профессору Коту Богушем, который характеризовал как человека пронырливого, всюду плетущего интриги и очень хитрого, он сразу же восстановил Андерса против посла. Перед самым посещением Андерса посла Кота мы находились в комнате трое: Андерс, Богуш и я. Богуш словно был в этом заинтересован, несколько раз напомнил Андерсу, чтобы тот поставил перед послом условие «невмешательства» в дела армии. Андерс заявил, что он ни в коем случае не позволит посольству вмешиваться в военные вопросы.
— Я вообще не подпущу его к армии, — сказал Андерс, уже стоя в дверях. (И действительно профессор Кот за все время своего пребывания в Советском Союзе, за исключением сопровождения Сикорского, когда тот находился в СССР, не посетил ни командующего армией, ни одной воинской части.)
После возвращения от посла Андерс немного рассказал нам о прошедшей беседе. Он сообщил, что проинформировал посла об общих организационных вопросах, о ситуации вообще и о том, как он ее оценивает. Беседой был доволен, тем более, как он сказал, что очень сильно подчеркнул свое желание, чтобы посольство не вмешивалось в дела армии, на что посол выразил свое согласие.
— Я сказал, что буду сам его обо всем подробно информировать, — добавил Андерс и улыбнулся.
Ничего больше об этой беседе мы не могли узнать. Отчет профессора Кота был более красноречивым. Он так пишет о своих встречах Сикорскому:
«Москва 5 сентября 1941.
Дорогой и любимый,
...Приехав вчера после полудня, ничего не мог узнать, но одно, важное, считаю сделанным: отношения с Андерсом. Они будут в полном порядке и об этом не беспокойся. Человек это простой и откровенный, сам меня предупредил, что каждый вопрос будет со мной обсуждать, с любым обратится ко мне (вероятно, буду вынужден заниматься этим больше, чем хотелось бы). Его взгляды совпадают с твоими мыслями настолько, будто я говорил с тобой. Я предвижу, что если в чем-либо он примет иное решение, чем хотелось бы, то за это возьмет ответственность на себя. Думаю о назначении Токаржевского, Андерс не знал об окраске его деятельности в ЗВЗ (Союз вооруженной борьбы), но объяснился с ним напрямик об его отношении к тебе и предупредил, что в случае проведения какой-либо особой политики немедленно снимет его с должности, действительно здесь нет людей на командиров дивизии...
...Андерс импонирует всем, и как я слышал, больше всего здешним сферам, у которых пользуется огромным авторитетом. Людей в армию, как он утверждает, будет иметь больше, чем сумеет использовать. Для того, чтобы сохранить молодой контингент, призывает с 17-летнего возраста и создает похорунжувки (офицерские училища).
...Бузулук, центр организации армии, находящийся между Самарой и Оренбургом, является удачно выбранным местом с точки зрения будущего. Что касается будущего, то А. целиком разделяет твои мысли и даже умеет внушить их местным властям, руководящие органы которых как будто возлагали определенные надежды на нашу армию на непредвиденный случай. Он принял лагерь военнопленных в 20 тысяч человек, сверх этого прибыло около 10 тысяч человек, а каждый день увеличивает или предвещает увеличение этих цифр. Тот, кто идет в нашу армию, получает свободу передвижения, их семьи имеют право поселяться вблизи Оренбурга.
Андерс будет допущен к участию в совещании союзников по вопросу нужд Войска Польского: оружия здесь имеется только на две дивизии, все остальное должна доставить Америка. Это огромная и историческая задача. Если там (в том числе и наши близкие) обладают дальновидностью, то должны как можно скорее это решить, в какой-то степени от этого может зависеть и судьба войны. Андерс предполагает поставить под ружье около ста тысяч человек. Совершенно очевидно, что люди должны отдохнуть и придти в себя. Офицеров, отказавшихся добровольно вступать в армию, насчитывается здесь не более 20-ти, в том числе лишь один капитан...»
Как видим, первый разговор был весьма обширным и исчерпывающим и профессор Кот был им пленен, а Андерсом очарован. Взгляды их совпадали, что он отчетливо подчеркивает в своем письме Сикорскому.
Зарождение армии
8 сентября с аэродрома в Москве на самолете типа «Дуглас» отбыли к местам своего постоянного расположения первые работники штабов дивизий и частично штаба армии во главе с генералами Борутой и Токаржевским. Всего около двадцати человек. Среди них: доктор полковник Болеслав Шарецкий, подполковник Петроконьский, подполковник Висьневский, госпожа Пеховская, капитан Ежи Каден, ксендз Ценьский, ксендз Вальчак, подпоручик Анджей Чапский, подхорунжий Ян Пасек и ряд других. Это были первые организованные группы, которым предстояло ознакомиться с местом предстоящей работы и начать там нормальную деятельность. Перед отъездом все собрались в гостинице «Националь», где их торжественно и в возвышенных выражениях напутствовал посол Кот, желавший им плодотворной работы по возрождению польской армии. Их поехали провожать генералы Андерс, Богуш и Жуков.
Командование армии разместилось в районном городке Бузулуке в центральной России за Волгой, в ста с небольшим километрах от Куйбышева, в который несколько позже из Москвы переехали все дипломатические представительства.
В Бузулуке штаб получил в распоряжение командования красивый дом, гостиницу для офицеров, пятикомнатный особняк для командующего армией и ряд других помещений, в которых размещались: сборный пункт вновь прибывающих, комендатура гарнизона, отделы штаба и отдел социальной опеки.
Командиры дивизий со своими группами направились в места своей дислокации: командир 5 дивизии Борута-Спехович в Татищево, в военный лагерь, а Токаржевский, командир 6 дивизии, в Тоцкое, в лагерь, расположенный в тридцати с небольшим километрах на восток от Бузулука.
Андерс вместе с небольшой группой штаба задержался в Москве еще на несколько дней по весьма важным вопросам, связанным с острыми нуждами армии, прежде всего с обмундированием, которое еще не прибыло из Англии, хотя было отправлено 1 августа. Вопрос обмундирования также как и вопрос питания, который следовало окончательно согласовать на месте, установив количество ежедневных пайков для армии, становился самым жгучим. Тем более, что донесения, поступающие с мест расположения частей, били тревогу по поводу как питания огромной массы прибывающих людей, так и обмундирования их.
Первый наплыв людей в количестве двадцати тысяч человек начался сразу же после прибытия призывных комиссий в лагеря военнопленных. В основном это были солдаты полноценные, обученные, относительно молодых возрастов. Уже примерно 25 августа транспорты с ними направлялись в лагеря будущих формирований польских частей. Эти солдаты были не имели обмундирования и плохо питались. Кроме этого полноценного контингента с точки зрения военной и в основном хорошо подготовленного, начали одновременно прибывать и массы поляков, освобожденных их тюрем и концлагерей, а также и те, которые находились в так называемой добровольной ссылке. Это были люди самые различные, как по возрасту, состоянию здоровья, так и по военной подготовке. Однако прибывало так много народу, что приходилось каждый день увеличивать количество продовольственных пайков. Уже в начале сентября в неорганизованных еще частях находилось свыше тридцати четырех тысяч человек.
На совещании у Памфилова в первых числа сентября (между 6 и 8) было согласовано, что количество пайков будет составлять сорок четыре тысячи. Это в расчете на три пехотные дивизии: 5, 6, 7 армейские части и запасной полк. В течение двух недель это было третье совещание, на котором с согласия Генерального штаба Красной Армии повышалось количество пайков для польской армии.
Все эти вопросы оформлялись штабом армии, а не военной миссией. Для чего же нужна была военная миссия, каково ее назначение — никто этого объяснить не сможет. В действительности военная миссия должна была решать все вопросы организационного характера с Верховным командованием Красной Армии. К сожалению, наша военная миссия никогда до этого не дорастала и никаких вопросов не решала. Она подписала лишь военное соглашение и кроме этого, буквально ничего не делала, поэтому сразу же отодвинулась не только на второй, но даже на последний план. С ней никто не считался и никто в ней не нуждался. Это зашло так далеко, что фактически она перестала существовать. Ее начальник генерал Шишко-Богуш, видя, что с ним никто не считается, попросил Андерса перевести его в армию, на что получил согласие. Богуша предполагалось назначить в 7 дивизию.
Так создавалось польское войско, с каждым днем увеличивавшееся. Оно было пропитано самым лучшим духом, приводило в восхищение всех, кто с ним сталкивался. Пока этих сорока четырех тысяч пайков хватало. Впрочем, ими питались не только армия, но и те гражданские организации, которые группировались около воинских частей.
Наряду с питанием не менее важными вопросами являлось зимнее обмундирование и вооружение. Нам обещали временно, до получения из Англии, выдать обмундирование из запасов Красной Армии.
Что касается вооружения, то с этим дело выглядело хуже. Когда 19 августа на совещании с нами представители советских органов определили первоначальный состав польской армии в две дивизии, то обещали сразу же выделить им вооружение по штатам Красной Армии. К сожалению, уже 10 сентября, несмотря на количественное увеличение польской армии до трех дивизий, советские представители поставили нас в известность, что мы можем получить вооружение только на одну дивизию. Для остальных частей необходимо было добиваться получения оружия от англичан.
В основном получила вооружение лишь одна — 5 дивизия.
Поскольку командование армии не имело в Москве своего помещения, приходилось пользоваться гостеприимством посольства. Посол Кот для нужд военной миссии и Андерса выделил несколько комнат, в одной из которых в течение нескольких недель и работал Андерс. Его отношения с послом Котом укреплялись, благодаря ежедневному общению. Профессор Кот все более восхищался Андерсом, писал в его честь похвальные гимны и некритично смотрел на все, что делалось в штабе.
Сам профессор Кот так об этом писал 8 сентября генералу Сикорскому: «С Андерсом мы укрепили узы дружбы»... И далее: «Мы обсуждаем с Андерсом большую проблему связи с Польшей и другими оккупированными местами».
В это время советские органы были очень заинтересованы в том, чтобы сведения из Польши о передвижениях немецких войск поступали как можно раньше и непосредственно в советский штаб, чтобы он мог немедленно на них реагировать. Переговоры с Андерсом по этому вопросу вел Жуков. На первой фазе переговоров было решено, что в Польшу поеду я и подполковник Спыхальский. Затем обсуждался возможный выезд по этому вопросу в Лондон Жукова, которого мне предстояло сопровождать. Когда я вступил в должность адъютанта генерала Андерса, а выезд Жукова не состоялся, вместо меня сопровождать подполковника Спыхальского должен был поручик Игла-Иглевский. Этот выезд также не состоялся, так как Сикорский дал указание, чтобы все контакты с Польшей осуществлялись только через Лондон, как посредством радио, так и личные. Это было в некотором роде выражением недоверия к польскому штабу в СССР.
А профессор Кот в своих письмах продолжал восторгаться Андерсом. Вот что он писал 10 сентября Миколайчику в Лондон: «Генерал Андерс производит замечательное впечатление. Как его деловитость и военные знания, так и исключительное знание русского характера открыли ему дорогу в верхи, и каждое его желание выполняется. В основных вопросах его взгляды те же, что и у генерала Сикорского, они могли бы обойтись без переписки, и он попал бы в соответствие с мыслью верховного главнокомандующего. Мое с ним сотрудничество предвещает быть образцовым.»
Это же полный абсурд, прямо-таки удивительно, как мог посол расписывать подобные небылицы! Ни к каким верхам Андерс доступа не имел и никто, кроме генералов Жукова и Памфилова, с ним не разговаривал, да и последние являлись лишь представителями своих учреждений и могли только передавать просьбы Андерса дальше. Постоянное же подчеркивание, что Андерс имеет одинаковые с Сикорским взгляды было определенным враньем и вводило в полное заблуждение Сикорского. Их точки зрения с первых же минут были совершенно различными, о чем посол Кот отлично знал. Сикорский считал, что Советский Союз выдержит войну и сядет за столом конференции среди победителей, поэтому он искал с ним соглашения и прочных дружественных отношений; Андерс же считал, что Советский Союз падет в этой войне, причем в любой момент, и что вообще с ним надо не разговаривать, а только нажимать через другие государства, такие, как Англия и Америка. Вот так-то выглядела общность взглядов, которая была известна профессору Коту с момента первого знакомства с Андерсом. Но зато эти взгляды совпадали с его личной точкой зрения.
Андерса и Кота объединяло субъективное мнение, что только путем нажима можно что-то получить от Советского Союза. Это не соответствовало действительности. Власти Советского Союза шли навстречу полякам и делали все возможное для формирования польского войска, Андерс и Кот начали готовить памятную записку для союзнической комиссии, прибывающей в Москву для обсуждения общих вопросов вооружения. В Докладной записке они хотели изложить все нужды польской армии. Чтобы собрать как можно больше материала, Андерс решил выехать в расположение частей, чтобы на месте сориентироваться в потребностях.
...Бузулук — это небольшой, милый и довольно чистый городок, похожий на многие города подобного рода на Волыни. Домики в нем небольшие, главным образом двух или одноэтажные; в центре в основном кирпичные. Сам центр ничем не отличался от центров других городов. Боковые улицы утопали в зелени садов. Главные улицы вымощены. Всюду электрическое освещение. Бузулук производил впечатление тихого, спокойного красивого города.
Мы временно остановились в гостинице, находившейся невдалеке от здания командования. Командование занимало большой трехэтажный дом, в котором было выделено около тридцати комнат. Там проживали главным образом офицеры штаба. Квартира генерала еще не была готова., отсутствовала мебель. Доставкой мебели из Куйбышева занимался известный аферист (hochsztapler) майор Островский, выдававший себя за двоюродного брата Андерса, против чего, впрочем, тот не возражал. Как выяснилось позже, Островский никогда не был майором, а лишь подпоручиком. Любил иногда выдавать себя за генерала Боруту или других штабных офицеров. Уже успел в Куйбышеве жениться, а через несколько недель развестись. Его жена приезжала в Бузулук жаловаться генералу, просила, чтобы он повлиял на своего кузена, но это мало помогло. Кузену все сходило с рук. Когда его авантюрам наступил предел безнаказанности, он исчез, уехал. Впрочем, появился еще раз в Ташкенте, а потом пропал бесследно.
Мы приступили к исполнению своих обязанностей. Ежедневно с восьми часов утра все комнаты заполнялись постоянными сотрудниками и несметной тучей посетителей, которых прибывало с каждым днем все больше.
В здании командования армии находилась офицерская столовая. Она могла существовать только благодаря исключительной помощи со стороны советских властей. Ее обслуживал очень милый и вежливый персонал из местных жителей. В течение нескольких дней Андерс питался в общей столовой, а после переселения в свою квартиру — у себя дома, куда приехал и его повар Иван Васильевич, прикомандированный к нему еще в Москве.
С первых же дней приезда в Бузулук в этом городе началась совершенно новая жизнь. На каждом доме, занятом поляками, развевались польские национальные флаги и транспаранты, написанные по-польски. На улицах можно было видеть военные патрули с белокрасными повязками на рукавах. На вокзале был пост польской жандармерии, патрули принимали здесь приезжающих вступать в армию и отводили их на сборный пункт. Гражданскими лицами сразу же занимался отдел социальной опеки штаба.
После двухдневного пребывания в Бузулуке Андерс решил провести инспектирование формирующихся частей в лагерях дивизий и проверить на месте условия, в которых они находятся.
Уже 14 сентября мы отправились в Тоцкое в 6 пехотную дивизию Токаржевского и в запасной полк, которым командовал полковник Галадук.
Выехали мы из Бузулука утром двумя легковыми автомобилями: Андерс, Жуков и я в одном, Богуш и полковник Волковыский в другом. За час езды степными дорогами мы проехали тридцать шесть километров и остановились в Тоцком у штаба дивизии.
После приема рапорта заместителя командира дивизии генерала Ежи Волковицкого, Андерс медленно прошел перед фронтом частей, внимательно разглядывая солдат, здороваясь со знакомыми офицерами и обмениваясь с некоторыми из них несколькими словами. Затем, став в центре, обратился к солдатам и офицерам с краткой речью, подчеркнув в ней, что они вновь свободны, создают суверенную армию, что снова «судьба» дает им в руки оружие, которое временно неблагоприятный ход войны выбил из рук, и что вновь они начнут борьбу за Польшу. Борьбу, которая была прервана, но она ведется и будет вестись до победного конца. После выступления Андерс вместе с польскими офицерами и офицерами Красной Армии направился на богослужение, где все уселись на приготовленные для них кресла и стулья.
Пекле богослужения ксендз 6 дивизии произнес соответствующую обстоятельствам проповедь, после чего спели «Боже цось Польске» и «Не жуцим земи».
Продолжением торжеств явился парад. Это был парад уже свободных людей — солдат Речи Посполитой.
После парада мы прошли в офицерскую столовую обедать. Столы по древнепольскому обычаю были установлены подковой. Во время обеда Андерс опять произнес речь, обращенную к собравшимся офицерам, которым обещал скорую доставку обмундирования и оружия. Благодарил Жукова за оказанную властями Советского Союза помощь в организации армии, заверял в своей лояльности и сотрудничестве, а также благодарил командира дивизии генерала Токаржевского за радушный прием и за хороший внешний вид солдат.
Жуков и Токаржевский ответили довольно продолжительными речами, выдержанными в том же сердечном тоне. Каждый из присутствующих надеялся на лучшее завтра, каждый забывал о тяжелых временах, у каждого в сердце была радость.
Размещение личного состава дивизии в Тоцком было весьма разнородным. Штаб дивизии находился в обширном деревянном бараке, в таких же помещениях располагались столовая и большинство офицерских жилищ, медпунктов, торговых ларьков, светилиц (подобие красных уголков), большинство же солдат размещалось в палатках. Светлицы и медпункты уже действовали, они занимали большие, самые лучшие, просторные помещения.
Андерс вместе с Токаржевским и другими офицерами обсудили ряд организационных вопросов. Возникло дело полковника Галадыка, о котором говорили, что он слишком «расположен к большевикам». В виду этого Андерс решил его отстранить от какой-либо активной деятельности. Однако, не желая обострять вопрос и опасаясь, что это может быть истолковано как травля, поскольку и так шли разговоры, что Андерс отстраняет всех тех, кто «излишне» доброжелательно относится к советским властям, приказал оставить его комендантом гарнизона Колтубинки, куда не направлялось никакого войска. Тут же наметил новое местопребывание запасного полка в Тоцком при 6 дивизии. Командиром полка назначил полковника Коца а несколько позже его заместителем полковника Бронислава Раковского.
Запасной полк должен был принимать мобилизованных и добровольцев, производить проверку и отбор их по родам оружия, а затем на основе заявок направлять в воинские части.
Обсудив еще несколько мелких вопросов, мы возвратились в Бузулук.
Андерс был очень доволен тем, что видел в Тоцком.
После посещения Татищева мы вернулись в Бузулук, где вплотную занялись организацией собственного штаба армии и его отделов, интендантства, служб тыла, снабжения, медицинской, связи, юридической, полевой жандармерии, а также приступили к организации при штабе армии отдела социальной опеки.
Руководителем отдела общественной опеки стал от имени посольства очень активный и деловитый поручик Юзеф Мешковский. Одновременно в целях лучшей и постоянной связи со штабом посол прислал в Бузулук своего представителя при командовании армии доктора Хауснера.
На следующий же день после возвращения в Бузулук Андерс начал обстоятельно знакомиться со всеми вопросами, связанными с организацией армии. Каждый начальник отдела приходил к Андерсу и в присутствии полковника Окулицкого докладывал о положении дел и о своих нуждах.
Начальник II отдела подполковник Аксентович представил общий обзор положения на всех военных фронтах, а особенно подробно нарисовал картину происходящего на восточном фронте: немецкие армии устремляются вперед, добиваются все больших успехов, вследствие чего следует ожидать, что советский фронт не выдержит.
Начальник I отдела подполковник Крогульский доложил об организационном положении армии. Штатное расписание полностью укомплектовано, а в запасных пунктах находилось еще около десяти тысяч человек. Народ все прибывал. Возникло опасение, что в ближайшее время количественный состав может достигнуть почти восьмидесяти тысяч человек.
Начальник интендантской службы, подполковник Петрконьский доложил о положении с обмундированием, ответив, что уже 1 сентября первый обещанный транспорт с английским обмундированием в количестве ста тысяч комплектов прибыл в Архангельск и что необходимо немедленно наш вооруженный конвой выслать за его получением, раздать согласно количественного состава частей, а остальное хранить на складах в запасном пункте армии. Обсудили также вопрос о вооружении, которое уже для 5 дивизии поступало. Одновременно он обратил внимание на то, что нынешнее положение с продовольственными пайками полностью покрывает потребности армии и можно пока еще делать некоторые запасы, однако в связи с большим наплывом людей через несколько недель этого может оказаться недостаточным.
Начальник штаба Окулицкий доложил об общих вопросах, сотрудничества с местным командованием Красной Армии и представителями местной администрации. Первые итоги сотрудничества были настолько хороши, что не оставляли желать лучшего. Все организационно-административные распоряжения штаба поддерживались, а советские органы в каждом случае шли навстречу. Затем Окулицкий выдвинул вопрос о общественной опеке и указал на необходимость организации ее при армии, и не только при военных учреждениях, но и за их пределами, отметив, что она должна проводиться вне сферы деятельности посольства, чтобы гражданское население видело, что о нем заботится армия, и поэтому чувствовало бы к ней благодарность.
Через два — три дня после этого совещания Андерс, Богуш и Окулицкий на основе полученных данных обстоятельно проанализировали общую военную обстановку и на фоне ее — положение польской армии в Советском Союзе. В заключение Андерс все обобщил и пришел к следующим выводам, которые явились в некотором роде директивой для начальника штаба в его работе:
1. Немецкие войска все время наступают и добиваются больших успехов. Вследствие этого советский фронт может по всей линии не выдержать, а Москва в любой день может пасть.
2. Польская Армия может быть количественно доведена до 100.000, причем в относительно короткое время, в 2–3 месяца. Людских резервов больше чем нужно.
3. Необходимо немедленно обратиться к советским властям с предложением и добиться их согласия на количественное увеличение армии, а от властей союзников добиться ее вооружения, убедив, что в данный ситуации это совершенно необходимо.
4. В связи с тем, что советский фронт весьма ненадежен, следует польскую армию перевести как можно дальше на юг, если возможно, то к иранской или афганской границам, так как это будет необходимо по следующим двум главным причинам:
а) в случае падения советского фронта польские войска могут уйти в Иран, в случае крайней необходимости через Афганистан в Индию;
б) в виду лучшей возможности быстрейшего снабжения оружием, которое туда могло бы поступать от англичан.
5. В связи с этим уже сейчас следует всех людей, следующих в существующие сборные пункты армии, задерживать и направлять в новые места формирования польских частей в район Ташкента и еще южнее. С этой целью необходимо как можно быстрее направить на крупные и узловые станции железных дорог польских представителей, которые задерживали бы людей и отправляли их на юг. С этим нужно спешить, чтобы поставить советские органы перед свершившимся фактом. Тогда можно будет аргументировать тем, что армию следует формировать там, где находится большое скопление поляков. Объяснив это возможной разгрузкой железнодорожного транспорта, исключительно дефицитного в военное время.
6. Оружие, которое поступает в 5 дивизию, должно быть частично от нее отобрано и передано другим частям по следующим двум соображениям:
а) для собственной безопасности и лучшего обучения;
б) чтобы не допустить направления на фронт одной дивизии, если этого категорически потребуют и мотивировать отсутствием полного вооружения и недостаточностью обучения из-за этого.
Вот такие указания Андерс давал начальнику штаба Окулицкому. На эту работу ушло еще несколько дней, после чего мы стали готовиться к возвращению в Москву для постановки вопросов организации армии перед советскими органами и союзнической миссией. Одновременно в связи с наступлением зимы необходимо было решить срочный вопрос о зимнем обмундировании.
Мы могли летать без ограничения, так как советские органы отдали в наше распоряжение три самолета. Два маленьких «кукурузника», главным образом для связи с дивизиями, особенно с 5 дивизией, и один дальнего действия, четырехместный. Это значительно облегчило передвижение и создавало нам все возможности быстрого перемещения как между дивизиями, так и между Куйбышевым и Москвой. Мы были независимы и в любой момент могли пользоваться закрепленными за нами средствами передвижения. К штабу было прикреплено два легковых автомобиля и одна санитарная машина. В качестве подарка от Сталина Андерс получил легковой автомобиль «ЗИС».
24 сентября рано утром мы собирались улететь в Москву, а вместе с нами генералы Богуш и Жуков.
Андерс же в каком-то постоянном необъяснимом страхе, все время боялся, что с ним может что-то случиться. За день до отлета, то есть 23 сентября, он вызвал к себе Окулицкого и подписал ему несколько чистых бланков.
В Москву мы прибыли 24 сентября, Андерс вместе со мною остановился в своей квартире, которая все время находилась в его распоряжении, а Богуш поехал к себе в военную миссию на территории посольства.
На следующий день Андерс направился на беседу к послу, чтобы доложить ему о положении, в котором находились воинские части, и поделиться своими впечатлениями. При этом он подчеркивал хороший внешний вид и моральные качества солдат.
От профессора Кота он узнал, что господа Грабский, Комарский и генерал Янушайтис 15 сентября улетели в Лондон. Отъезд последнего очень обрадовал Андерса, при этом известии у него как бы гора свалилась с плеч.
Польское посольство, задачей которого являлось оказание помощи польскому населению, создало огромный административный аппарат, состоявший из более двух тысяч восьмисот человек, разбросанный по всей территории Советского Союза.
Это было почти второй администрацией в государстве, распоряжавшейся совершенно самостоятельно, и не подчинявшейся советским органам власти, но выдвигавшей всякие требования и проявлявшей на каждом шагу свое недовольство.
Аппарат общественной опеки кроме нескольких десятков человек, работавших при посольстве, состоял из двадцати делегатур (представительств) посольства. Главным руководителем общественной опеки стал Ян Шчирек. Во главе каждой делегатуры находился представитель посольства. В делегатуре иногда работало свыше двухсот пятидесяти человек. Своей деятельностью они охватывали огромные территории, часто во много раз большие, чем территория Польши. Делегатуры действовали на периферии через свои представительства, во главе которых стояли так называемые доверенные лица, их было триста пятьдесят, и они в свою очередь имели свой вспомогательный аппарат, насчитывающий свыше тысячи двухсот человек.
Через несколько дней после беседы, 29 сентября, в помещении посольства состоялась пресс-конференция с участием восьми иностранных журналистов. Профессор Кот информировал прессу о польско-советских отношениях и дружественном сотрудничестве, установившемся после заключения июльского договора.
Андерс рассказал о ходе организации армии. Говорил об ускоренных темпах ее формирования и твердости духа польского солдата. Значительное внимание он уделил воспоминаниям о «подвигах» в сентябре 1939 года. Рассказал о своем пребывании в тюрьме, подчеркнув, что после назначения командующим польскими вооруженными силами в СССР (после июльского договора) просидел в тюремной камере еще четыре дня. Это было явным преувеличением. Сикорский лишь 4 августа поставил в известность советские органы, что намеревается назначить генерала Андерса командующим польскими вооруженными силами в СССР, так как лишь к этому времени он узнал, что первого кандидата на эту должность Станислава Галлера, найти нельзя. Андерс был назначен 6 августа, а находился на свободе уже с 4 августа.
На пресс-конференции очень много говорилось о гражданском населении, количество которого определяли почти в два миллиона, о его материальных нуждах — особенно об одежде, продовольствии и лекарствах. Журналисты задавали множество вопросов, на которые посол Кот и Андерс старались дать исчерпывающие ответы. Конференция продолжалась около двух часов. Переводчиком с польского языка на английский был подхорунжий Любомирский.
Какой внешний отзвук имела эта конференция, какой она дала эффект — сказать трудно. Кажется, что никакого серьезного отклика она не получила. Зато Андерсу лично принесла значительный успех. Его персону очень разрекламировали в американской прессе.
Одновременно с этими вопросами подготовили предложения, касающиеся польской армии, для представления в комиссию союзников. Однако вся эта подготовка и связанные с ней надежды наших руководителей оказались тщетными.
Требования, подготовленные Андерсом и Богушем и согласованные с профессором Котом, Андерс лично вручил генералу Макфарлану, чтобы тот поддержал их перед лордом Бивербруком, шефом английской миссии, являющимся председателем комиссии. Это был неофициальный путь. Официальный экземпляр Памятной Записки должен был получить американский делегат Гарриман.
Однако этими вопросами в англо-американской миссии никто не занимался. Она все время была занята на совещании с маршалом Сталиным. Докладная записка, представленная польскими властями, выдвигала план создания семи крупных соединений: трех пехотных дивизий, двух танковых дивизий и двух моторизованных дивизий, а также армейских и запасных частей.
На общую конференцию поляки не были приглашены. Профессор Кот лично старался продвинуть вопросы польского войска. С этой целью он вручил еще один экземпляр мемориала американскому послу в Москве Стейнхардту и в ответ на усиленные старания получил заверение, что поляки будут выслушаны миссией.
Действительно, 2 октября в два часа тридцать минут в здании американского посольства в Москве, состоялась конференция по польским вопросам. На ней присутствовали: лорд Бивербрук, министр Гарриман, английский посол Криппс, американский посол Стейнхард, английские генералы Исмей, Макфарлан и американский генерал Бернс. С польской стороны: посол Кот, генерал Андерс и генерал Богуш.
Макфарлан доложил вопрос в целом, но лорд Бивербрук сразу же принципиально все отклонил, не желая вообще дискутировать на эту тему. Он абсолютно не поддержал польской позиции, не только ничего не обещал, а совершенно ясно подчеркнул, что все, что англичане могут дать, они передадут Советскому Союзу, а он в свою очередь сможет нам выделить лишь то, что сочтет нужным. При этом он исходил из принципа, что поскольку мы должны сражаться на советском фронте, нет необходимости наделять нас особым вооружением, отличным от советского. Мы должны получить его от Советского Союза в соответствии с планом использования польской армии. Тем более, что воевать мы должны под верховным командованием Красной Армии.
Так на самом деле выглядели поставки нам вооружения, обусловленного по лендлизу, которого мы в Советском Союзе так никогда и не получили.
Следует подчеркнуть, что за переговоры, проводимые непосредственно с англичанами без предварительной санкции Лондона и без согласования вышеупомянутых требований с Сикорским — Андерс немедленно получил от него нагоняй. Сикорский упрекнул Андерса в том, что он вмешивается не в свои дела и хлопочет о вещах несущественных, так как создание в Советском Союзе такой польской армии, какой он представил ее англичанам, лондонским штабом не предусматривалось.
Уже на следующий день после этой конференции Сикорский направляет послу Коту телеграмму следующего содержания:
Лондон, 3 октября 1941 г.
«...Кроме того предлагаю предупредить Андерса, чтобы точнее, чем до сих пор, рассчитывал свои организационные планы. Такие большие расхождения в потребностях вооружения нас компрометируют.
Сикорский»Как выяснилось позже, когда Андерс в апреле 1942 года находился в Лондоне, претензии Сикорского к Андерсу возникли из-за усилий находящейся в Лондоне у власти санационной группы, которая заранее старалась не допустить создания в Советском Союзе слишком сильной польской армии. Стремления Лондона с самого начала сводились к тому, чтобы как можно больше военных покинули Советский Союз и влились в воинские части как в самой Англии, так и на Ближнем Востоке.
По этому же вопросу Сикорский в телеграмме от 3 октября 1941 года пишет послу Коту:
«...Я очень заинтересован в пополнении польской армии в СССР. Я очень хорошо понимаю трудное положение Андерса. Прошу разъяснить советским органам, что в сохранении и постоянном существовании польских войск в Великобритании и Египте заинтересованы все союзники. Прошу потребовать направления в Архангельск польских солдат, находящихся в различных лагерях Вологды и вокруг...»
В Лондоне считали, что уж если необходимо, то в Советском Союзе может существовать польская армия, но как бы символическая, а в принципе все польские силы должны быть сконцентрированы под командованием англичан в Англии и частично на Ближнем Востоке. Там опасались, что в случае возникновения в Советском Союзе слишком сильной польской армии она может стать соперником Лондона.
Сикорский требовал немедленной отправки в Англию десяти тысяч солдат младших возрастов, но Андерс не хотел лишаться лучшего в военном отношении элемента и объяснил, что отправка этих контингентов в настоящее время невероятно сложна и даже невозможна. Профессор Кот поддерживал Андерса и со своей стороны давал такое же объяснение.
В телеграмме Сикорскому это звучит так:
«Мне кажется невозможным в настоящее время отправить из России значительное число людей... Единственным лагерем, из которого можно было взять подготовленных людей, это Бузулук, точнее, из двух первых дивизий, но забрать из них 10.000 молодых солдат — будет равносильно уничтожению базы, на которой должна строиться армия...»
Это аргументация Андерса. Профессор Кот тогда уже целиком находился под его влиянием. В этот период он пишет Сикорскому:
Москва, 3 октября 1941 г.
«Мой дорогой и любимый
...Вопрос не совсем прост (речь идет о приезде дочери Сикорского). В здешних условиях никогда нельзя ручаться за безопасность, как считает Андерс. Кто знает, какие могут наступить перемены? Безусловно, что полученного оружия армия не дозволит вырвать из рук при любых обстоятельствах. Этот пункт ясен...»
На фоне всех этих недоразумений между Лондоном и командованием польских вооруженных сил в СССР — отказ выслать в Лондон 10.000 солдат, различия в оценке договора, требование Андерсом вооружений от англичан — начинают проявляться первые трения между Сикорским и Андерсом.
Одновременно с ходатайством в союзническую миссию по вопросу организации польской армии, Андерс, следуя своим решениям, принятым (перед отлетом в Москву) в конце сентября в Бузулуке, направляет письмо в Генеральный штаб СССР на имя генерала Памфилова с просьбой разрешить дальнейшее увеличение частей до семидесяти тысяч человек. Он просит о соответствующем увеличении пайков и о выделении территории в районе Ташкента для формирования новых подразделений.
На это письмо Андерс ответа не получил. Таким образом, пока осталось сорок четыре тысячи пайков, вооружение одной дивизии и организация трех крупных частей в существующих районах.
На этом, по-существу, заканчиваются все усилия Андерса по созданию польской армии в Советском Союзе. С этого момента его захватывают совершенно иные мысли. Именно тогда созрело решение, зародившееся еще в середине сентября в Бузулуке, вывести польскую армию из Советского Союза. С этого момента его отношение к Лондону изменяется коренным образом. Андерс отдает себе отчет, что Лондон, Сикорский, будет против этого, так как это противоречило бы соглашениям. Он фактически перестает считать Лондон своей верховной властью, одновременно устанавливает все более тесные связи с английской миссией и заботится о прикомандировании на все время к своему штабу одного из офицеров миссии в качестве офицера связи.
В это время продолжает обсуждаться вопрос контактов с Польшей. Несколько бесед между Андерсом и Жуковым не дали положительных результатов.
Речь шла о вещах сугубо военных, связанных с борьбой против Германии, и прежде всего о снабжении точными сведениями о передвижениях и силе немецких войск, расположенных на территории Польши, а также о ведении серьезной, развернутой в больших масштабах, диверсионной работы в тылах немецкой армии.
Подполковник Спыхальский, который по этим вопросам должен был выехать, не выехал, а на непосредственную связь с Польшей Лондон не давал согласия. Договорились только о том, что пока в Москве будет установлена польская радиостанция, а ее руководителем станет майор Бортновский, приехавший вместе с Богушем из Лондона. Он будет находиться в постоянном контакте с Лондоном, а Лондон с Польшей. Собственно говоря, это было ненужным делом, ибо любые сведения при такой организации поступали бы в Москву с суточным опозданием и могли бы с успехом передаваться в Лондоне представителю Красной Армии, а тот уже передавал бы их сам дальше.
В этот раз мы задержались в Москве на три недели. А тем временем в лагерях гудело. Росла армия. Пятая дивизия получила вооружение. Дивизии уже были сведены в войсковые части: полки, батальоны, роты, батареи и т. п.
Подходило к концу укомплектование отделов штаба и их организация. Началось обучение. И хотя солдат был еще оборван, а часто и без сапог, он рвался к учебе и хотел как можно скорее получить подготовку. На учениях, проходивших в ближайших окрестностях, производила большое впечатление красота степей и живописность долин, все это вместе приносило солдату облегчение, успокоение и воодушевляло его, еще больше поднимая энтузиазм, охвативший самые широкие солдатские массы.
Надвигающиеся осенние ненастья немного задержали первые учения, приближался период холодов. Начало прибывать теплое обмундирование. Это не было военное обмундирование в строгом смысле этого слова, а одежда, присылаемая советскими органами как временная, впредь до получения обмундирования из Англии. Кроме стеганок и ватных брюк армия получила и старые мундиры: литовские, латышские, венгерские, финские, американские. После получения вооружении части прошли подготовку по подразделениям, начались стрельбы, показавшие хорошие результаты, проводились длительные, на несколько десятков километров, марши, чтобы подготовить пехоту к движениям.
10 октября 15 полк «волков» провел показательное наступление при поддержке минометов. То же самое происходило и в других частях. Армия становилась настоящей боевой силой, хорошо обученной, дисциплинированной, все более готовой к боевым действиям. Всюду чувствовалось бодрое, боевое настроение. Возникали новые песни, выходили дивизионные и стенные газеты в каждой части. Оживали светлицы, начали организовываться кружки самодеятельности как дивизионные, так и полковые.
В строевых частях никто не вспоминал о прошлом, все мысли устремлены в будущее, к долгожданной схватке с врагом.
А среди военной верхушки все выглядело наоборот, как будто становилось все хуже. Сведения давались именно в таком ключе.
Посол Кот, чтобы усладить свой отдых после «титанической», работы, нанял под Москвой дачу, желая в субботы и воскресенья проводить там свой досуг, 5 октября по приглашению посла мы втроем: Андерс, Спыхальский и я поехали на эту дачу. Это был как бы визит вежливости, хотя при этой оказии предполагалось обсуждение вопросов Польши и общих. Спыхальский усиленно продолжал добиваться своего выезда в Польшу, если не прямо туда, то хотя бы через Лондон. Мы предполагали также обсудить и этот вопрос.
Приехали на дачу, расположенную в красивом сосновом лесочке. Генерал немного побеседовал с послом, после чего подали обед. После обеда перешли в салон, но до серьезного разговора дело не дошло. Констатировали лишь одно, — что в настоящее время не может быть и речи о полете в Польшу или даже в Лондон, так как транспортные возможности более чем ограничены. Решили подождать до приезда Сикорского и лишь тогда уладить этот вопрос. Андерс заявил, что предпочитал бы получать из Лондона не старших офицеров, а только младших. В те времена Андерс еще обещал омолодить армию и выдвигать на ответственные должности молодых офицеров. На этом, собственно, беседа и закончилась.
Это нашло свое отражение в телеграмме посла Кота министру Миколайчику от 10 октября:
«Министру внутренних дел Ст. Миколайчику Москва, 10 октября 1941 г.
...Андерс замечательно подходит к местным условиям. ...Выступает против присылки ему высших офицеров, которые не прошли с честью сентябрьской кампании. В то же время требовал сотен подхорунжих и курсантов, а также несколько десятков младших штабных офицеров...
Ста.»Наряду с делами более важными и менее важными, которые решались на месте, все больше внимания и времени посвящалось личным делам. Вопросы государственные представляли самотеку, к ним не прикладывали особых трудов.
Возможно повлияла дезорганизация, внесенная в это время в нашу среду, так называемыми «людьми из Лондона», которые старались слыть интересными собеседниками и использовать свой ореол «лондонцев» путем распространения самых свежих «великосветских» сообщений, содержащих привкус скандальчиков или сенсаций. Совершенно серьезно, без тени критики или иронии, рассказывали они о политических и персональных интригах, непрерывно происходящих в Лондоне. В своем большинстве они оказывались типичной бурей в стакане воды. Эти люди никогда не затрагивали тем, связанных с текущими задачами, в то же время услужливо рассказывали, кто кого «подсидел», оставил в дураках и какую из этого извлек пользу. Заводилами были Богуш и один из чиновников посольства — Круммель, рассказавший о «пикантных скандальчиках». К этим господам следовало также приобщить бывшего санационного старосту, в то время одного из любимчиков и столпов посольства — г. Станевича.
В это время произошел случай, который меня целиком излечил от расположения к Андерсу. Генерал, когда-то так резко осуждавший Ярнушкевича за попытку получения в долг казенных денег на покупку «камня», сейчас сам присвоил из штабной кассы несколько тысяч рублей на покупку золотого портсигара.
При этом следует заметить, что если Ярнушкевич хотел одолжить деньги и возвратить их, то Андерс никогда не собирался их возвращать. Позже эти махинации превратились у него в страсть, увеличивались лишь суммы.
В это время отношение профессора Кота к Андерсу было довольно странным и малопонятным. Видя пустоту и огромные амбиции генерала и зная его ненасытную жажду власти, он любой ценой хотел завоевать его симпатию. Поэтому за все время пребывания в Советском Союзе посол Кот был необыкновенно уступчив и снисходителен к генералу. Старался выполнить любые его прихоти и постоянно поддерживал их перед Сикорским, независимо от того, были они правильными или нет. Поддержал в вопросе о генерале Пшездецком, которого Андерс без всяких оснований хотел удалить из Советского Союза. В вопросе о Ярнушкевиче профессор Кот так пишет Сикорскому:
«Телеграмма от 15 сентября 1941 г.
Андерс... был бы рад, если бы ты предоставил ему право самому решать вопрос о лицах, в которых он очень заинтересован, а именно, чтобы ты согласился забрать отсюда в Палестину Пшездецкого, его одного, а как решить вопрос с Ярушкевичем — предоставил бы это сделать ему, пока же он их обоих не берет в лагеря.»
Кот не задумывался над тем, правильно ли такое решение, достаточно было того, что так хотел Андерс.
Желая войти в более близкие отношения с Андерсом и зная его алчность, посол Кот хотел его как бы подкупить, преподносил ему дорогие подарки и деньги. Так, в первых числах октября он выдал Андерсу из кассы посольства пять тысяч долларов — как бы на военные потребности, которые, впрочем, никогда не были использованы на военные нужды: из них три тысячи Андерс присвоил, а в двух тысячах отчитался перед армейской кассой после многих напоминаний. Сверх того в половине октября посол Кот передал Андерсу из рук в руки автомобиль посольства «Лассаль», а через несколько месяцев второй — замечательный «Паккард».
Посол Кот все время стремился привлечь Андерса на свою сторону, считая, что тем самым сделает из него свое послушное орудие. А вышло наоборот. Кот не изменил своего отношения к Андерсу, даже тогда, когда увидел уже совершенно отчетливо, что Андерс поступает не так, как говорит, и делает по-другому, чем они решили вместе. Совершенно ни в чем не ориентируясь, некритически принимал все сказанное Андерсом за чистую монету.
С первых дней назначения посла Кота в посольстве воцарился хаос и беспорядок. Чиновники целыми днями играли в карты или развлекались с подружками. Впрочем, посол подобрал себе аппарат не особенно удачно. Лишь три человека выделялись в этом коллективе, на которых держалось существование и кое-какая деятельность посольства. Это были Веслав Арлет — первый секретарь посольства, который работал почти за весь персонал, занимаясь всеми вопросами; Мариан Струмилло — торговый советник посольства, и Ксаверий Прушинский — полный энергии публицист, который руководил пресс-бюро, издавал газету (орган посольства), ездил в армию. Последний, пожалуй, был единственным, кто устанавливал культурные и дружественные отношения с советской общественностью, стараясь расширить контакт и знакомства, способствующие работе. Наше пребывание в Москве на этот раз затянулось до 13 октября и лишь в этот день мы улетели в Бузулук, чтобы через несколько дней вернуться, но уже в Куйбышев, куда 15 октября были эвакуированы все дипломатические представительства.
Когда Андерс перед отлетом был на прощальной беседе у профессора Кота, то усиленно убеждал его в том, что Москва вот-вот падет. На основе этой беседы посол в ту же ночь отправляет Сикорскому телеграмму, в которой, между прочим, пишет:
«...В любой момент здесь может произойти плохое... Андерс просто исключительный удачник и горячо тебе предан... Несколько дней тому назад он готовил на твое имя телеграмму с просьбой об отставке, я с трудом уговорил его не посылать ее... (Это была со стороны Андерса хитрость, никогда ни о чем подобном он и не думал, хотел только напугать посла и целиком подчинить своему влиянию.) В случае падения Москвы будет трудно справится с хаосом. Усилению дезорганизации будут способствовать прерванные связи между правительственными органами. Поляки уже самовольно разъезжают и кочуют, за что, правда, расплачиваются голодом и болезнями... (Это происходило вследствие распоряжения Андерса о том, чтобы едущих в армию направляли на юг).
Андерс был у меня. Прощаясь со мной, он сказал что, по его мнению, Москва совершенно очевидно падет в самом непродолжительном времени... Так как здешние (органы советской власти) будут нуждаться во все большей помощи, то те, кто ее оказывает (американцы), могли бы многое выторговать, но должны были бы уметь диктовать условия...»
Итак «верхи» (так же, как и в Лондоне) не хотели признавать польско-советского договора, не хотели его осуществлять. Они его трактовали как необходимое зло, а Советский Союз считали врагом, пожалуй, большим, чем Германия. Именно эта санационная группа, находящаяся в Советском Союзе, при исключительной поддержке со стороны Андерса с первого момента начала решительно уничтожать какие-либо проявления здорового и доброго отношения к СССР.
Казалось, что лишь, приезд Сикорского и его правильная оценка обстановки и людей, которым он доверил такое огромное и ответственное задание, предупредит зло и оздоровит атмосферу, наметив определенное направление в работе.
Между тем, в воинских частях младшие офицеры, подофицеры и солдаты не отдавали себе отчета о том, что происходило в верхах. Учились интенсивно и с подъемом. Начальное обучение, собственно, было закончено (в масштабах подразделений), приступили к учениям более крупными частями, даже полками. Проводились двадцатикилометровые марши. Одновременно велись работы, чтобы можно было перезимовать. Заморозки уже беспокоили, и холод давал крепко себя чувствовать в палатках. Солдаты начали врываться в землю. Сооружали землянки. Уже в первых числах ноября наступили морозы и толстый слой снега покрыл землю. Там, где были лошади, возили бревна на строительство землянок из ближайших лесов. Там, где лошадей не было, носили лес на собственных плечах. Так происходило почти везде. Заготовляли лес, копали землянки, мастерили печи из кирпича, железа, старых труб и т. п. Делали как умели, но главным образом вкапывались в землю на метр, затем края обрамляли досками, а уже потом натягивали над этим двойные палатки, снаружи обсыпали землей так, чтобы не гулял ветер, делали печки-времянки, а в некоторых подобного рода «квартирах» сооружали даже топчаны. Так более или менее все подразделения подготовились к зиме. Солдаты не переставали учиться.
Так обстояло дело в военных лагерях — в Татищеве, Тоцком и Бузулуке. Значительно хуже, даже прямо трагически, обстояло дело на юге. Но об этом потом.
Несколько месяцев, отделявших нас от приезда верховного главнокомандующего, у одних ушло на приготовления, чтобы его принять возможно лучше, как можно лучше выглядеть и показать всю готовность к боевым действиям; у Других, как например у Андерса, это время и все усилия ушли на то, чтобы зачатки новых, дружественных отношений между нами и Советским Союзом испортить до последней степени.
Поскольку Андерс строил свои политические и военные расчеты на убеждении, что Советский Союз будет разбит и при том лично относился к нему враждебно, его главной мыслью во всех мероприятиях было переждать. После вступления в командование польской армией его официальная и личная политика почти с первого момента последовательно проводилась в четырех направлениях:
1) как можно быстрее разбогатеть;
2) жить весело, в свое удовольствие, побольше развлекаться;
3) подыскать для себя могущественного покровителя и войти с ним в соглашение. (С этой целью он всеми силами старался установить отношения с англичанами, что ему полностью удалось.)
4) Как можно быстрее выбраться из пределов Советского Союза.
В стремлении осуществить поставленные перед собой задачи он не пренебрегал никакими средствами, не брезговал ничем. Все было хорошо, лишь бы достичь цели.
Вопрос «сколачивания» состояния он разрешил таким «простым» способом: большую часть казенных сумм, находившихся в его распоряжении, он переводил прямо на свой личный счет как собственные «сбережения». Часть из этих сумм он переводил на счета заграничных банков. Скупал для себя за государственные деньги золотые портсигары, золотые монеты, доллары, бриллианты и другие драгоценности. Действовал в этом направлении без зазрения совести, распоясавшись до такой степени, что скупал, конечно, за казенные деньги, драгоценности у людей, вынужденных продавать их только потому, чтобы не умереть с голоду.
Что касается политических вопросов, то он был глубоко убежден в неизбежном поражении Советского Союза и не сомневался в победе Германии настолько, что искал даже определенных людей и путей к высшим немецким военным чинам. Лучшим эмиссаром он считал бывшего премьера Польши профессора Леона Козловского, рассуждавшего таким же образом, как Андерс, и мыслящего теми же категориями, убежденного в победе Германии. Леон Козловский считал, что Польша, несмотря на все происшедшее в сентябре 1939 года, должна сотрудничать с Германией, как это сделали Румыния, Венгрия и другие сателлиты «оси». Поэтому Андерс, встретив Козловского в посольстве в Москве, направил его в штаб Бузулук и под видом определения на работу в армию, одел его в военное обмундирование.
Посол Кот так пишет об этом Сикорскому 10 сентября 1941 г.: «Несомненным противником (правительства в Лондоне) является Козловский, который хотел бы пойти к Андерсу в качестве референта по политическим вопросам или, когда немецкие войска подойдут ближе, поехать в Польшу...»
Господин Козловский в течение недели работал в финансовом отделе армии в звании поручика, после ряда совещаний и заседаний, которые были проведены в это время, он получил распоряжение отбыть в Москву, вроде как бы в посольство, хотя в это время оно находилось не в Москве, а в Куйбышеве. В действительности же он должен был перейти через линию фронта, что в условиях немецкого наступления являлось делом нетрудным. Фронт в это время быстро перемещался и доходил почти до самой Москвы. Это был конец октября 1941 года. Как раз в это время Козловский в компании с двумя офицерами перешел линию фронта и уже в конце ноября был в Варшаве и в этом же месяце представлялся в Берлине.
Весть об этом факте разлеталась по штабу молниеносно. Немцы не преминули сообщить о нем по радио и в печати. В штабе в Бузулуке начали распространяться самые различные слухи и сплетни на эту тему. Шопотом говорилось об участии Андерса в отправке Леона Козловского для переговоров с Гитлером.
Однако Москва не пала. Немцев остановили. Фронт остановился, а время приезда Сикорского для переговоров со Сталиным неотвратимо приближалось. Андерса охватил дикий страх. Для того чтобы отвлечь от себя какие-либо подозрения, он приказал провести расследования по делу Леона Козловского: каким образом выехал из Бузулука в Москву, как и когда перешел линию фронта. Следствие вел второй отдел штаба армии во главе с подполковником Гелгудом, известным своими германофильскими взглядами. Совершенно очевидно, что следствие велось таким образом, чтобы не дать существенного результата. Тем не менее все же установили, что Леон Козловский появился в Бузулуке по личному приглашению Андерса и за несколько дней до своего отъезда посетил в Тоцком Токаржевского, подобрав себе в попутчики еще одного офицера. Но самое главное, было установлено, что Леон Козловский выехал в Москву по поручению Андерса, который лично подписал ему командировочное удостоверение.
Нужно было спасаться. Андерс учредил суд и, чтобы решительно отмежеваться от всего этого, приказал судить Леона Козловского за государственную измену, переход на сторону противника. Он требовал вынесения смертного приговора. Послушный суд, не вникая в существо дела, приказ выполнил. Леона Козловского объявили предателем и дезертиром и приговорили к смертной казни. Андерс приговор утвердил, хотя не имел на это права, ибо смертные приговоры на офицеров мог утверждать только верховный главнокомандующий Сикорский. Андерс, однако, опасался, что Сикорский может приказать произвести повторное расследование и рассмотрение дела в суде, поэтому предпочел поставить всех перед свершившимся фактом.
Приговор в принципе был лишь теоретическим, так как исполнение его в отношении лица, находящегося в Берлине под опекой немецких властей, было невозможным. К этому добавлю, что по прошествии нескольких месяцев во время одного из налетов на Берлин Леон Козловский был ранен и через две-три недели умер в немецком госпитале.
Во всем этом псевдопроцессе наиболее пострадал подполковник Гелгуд-Аксентович, начальник второго отдела штаба, который уже имел несколько замечаний за интрига и желание все подчинить себе. Гелгуд по старому обычаю санационной «двуйки» считал, что только он может распоряжаться, и сразу же начал интриговать против начальника штаба Окулицкого, стремясь к его устранению с занимаемой должности и назначению на нее кого-нибудь другого, или надеясь на возможность самому занять этот пост. Он распускал слухи, что Окулицкий не соответствует занимаемой должности и должен быть от нее освобожден. Говорил об этом сам и предложил это делать своим офицерам, в частности ротмистру Новицкому, который направо и налево твердил, что Окулицкий обязан уйти. Когда в штаб в Бузулук приехал из лагеря капитан Ковальчинский, он, не разбираясь в происходящих интригах, возмущенный рассказал обо всем Окулицкому. Тот в свою очередь вызвал к себе Гелгуда, его заместителя майора Бонкевича, ротмистра Новицкого, капитана Ковальчинского и еще одного офицера на очную ставку и принципиальный разговор. Этот разговор подтвердил в основном интриганство Гелгуда. Окулицкий представил все это Андерсу, требуя снятия Гелгуда с занимаемой должности. Андерс тогда не согласился с этим, был даже доволен, что его подчиненные между собой дерутся, ему это казалось выгодным. Но сейчас, когда всплыло дело Леона Козловского, а Гелгуд не сумел его деликатно провести и еще давал понять, что это сам Андерс выслал Козловского, он решил снять Гелгуда с занимаемой должности за отсутствие бдительности. Подполковника Гелгуда сначала перевели в запасной полк, а затем в одну из дивизий. Вместо него был назначен майор Винценты Бонкевич, о котором посол Кот так пишет Сикорскому:
«...человек высоких моральных качеств, майор Бонкевич из «двуйки» (если это я говорю, то наверно поверишь), бывший начальник сектора по России, многократно битый, непреклонный, должен быть повышен в звании и назначен начальником второго отдела, ибо теперешний подполковник, (Гелгуд) не идет с ним ни в какое сравнение...»
Временно Андерс был спасен, но продолжал считать, что ни в коем случае не может оставаться на территории Советского Союза. С этого момента он последовательно стремится создать такие отношения, которые позволили бы лучше раньше, чем позже вывести польскую армию из пределов Советского Союза.
В соответствии с планом Андерса, составленным еще в конце сентября совместно с Богушом и Окулицким, вывод армии должен быть произведен через иранскую границу или в крайнем случае через Афганистан, пусть даже в Индию. С этой целью, как мы знаем, первым этапом реализации этого плана являлся перевод польской армии на юг, как можно ближе к упомянутым границам. Однако, предвидя на пути осуществления своих намерений значительные трудности, Андерс хотел поставить всех перед свершившимся фактом. Поэтому на узловые станции были высланы офицеры (уполномоченные), которые направляли гражданских лиц и призванных в армию не в существующие места дислокации частей, а на юг Советского Союза, в окрестности Ташкента, где Андерс проектировал продолжать формирование армии.
С этой поры новый период страданий польского населения. Люди начали перемещаться туда и обратно в обе стороны. Сначала с различных концов СССР они ехали несколько тысяч километров в Бузулук, Тоцкое и Татищево. Не доезжая этих станций, они встречали офицеров, которые отправляли их на юг. Снова несколько тысяч километров езды в неизвестные места, где не имелось даже гражданской опеки. Измученные до предела люди не находили никакого пристанища и обещанных воинских частей. Те, кто еще имел немного сил и денег, возвращались в центральную Россию, в Бузулукский район. Возникла неописуемая неразбериха, люди сыпали проклятьями, что их обманули. Во время беспорядочных, бессмысленных скитаний многие гибли. Те, кто остался на юге, оказались в очень плохих условиях. Никто не был подготовлен к их приезду. Квартир не было. Продуктов не было. Начались заболевания, производившие опустошение среди поляков. Люди обижались на советскую власть, считая, что она виновата в том, что они оказались в таких условиях.
Профессор Кот, направляясь из Москвы в Куйбышев, видел эти толпы и писал Сикорскому:
«Телеграмма от 20. X. 1941 г.
...В дороге я видел толпы наших бедных людей, больных и голодных, направляемых без плана...»
Следуя своему замыслу, в ноябре 1941 года Андерс самовольно, без согласования с какими бы то ни было властями — польскими в посольстве или же советскими, направляет два больших эшелона, более чем по две тысячи человек в каждом, к рекам Аму-Дарье и Сыр-Дарье. Многие из них в скором времени погибли из-за болезней тифа, малярии, дизентерии и т. п. при полном отсутствии помещения, лекарств и ухода. Лишь самое незначительное количество из них попало в армию. Страшная халатность в данном случае усугублялась неудачно выбранным местом.
Советские органы и тут, хотя это не было предусмотрено никаким планом и с ними не согласовано, хотели оказать польскому населению помощь. С этой целью начали привлекать к работам поляков там, куда они прибывали, например в районе Узбекистана, к работам на хлопковых плантациях, использовав на ирригационных работах и в строительстве. В округах Нукус, Бухара, Самарканд и Фергана поселилось таким образом около ста тысяч поляков.
Посол Кот, следуя замыслам и планам Андерса о перебазировании польской армии на юг, поддерживает эти мероприятия, стараясь подготовить к ним Сикорского и получить его согласие и поддержку. Он направляет 29.Х. 1941 года телеграмму такого содержания:
«...Могу ли я заявить Советскому правительству, что Англия даст официальное заверение о вооружении и снабжении продовольствием нашей армии? Район, куда теперь направляется излишек солдат и добровольцев (Узбекистан), расположен в наиболее благоприятном для английских поставок месте. Кавказ не может приниматься в расчет.
Доставка Англией более крупного транспорта через Архангельск технически невыполнима, возможным, хотя еще не подготовленным, является путь через Иран, но на него английские власти должны решиться ясно и определенно. Позиция Англии касательно посылки отсюда солдат до сих пор тоже не ясна, а что касается направления летчиков, то инструкции из Лондона ограничиваются направлением лишь обученных экипажей, После получения определенного английского решения можно будет начать переговоры с Советами о выпуске солдат в большем количестве...
Кот»Как видим, уже в конце октября по этому вопросу между Андерсом и профессором Котом было достигнуто полное согласие как в отношении направления войск на юг, так и убеждения, что англичане могли бы их там вооружить и кормить, а также и относительно предполагаемого вывода этих войск в большем количестве. Следует, напомнить, что в это время еще не имелось согласия англичан и что пока все эти проекты возникли только у польского командования в Бузулуке, без согласования с кем бы то ни было.
Вообще штаб в Бузулуке начал действовать совершенно независимо, словно обеспечивал себя сам или русские и англичане были обязаны исполнять все его желания.
Штаб начал вести пропаганду против посольства, эти действия поддерживал Андерс. В провинцию посылались офицеры — уполномоченные для информирования гражданского населения и «опеки» над ним. Это было соперничеством с посольством и небезуспешным, поскольку военные имели больше возможностей к передвижению. Андерс хотя и был у посла, ничего с ним не согласовал, а на следующий день после беседы с послом Котом направил ему письмо, в котором между прочим сообщал о посылке военных представителей и об их задачах. Посол Кот возмутился, он хорошо понял, что армия хочет создать что-то вроде второго посольства, и считал это актом вызывающей нелояльности в отношении своей особы со стороны Андерса, поэтому написал ему следующее:
«Куйбышев, в ночь с 1 на 2 ноября 1941 года
Уважаемый и дорогой господин генерал!
В два часа ночи сел писать Вам письмо. Не могу заснуть, хотя силы очень понадобились бы на завтра. Не могу спать от мыслей, затронутых в письме, которое вручил мне сегодня курьер от господина генерала. Я знаю, что Вы, господин генерал, после размышления над моим официальным ответом, отдадите необходимое распоряжение, чтобы устранить ненужные явления, в чем я совершенно не сомневаюсь.
Но глубокое беспокойство вызвало во мне то, что, несмотря на всю нашу трагедию, некоторые лица в армии не отлучились от «радостного творчества», к которому их приучили 13 лет пилсудчины... Я знаю, что в Польше господствует и горечь и ненависть к подобного типа офицерским правительствам. Такое же настроение в правительственных кругах, и польских партиях в Лондоне. Сикорский и как премьер и как верховный главнокомандующий выразил желание, чтобы армия была только армией, чтобы она целиком посвятила себя служению той огромной задаче, которую на себя взяла, и за что весь народ отводит ей такое исключительное почетное место. К сожалению, старый проклятый дух еще дает себя знать: дух некомпетентности и зазнайства. Вмешиваясь не в свои дела, военные всегда делали их плохо, хотя они и не любят в этом признаваться. И я с ужасом заметил, что этот дух не иссяк... Случайно, не является ли эта «радостная» регистрационная экспедиция плодом того самого бюро, которое до сих не может обработать информационный материал. Начиная с середины сентября для меня не могли подобрать кандидатов на уполномоченных, а сами их во множестве рассылают. Соревнования в работе похвально, я бы только одобрил выполнение многих функций через посредство этого мощного людского резервуара, каким является армия, но необходимо соответствующее инструктирование лиц и согласование возложенных на них задач с посольством как с органом, который призван вершить эти дела. И уж совсем забавно выглядит то, как их наделяют без моего ведома титулами и мандатами от имени посольства. Может быть инициатор этой затеи выдвинул бы свою кандидатуру на пост представителя правительства Речи Посполитой и стал бы легально проводить эту свою деятельность. Не могу избавиться от убеждения, что в подобной претензии и в подобной психологии лежит источник великих бед... Поэтому свой ответ на подписанное Вами письмо я изложил ясно и откровенно. Нет необходимости подчеркивать, что в нем не содержится и тени претензии к Вам, господин генерал, к тому, кто еще позавчера, будучи у меня, не вспоминал и не знал об этой регистрационной активности, основанной на опрокидывании всего, что может создать здравый рассудок...»
Получив это письмо, Андерс страшно рассердился на профессора Кота, так как он сам в основном являлся инициатором посылки военных представителей. Знал о них давно и сам подписывал соответствующий приказ. Поэтому решил с этого момента информировать профессора Кота только о том, что могло быть полезным в реализации его намерений, а о других вопросах ничего ему не рассказывать.
А профессору Коту это совсем не помешало через несколько дней так информировать Сикорского о положении в армии:
«...Здесь нет ни санации, ни чего-нибудь другого, здесь только хорошие поляки...»
Не желая послать польские части на Восточный фронт, чтобы они совместно с Красной Армией сражалось против Германии под советским Верховным командованием, Андерс сразу же по получении 5 пехотной дивизией оружия в сентябре 1941 года, решил ее разоружить, изъяв у нее свыше трети оружия по предлогом, что оно необходимо для обучения других частей и для караульной службы, охраны складов, штабов и т. п. Человеку, не посвященному в подлинный смысл подобного распоряжения, оно могло показаться совершенно правильным.
После всего этого не удивительно, что отношения с Советским Союзом начинают охлаждаться. Андерс все решительнее преследует тех офицеров, которые относятся к Советскому Союзу, по его мнению, слишком доброжелательно. Он не только не давал им назначений, не только переводил их в офицерский резерв и отодвигал на второй план, но с помощью послушных ему судов стал готовить даже фальсифицированные процессы, на которых они могли быть обвинены и осуждены «законными» приговорами «независимых» судов.
Именно так поступили, между прочим, и с подполковником Леоном Букоемским. За то, что он стремился к доброму и дружественному сотрудничеству с Советским Союзом, против него затеяли фиктивный процесс, обвинив в мнимой агитации... в пользу Германии. Когда же судья заявил Андерсу, что не имеет абсолютно никаких оснований для осуждения Букоемского, Андерс приказал нескольким офицерам спровоцировать Букоемского на разговор о Германии, чтобы иметь необходимых свидетелей обвинения. Такой «благородный подвиг» был совершен, и суд получил нужных ему свидетелей обвинения. Хотя судья и заседатели прекрасно знали, что все это обвинение выдуманное, тем не менее, чтобы удовлетворить Андерса и выполнить его указание, «независимый» суд от имени Речи Посполитой уже на новом месте расположения в Янг-Юле арестовал подполковника Букоемского и приговорил к году тюремного заключения и разжалованию. Многие другие, такие, как полковник Галадык, были отодвинуты в тень, лишены возможности получить более или менее значительную работу.
Обстановка становилась все более тяжелой. Доходило даже до определенной напряженности в отношениях между представителями Советской власти и польским военным командованием. Поэтому трудно говорить о каком-либо доверии со стороны советских властей. Это недоверие углубляли как Андерс, так и посол Кот, который так телеграфировал Сикорскому 13 ноября 1941 г.
«Дорогой и любимый генерал!
На случай, если я не вернусь из полета в Москву, который предстоит совершить завтра в связи с твоим приездом, то передаю тебе мои сердечные объятия и самое горячее пожелание, чтобы тебе удалось вытащить наш народ и государство из пропасти и осуществить их возрождение в послевоенный период... Не сомневаюсь, что позаботишься о моей семье.
Горячо тебя обнимаю. Всегда твой
( — ) Кот.»Такая атмосфера неуверенности и недоверия быстро проникала в низы и создавала ненормальные отношения.
Между прочим, она явилась причиной такого случая. В штаб польской армии в Бузулуке вошел лейтенант Красной Армии в нетрезвом виде. Он пришел к одному польскому офицеру, своему знакомому. Это было после окончания работы. Дежурный жандарм не хотел впускать его в помещение, из-за этого произошла ссора, во время которой жандарм застрелил лейтенанта. За свое «усердие» он получил повышение в звании. Такое в данном случае нетактичное поведение вызвало неприятное впечатление даже среди сторонников антисоветской политики.
Но и польские внутренние взаимоотношения становились все более ненормальными. Прежде всего существовала колоссальная диспропорция между бытом руководителей и жизнью остальных, оказавшихся на территории Советского Союза. Польские начальники как в посольстве, так и в штабе жили весьма расточительно, в то время, когда вокруг царила нужда. Имелись возможности облегчить положение рядовых поляков, к сожалению, таких возможностей не только не использовали, но и усиливали нужду, гоняя людей с места на место без необходимой заботы о них. Бедный человек, нуждающийся в куске хлеба, часто уходил из посольства или штаба с пустыми руками. Не лучше обстояло дело и в общественной опеке, которую при помощи посольства организовал штаб. С озабоченной и сочувствующей миной высказывалось сострадание к несчастному, сетования на трудные времена, на нехватку денег, жалобы на большие ограничения, причем постоянно подчеркивалось, что всему виной — Советский Союз и что именно он обязан взять на себя дело опеки и питания. Между прочим, этот вопрос ставился перед английским послом Криппсом.
Для оказания людям помощи не хватало денег, а на посольские дачи или золотые портсигары, на икру, на гулянки и попойки недостатка в них не было, они всегда как-то находились.
Когда же двое юношей, один двадцати лет, второй восемнадцати, однажды вечером, часов около восьми подошли к продовольственному складу, может намереваясь оттуда украсть несколько банок консервов — ибо как они объясняли позже, несколько дней ничего не ели — были часовым задержаны, а затем арестованы по обвинению в попытке совершить грабительское нападение на склад. Андерс назначил суд и приказал осудить их к смертной казни. Суд не имел никаких законных оснований для вынесения вообще какого-либо приговора, ведь преступление не было совершено, не имелось даже достаточных улик для доказательства их преступных намерений и дальнейшего содержания под стражей. Тем не менее генерал настаивал, решив добиться своего. Ему объясняли, что военные власти вообще не имеют права вмешиваться в это дело, так как ребята были лицами гражданскими, что склад был тоже гражданский и в данном случае военные власти ко всему этому не имеют никакого отношения, что можно лишь это дело как гражданское передать советским властям. Генерал ничего не хотел слышать, не поддавался никаким уговорам. Он хотел ввести режим террора. До тех пор подбирал состав суда, лично менял судей, заседателей, приглашал к себе, просил, объяснял, угрожал, что наконец нашел послушных себе лиц. Суд выполнил приказ. Обоих молодых людей за «грабительское нападение» на склад общественной опеки приговорили к смертной казни через расстрел. Генерал Андерс с удовлетворением потирал руки и приговор утвердил. На следующий день на рассвете приговор привели в исполнение. Это было обыкновенное убийство, прикрытое видимостью законности.
Однажды, когда жена полковника Фрончка, находившегося в Англии, пошутила по поводу существующего в штабе самоуправства, она была арестована и просидела в тюрьме в Бузулуке неделю, ее выпустили только потому, что она страдала серьезным сердечным заболеванием. Андерс смеялся и бахвалился: «Ну и нагнал же страху на эту бабу! Другим не повадно будет».
Подобные судебные процессы стали повторяться очень часто, суды перестали быть собственно судами, а превратились в орудие в руках Андерса.
В связи с подобными делами несколько честных офицеров юридической службы попросили перевести их в строй. Но были и такие, кто с удовольствием выслуживался перед Андерсом, усматривая в этом большую для себя пользу.
Распорядок в работе штаба если речь шла о мелких текущих делах был установлен таким образом, что начальник штаба после бесед с начальниками отделов все оформлял сам. Андерс же приходил в штаб в десять часов утра только для подписания бумаг и приказов, а после полудня совсем не работал. Он себя не переутомлял и работал точно так же, как в мирное время.
Такова была обстановка в штабе Андерса перед приездом Сикорского.
Перед прибытием Сикорского посла Кота принял Сталин. Во время беседы с польской стороны присутствовали: посол Кот и первый секретарь посольства Веслав Арлет, с советской стороны — Сталин, Молотов и переводчик.
В начале беседы Кот заявил, что он считает за честь быть представленным Сталину, с именем которого связывается исторический момент восстановления отношений между Польшей и Советским Союзом. В своем ответе Сталин подчеркнул, что советские люди считают, что между советским и польским народами должны существовать самые лучшие отношения. Он выразил уверенность в том, что все, зависящее в этом деле от советских людей, будет сделано. Он считает, что можно начать новую страницу истории и что отношения должны опираться на дружбу. Сталин сказал[13], что понимает необходимость создания польской армии и что он встречался с польским солдатом на многих фронтах и умеет его ценить. Заверив в готовности оказания всевозможной помощи, он обратился к послу Коту с просьбой рассказать, чем он недоволен, чем недовольны поляки в России и в чем они нуждаются.
В ходе беседы обсуждалась необходимость хорошего взаимного сотрудничества, но затрагивались и щепетильные моменты, которые еще недавно вызывали сильную болезненную реакцию. Сталин в связи с этим сказал:
«...Во имя исторической правды хотел бы разъяснить некоторые вещи. Начиная с XVI века не только поляки страдали от русских, но и русские от поляков. Ведь с того времени вы два раза занимали Москву. Мы должны покончить с прошлым. Я не сомневаюсь в том, что со стороны тех или иных органов имеют место случаи неподобающего отношения к полякам. Однако такая атмосфера будет ликвидирована... Имеются все условия к тому, чтобы покончить с историей взаимной враждебности и пойти совместным фронтом против общего врага — гитлеровской Германии...» Продолжая обсуждать вопросы польской армии, Сталин изъявил готовность вооружить две польские дивизии, из которых одна уже была вооружена. Он не возражал против формирования на территории СССР пяти, шести, семи польских дивизий, лишь бы на это хватило людей и материалов, но при этом добавлял, что Советский Союз ведет войну, сражается на огромном фронте, и ему может не хватить материалов на вооружение польской армии, поэтому поляки должны сами приложить старания, чтобы экипировать и вооружить свою армию.
Продолжая разговор относительно польской армии, Сталин спросил, когда и где она хочет выступить против Германии? Посол Кот ответил:
«Я человек не военный. Это область генерала Сикорского. Но могу сказать, что мы, поляки, готовим армию не для парадов... Мы хотим, чтобы наши войска сражались здесь на востоке, чтобы наш договор был скреплен братством по оружию...»
Я здесь не привожу всех вопросов, затронутых во время этой принципиальной беседы, а лишь те из них, которые касались армии. Напомню только, что тогда решались вопросы займа, общественной опеки и издания польской газеты, выпускаемой посольством.
В итоге было определено, что польская армия будет увеличена до такой численности, на какую хватит материалов, обмундирования, питания, вооружений и что она будет передислоцирована на юг.
О вышеупомянутой беседе и ее результатах посол Кот рассказал Андерсу о своем письме к нему. Андерс был очень доволен. Его план постепенно осуществлялся, вопрос перевода армии на юг приобретал реальные очертания. Он приказал удвоить усилия в этом направлении и теперь как можно больше, без всякого стеснения направлять людей на юг. Он считал, что тем самым вынудит Сикорского поддержать его установку на формирование армии на юге, что облегчило бы получение продовольствия и оружия от англичан.
В это время отношения между посольством и штабом очень обострились. Андерс совсем перестал считаться с посольством, действуя совершенно независимо. Сикорский, частично информированный об этом младшими офицерами, прибывшими в Советский Союз из Англии, проявлял свое неудовольствие деятельностью Андерса. Доклады об общей ситуации и активности санации офицеры передавали генералу Модельскому. Об этом узнал посол Кот. Тогда он за несколько дней до приезда Сикорского в Советский Союз, 22 ноября 1941 года написал ему такое письмо:
«Мой дорогой и любимый,
...Если успеешь, просмотри эти бумаги, они наряду с тем, что расскажет тебе Андерс, скажут очень многое. Это письмо я посвящаю характеристике людей, чтобы ты заранее был ориентирован, к кому как относиться. Вместе с тем прошу, чтобы это письмо не попало ни в чьи руки. Если же ты решишь его сохранить, то только Тышкевич мог бы сделать это без опасения с моей стороны относительно использования его содержания.
Андерс — золотой человек, дельный, способный. Тебе очень предан. Сотрудничаю с ним самым лучшим образом. У нас нет друг от друга секретов. Но в некоторой степени вспыльчив и обидчив, легко поддается возбуждению со стороны любого и излишне поспешен в необдуманных решениях, так что вынужден их потом исправлять. На него возложена вся тяжесть сношений с советскими органами. Это отнимает у него 4/5 времени, а отсюда получается, что вместо него распоряжаются другие, а он в спешке все утверждает. Одни из них, такие, как Окулицкий, лояльны, а такие как начальник второго отдела Аксентович или особенно начальник организационного отдела Крогульский и начальник тыла Пстроконьский, оплот старых элементов, поддерживают и выдвигают только своих, они тоже делают то «радостное творчество», с которым я имею довольно много огорчений. Благодаря им на разные должности протаскивают бывших озоновских старост (Деллингер из Тарнова, шеф центра Озона Гонсовский из Пшеворска со времени Новосельц, бывшие санационные депутаты сейма Свенцицкий, Сициньский). Богуш в отношении тебя лоялен, способный, подвижной, но болтун, неосмотрительно выбалтывающий многие вещи, а самое главное — бабник, попадающий в объятия враждебных типов... что вызывает возмущение...»
В это же время Андерс и посол Кот нажимают на англичан и американцев, чтобы они оказали влияние на советские органы по вопросу вывода всей польской армии из пределов Советского Союза. Одновременно в официальных переговорах с представителями Советского Союза они постоянно заверяют их в желании сражаться на Восточном фронте. Между послом Котом, Андерсом и министром иностранных дел Рачинским и другими происходит обмен депешами. Вот Рачинский информирует Кота:
«Американский представитель Гарриман 12 ноября выдвинул перед Сталиным проект, чтобы всю польскую армию вывести из пределов Советского Союза для ее вооружения и экипировки, а затем в определенное время вернуть ее в Советский Союз. На это Сталин ответил отрицательно, подчеркивая, что господин Кот в разговоре с ним не затрагивал вопроса вывода польского войска в какое-нибудь другое место...»
Как понимал весь этот вопрос Кот и как это совпадало с линией Андерса, увидим дальше. 30 ноября, то есть в день прилета Сикорского в Советский Союз посол Кот пишет Рачинскому:
«..Добиваясь согласия Сталина на определение всех поляков в армию, а также пользуясь его признанием, что он не может снабдить всех продовольствием, я подготовил для предложения район, куда можно ее перевести. Но этот вопрос, по мнению и Криппса, и Макфарлана, весьма оскорбителен для России и небезопасен. Под нажимом же других государств русские согласятся на вывод армии...»
В такое-то время, когда всюду царила атмосфера подобных интриг и конфликтов, приезжает наконец в Кремль долгожданный верховный главнокомандующий и премьер Сикорский.
Сикорский в Кремле
В морозный, сухой полдень 30 ноября 1941 года мы поехали на аэродром в Куйбышев, куда должен был прилететь Сикорский. На аэродром, украшенный польскими и советскими государственными флагами, прибыли дипломаты всех иностранных государств, аккредитованные при правительстве Советского Союза. От имени Советского правительства Сикорского приехал встречать Вышинский, были здесь также командующий Приволжским военным округом и ряд других высших чинов и представителей Красной Армии. Около семнадцати часов (по московскому времени) над аэродромом появился самолет, эскортируемый советскими истребителями. Сделав над аэродромом круг, самолет совершил посадку.
К самолету подошли Вышинский и посол Кот. Через минуту из самолета вышел Сикорский. Военный оркестр Куйбышевского гарнизона исполнил польский и советский государственные гимны, после чего Сикорский начал здороваться со всеми. Затем Сикорский принял рапорт почетного караула в составе роты из офицерской школы Красной Армии. После парадной процедуры мы перешли в приемный зал на аэровокзале, замечательно украшенный, где находился буфет, в котором были обильно представлены различного рода холодные закуски. Сикорский сделал мне знак рукой, чтобы я подошел к нему (на все время своего пребывания в Советском Союзе он определил меня к себе в качестве своего офицера для поручений). Между Сикорским и Вышинским завязался разговор, я выполнял роль переводчика. После нескольких слов вежливости Сикорский перешел к планам, ради которых он приехал и целью которых было укрепление и углубление польско-советской дружбы, зародившейся в совместной борьбе с врагом. Вышинский был очень рад приезду Сикорского и искренне выражал свое удовлетворение, особенно в связи с предстоящей встречей между Сикорским и Сталиным, где будут урегулированы все важнейшие вопросы. Беседа была очень искренней, деловой, оживленной и проходила в самой доброжелательной атмосфере.
С аэродрома Сикорский в сопровождении посла Кота направился в Куйбышев. В следующем за ним автомобиле ехал Вышинский, затем Андерс, с которым ехал я. Далее длинным кортежем следовало около сорока лимузинов. Это были автомобили гостей, приветствовавших Сикорского и возвращающихся в город. Вдоль всей трассы, протянувшейся на шестнадцать километров, через каждые несколько сот метров стоял милиционер, регулировавший движение.
Сикорский остановился у здания польского посольства, а гости разъехались в свои резиденции.
В этот же вечер в двадцать один час в зале посольства состоялся ужин. Зал был специально украшен коврами, гобеленами и портретами. Столы установлены подковой. На ужине присутствовало около пятидесяти человек.
Сикорского сопровождали генерал Климецкий, подполковник Протасевич, поручик Тышкевич, доктор Реттингер и английский офицер связи майор Газалет. Со стороны посольства присутствовали — посол Кот, министр Сокольницкий, советник Табачиньский, советники Струмило, Арлет, Мнишек, Ксаверий Прушинский и другие. Были Андерс, Богуш, Воликовский, подполковник Бортновский. с двумя офицерами атташе и я.
Во время ужина несколько ораторов, назначенных послом Котом, произносили приветственные речи в честь Сикорского. Заверяли его как вождя в своей верности и лояльности. Их громкие и смешные по своей претенциозности слова, совершенно не соответствовали знаменательному событию, каким, несомненно, являлся приезд Сикорского, и вконец испортили ему настроение. Этим днем Сикорский остался недоволен и обратил внимание посла Кота на недоступность глупых и не к месту льстивых речей и тостов. Выступавшие, лица, никого и ничего не представляющие, говорили от имени целых районов, а также городов, от имени Вильно, Львова и т. п. Вся нереальность и театральность этих речей бросалась в глаза.
В этот день Сикорский ни с кем не разговаривал. После ужина ушел в свои комнаты на отдых.
На следующий день Сикорский нанес визит председателю Президиума Верховного Совета СССР — М. И. Калинину. Визит продолжался несколько минут. Затем все сфотографировались: М. И. Калинин, А. Я. Вышинский, заведующий протокольным отделом нарком иностранных дел Ф. Ф. Молочков, Н. В. Новиков, будущий советский посол в Вашингтоне, Сикорский, Кот, Андерс, советник Мнишек и я.
В свободное время Сикорский имел две-три беседы с Андерсом, которыми, на мой взгляд, он не был доволен. Противоречия между ними углублялись. Сикорский не соглашался с даваемой Андерсом оценкой сил Советского Союза в ведении войны и с мнением о Красной Армии. Он не разделял его политических воззрений.
Их разговоры протекали в раздражительном тоне и были неприятны для обоих. Во время одного из них Сикорский сказал: «Здесь из Вас делают моего соперника». Затем обратил внимание Андерса на необходимость более тесного сотрудничества с послом Котом, несмотря на то, что тот на него не жаловался, а наоборот, очень хвалил.
Сикорский несколько раз подчеркивал, что он лично верит в договор, что его необходимо безусловно поддерживать и выполнять, поскольку нет оснований сомневаться в лояльности Советского правительства. Андерс старался убедить Сикорского в том, что советским органам нельзя доверять и стремился навязать свои планы. Сикорский отклонил их.
Сикорский решительно отверг замысел о переводе польской армии на Ближний Восток, в то же время согласился с предложением о передислокации ее на юг, так как там будут лучшие условия для ее снабжения из английских источников. Это было немного, однако кое-что все же было, что приближалось к планам Андерса и в конечном итоге позволяло надеяться на возможность пробиться в Иран или в Афганистан, о чем втихомолку говорилось в высших военных кругах.
Рано утром 2 декабря 1941 г. мы вылетели из Куйбышева в Москву. В полете нас охраняли советские истребители.
Было около пятнадцати часов, когда мы преземлились на центральном аэродроме в Москве. Аэродром переливался красками национальных польских и советских флагов. Сикорского приветствовали Молотов, командующий войсками Московского гарнизона, генерал Аполлонов, заместитель начальника Генерального Штаба Красной Армии генерал Памфилов, генерал Жуков, а также ряд других высших военных чинов и сотрудников Министерства иностранных дел. Встреча Сикорского носила такой же торжественный характер, как и в Куйбышеве. Сикорский принял рапорт начальника почетного караула, оркестр исполнил гимны обоих государств, затем почетный караул прошел церемониальным маршем, после чего Сикорский со всей свитой отбыл в гостиницу «Москва».
В гостинице «Москва» для премьера и сопровождающих его лиц отвели целое крыло на седьмом этаже. Сикорский разместился в красивом апартаменте, состоящем из кабинета, салона и спальни. Такие же двухкомнатные номера были отведены послу Коту и Андерсу. Остальные занимали по одной комнате. Каждый из гостей получил в личное распоряжение автомобиль, постоянно ожидавший внизу около гостиницы. Завтраки, обеды и ужины нам подавали в специальном зале на нашем этаже всем вместе. Почти ежедневно нашими гостями на обедах были Новиков и Молочков.
3 декабря вечером между Сикорским и Сталиным состоялась встреча, в которой приняли участие посол Кот, Андерс, Молотов, переводчик и частично Памфилов.
В начале беседы Сикорский выразил удовлетворение тем, что может приветствовать Сталина, высказал восхищение боеспособностью Советской Армии, которая отражает удары четырех пятых всех немецких сил, а также подчеркнул результативность и совершенство обороны Москвы, руководимой лично Сталиным, не покинувшим города, несмотря на то, что фронт находился почти в предместьях столицы.
Затем он обратил внимание на то, что никогда не вел против Советского Союза враждебной политики, подчеркнул, что понимая тяжелое положение Советского Союза и желая оказать ему помощь, еще несколько месяцев назад он представил Лондону и Вашингтону памятную записку, в которой обосновывал необходимость создания второго фронта. Вместе с тем он обратил внимание на необходимость полной и лояльной реализации советско-польского договора, заметив, что от этого многое зависит в жизни наших народов.
Совещание продолжалось около двух часов. На нем не только были решены текущие военные вопросы и вопросы общественной опеки, но и обсуждались общие вопросы польско-советских отношений, тесного сотрудничества во время войны, договора и польско-советских взаимоотношений после войны.
Было заключено соглашение о выделении Советским Союзом польскому правительству на общественную опеку сто миллионов рублей. Договорились о районах отправки польских граждан для облегчения им бытовых условий. Ими должны были стать: район Ташкента, Алма-Аты и весь южный Казахстан.
Затем приступили к обсуждению вопросов сугубо военных, начиная с формирования польской армии на территории СССР.
Говоря о военных делах, Сикорский заявил: «Мы поляки, понимаем войну не символически, а как действительную борьбу», Андерс добавил: «Мы хотим воевать за независимость Польши здесь, на континенте».
Сикорский выдвинул предложение об отправке из Советского Союза около двадцати пяти тысяч человек для пополнения частей как на Ближнем Востоке (Карпатская дивизия), так и на территории Англии. Это предложение было принято. Затем Сикорский предложил сформировать на территории Советского Союза семь дивизий. Было согласовано, что будет создано шесть пехотных дивизий и армейские части в составе тридцати тысяч человек. Таким образом на территории Советского Союза должна быть сформирована польская армия численностью в девяносто шесть тысяч человек. При этом Сикорский заметил, что можно было бы перебросить сюда и те части, которые находятся за пределами СССР, например бригаду генерала Копаньского, и даже части, находящиеся в Шотландии, и что он сам лично принял бы на себя командование всеми соединениями.
Несмотря на то, что по мнению Сикорского визит прошел успешно, все же не обошлось без неприятности, вызванной выступлением Андерса, вынашивавшего план вывода польской армии из пределов СССР.
Говоря о существующем положении польской армии в Советском Союзе, Андерс изображал его в самых мрачных тонах. Он особо подчеркнул, что при таком положении армия никогда не получит нужных знаний и навыков и никогда не будет готова к боям. Продолжая развивать свои тезисы, Андерс говорил: «Это лишь жалкое прозябание, при котором все человеческие усилия направлены на то, лишь бы жить, притом жить очень плохо. Речь идет о том, чтобы польская армия как можно быстрее могла сражаться за Польшу вместе с союзниками. Необходимо переместить армию туда, где условия климатические, питания и снабжения позволили бы обеспечить лучшую подготовку. В связи с трудностями, переживаемыми в настоящее время Советским Союзом, следует обеспечить возможность для Войска Польского удобных поставок с англо-американской стороны. Наиболее подходящей территорией является Иран. Все солдаты и все мужчины, годные к военной службе, должны находиться там...»
Под влиянием этих аргументов и учитывая описания Андерсом «страшные условия, в которых находится армия», Сикорский — не зная комбинаций Андерса и его планов о выводе польских войск из Советского Союза — поддержал его и предложил Сталину, чтобы в связи с существующими трудностями, продовольственными, климатическими и в области вооружения, на время обучения перевести армию в Иран, с возвратом в Советский Союз, после ее укрепления.
На это Сталин раздраженным тоном, с явным неудовольствием ответил: «Я человек достаточно опытный и старый. Я знаю, что если вы уйдете в Иран, то сюда уже не вернетесь. Я вижу, что у Англии там много работы, и она нуждается в польских солдатах. Иран находится не так далеко, но англичане могут вас вынудить сражаться с Германией на территории Турции, а завтра может выступить Япония».
Андерс продолжал настаивать на своем, стараясь доказать необходимость вывода армии. Еще раз изобразив в нужном ему свете условия, в которых формируются части в Колтубанке, Татищеве и Тоцком, он утверждал, что это лишь жалкое существование и потерянные месяцы. В таких условиях создать армию нереально.
Сталин ответил, если поляки не хотят сражаться, пусть уходят. (Позже Андерс использовал именно эти слова Сталина.) По опыту известно, — подчеркнул Сталин, — армия остается там, где формируется.
Дискуссия по этому вопросу продолжалась в довольно резкой форме. Сикорский попросил Сталина внести встречное предложение, заострив внимание на том, что польская армия хочет сражаться за Польшу рядом с советской.
В своем ответе Сталин сказал, если Войско Польское уйдет, оно будет воевать там, где ему предложат англичане, возможно, даже в Сингапуре. Андерс замечает, что из Советского Союза до Польши ближе.
В конце концов, Сталин дал согласие на вывод одного корпуса (двух-трех дивизий), при этом добавил, что, видимо, англичане нуждаются в польских солдатах. Советское правительство получило от Гарримана и Черчилля предложение об эвакуации польской армии...
После довольно длительной дискуссии пришли к соглашению: польская армия формируется в Советском Союзе и в самом срочном порядке создается смешанная комиссия Для определения новых районов, в которых будет продолжаться организация частей. Снаряжение и вооружение армия должна получить от англичан. Сикорский заверил, что имеет на это их согласие.
Решили, что Сикорский произведет смотр частей, и после этого закончит переговоры со Сталиным.
Таким образом, в переговорах со Сталиным были достигнуты соглашения по военным вопросам.
Состав польской армии в СССР установлен в шесть дивизий, по одиннадцати тысяч в каждой, а также тридцать тысяч в армейских частях, в резерве и на учебных базах. Армия должна быть переведена на юг, вооружена и экипирована англичанами.
В Англию и на Ближний Восток должно быть отправлено для пополнения авиации, морского флота, польских частей в Шотландии и Карпатской бригады двадцать пять тысяч человек. Соглашение предусматривало что «польские вооруженные силы будут сражаться в составе Красной Армии как автономная армия под верховным советским командованием». Сикорский считал это краеугольным камнем целостности польско-советских отношений.
Это соглашение очень много значило для поляков, на его основе действительно можно было строить будущее. Контроль за его выполнением возлагался на профессора Кота, посла Речи Посполитой в Советском Союзе, и на Андерса, командующего польскими вооруженными силами в СССР.
В этот же день, через несколько часов после подписания соглашения, в гостинице «Москва» состоялось совещание верховного командования польских вооруженных сил в СССР с представителями Генерального штаба Красной Армии по чисто военным вопросам. Протокол этого совещания вел я. В совещании принимали участие с польской стороны: Андерс, Богуш, Окулицкий и я. С советской стороны: Памфилов, Жуков, Евстигнеев и Сосинский. Главной темой обсуждения был вопрос о передислоцировании польской армии и выбор новых районов на юге для ее размещения. Андерс намечал новые места для польских частей только по карте, не имея ни малейшего представления о местности. Он выбирал места, расположенные поближе к иранской или афганской границам.
Он не обращал внимания на предупреждения представителей Генерального штаба Красной Армии о том, что в этих районах нет лагерей, нет мест для расквартирования, там тропический климат, распространена малярия и т. п., что в тех условиях будет хуже, чем сейчас. Не помогли предостережения о том, что в первый год войны между Германией и Советским Союзом из-за большого передвижения войск железнодорожный транспорт очень перегружен, это в значительной степени затруднит переезд гражданских лиц и создаст ряд ненужных осложнений, особенно в условиях холодной зимы.
Андерс ни о чем и слышать не хотел, отвечая, что большого движения гражданских лиц не будет, потому что на юге создались значительные скопления польских граждан, которые, прослышав, что будут формироваться новые польские части, стихийно туда направлялись.
В связи с такой позицией Андерса представители штаба Красной Армии, выполнявшие в данном случае лишь рекомендательные функции, поскольку совещанием в Кремле было решено о переводе армии на юг, приняли все предложения Андерса касательно новой дислокации войск и перевозки уже созданных соединений — 5 и 6 дивизий, запасного полка и штаба из Бузулука.
В заключение были определены следующие места размещения в новых районах:
Командование польских вооруженных сил в Янги-Юль около Ташкента;
5 пехотная дивизия — Джалал-Абад;
6 пехотная дивизия — Шахрисябз;
7 пехотная дивизия — Кермине;
8 пехотная дивизия — Чок-Пак;
9 пехотная дивизия — Маргелан;
10 Пехотная дивизия — Луговой; Организационный центр армии — Гузар
Центр подготовки (школа подхорунжих) — Вревский
Танковая бригада армии — Карабалы.
Одновременно были назначены командиры дивизий, к которым прикомандировали офицеров связи Красной Армии. Командирами дивизий стали:
Командиром 7 дивизии — Богуш;
Командиром 8 дивизии — Раковский;
Командиром 9 дивизии — Шмит;
Командиром 10 дивизии — Болеславич;
Командиром запасного полка — Леон Коц;
Комендантом центра подготовки — Сулик.
Начальник штаба Окулицкий должен был скомплектовать для командиров дивизий основу их штабов, чтобы они могли быстрее выехать к месту своего расположения.
На этом же совещании определили количество, состав и место деятельности новых призывных комиссий.
Полной мобилизацией на первом этапе были охвачены следующие республики: Казахская, Узбекская, Киргизская и Таджикская, а также районы, в которых формировались воинские части.
Насколько переговоры Сикорского со Сталиным в Кремле сглаживали определенные трения, устраняли недоговоренность и создавали гарантию нового, выгодного для Польши уклада польско-советских отношений, настолько же это совещание принесло прямо-таки обратный результат. Хотя об этом не говорилось, но было ясно, для чего польские войска должны находиться так далеко на юге. Было очень неприятно, что посол Кот не проинформировал обстоятельно об этих делах Сикорского, хотя сам хорошо о них знал. 10 декабря он писал министру иностранных дел Рачинскому:
«...Тормозила развитие армии и усиливала подозрительность к полякам невероятная болтливость многих, особенно офицеров, которые широко и шумно призывали разделаться с Советами, а некоторые, особенно на азиатском юге, высказывались за сотрудничество даже с бунтующими туркменами и казахами, а также предлагали силой пробиться через иранскую границу...»
«...У руководящих деятелей, продолжающих относиться к Англии с полным недоверием, было глубокое убеждение, что поляки политически не самостоятельны, а являются орудием английской политики и игры...»
На следующий день, 4 декабря, я принимал участие в банкете, устроенным Сталиным в честь Сикорского.
В 19.40 мы все сели в автомобили и поехали в Кремль. Там нас уже ожидали. Перед нами беззвучно открылись ворота, никто нас не останавливал. Никто ни о чем не спрашивал. Сопровождающий нас автомобиль подъехал к зданию, у которого мы остановились. Мы вошли в ярко освещенный холл. Нас охватила волна приятного тепла мы сняли шубы.
Нас приветствовал какой-то генерал, показал зал заседаний Верховного Совета, проводил в зал для приемов. Через минуту мы вошли в большой салон, где присутствовало все правительство Советского Союза.
После церемонии представления открылись двери соседней комнаты и из нее вышел Сталин в сопровождении Маленкова. Сталин одет был скромно, в куртку военного покроя, пепельного, немного отдающего бронзой цвета. Брюки были заправлены в русские сапоги. Маленков был одет точно также.
После приветствия Сталин отошел на несколько шагов в сторону и достал папиросу. Я подошел к нему, чтобы предложить спички. Между нами завязался разговор. Вскоре к нам подошел Сикорский, и я опять превратился в переводчика. Сикорский поблагодарил Сталина за теплый прием, оказанный ему в Советском Союзе. Сталин ответил, что всегда рад видеть у себя такого дорогого гостя.
В ходе дальнейшей беседы Сикорский затронул вопрос о границе, о Вильно и Львове, на что Сталин ответил, что этот вопрос нужно будет решить на мирной конференции, но тут же подчеркнул, что Вильно город литовский, а Львов украинский.
В то же время добавил, что мы получили компенсацию на Западе, что он хочет видеть Польшу великой и сильной. Сикорский нахмурился и уклонился от дальнейшей дискуссии на эту щекотливую тему, сказав, что он к ней еще вернется.
Вскоре к нам подошел Андерс, и разговор принял общий характер.
Через несколько минут пригласили к столу. Обеденный зал находился рядом. Когда мы вошли, меня поразил вид огромного стола замечательно украшенного, ломившегося под тяжестью красивой сервировки всевозможных яств и всяческих сортов вин. Стол протянулся почти через весь зал.
Сталин занял за столом главное место, справа от него сел Сикорский, слева посол Кот. На мою долю пришлось шестое место. Моим соседом с правой стороны был нарком Микоян, а с левой адмирал Кузнецов, главнокомандующий военно-морским флотом, который, кажется, хотел влить в меня море водки. Напротив меня занял место внушительной внешности нарком Каганович, а рядом с ним глава Ленинградской партийной организации Жданов и какой-то генерал авиации, мне не знакомый. На противоположном конце стола я увидел улыбающееся лицо Ксаверия Прушинского, который вел оживленный разговор со своими соседями, что-то живо объясняя Василевскому.
Находясь в Кремле, я испытывал странное чувство. Я видел, какое спокойствие выражали лица членов Советского правительства, хотя враг находился в каких-нибудь двадцати семи километрах от столицы. За Москву беспрерывно велись ожесточенные бои. Немцы почти у ее предместий, они ежедневно предпринимали яростные атаки на столицу, а в это время все правительство во главе с Верховным главнокомандующим Сталиным самым спокойным образом, как будто вокруг тишина и спокойствие, совещается и принимает гостей.
Обороной Москвы руководил непосредственно генерал Г. К. Жуков, и все вполне убежденно считали, что Москва, не падет, что ее не отдадут. Лишь один Андерс предрекал, что Москва вот-вот падет.
Напрашивалось сравнение с аналогичным периодом, пережитым нами два года назад, когда немцы подходили к Варшаве. Я вспоминал, как тогда вели себя наше правительство и наш «верховный главнокомандующий.
Эти и подобные им мысли приходили мне в голову, когда я сидел за столом и слушал речи. Крикливые, чванливые и надменные они были известны мне все наизусть. Произносились при любом случае, по любому поводу, всегда одни и те же. Из наших выступлений создавалось впечатление, что воюет не Советский Союз, а мы, и что это мы оказываем ему помощь. Каким же контрастом звучали речи Молотова и Сталина, который после короткого обращения по поводу торжества рассказал эпизод из своей жизни в Кракове, когда он там находился.
Из охватившего меня раздумья я был выведен упоминанием моей фамилии. Это Молотов, обращаясь ко мне сказал: «Поднимаю тост за молодых офицеров в лице их представителя ротмистра Климковского с наилучшими пожеланиями для новой будущей Польши...»
Я принял этот тост молчаливо, чокаясь с Сталиным и Молотовым, которые встали со своих мест и приблизились ко мне.
Сталин напомнил, что со времени Грюнвальдской битвы поляки совместно с русскими не сражались и что сейчас он хочет борьбу вести сообща.
Обед длился около двух часов, после чего перешли в расположенный рядом салон, куда подали кофе и сладости.
Вот тогда-то в сердечном настроении родилась декларация Сикорский — Сталин. После обмена мнениями и согласования ее содержания, Молотов подготовил документ в своем кабинете при активном участии Ксаверия Прушинского. Когда декларация была готова, я перевел ее Сикорскому. После согласования текста на обоих языках наступила церемония подписания Сикорским от имени Польского правительства, а Сталиным от имени Советского правительства.
Содержание декларации:
Декларация
Правительства Советского Союза и Правительства Польской Республики о Дружбе и Взаимной помощи
Правительство Советского Союза и Правительство Польской Республики, исполненные духом дружеского согласия и боевого сотрудничества заявляют:
1. Немецко-гитлеровский империализм является злейшим врагом человечества, с ним невозможен никакой компромисс.
Оба государства, совместно с Великобританией и другими Союзниками при поддержке Соединенных Штатов будут вести войну до полной победы и окончательного уничтожения немецких захватчиков.
2. Осуществляя договор, заключенный 30 июля 1941 года, оба правительства окажут друг другу во время войны полную военную помощь, а войска Польской Республики, расположенные на территории Советского Союза, будут вести войну с немецкими разбойниками рука об руку с советскими войсками.
В мирное время основой их взаимоотношений будут доброе сотрудничество, дружба и обоюдное честное выполнение принятых на себя обязательств.
3. После победоносной войны и соответственного наказания гитлеровских преступников задачей Союзных Государств будет обеспечение прочного и справедливого мира. Это может быть достигнуто только новой организацией международных отношений, основанной на объединении демократических стран в прочный союз. При создании такой организации решающим моментом должно быть уважение к международному праву, поддержанному коллективной вооруженной силой всех Союзных Государств. Только при этом условии может быть восстановлена Европа, разрушенная германскими варварами, и может быть создана гарантия, что катастрофа, вызванная гитлеровцами, никогда не повторится.
По уполномочию Правительства Советского Союза
И. Сталин За правительство Польской Республики Вл. СикорскийПосле подписания декларации все перешли в небольшой зал заседаний, где на экране мы увидели последние фронтовые вести.
Во время банкета было решено, что в поездке Сикорского по Советскому Союзу и посещения им военных лагерей его будут сопровождать Вышинский и генерал Памфилов.
На этом закончился торжественный прием в Кремле.
В этом радужном, приподнятом настроении, с ясными мыслями и надеждами на будущее мы прощались после пятичасового пребывания в Кремле.
На следующий день, 5 декабря 1941 года, мы вылетели из Москвы в Куйбышев. Сикорский немного простудился и несколько дней пролежал в постели. В течение этого времени почти никого, кроме меня, он не принимал. Поэтому я мог довольно часто и свободно с ним разговаривать и узнать о его планах. Сикорский как всегда, держался свободно, не стеснялся в своих суждениях и довольно охотно разговаривал. Через некоторое время стал чувствовать себя лучше и 10 декабря вечером специальным поездом выехал в Бузулук. Андерс вместе со мной днем раньше прилетел самолетом в Бузулук, чтобы вместе как следует подготовиться к встрече Верховного главнокомандующего.
11 декабря рано утром поезд с Сикорским прибыл на станцию Бузулук. Здесь его ожидали Андерс, офицеры штаба, эскадрон почетного караула и гражданское население. После приветствия и рапорта командира эскадрона караула ротмистра Флерковского, почетный караул прошел церемониальным маршем.
В Бузулуке Сикорский остановился как гость Андерса на его квартире. Жили мы втроем. Андерс свою спальню уступил Сикорскому, я свою — Андерсу, а сам перебрался в кабинет Андерса. Таким образом, я находился в комнате по соседству с комнатой Сикорского, чтобы всегда быть готовым к его вызову.
Профессор Кот остановился у Окулицкого, а остальные гости — в гостинице.
Полтора дня пребывания Сикорского в Бузулуке прошли в торжествах, показе спектаклей и банкетах. Никаких серьезных бесед, заседаний или совещаний с офицерами не проводилось. Поэтому штабные и другие офицеры не имели возможности ближе познакомиться с Сикорским, с его планами на будущее, взглядами по общим вопросам и намерениями относительно использования польских вооруженных сил.
Буквально через час после прибытия к Андерсу Сикорский направился в штаб, где собрались все офицеры. После нескольких приветственных слов начал обход района расположения гарнизона и гражданского населения.
После полудня состоялось торжественное собрание в штабе армии, закончившееся небольшим представлением. По окончании заседания Сикорский приветствовал собравшихся от имени президента и правительства, прошел в кабинет Андерса в штабе, где подписал приказ о присвоении воинских званий почти ста тридцати офицерам. Среди многих звания получили Ксаверий Прушинский, которого внес в список лично Сикорский, а также Струмпх-Войткевич, лишь незадолго до этого принявший на себя обязанности офицера по просвещению и успевший в знак приветствия Сикорского выпустить первую печатную газету «Белый орел».
Вечером того же дня в большом зале штаба армии состоялся банкет. На нем, кроме офицеров штаба, присутствовали гости, которые или постоянно сопровождали Сикорского, или были приглашены в связи с его приездом.
Здесь произошло первое серьезное столкновение между двумя генералами — Андерсом и Сикорским. Андерс, как хозяин, в начале банкета в короткой речи поочередно приветствовал Сикорского и гостей Вышинского и Памфилова, американских, английских и чешских в лице полковника Свободы, который в Бузулуке формировал чешский батальон, и других. После каждого такого приветствия оркестр исполнял государственные гимны. Речам не было конца. Выступали Вышинский, полковник Евстигнев, полковник Волковысский, полковник Свобода, майор Газалет, полковник Лямберт и ряд других лиц. Кульминационным был момент, когда Сикорский, страшно разгневанный надменными речами, произнесенными Богушем, Окулицким и повторным выступлением Андерса, во время речи последнего задал вопрос: «Кто вам позволил так выступать? Сколько еще вас будет говорить?» и, не ожидая ответа Андерса, демонстративно покинул зал на середине торжества, попросив меня отвезти его на квартиру.
Сикорский понимал, что эти люди сводят на нет с таким трудом достигнутое им улучшение польско-советских отношений. Поэтому увиденное и услышанное наполняло его огромной тревогой за будущее.
В порыве тревоги он проговорил со мной около часа, возмущаясь деятельностью Андерса:
«Сначала я не хотел назначить его командующим армией в России, так как всегда считал его в некотором роде вертопрахом, говорил Сикорский. Мне хотелось, чтобы командующим был Станислав Галлер, но я нигде не мог его найти, а сроки были очень короткими. Назначил Андерса. Думал, что он, как человек, который имел перед войной в Польше столько неприятностей и постоянных скандалов, оценит это и будет мне честно помогать или по крайней мере будет лояльным, о чем Вы заверяли меня еще в Париже. А теперь разыгрывает эту комедию и для чего?» — Сикорский пренебрежительно махнул рукой. — «Вообще польско-советские отношения доставляют мне много забот. Вначале я хотел послать сюда в качестве посла и одновременно инспектора армии Соснковского. Это очень облегчило бы дело и разрешило ряд наших внутренних проблем. Но что поделаешь — Соснковский не подошел, не понимал стоящих задач, вообще не хотел слышать о каком-либо соглашении с Советским Союзом. Он меня убеждал в том, что Советский Союз будет разбит в течение шести недель. После его выхода из состава правительства уже не могло быть и речи о направлении сюда. Словом, не было никого. Правда, я думал о Строньском как о после, но он еще более не подходил, чем теперешний. Вот почему я и послал профессора Кота. Это, конечно, не очень удачное решение, я это знаю, но мне кажется, что он, по крайней мере как мой друг, должен следить за осуществлением моей линии. Хотя и тут я вижу определенные изъяны, он пленен Андерсом, всегда его оправдывает и защищает.»
Я не знаю, какая дружба объединяла Сикорского с послом Котом, но я уверен в том, что последний никогда не был излишне солидным или лояльным в отношении Сикорского.
— Господин генерал, — спросил я, — подходит ли профессор Кот к реализации политики такого масштаба, как этого требует настоящее время? Понимает ли он ее так, как следует? Судя по тому, что мне удалось наблюдать, мне кажется, что нет.
Генерал внимательно на меня посмотрел и сказал:
— Может быть, Вы и правы, но что делать — у меня нет людей. Нет людей, — повторил он в раздумье. — Этот, по крайней мере, должен быть мне предан.
Мне тогда показалось, что Сикорский находится под полным влиянием профессора Кота. Это преобладающее влияние последнего на Сикорского я многократно наблюдал и позднее.
— Буду вынужден прислать сюда Янушайтиса в качестве вашего опекуна. Назначу его инспектором польской армии в России, пусть следит за деятельностью и поведением командующего армией.
Из этих высказываний явствовало, что Сикорский теряет доверие к Андерсу. Он считал Янушайтиса более солидным, тем более, что оба они имели одинаковое мнение о будущей победе Советского Союза. Рассказывая о Янушайтисе, Сикорский говорил, что «лондонский» климат ему не благоприятствует, он имеет желание приехать сюда, тем более, что хорошо понимает и он будет лучшим, чем оба нынешних представителя. Затем Сикорский стал укладываться спать, а мне предложил вернуться на банкет.
— Завтра поговорю с Андерсом, — сказал он мне на прощание.
Когда я вернулся на банкет, то меня сразу поймал Андерс, спрашивая, что там с Сикорским. Я уклонился от прямого ответа, сказав лишь, что он очень недоволен виденным, и что завтра будет с ним разговаривать. Мне показалось, что Андерс был этим весьма встревожен. Еще несколько раз он пытался заговорить со мной о содержании моего разговора с Сикорским. Возвратившись домой, Андерс хотел в этот же вечер пойти к Сикорскому, но тот уже спал.
На следующий день утром во время первого завтрака Сикорский заявил Андерсу, что пришлет в Советский Союз в качестве инспектора армии генерала дивизии, генерал-лейтенанта Мариана Янушайтиса. При этом сообщении Андерс даже подскочил. Больше всего он боялся именно этого. Он ведь так радовался, когда Янушайтис уехал из Москвы в Лондон, и если теперь он снова приедет — это будет поражением. Поэтому Андерс сразу же стал убеждать, что Янушайтис весьма в армии непопулярен, а последние его высказывания в Англии, о которых уже здесь известно, увеличили число его врагов среди старых офицеров. Сикорский на это ничего не ответил. Воцарилось неловкое, непрерываемое уже до конца завтрака молчание.
После завтрака оба генерала проследовали в кабинет, где довольно долго разговаривали. Через некоторое время Андерс вышел очень красный и взволнованный. Коротко мне сказал:
— С этим Янушайтисом надо что-то придумать, а то в самом деле может приехать. Посол Кот его не любит, поэтому мне поможет. Сегодня устроим званный обед, надо уговорить Сикорского.
А уже через несколько часов начались сборища, разговорчики, шушуканья. Андерс жаловался профессору Коту, что Сикорский его не понимает, и искал у профессора поддержки, а это послу очень льстило и давало удовлетворение. Он мог повлиять на премьера своим хорошим сотрудничеством с Андерсом. Андерс предостерегал посла Кота относительно Янушайтиса, что он будет стремиться захватить власть в свои руки, будет вмешиваться в дела посольства, что никакой он не военный, а лишь политик, и притом плохой, словом, будет вмешиваться в компетенцию посла. Это могло бы устраивать некоторых офицеров, с которыми он, Андерс, и так имеет хлопоты, о чем послу хорошо известно. И наконец, что он может быть угрозой Сикорскому, потому что как будто хотел создавать польское правительство и т. д. и т. п. Он напомнил также о том, как Янушайтис готовил государственный переворот против Пилсудского. Подобные беседы были проведены с Богушем, Климецким, Окулицким и доктором Реттингером, имевшим большое влияние на Сикорского. Все они обещали свою помощь в ликвидации конфликта.
После стольких стараний несколько успокоенный Андерс устроил обед, во время которого он очень льстил Сикорскому и выражал ему свое почтение. Он произнес речь, в которой приветствовал Сикорского, как верховного главнокомандующего и премьера, заверил присутствующих, что теперь Польша как никогда может быть спокойна за свою судьбу, потому что она находится в руках такого опытного политика и государственного деятеля, каким является верховный главнокомандующий. Он заверил Сикорского в своей неизменной поддержке и сотрудничестве. В конце довольно длинной речи поднял тост за здоровье Сикорского с пожеланием ему большого личного счастья и больших успехов в руководстве делами Польши.
Сикорский был приятно удивлен и польщен. Так постепенно таял лед. Продолжая свою инспекцию, Сикорский направился в Тоцкое. Ехали мы туда около часа.
Состояние конфликта между Сикорским и Андерсом было еще неясным. Эту неопределенность понимал и использовал как мог Климецкий. Он старался, так это выглядело внешне, смягчить недоразумение между обоими генералами. Когда почва была в основном подготовлена, он с помощью телеграммы, направленной якобы генералом Андерсом на имя генерала Сикорского, окончательно ликвидировал между ними внешний конфликт. Дело обстояло таким образом. Мы сидели в столовой вагон-салона, когда Климецкий обратил внимание Андерса на огромные трудности, испытываемые Сикорским в Лондоне с оппозицией, особенно с такими политическими противниками, как Соснковский и бывший министр Август Залесский. Сказал о том, что Сикорский очень рассчитывал на помощь Андерса. Между тем, по вине Андерса у Сикорского могут возникнуть дополнительные хлопоты. Вместо того, чтобы помогать и быть благодарным Сикорскому за свое назначение. Андерс не только не помогает верховному главнокомандующему, а затрудняет его деятельность как в Лондоне, так и здесь. Климецкий сказал, что Андерс может оказать огромную услугу Сикорскому и укрепить собственную позицию в военном и политическом отношении. Это заявление Климецкого вызвало у Андерса самодовольную улыбку. Опасаясь приезда Янушайтиса и ущемления собственной власти, он спросил Климецкого: «Но каким образом?».
На что Климецкий ответил: — «Направьте телеграмму в Лондон на имя Сикорского», — и подал Андерсу исписанный листок бумаги.
Андерс взглянул на записку, усмехнулся и с удивлением спросил «Но ведь Сикорский находится здесь, зачем же мне телеграфировать ему в Лондон?»
— Это не может быть препятствием, — ответил Климецкий. — Мы ее вручим Сикорскому здесь.
Тогда Андерс взял бумажку из рук Климецкого, поправил в двух-трех местах набросанный проект, посмотрел на меня, на Богуша, который, казалось, все понимал и дал одобрительный знак рукой, чтобы Андерс подписал. Андерс, продолжая улыбаться, сказал:
— Согласен.
Я не знал содержания телеграммы, поэтому подошел ближе к столу и, находясь за спиной Андерса, прочитал следующие слова:
«...Вся польская общественность, армия и я считаем Соснковского и бывшего министра Августа Залесского предателями польских интересов, учитывая их нечестное и весьма негражданское поведение в вопросе июльского договора...»
Для меня все стало ясным. Андерс прохаживаясь удовлетворенно потирал руки.
Климецкий взял подписанный текст и направился с ним в соседнее купе к Сикорскому, чтобы вручить ему эту «телеграмму». Богуш высказывал Андерсу свое одобрение:
— Ну уж теперь, Владек, со стороны Сикорского тебе нечего опасаться, — говорил он.
Через минуту вошел Сикорский вместе с Климецким. Верховный главнокомандующий, обрадованный, с протянутой рукой подошел к Андерсу со словами: «Так Вы действительно такого мнения? Это замечательно, большое спасибо. Мы сейчас пошлем это в Лондон с указанием, чтобы Вашу телеграмму опубликовали в прессе».
Андерс вытаращил глаза: он считал, что содержание телеграммы не будет обнародовано и останется лишь между ним и Сикорским. Он уже открыл рот, пытаясь что-то сказать, но в это время, привлеченные оживленным разговором, в салон вошли посол Кот, Воликовский и Ксаверий Прушинский. Разговор между Андерсом и Сикорским оборвался.
Телеграмма в немного измененной редакции появилась в нашей прессе в Лондоне.
Соснковский, Залесский и Сейда протестовали против польско-советского договора и в знак протеста вышли из состава правительства. Они считали, что подписание какого-либо соглашения с СССР абсолютно не нужно, больше того, трактовали его как предательство польских интересов. Правда, Сейда под личным нажимом Сикорского вернулся в правительство, но остальные двое даже слышать об этом не хотели, утверждая, что пока договор вступит в силу, Советского Союза уже не будет. Соснковский, второй после Андерса «знаток» Советского Союза, предрекал падение СССР в течение ближайших нескольких недель.
Во всяком случае этой «телеграммой» Андерс, абсолютно ни в чем не меняя своих убеждений и поступков, обеспечил себе в дальнейшем полное самоуправство в Советском Союзе и возможность осуществления своих планов. Телеграмма позволила вопреки замыслам и намерениям Сикорского, парализовать официальную польскую политику.
Вот как в конечном счете был ликвидирован один из первых крупных конфликтов, возникших между верховным главнокомандующим, премьером и командующим польскими вооруженными силами в СССР.
Все дальнейшее пребывание Сикорского в Советском Союзе прошло в полном мире и согласии с Андерсом.
Между тем мы подъезжали к Тоцкому.
На железнодорожной станции, украшенной национальными флагами Польши и союзнических государств, нас уже ожидал генерал Токаржевский в окружении высших офицеров. Присутствовало также немного гражданского населения и рота почетного караула, одетая в новенькое, только что полученное английское обмундирование.
С вокзала Сикорский на санях поехал в штаб дивизии, где состоялось торжественное вручение Сикорскому, президенту Речи Посполитой, рынграфов с изображением божьей матери.
Затем Сикорский проехал на площадь, где обратился с речью к солдатам, а затем принял парад. После парада начал обход солдатских жилищ, обращая особое внимание на палатки, приспособленные солдатами к зимним условиям. Угощал их папиросами, расспрашивал, как себя чувствуют.
В дивизионной часовне ксендз Тышкевич провел богослужение. После этого все пошли в офицерскую столовую на общий обед. Здесь опять было много речей. Начал их Токаржевский приветствием верховного главнокомандующего. В своем выступлении он выражал огромную любовь к Сикорскому и заверения в своей лояльности. Токаржевский говорил:
«...с чувством почитания и солдатской привязанностью мы смотрим сегодня в твои глаза, глазами души постоянно видим тебя в нашем кругу и во главе нас... В твоем лице, господин генерал, мы приветствуем величие Речи Посполитой, ее президента и правительство, премьером которого ты являешься, приветствуем силу польского народа, который под твоим руководством вот уже более двух лет с достоинством и честью несет тяжесть навязанной нам войны. Мы приветствуем наших союзников, рядом с которыми ты приказал нам сражаться против общего врага, плечом к плечу, верно и предано... Мы просим тебя, господин генерал, поверить нам так же, как мы верим тебе. Мы надеемся что когда в самом ближайшем будущем не на словах, а на деле сумеем убедить Польшу и тебя в своей безграничной преданности, ты полюбишь нас так же, как мы любим тебя...»
Эта слащавая речь в устах Токаржевского выглядела, по меньшей мере, странно. Но мы уже привыкли не удивляться подобного рода словам, словам, за которыми не стояло никаких дел.
Сикорский выступил с ответным словом. От Советского Союза речь произнес Вышинский. Затем выступил посол Кот, подчеркнувший драматизм происходящих в Польше событий и особенности борьбы польского народа. В заключение с речью выступил Раковский, только что получивший генеральское звание. Свое выступление он целиком посвятил союзникам, выражая благодарность за помощь и подчеркивая нашу огромную признательность и лояльность.
После банкета мы направились в Саратов, а оттуда в Татищево в 5-ю дивизию.
В Татищеве на вокзале все выглядело так же, как в Тоцком. Встречал генерал Борута-Спехович, рота почетного караула и гражданское население. Только не было английских мундиров. Рота почетного караула была одета в разных шинелях, чистых и хорошо подобранных по цвету, и в больших меховых шапках.
5-я пехотная дивизия произвела самое лучшее впечатление. Ее командир умел показать свои части. Дивизия в полном штатном составе, вооруженная, выглядела замечательно. Генерал Борута отдавал рапорт, сидя на коне.
Сикорский произвел смотр дивизии. Солдаты долго ожидали прибытия верховного главнокомандующего, а дождавшись, хотели предстать как можно лучше. После парада верховный главнокомандующий поднялся на трибуну и обратился к солдатам с речью. Борута вновь поблагодарил Сикорского за то, что они снова стали солдатами и смогут сражаться за Польшу.
Речь Сикорского на этот раз была довольно длинной. Он говорил о политике и об армии, о препятствиях, какие встречал при заключении договора, противниках договора, об ошибках, совершенных в прошлом, и о создании именно той армии, в которой они состоят. После выступлений состоялся парад. Парад действительно полноценных воинских соединений готовых к боям солдат. После всех поразившего парад верховный главнокомандующий начал обходить район расположения частей. Здесь это продолжалось несколько дольше, чем в Тоцком. Было что посмотреть. Сикорский входил в землянки, в которых солдаты подготовили себе зимние квартиры. Он восхищался аккуратностью, с какой все было сделано, чистотой и порядком. Посетил палатки, госпиталь, всюду беседовал с солдатами, которые его постоянно окружали. После обхода района расположения, произведшего необычайно благоприятное впечатление своим видом и атмосферой, перешли в светлицу, превращенную в обеденный зал.
После обеда переместились в другую светлицу, где состоялся торжественный вечер. В его программу входили песни, чтение стихов, музыка. По окончании торжеств Сикорский уехал в Саратов, куда он был приглашен местными советскими властями на праздничный спектакль и званый обед. Но он так устал, что сразу после спектакля уехал отдыхать.
На следующий день рано утром прибыли на аэродром в Саратове. Верховный главнокомандующий направился в Иран, в Москву он уже не возвращался. Провожал его Андерс и я.
Сикорский был удовлетворен проведенными инспекциями воинских частей в Тоцком и Татищеве. Войска действительно выглядели отлично. Сикорского всюду с энтузиазмом приветствовали. Наибольшее впечатление произвела на него 5-я дивизия. Верховный главнокомандующий был рад увиденному, забывая о заботах и сомнениях, угнетавших его в первые дни пребывания в Советском Союзе.
Когда я смотрел на Сикорского, у меня складывалось мнение, что это человек настроения, меняющий вслед за настроением и свои решения. От состояния подавленности и приступов гнева он легко переходил к восторгам и удовлетворенности.
Покидая Советский Союз, Сикорский благодарил посла Кота и Андерса за «замечательные результаты» и желал им успехов на будущее.
Перед отлетом было высказано немало взаимных комплиментов, теплых слов, заверений и различного рода обещаний.
Сначала казалось, что Сикорский, встретившись со злом, вырвет его с корнем. К сожалению, он не только не сделал этого, а еще усилил зло своей снисходительностью.
Еще находясь в Куйбышеве, Сикорский подготовил для Андерса инструкцию. Я не привожу ее полностью, так как она была довольно расплывчатой и не особенно подходила для нашей армии и условий, в которых она оказалась. В инструкции говорилось об очень многих вещах, но о важнейших умалчивалось.
Однако в нескольких пунктах верховный главнокомандующий выделил определенные вопросы, которые его волновали и о которых он беспокоился. Он писал, что польская армия в России является неразрывной частью польских вооруженных сил, ... которые полностью и во всех отношениях подчиняются ему, как верховному главнокомандующему... Дальше он подчеркивал, что она должна... находиться в постоянной духовной и идеологической связи с верховным главнокомандующим и остальными частями Польских вооруженных сил. Затем, затрагивая вопрос о взаимоотношениях, которые должны существовать между посольством и армией, верховный главнокомандующий писал, адресуясь к Андерсу:
«Господин генерал, Вы должны постоянно информировать посла Речи Посполитой о важнейших вопросах армии, чтобы он в случае необходимости мог от имени правительства оказать полную поддержку Вашим мероприятиям».
Затем, переходя к вопросу организации армии, Сикорский указывал:
«...Поскольку вооружение, экипировка и транспортные средства для армии, находящейся в России, за исключением 5-й пехотной дивизии, прибудут из Великобритании, необходимо руководствоваться при организации дивизий и частей армии принципом строгого соответствия английским штатам...»
А в это время, то есть 4 декабря, уже приняли советскую организационную систему.
Эта инструкция никогда не осуществлялась, сразу же была забыта, и никто ею не руководствовался.
Не решив, как следует, всех этих вопросов, Сикорский улетел.
Первая эвакуация
В связи с создавшимся положением напряжение в Бузулуке возрастало с каждым днем и становилось все более нетерпимым.
Решение главных вопросов откладывалось. Комиссии на периферию не выезжали. Основы новых воинских частей еще не были организованы. Только сильно торопили с переводом войск на юг. Штаб разрастался, адъютантура также. Сейчас в адъютантуре работало уже пять человек. Кроме меня, были еще ротмистр Слизень, офицер для поручений (работал всего лишь пару недель), поручик Зигмунт Косткевич, офицер для поручений, вольнонаемная Ганка Романовская и вольнонаемная Станислава Мейер, занимавшиеся главным образом перепиской. Начал работать в адъютантуре также Анджей Строньский, сын министра, знавший Андерса еще с довоенного времени и вместе с ним состоявший в корпорации Аркония.
В это время Андерс, довольный тем, что ему удалось провести план передислокации армии на юг, уверенный, что не допустит использования ее на безнадежном, по его мнению, Восточном фронте, страстно занялся различными сумасбродствами.
В доме генерала два-три раза в неделю под звуки армейского оркестра устраивались веселые развлечения. В этих вечерах постоянно участвовало около двадцати человек. И это происходило в то время, когда за малейшую погрешность людей расстреливали большей частью неизвестно за что. Часто их вина заслуживала самое большее нескольких дней ареста. Расстреливали глдавным образом за так называемые самовольные отлучки, которые подводились под дезертирство в военное время. Польская армия в СССР в основном являлась добровольческой армией. Тем не менее, конечно, тот, кто изъявил желание служить и был направлен в часть, уже не имел права хотя бы на короткое время ее покидать. Но часто случалось так, что солдаты, имевшие в окрестных колхозах свои семьи, уходили к ним на праздники или воскресенья, причем многие из таких колхозов находились примерно в пятнадцати километрах. Затем через день-два возвращались в части. Здесь их задерживали, объявляли дезертирами и решениями «правомочных» и «непогрешимых» судов от имени Речи Посполитой приговаривали к смертной казни через расстрел.
Трудно сказать, было ли это проявлением садизма или упоением никем не контролируемой властью, во всяком случае от подобного рода приговоров погибли сотни людей.
В это же время, примерно в конце декабря 1941 года, советские органы сообщили нам, что к ним явились курьеры из Польши с просьбой о направлении их к Андерсу. Они перешли линию фронта, чтобы установить связь между подпольем в Польше и польской армией в СССР.
Советские органы привезли их с фронта в Москву на Лубянку, а затем попросили, чтобы доверенный офицер Польской армии приехал за ними и забрал их в Бузулук, поскольку это польское внутреннее дело.
Андерс выслал за курьерами в Москву майора Бонкевича, начальника второго отдела, который вскоре вернулся с поручиком Чеславом Шатковским (псевдоним — ротмистр Заремба) и еще тремя офицерами.
В штабе их приняли приветливо, а их руководитель, поручик Шатковский, встретился с Андерсом на квартире, поскольку рабочий день в штабе закончился.
Когда поручик Шатковский, пришедший вместе с майором Бонкевичем, доклад Андерсу, я находился в комнате. Сначала беседа была общей и касалась тем, всех нас интересующих. Поручик Шатковский передал Андерсу письмо от его жены, находившейся в Варшаве, собственноручно ею написанное, в котором говорилось, чтобы муж оказал полное доверие курьеру. Поручик Шатковский заверил генерала, что его жене ничто не угрожает, так как у нее хорошие отношения с немцами и что о ней заботится один из немецких полковников. Я заметил, что это не понравилось генералу. Затем поручик Шатковский подробно рассказывал нам о Польше, как там живется, чем занимаются горожане, интеллигенция, различные слои населения, как переживают оккупацию, что думают.
К сожалению, я не мог присутствовать при всем разговоре. Приближалось время, когда мне нужно было быть в штабе.
Когда через несколько часов я вернулся, генерал уже был один. Взглянув на него, я заметил, что он был странно возбужден и раздражен. Я узнал, что курьер привез из Польши от подпольной организации какую-то инструкцию на пленке, но каково ее содержание — генерал не сказал. Я узнал лишь то, что пленку должны были проявить и расшифровать.
А пока поручик Шатковский получил назначение в личный эскадрон генерала, а остальные прибывшие с ним офицеры — в другие части.
Андерс несколько раз приглашал поручика Шатковского к себе на завтраки и обеды и несколько раз беседовал с ним в штабе.
Между прочим, поручик Шатковский рассказал нам, что маршал Рыдз-Смиглы вернулся в Польшу, принимал участие в работе подполья и что в конце ноября или в начале декабря 1941 года умер от ангины. Похоронен на кладбище Повонзки как учитель, под видом которого он выступал. В левом кармане пиджака его визитная карточка, чтобы в будущем при возможной эксгумации останков можно было распознать похороненного.
С момента приезда поручика Шатковского Андерс все время ходил сам не свой, казалось, он испытывает какую-то тревожную растерянность. Я не знал, в чем дело. Узнал лишь то, что курьера прислала организация, которая намеревалась сотрудничать с немцами и такое же сотрудничество она предлагала Андерсу.
Предложение и способ его осуществления (как мне позже рассказывал майор Бонкевич) содержались на этой пленке. Все это время генерал интересовался не столько привезенными инструкциями, сколько беспокоился по поводу того, знают ли советские органы ее содержание. Ведь курьер находился в их руках около недели и пленка с успехом могла быть прочитанной НКВД — что тогда? Тогда он пропал бы.
Как-то поручик Шатковский в общем разговоре сказал, что видел в Варшаве бывшего премьера Леона Козловского. Это известие начали связывать с недавним выездом Козловского из Бузулука именно в Варшаву и в Берлин. Опять стали говорить о Козловском и Андерсе, тем более, что курьер из Польши рассказывал, что встречался с Козловским в Варшаве. Люди, посвященные в это дело, стали проявлять беспокойство. Андерс узнал об этом. Его реакция имела эффект разорвавшейся бомбы.
Андерс испугался этой истории, в особенности того, что в ней оказалась замешанной его жена. Опасаясь серьезной угрозы для себя, он решил ликвидировать курьера.
Андерс приказал немедленно арестовать Шатковского. Чтобы окончательно пресечь различные слухи, он потребовал суда над Шатковским и вынесением ему смертного приговора.
Шатковский был личностью довольно известной и авторитетной, его арест надо было осуществить без шума, чтобы никто об этом не узнал. Создать впечатление будто он сам куда-то уехал. Стали распространяться слухи, что Шатковский едет в Куйбышев к послу Коту. Он сам просил об этом, и ему сообщили, что он командируется в посольство в Куйбышев.
В день условного отъезда Шатковского в Куйбышев он был приглашен Андерсом для разговора. На прощание Андерс, сердечно пожимая руку поручика, желал ему счастливого пути и быстрейшего возвращения. Шатковский вышел от генерала в приподнятом настроении. В конце беседы генерал сказал, что у штаба ожидает автомобиль с офицером, который отвезет его на вокзал.
Еще до приглашения Шатковского Андерс все обсудил с майором Бонкевичем и поручиком Яворским, офицером второго отдела. Было условлено, когда Шатковский после разговора с генералом выйдет из штаба, Яворский пригласит его в автомобиль и вместо вокзала отвезет прямо в тюрьму и там объявит, что он арестован и в ближайшее время предстанет перед судом.
Все так и произошло.
Шатковский сначала подумал, что это какое-то недоразумение, какая-то шутка не ко времени, ведь он только минуту назад разговаривал с самим Андерсом, и причем так сердечно, а здесь ему сообщают, что он арестован именно по приказу Андерса. Когда его ввели в камеру, он понял, что это не шутка и что он на самом деле арестован. Конечно, об этом никто в штабе, кроме нескольких посвященных, не знал. Все думали, что Шатковский уехал в Куйбышев. Через несколько дней состоялся суд, приговоривший поручика Шатковского к смертной казни через расстрел. Шатковский продолжал не верить и тогда, когда ему прочли приговор.
Судебный приговор Андерс выслал телеграфно на утверждение Сикорскому.
Через несколько дней от Сикорского пришел ответ, что приговор он не утверждает и приказывает вновь пересмотреть дело в суде и все материалы выслать в Лондон.
Андерс не ожидал этого. Вопреки приказу Сикорского он решил все же расстрелять Шатковского. Он предложил скрыть получение телеграммы, предлагавшей приостановить исполнение приговора.
Я знал это дело лишь по отдельным рассказам, материалов не видел. Мне казалось странным, что трое товарищей Шатковского спокойно проходили службу в частях, а судили лишь его одного и приговаривали к расстрелу. Я рассказал майору Кипияни, исполнявшему обязанности шефа юридической службы, и некоторым заинтересованным в этом деле офицерам о содержание телеграммы Сикорского. Предупредил, что в случае приведения приговора в исполнение, они будут лично отвечать перед Сикорским.
Дело получило огласку. Исполнить приговор уже было нельзя. Андерес был взбешен, но нового рассмотрения не назначил. Дело отложили на неопределенный срок, а Шатковского продолжали держать в тюрьме. Это дело потом еще раз разбиралось уже на Ближнем Востоке. В результате усиленных личных настояний Андерса, Шатковский получил десять лет тюремного заключения, после трехлетнего пребывания в тюрьме его освободили.
Как оказалось позже, дело было не простым. Речь шла о созданной в Польше подпольной организации так называемых «мушкетеров», во главе которой стоял инженер Витковский.
Основным идеологическим принципом этой организации было сотрудничество с гитлеровской Германией в целях разгрома Советского Союза. Впрочем, то же самое провозглашал и Леон Козловский, и это полностью совпадало с намерениями Андерса, но лишь с одной оговоркой: Андерс хотел видеть во главе такой организации самого себя. Эта организация после разговора с Леоном Козловским, приехавшим именно с таким убеждением от Андерса, выслала к нему Шатковского с предложением конкретного сотрудничества. В инструкции, привезенной им в Бузулук, между прочим было сказано, что организация «мушкетеров» считает Советский Союз врагом номер 1 и поэтому предлагает Андерсу сотрудничество чисто военного характера: диверсии, шпионаж и т. п., вплоть до перехода всей армии на немецкую сторону.
Сам переход Шатковского через линию фронта проходил следующим образом: после согласования с немецкими властями посылки к Андерсу курьера им избрали поручика Шатковского. Вместе с тремя приданными ему коллегами он в сопровождении офицера немецкой разведки сел на Главном вокзале в Варшаве на поезд. Доехали до Харькова. Здесь все вышли и затем в сопровождении того же немецкого офицера были доставлены к передовой линии фронта, где их спокойно пропустили на советскую сторону. Прибыв туда, они явились на первые попавшиеся посты с просьбой отправить их в Польскую армию как курьеров подполья, следующих к Андерсу.
В заключение хочу сказать, что поручик Шатковский, отсидевший в тюрьме три года и освобожденный лишь в Иерусалиме, кажется, до сего дня не очень понимает, почему Андерс покушался на его жизнь.
Приближались праздники рождества и Нового, 1942 года. После 1939 года это было первые праздники, проводимые на свободе всем составом воинских частей. Все солдаты 5-й дивизии уже получили новое английское обмундирование и, получив мундиры 21–22 декабря, постарались как можно быстрее распределить их по своим частям и поэтому 23 декабря, то есть к празднику, эта дивизия уже была обмундирована.
Проводили праздники торжественно. Во всех частях проходили богослужения, пели колядки. С большой проникновенностью пели также колядки, сочиненные солдатами:
Из Литвы, Латвии и севера, Хотя празднуем на чужой земле. Но душа наша на Родине — на Родине.
Почти в каждой светлице стояли елки, устраивались игры, представления и т. п. В рождественский сочельник все поздравляли друг друга, совершали традиционные обряды (делились облатками) и думали о Польше.
Командующий армией и командиры соединений издали праздничные приказы, в которых поздравляли и желали счастью всему личному составу армии и подчиненным частям.
В сочельник пришел в штаб Андерс, передавший всем наилучшие пожелания. Была елка, пели коляды и раздавали подарки. В новогоднюю ночь в большом зале штаба устроили большой вечер.
Такое замечательное настроение в армии являлось отражением общей обстановки. После отъезда Сикорского из СССР в польско-советских отношениях наступило значительное улучшение. Советские органы шли во всем нам навстречу и относились к нам благожелательно. Вот некоторые выдержки из отчета посла Кота, высланного им министру иностранных дел Рачинскому 5 января 1942 года:
«...Последний месяц 1941 года принес Советскому правительству большое усиление чувства силы. ...Весьма знаменательно, что именно в этот период происходит видимое улучшение отношения Советского правительства к польскому населению. Это, конечно, является результатом определенных политических расчетов, но прежде всего результатом пребывания и впечатления, которое лично произвел генерал Сикорский. И после его отъезда советская пресса продолжает сохранять теплый тон в отношении поляков, выражающийся прежде всего в многочисленных статьях о Войске Польском. Влияние этой перемены в прессе и радио дает о себе знать на широких просторах СССР, хотя бы в таком отдаленном пункте, как Сыктывкар (Коми). В Новосибирске и Алма-Ате местное радио предложило польским представителям обратиться к своим гражданам. В Новосибирске наш представитель Малиняк начал свое выступление чтением на польском языке московской речи Сикорского, которая дошла до Сибири лишь на русском языке. Лишь в течение декабря советские органы начали реально удовлетворять наши нужды, исполнение которых тянулось с сентября.
Несмотря на зиму и трудности с транспортом, ускорился темп освобождения польских граждан из северных лагерей, в частности из Архангельской области. Значительную массу ссыльных перевезли из населенных пунктов Архангельской и вологодской областей, Коми АССР и из Сибири. Все эти люди были направлены на юг в Казахстан, обеспечены пассажирскими отапливаемыми вагонами, на 14 дней снабжены продовольствием... Проявлением благожелательности властей в отношении польского населения явилось распоряжение, согласно которому все польские граждане в сочельник и на рождество освобождались от работы...
Важным шагом явилось согласие на расширение объема деятельности представителей посольства. Этот объем теперь весьма широкий и совершенно достаточный...
Предоставление нам займа в сто миллионов рублей проходило в дружеской атмосфере. Для того, чтобы успеть подписать соглашение о займе еще в минувшем году... аппарат Наркоминдела работал в Новый год до поздней ночи...
Результатом вмешательства Сикорского является решение о формировании новых польских частей и переводе армии на юг. Количественный состав определен в 6 пехотных дивизий по 11.000 человек в каждой и 30.000 армейского резерва. Всего 96.000 человек. Наше командование оставляет за собой право на формирование еще одной, 7-й дивизии. Две существующие дивизии вместе со штабами и службами, а также запасными частями в ближайшее время оставят Заволжье и отбудут на юг... Для переброски сформированных частей дана заявка на 40 составов по 60 вагонов в каждом... Будет выдано вооружение еще для одной дивизии... Средства связи, саперное, санитарное и т. п. оборудование будет получено в размерах, необходимых для обучения. Автомашины, лошади и обозное имущество в количестве, необходимом для хозяйственных нужд...
На содержание Войска Польского Советское правительство ассигновало нам в прошедшем году 65 миллионов рублей, которые сейчас включают в предложенный нам заем на содержание армии в 300 миллионов рублей...
Наши военные утверждают, то советские органы определяют стоимость продовольствия, оружия и оборудования, поставляемого ими, по очень низким ценам...»
В то же время нервозность Андерса значительно усилилась, это отзывалось на работе штаба и плохо влияло на общие польско-советские отношения.
Наконец, в последних числах декабря создали основы новых дивизий и в начале января в новые места формирований выехали группы. Одновременно 10 января выехали группы интендантуры из уже существующих частей 5-й и 6-й пехотных дивизий, командования армии и запасного полка.
Однако, перед переброской войск никто не поехал познакомиться с местами, где предстояло размещать части. Базы дислоцирования избирались по картам, а посланные за несколько дней до приезда квартирмейстеры должны были подготовить размещение своих частей в районе, который не был предварительно проверен, насколько подходит он для этой цели. При том довольно часто посылали офицеров не специалистов, не знающих или очень плохо знающих русский язык, недостаточно опытных и энергичных, так что они, собственно говоря, не занимались подготовкой района размещения частей, а лишь подтверждали правильность адреса и принимали места, предусмотренные для формирования и расположения войск, без всяких замечаний.
Не на высоте были группы офицеров связи, направленные на узловые станции в новых районах. В их составе находились люди, не знающие ни страны, ни ее обычаев, ни даже языка. И они должны были руководить движением транспорта и частично помогать организационно. Не удивительно, что имелось много нареканий, многие не могли сориентироваться в новых местах, без нужды зря плутали, а то и совсем терялись.
Все же перевозка началась.
В большие морозы, временами доходившие до 45 градусов, солдат срывали с мест их постоянного жительства, где ими все было оборудовано и готово для зимовки и вынуждали ехать буквально в неизвестность, вновь осваивать местность, готовить жилища. Возникает вопрос, действительно ли в этом была необходимость? Если предполагалось формировать новые части на юге, это можно было делать заново, а не перебрасывать на юг во время самых жестоких морозов сформированные и предназначенные к отправке части. Это было абсурдом.
Тем не менее, все пришло в движение (с затаенной у штабных надеждой, что уйдут в Иран и уже не вернутся). Поэтому так спешили и направляли туда всех.
Отношения с англичанами становились все более близкими и сердечными. Пользуясь тем, что во время пребывания Сикорского вокруг него вертелось много англичан, Андерс старался еще в Москве сблизиться с генералом Макфарланом. Он попросил его, как сам рассказывал, в целях большего сближения и взаимного знакомства прикомандировать одного из своих офицеров в качестве постоянного офицера связи при штабе Польской Армии.
Макфарлан весьма охотно пошел навстречу такому предложению и прислал к нам подполковника Гулльса, о котором лично ходатайствовал Андерс. Гулльс очень хорошо знал Советский Союз, в совершенстве владел русским языком, еще в 1914–1918 годах был на Кавказе, разбирался в вопросах нефти и проблемах Ближнего и Среднего Востока.
После десятидневного движения поезда прибыли к месту назначения. Путь, которым они следовали, был известен в истории как «дорога Чингиз-хана». 5-я дивизия прибыла в район Джалал-Абада, расположенного на узбекско-киргизской границе в Ферганской долине.
Городок небольшой, бедный и некрасивый. Окрестности, где расположились полки, такие же. В долине было сыро, место болотистое. Но зато места подальше выглядели необыкновенно красиво. Долину окружали горы Тянь-Шаня, вершины которых покрывали снега ослепительной белизны. В ясные, тихие дни можно было видеть «крышу мира» — Памир.
В этих районах находилось уже множество поляков, приехавших туда значительно раньше частей.
Два полка дивизии расположились в районе деревни Благовещенки, где было довольно терпимо, вблизи протекала речка и окрестности выглядели довольно приятно. Один полк разместили в деревне Сузаки. В самом городке Джалал-Абаде остановилось командование дивизии и его службы.
Войска перемещались на новое место пребывания в товарных вагонах, оборудованных нарами и печками. Когда выезжали, стояли сильные морозы, а подъезжая к новым местам, солдаты стали снимать шинели, было дождливо и пасмурно.
Путь из Европы в Среднюю Азию через Уральские горы, степи Казахстана и через совершенно неизвестные области проделали отлично и в хорошем настроении.
Доехали успешно. Когда 15-й полк прибыл в Джалал-Абад, он после выгрузки прошел по городу сомкнутым строем с оркестром, с песнями, веселый.
Воинские части стали на юге бурно разрастаться, огромное число скопившихся там людей уже с поздней осени группами вступали в армию. Доклады поступали еще в штаб в Бузулук, который пока не снимался со своего места.
Штаб выдвигал все большие требования. Андерс напоминал о вооружении 6-й дивизии. Когда полковник Волковысский спрашивал, когда войска смогут пойти на фронт, Андерс давал уклончивые ответы. Обстановка была неясной.
Чтобы хоть немного смягчить трения, вновь возникшие между штабом польской армии и представителями Красной Армии, в Бузулук в конце января приехал полковник Евстигнеев, заместитель генерала Памфилова.
На совещании, состоявшемся в Бузулуке в кабинете командующего Польскими вооруженными силами в СССР, присутствовали Андерс, Богуш, Окулицкий и я, с советской стороны — полковник Евстигнеев, полковник Волковысский и еще один офицер.
Обсуждали вопросы обучения. Евстигнеев обратил внимание на то, что подготовка молодого солдата занимает около трех месяцев. Столько времени продолжается период обучения советского молодого солдата, а того, кто является старым солдатом обучать, собственно, нет необходимости, а лишь, как он выразился, «напомнить ему о службе». Обсуждали вопрос боевой готовности Польской армии. Андерс заявил, что точной даты назвать не может, поскольку хорошо не знает, что делается на юге, где должны создаваться новые формирования, знает лишь одно: туда прибывает много нового пополнения. Затем затронули вопрос продовольственного снабжения. Евстигнеев заявил, что снабжение будет проводиться на основе ранее определенного количества. Затронули также вопрос призыва в армию, и тут Андерс выступил с весьма странной просьбой: не направлять к нему польских граждан из национальных меньшинств, прежде всего евреев, а затем украинцев и белорусов. Когда Евстигнеев заметил, что это вел польские граждане, и в польско-советском договоре сказано о том, что в Польскую армию будут приниматься все граждане Речи Посполитой, Андерс ответил, что евреев так много, что они заполнят собою всю армию, их наплыв изменит характер армии. Перед войной в Польше евреев в армии было около трех процентов, а сейчас их насчитывается, вероятно, больше двадцати. Это он считает недопустимым. Далее он утверждал, что не уверен в украинцах, как будут вести себя они на фронте, опасается, что во время боя станут переходить на немецкую сторону. Могут вести враждебную пропаганду против Советского Союза, что потом отнесут на счет Польской армии. Одним словом, он как командующий хотел бы иметь с точки зрения национальной армию однородную, за которую он мог бы нести полную ответственность. Евстигнеев предложил Андерсу представить по этому вопросу свои соображения в письменном виде, поскольку он не уполномочен сам этого решать. Заметил, что подобные предложения могут в призывных комиссиях вызвать замешательство: они не сумеют объяснить польским гражданам, почему их не принимают в армию.
Вследствие такого выступления Андерса временно приостановили прием призывников: инструкции, направленные по этому вопросу призывным комиссиям, создавали возможность для больших злоупотреблений, насаждали в армии антисемитизм. Кроме того, таким выступлением Андерс разделил польских граждан на две категории, что с политической точки зрения являлось абсурдом, не говоря уже о том, что тем самым приток в нашу армию уменьшался на много тысяч человек.
Посол Кот, не знал существа вопроса, 8 февраля 1942 года, то есть спустя каких-то две недели после упомянутого совещания, телеграфирует Сикорскому:
«Советы усилили свою подозрительность в отношении армии и мы чувствуем их желание искусственно ограничить приток солдат в армию...»
На основании инструкции Андерса некоторые офицеры (главным образом председатели призывных комиссий) издали приказы, запрещающие принимать национальные меньшинства в армию.
Посол Кот, который случайно получил такой приказ, подписанной полковником Клеменсом Рудницким, вмешался в это дело и телеграфировал Андерсу 17 февраля:
«...Приказ полковника Рудницкого, запрещающий призыв в армию национальных меньшинств, так сформулирован в отношении евреев, украинцев и белоруссов, что советские органы интерпретируют его как запрет польских властей допуска этих национальностей в армию. Мы засыпаны жалобами и протестами лиц этих национальностей против подобной позиции командования. Нельзя ли найти какую-то форму исправления этого приказа, что позволило бы обиженным понять, в чем дело?»
Андерс приказал не отвечать на телеграмму, он лишь рассмеялся и сказал, что Рудницкий мог бы написать приказ умнее.
После совещания атмосфера сотрудничества испортилась. Отношение Андерса к вопросу о готовности армии свидетельствовало о том, что на поляков рассчитывать нельзя. Это вызвало со стороны советских властей недоверие к нам.
В такой обстановке в первых числах февраля командование армии переезжало на новое место под Ташкент, в Янги-Юль.
Сразу же после нашего приезда явился обещанный подполковник Гулльс. С этого момента Гулльс не отступал от Андерса, жил в штабе, питался у генерала и вскоре начал осуществлять свои планы, исподволь навязывая свою волю. Стал как бы его английским опекуном, что, впрочем, принималось генералом весьма охотно.
Сразу же был обсужден вопрос об эвакуации части воинских формирований в Иран. В соответствии с заключенным соглашением две тысячи летчиков и двадцать пять тысяч солдат направлялось в Англию и на Ближний Восток. Это должно было произойти лишь тогда, когда воинские части в Советском Союзе будут доведены до девяноста шести тысяч человек.
Вопросами эвакуации и вывоза людей с этой поры стал заниматься подполковник Гулльс, а Андерс официально перестал в них вмешиваться. Решили, что так будет лучше. Одновременно Гулльс уговаривал Андерса поехать на Ближний Восток и в Англию. В этом направлении генерал начал предпринимать меры, направив Сикорскому телеграмму с просьбой разрешить выезд в Лондон для обсуждения срочных военных дел. Через несколько дней пришел от Сикорского ответ — если Андерс считает необходимом, то может приехать. А в это время — примерно 15 февраля — Гулльс вылетел в Москву к шефу военной миссии генералу Макфарлану для обсуждения вопроса эвакуации на Ближний Восток двадцати семи тысяч человек. По дороге заехал в Куйбышев к послу Коту и проинформировал его об этих делах. Посол Кот считал, что до отлета в Лондон Андерс обязан быть в Москве и обстоятельно обсудить военные вопросы. При этом он заметил, что было бы хорошо, если бы он вместе с Андерсом также поехал в Москву, и в связи с этим направил Андерсу 20 февраля следующую телеграмму:
«... Подполковник Гулльс доложил мне о саботировании планов эвакуации. Считаю необходимым Ваш приезд в Москву. Когда бы Вы смогли поехать по этому и другим вопросам? Поехали бы вместе...»
Такое предложение меньше всего устраивало Андерса, он решил не брать посла с собой, а все сделать самому.
После приезда Гулльса в штаб отношения с советскими властями значительно ухудшились. Дошло до того, что полковник Волковысский вторично обратился к Андерсу с просьбой заменить начальника штаба Окулицкого, так как он совершенно не может с ним сотрудничать. Андерс весьма неохотно, но все же согласился в ближайшее время освободить Окулицкого. Сотрудничество с советскими офицерами не везде складывалось успешно. В 7-й дивизии в Кермине генерал Богуш самовольно, без согласования с советскими органами, занял под госпиталь местную школу, а его начальник штаба, известный своими германофильскими убеждениями подполковник Аксентович (Гелгуд), потребовал от председателя райисполкома немедленного исправления дорог и мостов, а в случае невыполнения приказа грозил расправой. Нечто подобное происходило и у генерала Токаржевского в 6-й пехотной дивизии. Все это вместе с совершенно явной позицией Андерса, не желавшего отправлять войска на фронт, а также подстрекательство с его стороны к подобным выступлениям командиров различных частей и совершенно недвусмысленное поведение, говорившее о том, что советские органы не могут рассчитывать на Польскую армию, ухудшало наши взаимоотношения с советскими властями.
Штаб уже основательно расположился на новом месте. Здание командования армией было еще лучше и великолепнее, чем в Бузулуке, в нем имелось около пятидесяти комнат и этого вполне хватало для нужд штаба. Андерс жил рядом, в особняке, расположенном примерно в двухстах метрах от штаба, занимал пять комнат, я жил вместе с ним. В этом же доме устроился начальник штаба и полковник Волковысский. Приехавший епископ Гавлина также разместился здесь, заняв одну комнату. Особняк находился в замечательном, довольно большом саду, у самой речки. Окрестности были очень красивыми.
Время шло, войска обучались, а 5-я дивизия была уже совсем готова и хорошо обучена. В ответ на замечание генерала Жукова, что 5-я дивизия уже полностью готова к боевым действиям. Андерс решил провести смотр ее готовности. В конце февраля Андерс, Жуков и я отправились в Джалал-Абад к генералу Боруте. Во время инспекции были проведены боевые стрельбы всей дивизии совместно с артиллерией и минометами. После артиллерийской подготовки при поддержке пулеметов 15-й полк перешел в наступление на так называемую Орлиную гряду. Во время этих учений произошел несчастный случай. Один из минометов не выбросил снаряда, который взорвался на месте, ранив около пятнадцати человек. За ходом этих учений вместе с нами наблюдала приглашенная группа советских офицеров. Учения продолжались два дня — 26 и 27 февраля и прошли вполне успешно.
Дивизия показала себя с наилучшей стороны, подготовлена была очень хорошо. Стрельбы прошли так хорошо, что не только мы, но и советские офицеры во главе с генералом Жуковым подтвердили высокий уровень подготовки. Дивизию нельзя было ни в чем упрекнуть, она была полностью готова к боевым действиям, к отправке на фронт в любой момент.
Жуков обратился к Андерсу с вопросом, не мог бы он послать эту дивизию на фронт, подчеркнув, что это хорошо сказалось бы на наших отношениях и имело бы болы политическое значение, но Андерс отказался. Жуков никак не мог понять, почему 5-я дивизия, совершенно готовая, не может идти на фронт, а сидит бездеятельно. Андерс сказал, что он хочет пойти всей армией, а не посылать отдельные дивизии. Было ясно, что он не хочет давать войск на фронт.
В первых числах марта вернулся из Москвы Гулльс и сообщил, что вопрос о эвакуации почти решен, это дело лишь нескольких дней, и что англичане готовятся в Пахлеви к приему двадцати семи тысяч солдат. Андерс этому весьма обрадовался, но не показал вида. Наши руководящие деятели уже не скрывали своих мыслей о необходимости как можно скорее покинуть границы СССР. Находили ряд поводов, а прежде всего выдвигали такие аргументы, как отсутствие вооружения, недостаток продовольствия, вредные климатические условия, сами же были убеждены в том, что весной немецкое наступление навсегда перечеркнет успехи Красной Армии. Одним словом, надо бежать, пока не поздно.
В первых числах марта 1942 года к нам в Янги-Юль приехал командир 5-й пехотной дивизии генерал Борута-Спехович. У него с Андерсом состоялось несколько бесед. Он выглядел расстроенным. Одним из срочных вопросов, которые следовало решить, был вопрос о подполковнике Берлинге. Между Борутой и Берлингом произошло столкновение, в результате чего Борута наложил на него дисциплинарное взыскание. Сейчас он просил Андерса снять Берлинга с должности начальника штаба и отозвать из 5-й дивизии. Андерс обещал это сделать. Тем более, что он и сам не любил Берлинга и относился к нему недоброжелательно. Он предложил Боруте передать приказ о явке Берлинга в штаб армии в Янги-Юль.
Однажды, когда Борута прогуливался по саду, я подошел к нему. В завязавшемся разговоре на тему о польско-советских отношениях и уходе нашей армии (Андерс информировал Боруту о своих стараниях и намерении вывести Польскую армию) я старался показать принципиальную ошибочность такого шага, а также его политические последствия. Я сказал, что нам следует укрепить свою позицию на советской территории и стремиться к более тесному сотрудничеству. Я считал, что генерал, поддерживавший сам очень хорошие отношения с советскими офицерами и даже получивший от них в подарок саблю, правильно поймет мое стремление и поддержит его. Мы обсуждали общую военную ситуацию. Я описал ему очень подробно обстановку в Лондоне, при этом старался возможно правдивее показать неспособность к действию и низкий моральный уровень лондонского руководства. В заключение я сказал, что мы должны рассчитывать только на себя. Борута, казалось меня понял, кивал в знак согласия головой, но сам определенно не высказывался. Я очень ценил и уважал этого генерала как одного из немногих честных и порядочных военачальников. Мне казалось, что я его убедил. Мы расстались в самом полном согласии.
Однако все вышло иначе, чем я надеялся.
Андерс всячески обманывал Боруту, старался сделать его сторонником своих планов, обещал ему различные должности. Однако Андерс фактически был заинтересован лишь в одном: как бы избавиться от Боруты, так как видел в нем своего соперника. Он помнил, что обещал Борута Сикорскому и боялся, что он единственный, может помешать его намерениям, как только поймет их.
В начале марта командование армией получило от генерала Хрулева телеграмму, извещавшую о снижении нормы продовольственных пайков на двадцать шесть тысяч. Это казалось каким-то страшным недоразумением. Соглашение было подписано главами государств, поэтому, хотя Хрулев и являлся начальников снабжения Красной Армии, все же он не мог самостоятельно без предупреждения издать такой приказ. Андерс обратился по этому вопросу непосредственно к Сталину и поставил в известность об этом посольство, при этом проявлял большую нервозность. Лишь Гулльс был спокоен и заверил, что это ничего не значит, поскольку мы находимся в процессе эвакуации.
Примерно 15 марта Андерс был вызван в Москву к Сталину. Направляясь туда, он взял с собой Окулицкого и меня, с нами поехал и Гулльс, имевший какие-то дела в военной миссии. По пути в Москву мы не остановились в Куйбышеве, так как Андерс не хотел перед приемом у Сталина разговаривать с послом Котом, а к тому же он опасался, что Кот захочет поехать в Москву вместе, а это, как он говорил, было ему весьма некстати.
В Москве мы остановились в гостинице «Националь». На следующий день, 17 марта, во второй половине дня в Генеральном Штабе состоялось совещание. На нем присутствовали Андерс вместе со мной и генерал Памфилов с двумя штабными офицерами. Протокол совещания вел я. Памфилов принял нас сердечно. Попросил к столу совещания подать бутылку вина, чтобы, как он выразился, «не было скучно». Когда мы перешли к существу вопроса, Андерс начал жаловаться на отсутствие вооружения. Памфилов ответил, что для обучения у нас оружия больше чем достаточно, значительно больше, чем в советских дивизиях, где предварительное обучение проводится с деревянным оружием, имитирующим настоящее. Мы сами видели это в воинских частях Ташкентского гарнизона. Когда советские дивизии прибывают в прифронтовую полосу они получают новое оружие и полное оснащение. Памфилов спросил, когда польские части смогли бы включиться в боевые действия. Андерс давал уклончивые ответы. В конце концов в ответ на настойчивую просьбу высказаться точнее Андерс заявил, что не раньше чем через шесть месяцев, и то не уверен в этом сроке, так как общее состояние здоровья личного состава очень плохое. Памфилов при этом даже вздрогнул. Поднятую рюмку задержал у рта и поставил на стол. Этот ответ его явно поразил. Впрочем, он не скрывал своего удивления и недовольства.
Памфилов выразил недоумение, что солдаты обучаются уже полгода и еще не готовы, неужели им нужно еще шесть месяцев. Ведь это старый, обученный солдат. Он сказал, что в Советском Союзе такой солдат после трех, самое большее четырех месяцев подготовки идет на фронт, почему же польскому для этого нужно более года, ведь новобранец обучается значительно быстрее.
Затем он внес такое же, как и генерал Жуков, предложение ввести в бой хотя бы только 5-ю дивизию, которая, как ему известно, полностью готова, что подтвердили недавно проведенные боевые стрельбы и учения. При этом Памфилов подчеркнул значение этого шага не только с военной точки зрения, но с политической и пропагандистской.
Однако Андерс об этом и слышать не хотел. Он ответил, что не согласится посылать отдельные дивизии, хочет организовать и ввести в бой целую армию одновременно. Стало совершенно ясно, что отсрочка посылки на фронт наших частей до тех пор, когда будет готова вся армия, является ничем иным, как отказом.
Если 5-я дивизия могла идти на фронт хоть сейчас, 6-я дивизия через несколько недель, а 7-я через два месяца, то о 8, 9, 10 дивизиях вообще ничего нельзя было сказать, фактически они могли быть готовы не раньше, чем через десять месяцев. Ждать, пока все дивизии будут готовы и держать готовую армию в полном бездействии — этого ничем нельзя было объяснить. Тем более, что соглашением предусматривалось использование не только целых соединений, но даже формирований меньше дивизии. Совершенно очевидно, что Главное командование Красной Армии могло на основе соглашения издать обычный приказ о следовании дивизии на фронт; если этого не сделали, то следует полагать лишь потому, что не хотели обострять и так напряженных отношений.
Следующим обсуждали вопрос о продовольственном снабжении. Польские части, находясь на территории Советского Союза, все время получали такой паек, какой получал советский солдат на фронте, а части Красной Армии, не находившиеся в прифронтовой полосе, получали меньшие пайки. Поляки явно находились в своеобразном привилегированном положении. Польским частям не хватило продуктов потому, что примерно одну треть они отдавали польскому гражданскому населению. К сожалению, на этом совещании не решили, будут ли наши части и дальше получать продовольствие по тем же нормам, не определили и количества пайков. Эти вопросы отложили на следующий день, то есть до встречи Андерса со Сталиным. Кроме этого, затронули несколько мелочей общего характера, и на этом совещание закончилось.
Это совещание было предварительным перед решающим разговором, который должен был состояться на следующий день в Кремле. Пока же речь шла о том, чтобы выяснить, какую позицию занимает Андерс в вопросе отправки польских частей на фронт.
На следующий день Андерс вместе с Окулицким направились на совещание к Сталину. Через час Андерс вернулся очень обрадованным, с сияющим лицом. Войдя в комнату, сразу же заявил:
— Знаешь, мне пока удалось хоть часть армии вывести в Иран. Правда, это совсем немного, но брешь сделана, форточка открыта, поэтому и остальных удастся вывести.
Через минуту вошел Окулицкий и мы начали писать протокол совещания. Из протокола я узнал, что при обсуждении вопроса о продовольствии и о возникших в связи с этим трудностях Андерс внес предложение о выводе армии из Советского Союза, если не всей, то хотя бы части. Сначала Сталин не согласился с этим и предложил, чтобы часть армии, сформированная раньше получала ту же самую норму, а та, что формируется теперь и будет готова к боевым операциям позднее, будет получать уменьшенные пайки. Эта часть до момента полной готовности может быть размещена в окрестных колхозах, где солдаты смогут улучшить условия своей жизни. Это было почти то же самое, что предлагал Андерс еще в октябре Генеральному штабу, когда он просил разрешить ему формирование армии на юге, и именно тогда мотивировал тем, что она может быть частично расквартирована по колхозам — даже там работать и одновременно формироваться и обучаться. Сейчас же Андерс отклонил это предложение и настаивал на выводе армии в Иран. На вопрос Сталина готовы ли англичане к приему двадцати семи тысяч солдат Андерс ответил утвердительно, добавив, что с этой стороны он не видит никаких осложнений. В конечном счете предложение Андерса о частичной эвакуации армии приняли. Было согласовано, что тридцать тысяч военнослужащих и около десяти тысяч членов их семей будет эвакуировано.
Таким образом, состоялось решение о первой эвакуации. Это решение противоречило договору Сикорский — Сталин, в котором было отчетливо сказано, что только когда польская армия в Советском Союзе достигнет полного состава, то есть девяноста шести тысяч человек, лишь тогда можно будет помимо них вывезти двадцать пять тысяч солдат и две тысячи летчиков. Андерс самовольно нарушил соглашение и уменьшил количественный состав Польской армии в СССР, на что не имел никакого права. Он согласовал со Сталиным, что Польская армия будет насчитывать лишь сорок четыре тысячи человек и состоять из трех дивизий и запасных частей.
Согласие советских властей на частичный вывод польских войск было получено Андерсом еще и потому, что со своей стороны этого усиленно добивались англичане. Еще в декабре во время переговоров в Кремле Сталин заявил, что американцы и англичане нажимают на него, чтобы он согласился на вывод Польской армии из СССР, однако тогда не было такой спешки. Теперь же, когда японцы начали добиваться успеха в Индии, английские войска со Среднего Востока были вынуждено переброшены туда. На Среднем Востоке образовалась пустота, тем более опасная, что в Африке наступали немцы, и их проникновение в Ирак было довольно реальным, поэтому создавшуюся брешь следовало как можно быстрее заполнить. Польские войска очень подошли бы для этой цели. По этому вопросу постоянно велись разговоры между Андерсом и Гулльсом, а также между профессором Котом, английским и американским послами в Москве.
Польский посол Кот в телеграмме от 8 марта 1942 года, то есть за десять дней до решения об эвакуации, жалуется Сикорскому:
«... Эвакуация войск несомненно саботируется. Совершенно естественно, что это беспокоит англичан...»
Из этого же протокола я узнал, что Сталин обвинял посла Кота в том, что он портит репутацию Советскому Союзу, жалуется на Советское правительство иностранным дипломатам, особенно англичанам. Вообще посол Кот является «персоной нон грата» в СССР. По словам Андерса, Сталин сказал просто «дурак этот ваш Кот».
При составлении протокола Андерс интерпретировал его произвольно, по-своему. Точного двухстороннего протокола не имелось. Окулицкий по ходу беседы делал заметки и по ним составлялся «протокол». Во время перепечатки мною этого протокола Андерс изменял смысл высказываний как своих, так и Сталина. Окулицкий замечал, что у него записано иначе, Андерс взрывался и говорил, что он формулирует точнее и благозвучнее. Словом, документ составлялся в изложении Андерса.
Не было подлинного протокола и о переговорах в Кремле между Сикорским и Сталиным. Переговоры воспроизводились по записям, которые делал Андерс. Они происходили 3 декабря, а Андерс составлял протокол и согласовывал его с послом Котом 6 декабря. Через несколько дней диктовал мне для машинописи. Во время диктовки несколько раз менял содержание, уточняя собственное толкование. Этого протокола Сикорский никогда не видел и не утверждал. Не был утвержден он и советской стороной. Эти протоколы были еще раз переданы в 1943 году, уже после смерти Сикорского, исключительно для личного использования их Андерсом, чтобы они целиком соответствовали его тогдашним планам.
Андерс был доволен достигнутыми в Москве результатами, ибо его планы о выводе Польской армии из Советского Союза приобретали реальные очертания. В этот же день около двадцати двух часов к нам к гостиницу пришел генерал Жуков с уже готовым планом эвакуации. По этому плану 8, 9 и 10-я пехотные дивизии и часть запасного полка в количестве тридцати тысяч человек должны были начать эвакуацию немедленно. Дело было столь срочным, что этой же ночью я вынужден был выслать шифрованную телеграмму в посольство с просьбой передать ее в Янги-Юль для извещения частей, подлежащих эвакуации. Должен был также пойти в английскую военную миссию, чтобы известить об отъезде наших частей и о том, чтобы был обеспечен их прием в Иране. Отвечал за эвакуацию один из генералов НКВД. Он был обязан наблюдать, чтобы отъезд проходил быстро и в полном порядке.
Уже в эту ночь выделили составы поездов и дали распоряжение о подаче их к станциям погрузки войск.
На этот раз на обратном пути в Янги-Юль Андерс остановился в Куйбышеве, чтобы обо всем доложить послу Коту и похвалиться своими успехами. Профессор Кот был очень доволен предстоящей эвакуацией. Имел только претензию, почему генерал не защищал его перед Сталиным.
— Как же это, — говорил посол Кот, обращаясь к Андерсу. — Вы ничего на это не ответили Сталину, ведь это оскорбление.
Позже Андерс смеялся над этим и говорил, что ему трудно было защищать посла Кота, так как он сам в этом вопросе соглашался с мнением Сталина.
Настроение в посольстве было неважным. Чувствовалось какое-то паническое состояние, чего-то ожидали, чего-то опасались, но чего именно никто не знал. Сверх того, господствовала своеобразная атмосфера «дипломатических интриг», всеобщая разнузданность и огромная распущенность нравов, и все это происходило под покровительством посла Кота. Например, когда одной из своих любимиц, госпоже Я., профессор Кот устраивал свадьбу со своим советником господином Т., произошло замешательство, весьма характерное для существовавших в посольстве отношений. Когда все гости уже собрались перед специально оборудованным в салоне профессора алтарем, вдруг пропала невеста. Ждали не меньше часа. Ждал также ксендз Кухарский, облаченный для богослужения. Когда прошло порядочно времени, а любимица не являлась, начали ее искать в комнатах посольства, где она проживала, но не могли найти. Исчез куда-то и Андерс. Прошло уже более часа, когда вдруг открылись двери комнаты финансового советника, куда никто не заглядывал, поскольку там стояла касса и дверь была закрыта на ключ, и оттуда вышла молодая в измятом платье, с всклокоченными волосами и пылающими щеками. Через минуту появился генерал. Все присутствующие смеялись и шутили, что жених имеет хорошего «свояка».
Однако это не помешало ксендзу Кухарскому совершить обряд бракосочетания, а господин советник делал вид, что все в порядке и будет лучше, если он дипломатично не заметит происшедшего. Профессор Кот очень смеялся над этим, а в речи, обращенной к новобрачным, желал им долгой и хорошей совместной жизни.
Эта картина, словно целиком взятая из какого-нибудь французского фарса, была типичной для нравов, процветавших в нашем посольстве в Куйбышеве.
Возвращаясь к особе профессора Кота, хочу отметить, что он действительно жаловался на советские органы, что они ему ни в чем не помогают. В посольстве знали, что по многим вопросам он обращался к посредничеству англичан, жалуясь им на неприязнь советской стороны. Он считал, что можно добиться нужного не путем соглашений, а лишь путем «нажима». Частные трудности возникали в связи с изданием газеты посольства, с общественной опекой, а особенно с представительствами посольства на периферии. Их было очень много и каждое имело весьма многочисленный персонал, а жалобы общественности на их работу, особенно после отъезда председателя Шчирека, все учащались. Советские органы не соглашались на такой большой штат в представительствах, и на этой почве возникали все новые и частые недоразумения.
Таким образом, были напряженными, а в последнее время даже плохими взаимоотношения не только Польской армии с советскими органами, но и польского посольства с Советским правительством.
Получив разрешение на частичный вывод армии, Андерс однако опасался, что армия как цельный организм будет раздроблена и таким образом может выскользнуть из-под руководства. Кроме того, если бы некоторые части остались в Советском Союзе, они могли бы быть посланы на фронт. В случае же разделения армии на две части и вследствие этого потери возможности командования ею существовала возможность, что кто-нибудь другой мог стать вождем. Все эти вопросы Андерс готовил в связи с выездом в Лондон и обсуждал с профессором Котом. Посол поддержал Андерса в отношение его выезда, а также в вопросах политических и обещал оказать помощь, если речь пойдет о возражении против проекта Андерса. По этому поводу он так пишет генералу Богушу 30 апреля 1942 года:
«... В отношение командования Андерса частями за пределами СССР послал правительству весьма положительное заключение. Ответственный за эвакуацию армии через Красноводск Берлинг является противником вывода войск из СССР. Тем не менее в ближайшее время самолетом обяжите его прибыть в Красноводск».
Разговор велся в официальном и резком тоне. Чтобы сгладить трения и недоразумения, которых и так было много, я предложил Андерсу пригласить от его имени Берлинга к нему на обед, на что он, в конце концов, согласился. Я разыскал Берлинга в штабе и пригласил от имени Андерса прибыть к нему на обед. Во время обеда воцарилась совершенно иная атмосфера. Присутствовало еще несколько лиц и от неприятных взаимоотношений Андерса с Берлингом после беседы в штабе, благодаря непринужденным разговорам, не осталось и следа.
Подполковник Берлинг, направляясь на новую работу, в хорошем настроении покидал квартиру генерала и Янги-Юль.
В Лондоне
Перед отъездом в Англию Андерс хотел привести в порядок, как он говорил, самые важные дела, чтобы они ему не мешали позже.
Одним из таких важных дел был вопрос о генерале Боруте. Андерс решил убрать его возможно скорее из Советского Союза и создать такую обстановку, чтобы тот не получил никакого назначения. Он телеграммой вызвал Боруту в Янги-Юль и стал убеждать, что считает его своим другом. Как друга просит его поехать с эвакуируемыми войсками в Иран и там принять командование корпусом, который необходимо сформировать из частей, вывозимых из Советского Союза. Андерс так долго уговаривал, что Борута согласился. Получив согласие, Андерс немедленно освободил Боруту от командования дивизией, назначив ее командиром своего приятеля генерала Раковского. Андерс прекрасно знал, что на Среднем Востоке никакой корпус формироваться не будет, так как выходящие из СССР войска частично пойдут в качестве пополнения в Англию, а частично для пополнения Карпатской дивизии.
Андерс освободил от должности начальника пропаганды и просвещения ротмистра Струмпх-Войткевича, назначив на его место ротмистра Чапского.
Когда уже была проведена половина эвакуации, мы получили от посла Кота телеграмму, предлагающую приостановить отправку гражданских лиц, то есть членов семей военных, и ограничиться отправкой лишь воинских частей, так как англичане не готовы к приему членов семей.
Телеграмма посла нас возмутила.
Штаб на эту телеграмму совершенно не отреагировал. Впрочем, подполковник Гулльс знал о семьях военных и не возражал против их эвакуации, поэтому мы считали, что все в порядке. Больше того, через несколько дней пришло официальное согласие английских властей на вывоз членов семей военнослужащих.
А в это время Андерс развлекался до упаду, отмечал разгульными выпивками осуществление своих намерений. Вечеринки устраивались уже не только раз в неделю, а почти ежедневно. Таким недостойным поведением Андерс подрывал свой авторитет в глазах офицеров и солдат, находившихся в Янги-Юле.
Солдаты, и это вполне естественно, восприняли весть об отъезде с большой радостью, а их эвакуируемые семьи прямо-таки с восторгом. Однако обещанный командованием рай вскоре обернулся для них всеобщим госпиталем. Вместе с солнцем и теплом появились самые различные заболевания: тиф сыпной и брюшной, дизентерия, малярия и т. п. Эти болезни начали косить людей, а лекарств не было, так как обещанные еще не поступили из Англии. Начальник медицинской службы генерал Шарецкий делал все, что было в человеческих силах, чтобы справиться с эпидемией, однако она ширилась с каждым днем, поглощая все большее число жертв.
Тем не менее жизнь продолжалась. Здоровые солдаты обучались, части уже сформировались, бытовые, и культурные условия улучшились. Новые районы расположения частей были приведены в порядок, всюду виднелись транспаранты и лозунги. Стенные газеты имелись уже в каждом полку и дивизии, светлицы всюду действовали. Проявляли активность также коллективы художественной самодеятельности, дававшие представления, концерты и т. п. Устраивались конкурсы хоров, спортивные состязания, организовывались различные празднества, проводились футбольные игры. В каждом полку и отдельных частях имелась часовенка, а часто и полевые алтари на свежем воздухе. Каждое воскресение проводились богослужения, на которые воинские подразделения приходили в сомкнутом строю и с оркестром. После богослужения по установившемуся обычаю командиры частей принимали парад подразделений, присутствовавших на молебне. На богослужение приходило всегда много гражданских лиц польской национальности, даже тех, которые жили далеко от военных лагерей, в разных колхозах.
В конце эвакуации, 29 марта, генерал Борута прощался со своей дивизией. Вместе с ним уходил из дивизии также и подполковник Сулик. Андерс, как своего приятеля, с которым вместе сидели в тюрьме в Москве, назначил его начальником учебного центра во Вревской.
После окончания вывода войск Андерс начал готовиться к поездке в Англию. В этих приготовлениях он принимал во внимание — если не удастся осуществить своих планов — возможность остаться за границей. Он не знал, как пойдут разговоры с Сикорским, согласится ли тот с проектом Андерса о выводе всех войск. Если бы это не прошло, он был готов временно отойти в сторону, возможно попросить отпуск на несколько месяцев, мотивируя плохим состоянием здоровья, лишь бы не возвращаться в Советский Союз. На крайний случай он предусматривал и возможность создания главной квартиры где-нибудь в Иране и лишь время от времени приезжать к войскам, оставшимся в СССР.
Андерс старался обеспечить себя материально. В своем распоряжении он имел денежный фонд, который по состоянию на январь 1942 года составлял двести шестьдесят шесть тысяч рублей. Из этой суммы около шестидесяти тысяч пошли на законные, обычные расходы, а около двухсот тысяч — в карман Андерса. На эти деньги он купил несколько золотых портсигаров, золотую шкатулку, золотые монеты и т. п. После января, когда обсуждение вопроса о займе для армии завершилось подписанием договора, фонд, которым распоряжался Андерс, неимоверно вырос. По его требованию этот фонд составлял сто пятьдесят тысяч рублей в месяц, из которых пятьдесят тысяч шло на расходы по штабу и второму отделу, а сто тысяч ежемесячно на частные расходы Андерса. Скупкой драгоценностей для генерала занимались офицер для поручений поручик Косткевич, вахмистр Шидловский и поручик Финклер из третьего отдела, позже служивший в интендантстве. Через посредство посольства Андерс переводил деньги в фунтах в заграничные банки на свою фамилию.
Обеспечив себя таким образом, 1 апреля 1942 года Андерс вылетел в Лондон. Сопровождали Андерса в Лондон Гулльс и я. Вылетели с Ташкентского аэродрома на советском самолете, предоставленном на это время в распоряжение Андерса. С нами летели до Каира приятельница Андерса госпожа С. М. и Анджей Строньский. Они остались в Каире ожидать нас из Лондона.
На время своего отсутствия Андерс передал командование польскими войсками в Советском Союзе генералу Богушу. Это очень обидело Токаржевского, которому Андерс продолжал не доверять и опасался назначить своим заместителем, даже на короткое время.
Из Ташкента мы полетели в Баку, а из Баку в Тегеран. Из-за плохой погоды вынуждены были на несколько дней задержаться в Тегеране. Жили в отеле «Дербент» и знакомились с Тегераном. Наш посол в Иране пригласил нас на обед. Всеми делами занимался подполковник Гулльс.
5 апреля мы вылетели рано утром, а в полдень приземлились на аэродроме Хаббания, в Ираке. Там было так жарко, что мы едва дышали.
После получасового отдыха полетели дальше. Пролетели над Багдадом, столицей чудес и сказок из «Тысячи и одной ночи», мне тогда вспомнился «ковер-самолет». Город, проплывающий под нами в нескольких сотнях метров, утопал в прекраснейших садах. Через пару часов мы находились над «Святой землей». Здесь в Лидзе мы вновь сделали посадку для заправки топливом. На всех аэродромах было много англичан. Это были их базы. В этот же день мы прибыли в Каир. Для первого дня было слишком много впечатлений — Тегеран, Багдад, Иерусалим, Каир. Здесь мы задержались на несколько дней.
Андерс был в восторге от господствовавшего среди англичан настроения, особенно милыми его сердцу оказались генерал Окинлек, командующий войсками на Среднем Востоке, и государственный министр Кейси, входивший в состав военного кабинета Черчилля.
При посредстве Гулльса Андерс провел с ним ряд бесед. И именно здесь, в первых числах апреля, состоялось принципиальное решение о выводе всех польских войск из Советского Союза на Средний Восток.
Андерс обещал передать в распоряжение англичан шесть полноценных боевых дивизий. При этом он подчеркивал, что войска, оставшиеся в Советском Союзе, намного лучше эвакуированных частей. Армия состоит из крупных частей, полностью готовых к боевым действиям. Командующий войсками на Среднем Востоке был восхищен таким предложением и на прощание устроил в честь Андерса банкет, на котором присутствовало восемнадцать английских генералов, вся командная верхушка Среднего Востока. Андерса торжественно заверили, что все польские войска прибудут на Средний Восток и поступят под английское командование.
В это время на Среднем Востоке англичане испытывали огромный недостаток в войсках, поэтому обещанные Андерсом шесть дивизий были для них манной небесной. С этого момента главная тяжесть операции по осуществлению планов вывода польских войск из Советского Союза легла на англичан. Андерс для них стал более выгоден, чем Сикорский. Он только давал и ничего не требовал. Поэтому они начали сеять различные недоразумения между этими двумя генералами, решительно поддерживая Андерса.
Всем этим Андерс был очень доволен, так как почти полностью выполнил свои планы и к тому же приобрел могущественного покровителя. Теперь ему оставалось лишь проследить за реализацией своих планов и соблюдением личных интересов, чтобы сохранить за собой командование армией.
Следует совершенно отчетливо подчеркнуть, что все переговоры Андерса с англичанами велись без ведома и согласия польского правительства и Сикорского. Зная взгляды и намерения Сикорского в этих делах, необходимо сказать, что подобные переговоры противоречили его самым важным планам. Кроме того, это было определенным сговором с деятелями иностранного государства против намерений своего правительства и верховного главнокомандующего.
После согласования всех вопросов с англичанами, примерно 10 апреля 1942 года, мы вылетели на английском гидросамолете в дальнейший путь. С нами летел английский верховный комиссар в Палестине. Путешествие было весьма разнообразным. Андерса англичане принимали с почестями и очень сердечно.
В Хартуме нас приветствовал английский губернатор. Он пригласил нас в свой дворец, где мы переночевали. Здесь мы задержались на один день. В это же время у губернатора находились и другие гости, брат греческого короля и сын премьера Черчилля Рандольф, ставший позднее английским офицером связи при Тито.
Дальнейший полет проходил в направлении озера Виктория, а затем над Бельгийским Конго через Стенливилль и Леопольдвилль. Он был интересен посадкой на реке Конго в сердце огромных непроходимых джунглей. Потом через Золотой Берег прилетели в Лагос в Нигерии, на западном побережье Африки. Здесь пробыли неделю. Командующий английскими войсками в Западной Африке отдал в наше распоряжение свою виллу.
Во время остановки происходили приемы, устраиваемые англичанами по случаю пребывания Андерса. Генерал был этим более чем покорен, он восторгался англичанами, их вежливостью и предупредительностью.
После недельного пребывания в Лагосе мы тронулись в дальнейший путь тем же самолетом, которым возвращался из Индии после своей неудачной миссии министр Криппс. Андерс знал его еще по Москве, а сейчас установил более тесный контакт. В беседе по поводу тяжелого положения в Индии был затронут вопрос об использовании польских частей на Среднем Востоке, что облегчало положение английских войск и давало им определенную свободу действий. Криппс это хорошо понял. Его также целиком устраивала эта точка зрения, и Андерс для своих планов приобретал еще одного сторонника, и не просто какого-нибудь, а министра Криппса, входившего в состав военного кабинета премьера Черчилля.
Трасса нашего полета проходила через Лиссабон. Мы летели в это время на огромном, в несколько этажей, гидросамолете (клипере), который мог поднять семьдесят два человека.
После одиннадцати часов полета мы приводнились где-то в океане, чтобы взять горючее с танкера, и еще после десяти часов полета добрались до Лиссабона. Вместе с нами из Нигерии летел генерал Копаньский, бывший тогда командиром Карпатской бригады, расположенной в районе Каир — Александрия.
В Лиссабоне мы пробыли один день, пользуясь случаем, ознакомились с городом. Польское посольство встретило нас очень сердечно. Как раз в это время в Лиссабоне оказалась курьер из Польши госпожа Маковская, направлявшаяся в Лондон. Андерс имел с ней разговор. Она должна была вылететь через несколько дней после нас.
Из Лиссабона мы вылетели в десять часов вечера уже непосредственно в Англию. Утром приземлились в Ирландии, в Бристоле, а затем оттуда полетели самолетом министра Криппса прямо в Лондон. 20 апреля 1942 года после трехнедельного путешествия мы прибыли на место.
От имени президента Рачкевича Андерса приветствовал начальник его кабинета и адъютант генерал Рагульский. От имени верховного главнокомандующего — начальник кабинета подполковник Борковский. Кроме того, на аэродром прибыло несколько знакомых, знавших о приезде генерала.
С аэродрома мы направились в замечательную гостиницу столицы Англии «Дорчестер», где в наше распоряжение предоставили два номера.
В Лондоне мы гостили около трех недель. В течение этого времени в атмосфере огромного напряжения велась закулисная игра между Сикорским и Андерсом. Собственно, никто на знал, в чем существо дела. Сикорский приветствовал Андерса весьма холодным вопросом, зачем он, собственно, прибыл. Чтобы преуменьшить значение приезда Андерса, он вызвал также и генерала Копаньского, вроде как бы на совещание командующих.
Главный вопрос о выводе польских войск из СССР официально не затрагивался, так как Сикорский об этом даже слышать не хотел. Ничего не говорилось и по поводу вооружения и продовольственного снабжения армии, это были щекотливые вопросы и хлопотливые дела, которые, прямо говоря, не находились в компетенции польской стороны. Стыдливо умалчивая о них, переходили к очередным вопросам порядка дня. Вопрос же инспектората, против которого выступал Андерс, прошел необыкновенно гладко. Других государственных и даже сугубо военных вопросов также не обсуждали, например, вопроса о заболеваниях и эпидемиях, а также об оказании медицинской помощи.
Складывалось впечатление, что Сикорский и Андерс играют в жмурки. Тем не менее, а может быть именно поэтому, было много шума. В любую минуту ожидали, что вот-вот вспыхнет крупный скандал. С внешней стороны видимость хороших отношений была сохранена. Состоялось немало приемов, банкетов, званых обедов и т. п. Затем мы знакомились с военными лагерями в Шотландии, где во время инспекции проводились показательные учения, смотры и, конечно, опять совместные обеды.
Вообще стало почти обычным, что после каждого более или менее крупного столкновения между Андерсом и Сикорским устраивали большие банкеты или же званые обеды.
Сразу же после прибытия в Лондон и после первых недоразумений, когда в кулуарах «Рубенса» начали громко говорить о взаимной неприязни между генералами, Сикорский устроил в салонах гостиницы «Дорчестер» большой прием в честь прибывших гостей. В нем приняли участие президент Рачкевич со своим начальником кабинета, Сикорский со всеми членами правительства и военным штабом, председатель Рады Народовой Грабский с ее депутатами. Это должно было явиться манифестацией, свидетельствующей о самых дружественных отношениях между Сикорским и Андерсом. Это должно было быть выражением отношения правительства и верховного главнокомандующего к польским войскам в СССР и значению, которое придается этому факту.
Однако обстановка была очень напряженной, и о задачах крайне неотложных ничего не говорилось.
Андерс несколько раз был у президента Рачкевича, который разговаривал с ним в милой «домашней» атмосфере. Всем было известно, что Рачкевич противник Сикорского и июльского договора. Поэтому он с большим удовольствием слушал Андерса, но никакой определенной позиции не занимал. Андерс понял, что таким путем он ничего, кроме некоторой рекламы, не приобретет, хотя и она имела значение, так как вокруг него поднимал шум и это возвышало его в глазах некоторых лиц. Слышался шепот. «Президент совещается с Андерсом», а это подрывало авторитет Сикорского, так как его подчиненный вел какие-то переговоры с главой государства помимо него. В то же время это позволяло оппозиции поднимать голову. Одновременно Андерс начал при помощи подполковника Гулльса устанавливать все более тесную связь с англичанами. Много реальной пользы извлек Андерс из своей встречи с Черчиллем. Черчилль уже знал по докладам Кэйси и Окинлека, а также Криппса о намерении Андерса передать Польскую армию, созданную в СССР, в распоряжение англичан на Среднем Востоке. Его этот вопрос интересовал тем более, что немецкая армия в Северной Африке добивалась все больших успехов и уже непосредственно угрожала Египту. Поэтому в беседе с Андерсом Черчилль кроме расспросов о возможности ведения войны Советским Союзом интересовался также Польской армией в СССР: ее размерами и боеспособностью. Андерс подчеркнул, что необходимо все войска вывести из Советского Союза и сконцентрировать на Среднем Востоке, передав их в распоряжение английского командования. В принципе Черчилль одобрял эту мысль. Совершенно очевидно, что Сикорский продолжал находиться в неведении относительно происходивших переговоров. Андерс чувствовал себя все более уверенно, понимая, что его планы вывода армии становятся совершенно реальными.
А в то же время Андерс познакомился с начальником имперского генштаба Великобритании, фельдмаршалом Аланом Бруком, с которым также обсуждал вопросы польских вооруженных сил в Советском Союзе и необходимость их эвакуации. Все англичане, с которыми встречался Андерс, были им очень довольны. Андерс много обещал, всегда соглашался и никогда ничего не требовал.
Сикорскому не нравилось такое поведение подчиненного «совещающегося» с президентом, и ведущего самостоятельно переговоры с англичанами, о которых тот не давал никакого отчета и на ведение которых не был уполномочен. На совещании командующих крупными соединениями 27 апреля в «Рубенсе» он обвинил Андерса в нелояльном отношении к польским делам. Он сказал, что Криппс ему заявил, будто Андерс «мягче» и поэтому, мол, с ним значительно проще придти к соглашению. Это выглядело так, будто Сикорский хочет в пользу польских дел выторговать что-то на сто процентов, а на горизонте появляется Андерс, который удовлетворяется пятьюдесятью процентами, а вернее — никаких требований перед англичанами не выдвигает.
Публичное выступление Сикорского ударило по самому чувствительному месту Андерса, его честолюбию. В ответ на это Андерс довольно быстро столковался с санацией и «народовцами», то есть со всей тогдашней оппозицией.
Он начал с раскаяния перед генералом Соснковским и министром Залесским, извинившись за посылку телеграммы из Советского Союза, опубликованной тогда в печати. Он старался им доказать, что был введен в заблуждение, что на самом деле никогда так не думал, что произошло недоразумение, о котором он очень сожалеет. Вскоре между Соснковским, Андерсом и Залесским установилось согласие, если не глубокое, то во всяком случае внешнее.
Затем Андерс провел несколько бесед с Тадеушем Белецким и Демидецким из Строництва Народового, а также разговаривал с Цатом-Мацкевичем, представителем воинствующей оппозиции Сикорскому и заключенному им договору с СССР.
Результат этих переговоров был такой: вся оппозиция пришла к выводу, что, наконец, они нашли вождя, и начали смело поднимать голову. Обстановка становилась явно неприятной, напряженной, готовой разразиться скандалом.
Сикорский решил положить этому конец. Он вызвал к себе Андерса и заявил, что он оставит его там на Среднем Востоке или здесь в Англии, а в Советский Союз направит Янушайтиса или Соснковского. Андерс перепугался не на шутку, это могло полностью сорвать его планы. Тем более, что генерал Климецкий, видевший к чему идет дело, открыто стал угрожать Андерсу судом на основании обвинений периода сентябрьской кампании, выдвинутых против него командиром 26-го уланского полка полковником Швейцером. Швейцер выдвинул против Андерса ряд веских обвинений, касающихся халатности в отношении подчиненных ему частей во время сентябрьской кампании, которые очень часто он оставлял на божескую милость. Обвинение касалось также ряда грубейших ошибок в командовании. Вызванный в это время к Климецкому Швейцер заявил, что изложенные им обвинения будут рассматриваться. Андерс понял, что это не шутка. Он хотел избежать скандала, который мог бы расстроить его планы, и прежде всего испортить репутацию в глазах англичан. Поэтому начал бить отбой. Впрочем, избежать скандала хотели все, так как и в штабе обстановка была уже раскаленной, особенно после того, как капитан Ежи Незбжуцкий (Ришард Врага), офицер второго отдела, обвинил часть второго отдела штаба верховного главнокомандующего во главе с майором Жихонем в сотрудничестве с Германией.
Андерс снова начал прикидываться лояльным и покорным, отказался от обещанной им роли «обвинителя» штаба верховного главнокомандующего и «разоблачителя» недостатков, а будучи сам обвиненным, счел удобным прикинуться, что полностью подчиняется верховному главнокомандующему и отказывается от каких-либо к нему претензий. Идя на этот фальшивый компромисс, обе стороны делали вид, что они довольны собой. Таким образом, штаб верховного главнокомандующего избежал огласки подготовленных Андерсом обоснованных обвинений, а Андерс избежал суда и компрометации.
Сикорский воспользовался переменой в позиции Андерса и дал по этому случаю званый обед для узкого круга, чтобы вновь показать, будто все находится в самом лучшем порядке, и что Андерс возвращается на свою прежнюю должность. На обед были приглашены: с советской стороны посол СССР при польском правительстве в Лондоне Богомолов, с польской стороны министр Рачинский, Андерс, Климецкий, Реттингер, я и еще два-три человека. Атмосфера во время приема внешне была приятной. Сикорский как будто чувствовал себя также замечательно.
Перед обедом я довольно долго разговаривал с Сикорским. Генерал расспрашивал с состоянии частей, о взаимоотношениях и сотрудничестве с Советским Союзом, о настроениях среди солдат и офицеров. Во время нашего разговора он вдруг подал мне какой-то листок и спросил:
— А это что?
Я прочитал записку и был поражен ее содержанием.
Оказывается, один из офицеров, коллега по штабу армии в Янги-Юль, присутствовавший на собрании, на котором я делал доклад и старался убедить слушателей в необходимости лояльного сотрудничества с СССР и совместной борьбы против Германии, приехав с первой партией в Тегеран, направил через английские власти, точнее при содействии полковника Роса, поскольку не доверял нашему командованию, телеграмму на имя Сикорского следующего содержания:
''...ротмистр Климковский, адъютант генерала Андерса, с согласия НКВД (?) создает организацию молодых офицеров и стремится к созданию в Москве польского правительства под покровительством СССР...»
Это меня рассмешило. На основании чего этот офицер делал подобное сенсационное разоблачение, лишь один бог знает.
Сикорский также рассмеялся и сказал: «Знаете, перенесение правительства в Советский Союз — это, пожалуй, слишком много, но когда армия вступит в боевые действия, я приеду, чтобы принять командование ею. Так будет лучше.»
На этом наша беседа прервалась, так как приглашали к столу. Во время обеда Сикорский и Андерс довольно много разговаривали с послом Богомоловым вообще о войне и о нашей армии в СССР.
К этому времени Андерс, видимо, пришел к выводу, что покорностью, хотя бы только притворной, он добьется значительно большего, чем открытым враждебным отношением. Поэтому делал вид, что он полностью подчиняется верховному главнокомандующему.
Затем мы поехали в Шотландию навестить находящиеся там военные части. Вместе с нами поехал министр национальной обороны генерал Кукель. В Шотландии состоялось несколько крупных торжеств, во время которых создавалось довольно смешное положение, так как местные командиры не знали, кому оказывать больше почета: министру, которого не любили и ни во что ни ставили, или Андерсу.
Жили мы в замке Сикорского. Это был весьма красивый, хотя и небольшой замок какого-то шотландского графа. Осматривали «Черчиллей» — танки, полученные недавно одной из польских воинских частей в Шотландии для учебных целей, присутствовали на учениях бригады Пашкевича. После учений, которыми руководил подполковник Богумил Шумский, состоялся парад бригады. Действительно хорошее впечатление производило замечательно выглядевшее соединение. Пашкевич пригласил нас к себе на обед и рассказал о многих неприятных вещах, имевших место в наших эмигрантских кругах со времени моего отъезда из Франции.
Под вечер того же дня мы поехали в Глазго, а на следующий день вернулись в Лондон.
Здесь атмосфера была полностью очищена. Андерс продолжал играть роль «лояльного и покорившегося». В награду за это он не только не был привлечен к ответственности за свое «командование» в 1939 году, а наоборот, был награжден Золотым Крестом Виртути Милитари за выдающуюся боевую деятельность и командование именно в 1939 году и «победоносные бои» с немцами. Это должно было служить ответом на «необоснованные и оскорбительные» обвинения полковника Швейцера.
Кроме того, Андерс получил должность инспектора армии на Ближнем Востоке. Эту должность он буквально выпросил у Сикорского, мотивируя свою просьбу тем, что такое назначение поднимет его престиж в глазах Советского Союза и будет способствовать улучшению отношений с властями в СССР. Он утверждал, что лично знаком со многими членами советского правительства, и чем более «важным» он будет, тем успешнее удастся ему вести различные переговоры с советскими военными чинами, а с другой стороны, ему это поможет и в отношениях с англичанами, так как с Ближнего Востока должно поступить оружие и продовольствие для польской армии в Советский Союз. Одновременно он указывал, что такая должность будет» как бы объединять войска, находящиеся на Ближнем Востоке, с войсками, оставшимися в СССР. По этому же вопросу посол Кот направил телеграмму Сикорскому, поддерживая в ней Андерса и предлагая именно такое решение.
Должность инспектора Андерсу действительно была очень нужна, так как в случае выхода польской армии из Советского Союза она обеспечивала ему пост командующего на Ближнем Востоке, а в этом он как раз был очень заинтересован. Это создавало также возможность организации штаба как на Ближнем Востоке, так и в Советском Союзе и поездки без ограничения из СССР на Ближний Восток.
В кругах правительства и верховного главнокомандующего с момента нашего приезда в Лондон, судя по разговорам и господствующей атмосфере, можно было без особого труда придти к убеждению, что было избрано ложное направление. Погоня за постами и властью по-прежнему находилась на первом плане, а жизненные интересы Польши — на последнем. Совершенно отчетливо чувствовалось враждебное отношение к Советскому Союзу и ко всему, что связывало с СССР. Взгляды на ведение войны Советским Союзом были сходны со взглядами Андерса. Преобладающее большинство считало, что Советский Союз будет разбит и поэтому нет никакой необходимости входить с ним в какие-либо договорные отношения. Оценка военной мощи Советского Союза, даваемая таким «специалистом», как Андерс, только укрепила подобное мнение в Лондоне.
В Лондоне я более или менее подробно познакомился со всеми перипетиями борьбы вокруг польско-советского договора. Сикорский фактически был в этом вопросе одинок, все ему только мешали и усложняли работу. Даже среди самого близкого окружения он не встречал необходимого понимания в этой важнейшей проблеме нашей внешней политики.
Это свидетельствовало о том, насколько наши руководящие деятели плохо ориентировались в вопросах международной политики и в ходе стратегических событий минувшей войны.
Как и в Париже, за несколько дней до начала войны с Италией Сикорский заверял французское правительство, что до войны дело не дойдет, точно так же за три дня до нападения Германии на Советский Союз наш премьер, ссылаясь на донесения из Польши, представленные ему вторым отделом 10 и 19 июня 1941 года, сообщал английскому правительству, что вооруженное столкновение между этими странами исключается. А когда конфликт разразился, «Лондон» был убежден, что война закончится через несколько недель поражением СССР.
Ввиду такого суждения военное соглашение не было продумано необходимым образом.
Весь наш штаб отнесся к нему отрицательно, причем по двум причинам.
Во-первых, считали ненужным создание армии в Советском Союзе, ибо члены польского штаба утверждали, не успеет она сформироваться, как наступит конец войны.
Во-вторых, штаб категорически выступал против создания польских вооруженных сил на территориях, не находящихся под его безраздельным контролем.
Как-то министр Комарницкий пригласил меня на обед. На нем присутствовал и генерал Модельский. Мы беседовали, затрагивая ряд актуальных вопросов. Я не жалел критических замечаний в адрес нашего правительства, на что Комарницкий отвечал, что он находится в правительстве как представитель Строництва Народового и вошел в состав кабинета по прямому желанию Сикорского и по его желанию готов в любой момент уйти в отставку. Как же он мог представлять Строництво Народове, если оно, в основном, не поддерживало Сикорского и по отношению к нему находилось в довольно резкой оппозиции? Как мне разъяснил Комарницкий, Сикорский пригласил его в правительство только потому, что он как член Строництва Народового, входя в состав правительства, создавал видимость, что не все Строництво находится в оппозиции к нему, а имеются группы, сотрудничающие с ним.
Я уже говорил, что немногие поляки в Англии отдавали себе отчет в происходившем. Помню, как однажды в штабе в «Рубенсе» я подошел с майором Пентковским к карте, на которой были отмечены линии фронта. Пентковский рассказал мне об огромной слабости Англии, о том, что нападение Германии на СССР позволило ей «передохнуть». Он утверждал, что если бы Советский Союз не выдержал немецкого удара и пал, это было бы неслыханным поражением и для нас, так как в самое короткое время пала бы и Англия, которая в настоящий момент фактически совершенно бессильна, и Германия в результате добилась бы полной победы.
Такие голоса раздавались очень редко. Трудно было с кем-либо говорить на эту тему из опасения попасть в «черный список» и быть заподозренным в сотрудничестве с НКВД. Таких офицеров, как Пентковский, можно было пересчитать по пальцам.
Приведу пример, воспроизводящий атмосферу, царившую в наших лондонских кругах, атмосферу взаимной слежки, установленной лондонской «двуйкой» во главе с подполковником Гано, который продолжал оставаться ее шефом.
Янушайтис, кандидатуру которого определенные круги вновь выдвигали на выезд в Советский Союз и о котором вспоминал Сикорский, хотел со мной встретиться. Он назначал мне свидание... в Гайд Парке, чтобы избежать шпиков второго отдела, доносов и кривотолков. Мои беседы с коллегами являлись достаточным основанием для вызова их во второй отдел, где их подробно расспрашивали о темах наших разговоров.
В это время Андерс передал своему брату Тадеушу, жившему в Шотландии, драгоценности, купленные в Советском Союзе, чтобы он положил их в Шотландский банк на свое имя. Об этом я узнал лишь тогда, когда увидел банковские квитанции и перечисленные в них предметы.
Наше пребывание в Лондоне подходило к концу. Через несколько дней нам нужно было уезжать. На прощание, поскольку «все было успешно решено», Сикорский устроил в залах гостиницы «Дорчестер» банкет, на котором присутствовало свыше двухсот поляков и иностранцев из дипломатических представительств. Продолжался он несколько часов.
Мы прощались с Лондоном.
Андерс был весел. Он узнал слабости Лондона, способ решения вопросов через штаб верховного главнокомандующего и совершенно перестал считаться с польскими властями. За доброту и непростительную слабость Сикорского он заплатил ему потом черной неблагодарностью.
В то же время можно было заметить, что Сикорский уже не владеет положением, а лишь делает вид, будто он не может справиться с различными трудностями и тяжестью, падающей на его плечи.
Словом, не решив вопросов о вооружении, продовольственном снабжении, обеспечении лекарствами и оборудованием госпиталя, мы отправились в Янги-Юль.
Примерно 25 мая вернулись в Ташкент. Путешествие было разнообразным и приятным.
Возвращались мы втроем: Андерс, Гулльс и я. Сначала мы полетели в Гибралтар. Здесь нас приветствовал и показал сердечное гостеприимство губернатор Гибралтара. Довольно подробно мы ознакомились с крепостью, в которой различное новейшее оборудование размещалось в помещениях, врубленных в скалы иногда на глубине в несколько сот метров. Огромные коридоры тянулись километрами. Здесь находились также госпитальные палаты, склады боеприпасов и артиллерийское оборудование, позиции противотанковой и зенитной артиллерии. Гибралтар — колоссальное укрепление, располагающее огромными военными возможностями. Крепость врублена в монолитную скалу, которая омывается с трех сторон морями и лишь небольшим, в несколько сот метров, перешейком соединяется с материком Испании. На этом же самолете летел с нами один из французских адмиралов вооруженных сил де Голля. Он также был приглашен губернатором Гибралтара на обед, а затем сопутствовал нам при посещении крепости. Во время ознакомления с крепостью Андерс несколько раз замечал Гулльсу, что не следует показывать адмиралу такую крепость, как Гибралтар. «Ведь французы из правительства Виши сотрудничают с Германией, а этот, хотя и от де Голля, но кто его знает, не работает ли он на обе стороны.»
Гулльс сначала очень удивился словам Андерса, а потом поблагодарил, сказав, что они могут быть верными.
После посещения крепости, уже вечером, мы полетели на Мальту. Полет проходил ночью, так как это был самый жаркий для Мальты период, ежедневно по нескольку раз подвергавшейся бомбардировке. В конце полета в нашем самолете произошло замешательство: вот уже несколько минут как мы должны были совершить посадку, а между тем мы продолжали находиться в воздухе и не снижались для приземления. Полет продолжался, а мы все знали, что бензина хватит лишь до Мальты. На вопрос, обращенный к экипажу самолета, мы не получили ясного ответа. Наконец, минут через двадцать полета объявили о посадке. Как потом выяснилось, нас задержало радио, так как в это время немцы бомбили Мальту. Был час ночи, когда мы при свете прожекторов приземлились на одном из аэродромов. Сразу же после посадки погасили все прожекторы. Самолет заправился бензином, и при вспыхнувшем на минуту освещении мы взлетели. Теперь мы взяли курс уже прямо на Каир.
Здесь Андерс задержался на несколько дней уже как инспектор армии.
Он провел смотр воинских частей, между прочим и Карпатского уланского полка, командиром которого был майор Бомбинский, сторонник и большой приятель Андерса, позже ставший его офицером для поручений, противник Сикорского. В будущем этот полк явился опорой Андерса.
Андерс опять нанес ряд визитов и вел переговоры с англичанами. Он был приглашен министром Кэйси на обед, а у генерала Окинлека состоялось официальное совещание по вопросу организации польского войска. На прощание Андерс получил заверение, что польские части, оставшиеся в Советском Союзе, будут эвакуированы на Ближний Восток и войдут в состав английской армии Ближнего Востока.
Англичане, так же как и раньше, принимали Андерса весьма сердечно, оказывали большие почести, чем окончательно привлекли его на свою сторону.
После нескольких дней пребывания в Каире на английском самолете мы направились в Тегеран, где Андерс посетил военные и гражданские лагеря.
Кроме того, он был в госпитале, принимал парады, участвовал в полевых богослужениях и т. п.
В Тегеране мы провели несколько дней. Андерс нанес ряд официальных визитов иранским и английским властям, в том числе и шаху Ирана. Затем стартовал на Баку, а оттуда в Ташкент, из Ташкента автомобилями вернулись в Янги-Юль, в штаб армии.
Вторая эвакуация
На следующий день после приезда в Янги-Юль состоялось торжественное чествование Андерса. Генерал Богуш распорядился отслужить благодарственный молебен по случаю благополучного возвращения командующего Польскими вооруженными силами, а весь местный гарнизон вывести при полном боевом снаряжении. После богослужения состоялся парад, а затем совместный обед. Андерс и Богуш обнимались специально для фотографа, чтобы остались «исторические» свидетельства.
Теперь Андерс уже совсем не скрывал своих планов вывода польских частей за пределы СССР. В беседах на эту тему принимали участие генералы Токаржевский, Богуш, Раковский и ряд полковников во главе с Окулицким, Рудницким и Висьневским.
Когда Андерс находился в Лондоне, в Советский Союз прибыли новые группы офицеров из Англии, сообщившие множество новостей о том, что делается «в свете». Это были офицеры — приверженцы санации, в большинстве враждебно относящиеся к правительству Сикорского и поддерживающие Соснковского. Одним из его наиболее ревностных и наиболее активных с этой точки зрения сторонников был полковник Рызинский. Прибывших офицеров распределили по различным частям, так что они могли охватить своим влиянием всю армию.
Медико-санитарные условия, в которых оказался личный состав частей, были прямо-таки ужасными. В районах дислокации свирепствовала эпидемия тифа. В подразделениях начали шириться заболевания сначала сыпным, а затем брюшным тифом. Когда же наступила жара, на нас обрушились как бедствие дизентерия, потом желтуха и малярия. Все госпитали были переполнены, для размещения больных использовали различного рода здания, сооружали полевые госпитали из палаток. Больных приходилось считать не сотнями, а тысячами.
Андерс приказал подготовить специальные справки о количестве умерших людей в результате вредных климатических условий. Он хотел доказать, что дольше выдержать в этом районе нельзя, что необходимо как можно скорее вывести из этих мест всю армию. При этом он совершенно забыл об одном: ведь никто иной как он сам лично избрал эти места, хотя его и предостерегали. Стремясь вывести армию в пустыню, он забывал о том, что, жалуясь на климатические условия, особенно на жару, доходившую до шестидесяти градусов, обрекал армию на еще более тяжелые климатические условия.
Болезни свирепствовали, лекарства не приходили. Но, несмотря на это, солдаты продолжали обучаться, становились более организованными и лучше подготовленными.
В середине апреля закончила свой курс школа подхорунжих и молодые офицеры разъехались по частям, внося в их жизнь оживление, большой энтузиазм и много энергии.
Поскольку постоянно твердили, что армия будет моторизованной, во всех подразделениях с большим рвением приступили к подготовке шоферов. Из-за недостатка в транспортных средствах пришлось почти в каждой дивизии для обучения водителей теории разобрать несколько старых автомобилей.
Курсы шоферов закончили несколько сот человек. После теоретической подготовки проводилась практическая езда. Лучше всего с этой точки зрения дело было поставлено в штабе в Янги-Юль, где курсы велись по всем правилам. Хорошо также проводилось это в 5-й дивизии, где подготовкой шоферов занимался каждый полк. Примерно также обстояло дело и в 6-й дивизии. Немного хуже было в 7-й дивизии, но это, вероятно, потому, что она находилась в наиболее тяжелом положении по заболеваемости. Во всяком случае в течение нескольких месяцев части подготовили около двух с половиной тысяч водителей, что потом очень пригодилось.
В Янги-Юль были организованы также две части специального назначения. Одна из них, которой командовал ротмистр Збигнев Кадач, называлась «Батальон С.» Он был задуман, как батальон парашютистов, насчитывал четыреста особо подобранных и исключительно хорошо подготовленных людей. Это была образцовая часть. Второй такой частью являлся разведывательный дивизион армии, которым командовал ротмистр Фрольковский. Она была создана на базе эскадрона, находившегося в личном распоряжении командующего армией. Этот дивизион был подчинен мне, как офицеру для поручений. Он насчитывал триста шестьдесят человек. Он был также прекрасно обучен и состоял из отборных офицеров и солдат. Обе эти части уже на территории Ирака были реорганизованы в полки. Разведывательный дивизион армии, ставший 12-м бронеавтомобильным полком, командиром которого стал я, придали 3-й Карпатской дивизии, а «Батальон С» уже как 15-й бронеавтомобильный полк передали в 5-ю дивизию.
Наряду с обучением и подготовкой солдат и офицеров к боевым действиям Андерс все чаще стал требовать от местных гарнизонов рапортов о состоянии частей. Такие рапорты, «препарированные» командирами, были лживыми, сознательно искажавшими правду. Три с половиной тысячи человек, о которых в конце мая генерал доложил как об умерших в связи с плохими условиями жизни в лагерях, стали жертвами политики самого Андерса. Это были те, кого бросали с одного места в другое, не проявляя о них ни малейшей заботы, не обеспечивая им сколько-нибудь сносных условий существования. Кроме того, лагеря, которые изображались как рассадники болезней (хотя это в какой-то мере имело место) по существу являлись спасением для десятков тысяч людей.
Если бы таких лагерей не было, то к маю 1942 года количество погибших составляло бы не три с половиной тысячи, а по меньшей мере пятнадцать тысяч человек. Эти лагеря являлись, пожалуй, единственной опорой и спасением для тех, которые по приказу наших военных и гражданских властей стекались в них со всех концов Советского Союза. Если речь идет о так называемом «препарировании» специальных рапортов, то Андерс, например, требовал от Окулицкого, находившегося в Кермине, где действительно положение было весьма тяжелым, как можно более частых докладов о плохих условиях существования.
Рапорты командиров Андерсу были нужны для того, чтобы использовать их для давления на Лондон, чтобы вынудить его оказать содействие в быстрейшем выводе войск. Андерс хотел также таким способом обеспечить себе известного рода алиби — дескать, он был вынужден на такой шаг, иначе погибли бы все. Такие разговоры он вел с разными офицерами штаба и частей, сея таким способом тревогу и беспокойство. В связи с этим атмосфера в армии была тяжелой. Теперь она с нетерпением ожидала момента эвакуации. Уже не было и речи о том, чтобы сражаться на Восточном фронте. Думали лишь о том, как бы поскорее покинуть пределы СССР.
При такой напряженной и нервной атмосфере дело доходило до безответственных эксцессов. Так, один из наших офицеров сорвал советский флаг, вывешенный в связи с местным советским праздником. Отношения с советскими органами стали не только напряженными, но прямо-таки угрожающими. Советский Союз и Красная Армия почти официально трактовались как враг.
Офицер связи при штабе армии полковник Волоковысский был отозван, а вместо него приехал генерал Жуков. Жуков старался как мог сгладить напряженные отношения. Андерс получил в подарок пару красивых коней, которых ему хотелось иметь. Затем Жуков устроил несколько охот на фазанов, зная, что Андерс очень любит охотиться. Потом по инициативе Жукова командующий военным округом в Ташкенте устроил большой прием в честь польского командования и установления дружественных взаимоотношений.
Во время торжественного обеда было произнесено несколько речей о необходимости совместной борьбы против Германии, о скором выходе на фронт и т. п. Поднимались тосты в честь Сталина и Сикорского. И опять, как всегда, Андерс заверял в своей лояльности и готовности как можно скорее пойти на фронт для борьбы с фашистами.
В то же время Андерс, выслав несколько телеграмм о положении Польской армии в Советском Союзе, считал, что уже достаточно подготовил штаб в Лондоне для того, чтобы иметь возможность прямо выдвинуть предложение о выводе польских войск из СССР.
В первых числах июня Андерс вызвал к себе Богуша, являвшегося тогда начальником штаба нашей армии и заместителем Андерса, и предложил ему «подготовить» длинную телеграмму на имя Сикорского, чтобы убедить его в безусловной необходимости нашего выхода из Советского Союза и получить на это его согласие.
В телеграмме, над которой потели оба генерала, указывалось, что армия голодает, не хватает продовольствия, а на улучшение условий питания нет надежды, и если так будет продолжаться, то армия просто погибнет от голода. Затем говорилось о нехватке оружия и отсутствия надежд на его получение, что срывает возможность обучения солдат. Если такое положение вещей продолжится, оно будет лишь деморализовывать армию и может привести к серьезным эксцессам, за которые он не мог бы взять ответственность на себя. В заключение подчеркивалось, что вследствие плохих местных условий дислокации положение с заболеваемостью прямо-таки катастрофическое, что ежедневно умирает по нескольку десятков человек, а тысячи лежат больными. Единственное спасение — это быстрейшая эвакуация из Советского Союза всего личного состава, тем более, что советские органы весьма враждебно относятся к польской армии.
Направляя эту телеграмму, которой предшествовало несколько других, но не столь тревожных, Андерс старался оказать на Сикорского давление и принудить не только дать согласие на выход войск из пределов Советского Союза, но и самому вмешаться в это дело как через посредство Англии, так и непосредственно.
Андерс был уверен, что этой телеграммой он заставит Сикорского принять решение. Через несколько дней пришел ответ, датированный 12 июня, однако совершенно не такой, какого ожидал Андерс. В своем ответе Сикорский категорически запретил польским войскам покидать пределы Советского Союза...
«...армия для более высоких политических целей обязана остаться в СССР», — писал Сикорский в своем ответе. Он приказывал не только как верховный главнокомандующий, но и как премьер-министр. По этому вопросу он даже прислал Андерсу решение Совета Министров от 14 июня, предлагавшее ему остаться в Советском Союзе. Обе эти телеграммы мы получили в Янги-Юль 15 июня.
Требуя в своем приказе, чтобы польская армия безусловно осталась в Советском Союзе и вместе с Советской Армией воевала против Германии, Сикорский предлагал повысить моральное состояние солдат и офицеров и обращал внимание на то, что всяческие трудности, если они и имеются (однако он не верит, что они доходят до размеров, описываемых Андерсом), вполне можно преодолеть, так как на фронте могут быть еще более тяжелые условия. Он писал также, что гражданское население находится в значительно худшем положении, чем организованные части войск, и тем не менее с трудностями справляется. Затем он подчеркнул, что, по его мнению, Андерс слишком все преувеличивает. В принципе Сикорский не соглашался с Андерсом ни по одному пункту телеграммы и квалифицировал намерения Андерса попросту как желание бежать, что равносильно дезертирству с поля боя. Он прямо-таки был возмущен такой постановкой вопроса.
В инструкции, которую Сикорский прислал на основе постановления правительства, он писал, что взаимоотношения с Советским Союзом необходимо довести не только до уровня хороших, но самых наилучших, и только борьба на фронте может и должна устранить всяческие недоразумения и укрепить дружбу. В заключение он предлагал обсудить свой приказ и инструкцию на совещаниях высших офицеров.
Получив такой ответ, Андерс страшно обрушился на Сикорского.
— Что он там мне будет приказывать и поучать, я его еще самого научу... — возмущенно, говорил он. — Все равно я добьюсь своего.
Как он позже похвалялся, приказ и инструкцию Сикорского он просто выбросил в корзину.
Однако увидев твердую и непримиримую позицию, занятую Сикорским, и отдавая себе отчет в том, что с этой стороны он не получит никакой помощи, Андерс удвоил свои усилия в реализации намеченных планов.
Он начал оказывать нажим на Гулльса, обсуждая с ним приказ Сикорского. Объяснял, что он, Андерс, стремится предоставить англичанам много хороших воинских частей, а Сикорский не понимает, какую огромную услугу он окажет этим англичанам, и хочет, чтобы армия осталась в Советском Союзе. Зачем? Для чего? Вероятно лишь на погибель. Гулльс выслушал со вниманием все жалобы Андерса и на следующий день заверил его, что наша армия наверняка уйдет из Советского Союза, что это уже решено. Он сам едет по этому вопросу в Москву, вернется через несколько дней и тогда подробно обо всем расскажет. После разговоров с Гулльсом Андерс по собственной инициативе послал Сталину письмо с просьбой дать согласие на вывод польской армии на Ближний Восток. Мотивировал уже известными и неизменно повторяющимися аргументами: трудности с продовольствием, недостаток оружия, климатические условия и т. п. Обещал, что армия после ее обучения и вооружения вернется.
Конечно, Сикорский об этом ничего не знал. Через два-три дня Гулльс действительно вылетел в Москву. По дороге задержался в Куйбышеве и там беседовал с послом Котом о выводе польского войска на Ближний Восток. Он считал это дело необходимым, так как в середине июня английские части на Ближнем Востоке потерпели большое поражение и возникала опасность, что вся оборонительная система в этом районе может не выдержать. Поэтому польская армия там крайне нужна.
Отзвук этой беседы отразился в телеграмме посла Кота Андерсу от 30 июня 1942 года. Посол Кот телеграфировал:
«Как Вы считаете, было бы целесообразно поддержать усилия англичан о переводе ваших дивизий на Ближний Восток?»
Одновременно профессор Кот несколько раз обращался к Андерсу с предложением приехать в Куйбышев для обсуждения срочных дел. Однако Андерс ответил, что ему некуда торопиться, что пока ему не с чем ехать, и поэтому он оттягивает свою поездку.
В то же время он объезжает все воинские части и заверяет всех в скорой эвакуации, чем усиливает возбуждение солдат. Всем обещает, что с момента отъезда и прибытия в Иран для каждого наступит отдых и сущий рай.
Помню, как мы, приехав в пехотную дивизию в Шахри-сиабз, знакомились с районом ее расположения. Там действительно было очень много больных. В переполненных госпиталях мест не хватало, людей клали на матрацы на открытом воздухе. Лекарств имелось очень немного, но как заверяли врачи, число заболеваний уменьшается. Говорили, что с эпидемией уже справляются. До окончания эвакуации в Шахрисиабзе умерло около трех с половиной тысяч человек. Умерших хоронили в общих могилах по десять, двадцать человек, не хватало досок для гробов.
Таков был результат перевода армии на юг, совершенный вопреки предостережению советской стороны на совещании 3 декабря 1941 года, о том, что в этом районе нездоровый и малярийный климат.
Находился там и женский лагерь. Женщины жили в «ульях». Это были землянки, построенные в виде улья, на два, четыре человека, по типу тех жилищ, в которых жило местное население.
В этих условиях здоровые солдаты проходили военную подготовку и настроение было неплохое. После ознакомления с частями Андерс провел в штабе дивизии совещание с офицерами, на котором рассказал о выводе армии из Советского Союза, при этом рисовал заманчивые картины будущего и заверял, что в самое ближайшее время солдаты и офицеры окажутся в значительно лучших условиях. Своим выступлением он вызвал энтузиазм у присутствующих, так как бездеятельность и болезни деморализовали многих и сказывались на боевом духе дивизии. О приказах Сикорского Андерс, конечно, умолчал.
После совещания я пригласил начальника штаба 6-й дивизии майора Ливинского на беседу, продолжавшуюся около часа. С майором Ливинским я находился в сердечных отношениях и считал его очень хорошим и рассудительным офицером, политически зрелым, стойких убеждений и смелым. Я старался его убедить в трагичном по своим результатам решении вывода армии из Советского Союза. Больше того, показал ему постановление польского правительства и инструкцию верховного главнокомандующего по этому вопросу. Он был поражен, так как ничего не знал. Мы договорились, что майор Ливинский должен был прислать мне условную телеграмму после разговора с некоторыми офицерами дивизии.
Я узнал, что Токаржевский, командир 6-й дивизии, принял решение самостоятельно пробиться к афганской границе. Издал даже об этом соответствующие приказы. Подготовка к этому велась давно. Под предлогом обучения высылались на далекое расстояние патрули, они изучали пограничный район, расположение советских гарнизонов, на случай возможного населения удара для захвата оружия и продовольствия. Все должно было произойти следующим образом: дивизия, находившаяся в ста с небольшим километрах от афганской границы, начнет проводить учения, связанные с дальними маршами в сторону границы. Под предлогом обучения дальним переходам Токаржевский намеревался в течение нескольких дней подойти к самой границе, а затем одним прыжком, обезвредить пограничную охрану и перейти границу. Совершенно очевидно, что все госпитали и больные были бы брошены на произвол судьбы. Точно так же семьи военных и гражданские лагеря, находившиеся при дивизии остались бы без всякой помощи.
Солдаты, конечно, ни о чем не догадывались. Они лишь выполняли приказы. У них были самые лучшие намерения, и они всегда были готовы идти сражаться на фронт.
Из 6-й дивизии мы поехали в 7-ю дивизию полковника Окулицкого. Там мы также знакомились с районом расположения, оказавшимся худшим, чем в 6-й дивизии. В Кермине и Гузаре, где находился запасной полк армии, командиром которого являлся полковник Леон Коц, заболеваний было еще больше. Половина личного состава соединений была не способна нести какую-либо службу. Одни были больными, другие в положении выздоравливающих.
После возвращения в Янги-Юль Андерс стал ожидать приезда Гулльса. При этом он не забывал проводить мероприятия, которые, по его мнению, должны были принести ему успех, поднять его авторитет и популярность.
Одним из этих мероприятий было принятие римско-католической веры. До сих пор Андерс исповедовал протестантизм и обряд миропомазания. Эту церемонию совершал лично епископ Гавлина.
В то время влечение поляков, находящихся в СССР, к религии было совершенно особенным. Люди, исстрадавшиеся, измученные жизнью и ее страшными условиями, без дома, а часто и без куска хлеба, люди, потерявшие свои семьи, своих близких, обращались к богу, ища утешения и надежды в молитве.
Андерсу необычайно понравилось богослужение в его воинской части, проведенное по случаю возвращения из Лондона. Во время этого богослужения Андерс был в центре внимания. Он решил подобные зрелища устраивать почаще. На них он мог бы публично, а не только перед солдатами и офицерами, проявлять свое рвение доброго католика. Он стремился привлечь на свою сторону ксендзов, так как признавал их силу и прежде всего епископа.
Сначала из перемены своего вероисповедания Андерс намеревался устроить настоящее зрелище. Речь шла даже о божественном «откровении», якобы снизошедшем к генералу от бога. С большим трудом удалось удержать его от такого шага. Епископ Гавлина объяснил Андерсу, что это будет не крещение, а лишь перемена вероисповедания. Ему советовали, если уж он так горячо воспылал к римско-католической вере, совершить обряд скромно, тихо, у себя на квартире. Именно такое обращение будет угодно господу богу. Вопреки своему желанию он вынужден был согласиться с советами, отказавшись от произнесения «вдохновенной» речи, которую уже подготовил.
Однажды во время богослужения Андерс принял причастие, а по окончании службы дал большой завтрак с участием епископа Гавлины, ксендза Ценьского, генерала Богуша и еще нескольких лиц.
С этого времени Андерс как рьяный католик причащался каждое воскресенье, хотя постоянно по субботам в квартире генерала устраивались гулянки с участием женщин-военнослужащих. Играл оркестр. Выпивалось множество вина. Довольно часто такие вечеринки продолжались до пяти часов утра. Это, однако, не мешало новообращенному утром причащаться, конечно, без предварительной исповеди. А молящиеся восторгались набожностью нашего генерала, шепча: «какой это должно быть хороший человек!»
Ожидаемая с таким нетерпением эвакуация все не начиналась. Андерс больше и больше нервничал и сильнее нажимал на Гулльса, в свою очередь торопил власти в Москве, прежде всего шефа английской военной миссии и английское посольство. Он начал сам объезжать польские воинские части и проверять их боеготовность. Андерс приказал всем командирам показывать лучшие подразделения. Вернувшись из поездки, Гулльс восхищался боевой выучкой солдат. Он выслал подробный рапорт о состоянии польской армии и о том, что видел во время поездки. При этом он настаивал на быстрейшем выводе польской армии за пределы СССР.
Он заверил Андерса, что в конце июня или в начале июля, армия, наверняка, будет выведена, в этом он может быть вполне уверен, англичане сделали все необходимое. В заключение беседы он сказал, что сам Черчилль занялся этим делом, и оно уже предрешено.
Андерс облегченно вздохнул и стал готовиться к выезду для встречи с послом Котом.
Между тем взаимоотношения между советскими и польскими офицерами ухудшались изо дня в день. Офицеры Красной Армии видели уже ничем не прикрытую позицию нашего штаба, не только недоброжелательную, но явно враждебную. Ни о чем другом не говорилось, а лишь об уходе, причем возможно скорейшем. Вопрос был тем более неприятным, что немецкое наступление в направлении на Кавказ и Волгу развивалось успешно. Андерс предсказывал поражение Красной Армии и падение Советского Союза, штаб же не мог нарадоваться предсказаниям гороскопов. Возбуждение было огромное.
Неожиданно стало известно, что генерал Воликовский, военный атташе нашего посольства, вел какую-то разведывательную работу, собирая с помощью агентуры сведения военного характера. Генерал Памфилов ставил этот вопрос перед Андерсом, а посол Кот писал Сикорскому о необходимости отзыва Воликовского. Компрометация была столь велика, что Воликовский был снят со своей должности и вскоре вынужден был покинуть Советский Союз. То же самое произошло и с ротмистром Пшездецким, также замешанным в подобных делах.
В связи с этим мы должны были ликвидировать нашу радиостанцию в Москве. Руководителем станции был подполковник Бортновский, коллега Василевского и Гано.
Подозрения советской стороны в отношении радиостанции были обоснованными.
Во-первых, руководивший радиостанцией в Москве Бортновский имел те же взгляды, что и лондонская «двуйка»: Советский Союз — это враг. Во-вторых, не удалось скрыть факта, что часть сотрудников нашей разведки сотрудничала с Германией. В-третьих, сбор нашим военным атташе в Советском Союзе сведений совершенно секретного военного характера вызывал вопрос, для кого он это делал. Перед лицом этих фактов советские органы отказались от сомнительных услуг нашей радиостанции.
Не прошло двух-трех недель, как разразился новый скандал. Один из чиновников нашего посольства, представитель общественной опеки, по приезде из командировки остановился в Куйбышеве в гостинице «Гранд отель» и, будучи в нетрезвом виде, забыл свой портфель с документами в ресторане. Администрация гостиницы нашла его и передала органам НКВД. Оказалось, что в портфеле находились инструкции посольства, предлагавшие вести на территории СССР разведывательную работу. Кроме того, там находились донесения о состоянии дорог, железнодорожного транспорта, о положении и настроениях населения и т. п.
Посол Кот не мог от этого отречься, так как такую инструкцию действительно составил и издал от имени посольства советник, правая рука и доверенное лицо посла Кота, а точнее его двойник, «второе я», Табачинский.
Вскоре после этого скандала посол Кот вынужден был покинуть свой пост. Между Советским Союзом и нами произошло такое нагромождение недоразумений, что о согласии трудно было даже мечтать.
Пятого июля мы вылетели в Куйбышев. Наконец, Андерс выбрался к послу, имея определенное заверение, что польская армия будет выведена из Советского Союза. Понимая, что сделал это вопреки указаниям Сикорского, он хотел соответственно подготовить к этому посла Кота, тем более, что за последнее время взаимоотношения между посольством и армией также очень испортилось. Посольство имело претензии к армии, к тому, что она самовольно направляет своих представителей на периферию, выполняя обязанности посольства и часто давая распоряжения, противоречащие указаниям посольства. Командование же обвиняло посла в том, что он обязывает своих представителей при штабе армии и в дивизиях шпионить и доносить ему обо всем.
Не желая вызвать слишком большого недовольства в случае, если армия уйдет, а семьи военнослужащих останутся, так как дело могло дойти до беспорядков, Андерс заранее хлопотал перед англичанами, чтобы они согласились на частичную эвакуацию и семей военных. Получив согласие, он разрешил некоторым военнослужащим привести свои семьи в район расположения армии. Многие солдаты и офицеры выезжали в далекие области и привозили своих родных в лагеря. Совершенно очевидно, что об этом узнало остальное гражданское население, и его недовольство было огромным.
Шестого июля во второй половине дня прибыли в Куйбышев и как всегда сразу поехали в посольство. Андерс начал совещаться с послом Котом. Все время обсуждался вопрос об эвакуации. Андерс сообщил послу Коту, что получил от англичан заверение о том, что вывод армии начнется в самое ближайшее время. Впрочем, посол Кот уже знал об этом и вел на эту тему переговоры с английским послом. Профессор Кот и Андерс пришли к согласию о необходимости эвакуации. Андерс просил у посла помощи относительно семей военнослужащих, изъявивших желание выехать вместе с армией.
Беседа с послом продолжалась до поздней ночи. Настроение в посольстве было тревожное. Все боялись, ожидая чего-то. Некоторые сотрудники обращались с просьбой о выдаче им оружия, так как «неизвестно, что может произойти». Они находились под впечатлением обыска, произведенного на территории посольства, а также сообщения, что посол Кот и Воликовский должны покинуть посольство.
На следующий день Андерс беседовал с английским послом, который сообщил ему, что получил инструкцию от своего министерства иностранных дел об эвакуации и о том, что английское правительство согласно на вывоз части семей военнослужащих, словом, все получилось так, как было условлено с Гулльсом. Все это было странным; Советское правительство еще не дало своего согласия на вывод армии, наше правительство ничего не знало и с эвакуацией не соглашалось, а Андерс с английским послом сэром Арчибальдом Керром подробно обсуждали весь вопрос эвакуации, словно он уже был решен. Английский посол заверял, что в Иране все готово к принятию войск и польских гражданских лиц.
После обсуждения с профессором Котом и английским послом вопросов эвакуации мы, 7-го вечером, вылетели в Янги-Юль. Андерс настойчиво требовал от английского посла, чтобы тот добивался согласия советской стороны на эвакуацию семей военных. При этом он разъяснил, что это имеет большое значение с точки зрения морального состояния солдата. Английский посол обещал всем заняться.
Утром на аэродроме в Ташкенте подполковник НКВД Тишков, замещавший Жукова, поставил в известность Андерса о получении телеграммы, в которой советское правительство выражало свое согласие на выход польской армии из пределов СССР.
Почему Советское правительство пошло на это? Советская сторона знала, какая атмосфера царила в нашей армии. Ей было известно, что командование армии не хочет, чтобы она пошла сражаться на восточный фронт. Советское правительство также хорошо знало, что эта армия самым враждебным образом относится к Советскому Союзу. Знали также о разведывательной деятельности, проводимой нашим военным атташатом и представителями общественной опеки. Имея все эти данные, советское правительство отдавало себе полный отчет в том, что, собственно, на польскую армию оно рассчитывать не может, что это армия не дружественная, а явно враждебная. При всем этом английское правительство со своей стороны нажимало на СССР о выводе польских войск. Этим вопросом, как сказал Гулльс, занялся лично сам Черчилль.
За изъявленное согласие на вывод польской армии из Советского Союза премьер Черчилль в телеграмме от 17 июля 1942 года благодарил лично Сталина, выражая в ней признательность за передачу польских дивизий для защиты Ближнего Востока. Интересно, что Черчилль не выразил благодарности за польские части ни польскому правительству, ни Сикорскому.
Была вторая половина июля. После получения разрешения на вывод войск Андерс все подчиненные ему соединения и части немедленно поставил в известность об эвакуации из Советского Союза.
Когда из Москвы в Янги-Юль приехал Жуков, он выглядел искренне расстроенным по поводу отъезда польской армии и все еще пытался склонить Андерса остаться. Однако Андерс был непреклонен в своем решении.
Сикорский в течение всего этого времени ни о чем не знал. Он не был информирован ни Андерсом, державшим этот вопрос в глубокой от него тайне, ни послом Котом, который также не считал своим долгом докладывать Сикорскому. Сикорский узнал о выводе польской армии из Советского Союза лишь в разгар эвакуации, когда большинство частей уже оказалась в Иране. Известие захватило его врасплох.
Вот как было осуществлено неизмеримо важное по своим последствиям решение о выводе польских войск из Советского Союза. Я считал это катастрофой для советско-польских отношений.
Я разговаривал об этом с генералом Раковским и с епископом Гавлиной, который, развлекаясь в одной компании с Андерсом, имел на него значительное влияние.
Единственным результатом подобных разговоров явились упреки со стороны Андерса, который говорил, что я, мол, бунтую, осложняю ему обстановку, мешаю его планам, и он вынужден после моих разговоров объясняться с рядом людей, которые, ссылаясь на меня, сомневаются в правильности его решения.
Были и иные последствия таких бесед. Однажды на одном из товарищеских собраний у нас в штабе в Янги-Юль я обсуждал с несколькими офицерами вопрос о выводе нашей армии. Сразу после собрания один из офицеров помчался к Андерсу и доложил ему обо всем, мною сказанном, подчеркивая при этом мою нелояльность в отношении генерала.
Андерс немедленно вызвал к себе ротмистра Кедача, также присутствовавшего на собрании, чтобы он сказал, действительно ли так было. Ротмистр Кедач, мой приятель, прекрасно понимающий мои намерения, как и возможные неприятности по поводу моих высказываний, старался приуменьшить значение нашей беседы и представил ее иначе. От генерала он сразу зашел ко мне и предупредил, что генерал знает обо всем и его тоже расспрашивал. Он рассказал о состоявшемся разговоре и предупредил, что Андерс меня вызовет. Однако на этот раз дело до объяснений не дошло.
Возвращаясь к телеграмме, которую должен был мне прислать начальник штаба 6-й дивизии после нашего с ним разговора, могу сказать, что действительно, майор Ливийский прислал телеграмму. Но адресовал ее не мне, а подполковнику Бонкевичу, начальнику второго отдела штаба армии, затем ему же курьером письмо, в котором доносил, что я готовлю в армии мятеж. Он также сообщал, что 6-я дивизия сохраняет верность Андерсу.
К счастью, по счастливой случайности, офицер-шифровальщик был моим товарищем, рекомендованным на эту должность мною, и разделял мои взгляды. Получив телеграмму, он прибежал ко мне и показал ее. Я взял от него телеграмму и просил об этом никому не говорить. Я обещал все устроить сам. Мне было ясно, что я должен быть готовым к разговору с Бонкевичем, так как знал, что все равно через несколько дней он будет обо всем знать.
Спустя три-четыре дня я пошел к нему поболтать. Изложил ему вопросы, с которыми пришел и которые он в общем-то хорошо знал. Он сказал, что ему известно, что приказ и инструкции Сикорского говорят одно, а Андерс делает совершенно другое, но его, мол, это не касается. Лично он политикой не занимается, поэтому будет делать вид, что не знает и не вмешивается в подобные дела. Отношение к этим вопросам лондонской «двуйки» было, пожалуй, таким же, как Андерса. Меня немного удивило какое-то особое безразличие к таким делам начальника второго отдела. Бонкевич показал мне письмо, полученное им от Ливинского. При этом добавил, что знает мою позицию в этих вопросах, но вмешиваться в них не думает.
Мои беседы на эту тему с другими офицерами — ротмистром Юзефом Чапским, майором Владиславом Каминским, поручиками Дзеконьским, Ентысем, Раценским, Бауэмом и рядом других, хотя и встретили понимание и положительное отношение, однако ожидаемых результатов не дали. В то же время мои действия в этом направлении, хотя они и проводились в духе приказа и планов Сикорского, были квалифицированы как попытка организовать в армии мятеж, об этом даже проинформировали Сикорского.
31 июля 1942 года по взаимному согласию польской и советской сторон было созвано совещание, на котором установлены окончательные условия эвакуации — вопросы передачи имущества, формы выезда, время и количество людей, подлежащих эвакуации. С польской стороны в нем принимали участие: Андерс, Богуш, Висьневский и я. С советской стороны — Жуков, Годейчук, Тишков и капитан Овчаренко.
Не буду описывать ход всего совещания, остановлюсь лишь на самых важных моментах. После совещания оформили подписанный всеми участниками протокол.
Вот что было указано в самом начале:
«В связи с постановлением Советского Правительства, решившего удовлетворить просьбу командующего Польскими вооруженными силами в СССР генерала дивизии Андерса об эвакуации польских воинских частей из СССР, эвакуации подлежат все без исключения соединения, части, подразделения и все солдаты Польских вооруженных сил в СССР, как и члены семей военнослужащих в количестве 20–25 тысяч человек, а всего солдат и членов их семей 70.000 человек».
Словом, вторично было подтверждено и Андерсом подписано, что эвакуация производится лишь по его личной просьбе. Позже этот пункт был скрыт от Сикорского Андерсом и знавшим о нем послом Котом.
Во время обсуждения Андерс, желая сохранить хотя бы некоторую видимость приличия обратился с просьбой об оставлении в целях проведения дальнейшего призыва в Польскую армию небольшого штаба, на что получил совершенно ясный и недвусмысленный ответ:
«Представитель правительства СССР генерал-майор государственной безопасности Жуков заявляет, что такая просьба не может быть удовлетворена, ибо правительство Польши, вопреки договору между СССР и Польшей, не считает возможным использовать на советско-германском фронте польских частей сформированных в СССР. Поэтому Советское правительство не может дать своего согласия на дальнейшее формирование в СССР польских частей...»
Это было совершенно ясно. Андерс подписал и то, что «правительство Польши, вопреки договору... не считает возможным использовать на советско-германском фронте польских частей, сформированных в СССР».
Подписывая этот пункт, Андерс тем самым шел на сознательный срыв договора, заключенный между Польским и Советским правительствами. Он мог еще в этот момент не согласиться с такой постановкой вопроса и заявить, что «если, мол, так, то мы остаемся в Советском Союзе и идем на фронт.» Но это противоречило его обещанию англичанам, поэтому он счел лучшим принять на себя всю ответственность за срыв договора, чем «обмануть, как он сам говорил, возлагаемые на него англичанами надежды».
Было согласовано, что эвакуация будет продолжаться с 5 по 25 августа. Планы перевозки по железной дороге и морским транспортом были сделаны офицерами связи Красной Армии при штабе и представлены нам для согласования.
Андерс заверил, что по приезде в Пехлеви части тотчас перейдут в распоряжение английских властей, с которыми имеется полная договоренность.
Уполномоченным по вопросам эвакуации Советским правительством был назначен Жуков, уполномоченным же польской стороны Андерс назначил Богуша, который должен был окончательно ликвидировать все дела, связанные с польской армией на территории Советского Союза. На этом, в основном, закончились переговоры об эвакуации. Затрагивали еще вопросы хозяйственные, о передаче имущества и т. п. Необходимо подчеркнуть, что Андерс добровольно и сам предложил передать в распоряжение советских властей излишек английского обмундирования: около тридцати тысяч комплектов, которые имела Польская армия. Впоследствии он хотел это представить таким образом, будто обмундирование самовольно задержал Берлинг, и всюду распространял такую версию.
Весь переезд проходил нормально и продолжался около двух недель. Еще в самом начале эвакуации, когда прошел слух, будто это последняя эвакуация и в результате ее произойдет срыв договора между нами и Советским Союзом, что вызвало волнение среди солдат, несколько раз Андерс выступал перед частями, указывая в своих речах, что призыв в армию будет продолжаться и предстоит еще одна эвакуация. Конечно, это было обманом, рассчитанным лишь на успокоение солдат.
Примерно 10 августа в Москву на совещание со Сталиным прибыл Черчилль, начальник имперского штаба сэр Алан Брук и генерал Вавель.
Тем временем эвакуация польских войск шла полным ходом. Главной базой эвакуации в Красноводске от имени польского командования продолжал руководить Зигмунт Берлинг. Почти ежедневно несколько тысяч польских солдат грузилось на корабли, предоставленные Каспийской флотилией, которые доставляли их на иранский берег в порт Пехлеви, где уже действовали лагеря под английской опекой.
По прибытии на железнодорожную станцию в Красноводске солдат задерживали на два-три дня во временных лагерях, а затем грузили на пароходы и отвозили уже на иранский берег.
Черчилль хотел встретиться с Андерсом и с этой целью пригласил его в Москву. Кажется, 12 августа мы вылетели из Ташкента в Москву. В Москве мы остановились в гостинице «Националь». Там же находились английские гости, за исключением Черчилля, которого поместили в отдельной даче под Москвой.
В это время отношения между нашим штабом и советскими офицерами связи были прохладными, но внешне вполне корректными. Поддерживались лишь необходимые контакты и только официально. Находясь в Москве, Андерс ни с кем из представителей советских властей не разговаривал, да, собственно, и говорить ему было не о чем. Все было кончено. Никто его не встречал и никто не провожал.
Черчилль так же не имел времени для беседы. Все время он был очень занят на совещаниях со Сталиным, которые продолжались сначала по нескольку часов, а потом чуть ли не целыми днями.
Два-три раза Андерс мельком разговаривал с английским послом Керром, проживавшим рядом с нами, и раз беседовал с маршалом Бруком и генералом Вавелем. Разговоры касались главным образом возможности боевого сопротивления советских войск. О польских делах не говорили, лишь один раз Брук спросил, как идет эвакуация, когда закончится и когда солдаты смогут быть готовы к боевым действиям. Андерс заявил, что эвакуация проходит вполне четко, никаких задержек нет, а если речь идет о солдате, то как только он получит оружие и ознакомится с ним, то будет готов.
Черчилль назначил Андерсу прием на последний день своего пребывания в Москве. В этот день Андерс на даче, отведенной английскому премьеру, ожидал Черчилля с семи часов вечера до трех часов утра. Я помню, как в большом красивом зале сидело почти двадцать человек: англичане, американцы и мы, двое поляков. Мы попивали водку и заедали бутербродами. На дворе слякоть, моросил мелкий частый дождь. В три часа утра от Сталина вернулся Черчилль, очень усталый, но довольный. Было заметно, что переговоры закончились успешно. В шесть часов этого же утра Черчилль должен был вылететь в Каир.
Черчилль с неразлучной сигарой во рту, заметив, что я не курю, достал из кармана сигару и предложил мне. Я отказался, поблагодарив, и добавил, что я не курю. Черчилль усмехнулся, слегка удивленный, и спрятал ее обратно. Позже Гулльс мне шепнул: «Почему Вы не взяли, нужно было спрятать в шкаф, на память, историческая сигара, было бы что показывать».
Из разговора стало ясно, что Черчилля абсолютно не интересовали польские дела. Он хотел лишь узнать, как Андерс оценивает Красную Армию и сегодняшний военный потенциал Советского Союза.
К этому вопросу Андерс не был подготовлен. Он полагал, что речь пойдет о польской армии и ее предполагаемом использовании. А этой темы Черчилль вообще не коснулся, кроме констатации, что польская армия находится в пути на Ближний Восток. Андерс на задаваемые вопросы ответить не мог. Никаких цифр не приводил. О положении на фронте и в тылу ничего не знал. Черчилля особенно интересовали бои под Сталинградом и на Кавказе, но Андерс ничего о них сказать не мог, кроме того, что они идут.
Черчилль был поражен полным невежеством Андерса в этой области. Общая оценка, даваемая Андерсом Советскому Союзу, была весьма отрицательной. Однако Черчилля не интересовала общая оценка, тем более, что он с нею не соглашался, а голословные утверждения для него были недостаточны. Поэтому в один из моментов Черчилль прервал разговор и в заключение пригласил Андерса в Каир, где, как он сказал, у него будет немного больше свободного времени.
Андерс должен был к этому времени подготовиться к беседе и свою оценку о невозможности продолжения войны Советским Союзом подкрепить соответствующими данными. Особенно, если речь идет о Кавказе, который, как утверждал Андерс, в ближайшее время падет.
Через несколько часов мы поехали на аэродром проводить Черчилля. Проводы были очень торжественными. В них принимало участие все Советское правительство во главе с Молотовым. Среди провожавших были военные, Шапошников и ряд других высокопоставленных лиц. На аэродроме была также рота почетного караула Московского гарнизона.
На следующий день после отъезда Черчилля вылетели в Ташкент. С нами, как всегда, неразлучно летел Гулльс. В Янги-Юль Андерс упаковал свои вещи, в том числе огромное количество драгоценностей. Их было так много, что генерал боялся лично провозить столько драгоценностей. Опасаясь возможного обыска, поэтому старался часть из них например кольца, раздать тем, кто летел самолетом. Между прочим, он дал одной военнослужащей, летевшей с нами, провезти несколько колец, в том числе перстень с тремя бриллиантами, купленный поручиком Косткевичем за восемь тысяч рублей.
Итак, 19 августа мы покинули советскую землю, чтобы уже никогда туда не вернуться. Мы летели через Ашхабад в Тегеран.
В этот же день после полудня приземлились в Тегеране.
Эвакуация заканчивалась. Большая часть воинских подразделений уже находилась на иранской земле.
Андерс расположился под Тегераном в красивой гостинице «Дербент». Мы имели там несколько комнат: салон, кабинет и две спальни. Остальные лица из ближайшего окружения генерала в свое распоряжение получили две комнаты на вилле рядом с гостиницей. Генерал оставил меня при себе в качестве того же офицера для поручений, хотя официально я занимал должность командира 12-го полка. Словом, я опять продолжал жить вместе с генералом и принимать участие в различных заседаниях, совещаниях, конференциях, поездках и инспекциях, а также в дальних выездах — в Каир, Палестину и т. п. Кроме того, почти каждый месяц я самостоятельно ездил в Каир и Палестину, где у меня было несколько принципиальных разговоров с профессором Котом.
В Тегеране произошла встреча посла Кота с Андерсом.
Профессор Кот понимал, что его политическая ответственность за нынешнее положение больше, чем Андерса, так как ему как представителю президента и правительства, (являясь послом в Москве посол Кот продолжал оставаться и министром, входящим в состав правительства). Андерс фактически был подчинен. Он не мог оправдываться своей неосведомленностью о происходящем в штабе, так как в течение всего времени имел там своего представителя. Сначала им был доктор Хауснер, а затем инженер Енич. Кроме того Андерс часто его информировал и почти не было такого периода, чтобы они не виделись по крайней мере раза два в месяц и не «совещались».
В это время посол Кот снова начал помышлять о разделении функций премьера и функций верховного главнокомандующего, намечая себе пост премьера. Вместе с Андерсом они решили, что Сикорский не должен совмещать оба поста, а сохранить за собой лишь один из них. Оба стремились к этому, но каждый своим путем и в результате каждый рассчитывал на какую-нибудь выгоду для себя. Если посол Кот желал занять пост премьера, а Сикорского оставить на посту верховного главнокомандующего, то Андерс стремился к тому, чтобы в случае разделения функций Сикорский сохранил за собой пост премьера, а обязанности верховного главнокомандующего передал ему.
Позже Андерс под влиянием англичан отказался от этого замысла и стремился к полному выключению Сикорского из нашей политической жизни, а затем и к его физическому уничтожению.
Но не будем опережать событий. Посол Кот отчетливо видел, что Андерсу присуща необузданная амбиция и жажда власти, что у него ограниченный ум и полное отсутствие политической подготовки. Поэтому он предполагал, что игра с Андерсом будет несложной. Он не учитывал лишь одного — что игру придется вести не с Андерсом, а с англичанами, орудием в руках которых он был.
Помню, как в день нашего перелета в Тегеран, Гулльс сообщил Андерсу, что на следующее утро будет готов английский самолет для полета в Каир.
А вечером мы сидели за ужином, в котором принимали участие: Кот, Андерс, наш посол в Тегеране министр Бадер, Гулльс, я и еще несколько лиц. Во время ужина, проходившего на террасе, к нам подошел капитан Мареш, руководитель филиала II отдела верховного командования в Тегеране, и подал Андерсу телеграмму с грифом «в собственные руки». Прочитав ее Андерс сначала сморщился, а потом усмехнулся. Подал ее послу Коту, а затем — мне. Это была телеграмма от Сикорского следующего содержания:
«Запрещаю Вам, господин генерал, поездку для встречи с премьером Черчиллем и ведение с ним каких-либо принципиальных переговоров. Это подрывает мой авторитет и весьма отрицательно влияет на общие польские вопросы.
Верховный главнокомандующий Сикорский.»После разговора с послом Котом по поводу телеграммы Андерс решил все же поехать. Кот не только не удержал Андерса от встречи, но, напротив, поддержал его в этом решении, сказав, что он должен лететь и не может поступить иначе, так как это, мол явилось бы оскорблением для Черчилля. Профессор Кот обещал свое заступничество, если Сикорский будет гневаться за не соблюдение субординации.
Андерс прекрасно понимал, что он нарушает сугубо военный приказ, причем данный ему в письменном виде, но разве мало было таких приказов, которые он бросал в корзину? К тому же имея заверение профессора Кота, что тот возьмет все это дело на себя, он тем быстрее решился на поездку.
В связи с отъездом Андерс совершил еще одну служебную нелояльность, может быть нечто большее, чем нелояльность. Он показал телеграмму Сикорского Гулльсу, подчеркивая, при этом, что хотя Сикорский запрещает ему встречу, с Черчиллем, он все же решил ехать. Это было уже второе официальное выступление против Сикорского перед англичанами — в обоих случаях он старался умалить Сикорского в глазах англичан и доказать свою преданность им. Первый раз, когда обсуждал приказ, запрещавший вывод польской армии из Советского Союза, он намекнул, что может быть Сикорский не доверяет англичанам и имеет в отношении них какие-то свои планы. При этом дал ясно понять, что если в связи с выводом войск он будет иметь какую-нибудь неприятность, то рассчитывает на помощь и заступничество Черчилля, так как делает это только ради него, только из огромного уважения, которое он питает к премьеру Англии.
Гулльс усмехнулся и дружески похлопал Андерса по плечу, с довольно иронической улыбкой заверив его, что он может быть спокоен, ибо Черчилль наверняка не подвергнет его каким-либо неприятностям. С этого времени Андерс фактически стал марионеткой в руках англичан. Уже не он вел игру против Сикорского, а англичане. Впрочем, иначе и быть не могло, ведь мы являлись предметом международных интриг и торгов, в чем Андерс совершенно не разбирался. Да и как он мог в чем-либо разбираться? В течение двух лет пребывания при Андерсе, ежедневно с ним общаясь, я никогда не видел, чтобы этот человек что-нибудь читал — газету, книгу или журнал, — не говоря уже о более серьезной литературе. Не интересовался даже ежедневными газетами. Он ни к чему не проявлял интереса. Конечно, кроме бриджа, девушек и охоты, да иногда бегов. Что происходило на свете, какие высказывались взгляды, что говорили о нас, какие были в отношении нас планы — никогда не доходило до его сознания.
Разве могли иностранные деятели иметь лучшего кандидата на пост верховного главнокомандующего или даже «вождя» народа?
Когда генералу докладывали какой-либо вопрос, какую-либо трудную проблему, он устранялся от их разрешения, говоря: «Жизнь сама все это разрешит, жизнь сама все это выведет на нужную дорогу» — и переходил к другим вопросам.
На следующее утро, когда мы уже были готовы к отлету, нам вручили еще одно шифрованное письмо от Сикорского. В нем он подробно разъяснял, почему не разрешает Андерсу ехать на встречу с Черчиллем. Он писал:
«...Господин генерал, Вы должны в будущем воздерживаться от вмешательства в вопросы, не входящие в Вашу компетенцию. Если вы еще не уехали в Каир, то воздержитесь от поездки, сославшись на этот мой ясный приказ. Формы организации наших войск на Ближнем Востоке определены в Лондоне с Британским штабом по предложению генерала Окинлека. Генерал Климецкий летит в Каир для обсуждения деталей. До прибытия начальника штаба верховного главнокомандующего переговоров по поводу организации не начинать...»
Это письмо также не остановило генерала.
Мы вылетели в Каир. Андерс, Гулльс и я.
На аэродроме в Каире нас встретил английский генерал Биннет-Несбит, глава союзнической миссии на Ближнем и Среднем Востоке, а на самом деле начальник английской разведки в этом районе и сотрудничавших в то время с англичанами разведок Польши, Чехословакии, Греции, Югославии и т. д.
Это было доказательством особого внимания и почета, которые проявляли в отношении Андерса англичане. Беннет-Несбит был весьма предупредителен и с изысканной вежливостью относился к Андерсу. Он сообщил, что Черчилль вот уже несколько дней ожидает приезда генерала. Это, конечно, была банальная вежливость, которая, однако, приятно щекотала слух Андерса. А может быть генералу действительно казалось, что Черчилль «ждет его несколько дней». О Беннет-Несбите было известно, что он является личным врагом Сикорского.
В Каире остановились в «Шеперд отель» — красивейшей гостинице столицы фараонов.
На следующий день Черчилль принял Андерса в помещении английского посольства. Разговор продолжался около сорока пяти минут. Черчилль опять интересовался главным образом и только Советским Союзом, его военным потенциалом и возможностями продолжения войны. Больше всего его интересовало, как будут проходить дальше бои на Кавказе. Он считал Андерса еще одним источником информации. Следует подчеркнуть, что он снова был сильно разочарован, так как Андерс опять не приводил никаких убедительных доводов. По поводу весьма отрицательного суждения о Советском Союзе, высказанного Андерсом, Черчилль ему заметил, что «публичное высказывание подобных взглядов было бы очень опасно, и враждебное отношение к России ни к чему хорошему не приведет». Андерс же, не располагая никакими цифровыми материалами, все же выражал свое твердое убеждение, что Кавказ падет в самое ближайшее время. Это был период, когда немецкое наступление на Кавказе развивалось успешно.
Черчилль не соглашался с такой оценкой и доказывал, что это невозможно, ибо Германия имеет на Кавказе столько же воинских соединений, что и Советский Союз, но, находясь на чужой земле с враждебно к ней относящимся населением должна сражение проиграть. При этом он подчеркивал, что Советский Союз имеет там замечательные условия для обороны и к тому же может использовать дополнительно еще несколько соединений из резерва. Черчилль прекрасно ориентировался, где, сколько и каких советских дивизий находилось, о чем Андерс не имел представления. Продолжая развивать свою мысль, Черчилль заявил, что для того чтобы Германия добилась победы на Кавказе, она должна была бы иметь там в три раза больше войск, чем имеет сейчас, а этого она сделать не может из-за отсутствия каких-либо резервов. Он добавил, что русские чувствуют себя так уверенно, что когда он предложил им помочь авиацией и построить на кавказской территории несколько аэродромов для английских воздушных сил, русские решительно отказались, считая, что в такой помощи они совершенно не нуждаются.
Хотя Черчилль совершенно не разделял взглядов Андерса и его стратегической оценки, он все же решил, подчеркивая при этом, что принимает во внимание точку зрения Андерса о возможности проникновения немцев через Кавказ, — на всякий случай дислоцировать польскую армию на территории Ирака для охраны иракской нефти.
Так было принято решение об оставлении нас в Ираке. Мы вошли в состав английской армии, которой командовал генерал Вильсон, позже ставший маршалом. Предполагалось, что наше командование расположится в Киркуке, а дивизии частично в Киркуке, частично в находящемся от нас в тридцати километрах Канекине.
Мы были там нужны не столько с точки зрения возможного проникновения немцев в те районы, сколько для предотвращения на нефтепромыслах внутренних беспорядков, ведь Ирак относился к англичанам враждебно и мог вторично предпринять попытку выйти из-под английского влияния. Чтобы не допустить этого и сохранить господство англичан, и была использована польская армия.
Разговоров о Польши не было никаких. Когда Андерс довольно робко намекнул о наших общих вопросах, Черчилль с раздражением ответил, что теперь не время рассуждать о польских делах, сейчас дела более важные — нужно выиграть войну.
Когда затем Андерс заметил, что армия измучена, так как находилась в тяжелых климатических условиях, и было бы хорошо, если бы она могла остаться в Иране или перебраться в Палестину, чтобы отдохнуть. На это Черчилль не без иронии ответил, что, насколько ему известно, Андерс «не уполномочен детально рассматривать эти вопросы.» Несмотря-де на то, что у них одинаковые взгляды на организацию польского войска, он, Черчиль, все же считает, что будет лучше, если окончательно это согласование будет произведено с Сикорским в Лондоне. По его мнению, условия для польской армии будут замечательные, а стратегические цели, о которых говорил Андерс, требуют ее пребывания в Ираке, а не где-либо в другом месте.
На этом, собственно, беседа и закончилась.
Протокол беседы вел английский полковник Якоб. Когда Гулльс принес протокол Андерсу, последний был очень недоволен рядом формулировок и обратился к Гулльсу с просьбой изъять их из протокола. Тот ответил, что сделать этого не может, так как это соответствует действительности и ему не дано право вносить поправки. Затем полностью перевел весь протокол, заметив, что он парафирован и никаким изменениям не подлежит. Андерс вынужден был подписать то, что ему представили. В польской версии появились записи этой беседы, произвольно препарированные Андерсом.
После переговоров в Каире мы примерно 25 августа 1942 года вернулись в Тегеран. Андерс посетил войска в Пехлеви, откуда они перебрались в Ирак.
Снова мы расположились в одной из крупнейших и самых жарких пустынь мира, в страшном зное, малярия продолжала мучить нас.
Сикорский был очень подавлен всем происшедшим. Он был уверен, что до всего этого довел своими интригами и происками Андерс, но не знал, как он это сделал. Взгляды Андерса и его желание вывести армию из Советского Союза ему были давно известны. Но он не мог и предположить, что Андерс пойдет столь далеко, чтобы вопреки его приказам и постановлениям польского правительства на свой страх и риск провести такую ответственную и принципиальную акцию.
За невыполнение приказа, запрещающего Андерсу выезд для встречи с Черчиллем, Сикорский приостановил назначение Андерса на должность командующего польскими войсками на Ближнем Востоке. Он говорил также о своем намерении отстранить его от исполнения служебных обязанностей.
Переговоры по этому вопросу тянулись несколько недель. Посол Кот старался как мог спасти положение Андерса. Совещался тогда с Андерсом по много часов в день и после каждого такого совещания посылал Сикорскому телеграмму, оправдывающую поведение Андерса. При этом советовал оставить его на должности командующего на Ближнем Востоке.
20 августа 1942 года, то есть в тот самый день, когда Андерс улетал в Каир, посол Кот направил Сикорскому такое письмо:
«...Я ужасно подавлен твоей телеграммой Андерсу. Ругать его за то, что он в Москве решал весьма срочные вопросы, это ведь для него невероятно обидно... Запрещение поездки в Каир Андерс воспринял весьма болезненно. Нельзя было к этому так относиться. Если Черчилль вызвал его в Москву для обсуждения вопросов Ближнего Востока и этот разговор перенес на вечер 20 числа этого месяца в Каире и прислал за ним сюда самолет, то чем можно было объяснить отказ от встречи? Нужно было ссылаться на твой приказ, но ведь он опоздал, так как телеграмма пришла в два часа ночи, а вылет был назначен на пять утра. Впрочем, от этого разговора может быть только польза для польского дела. Британское командование не во всем доброжелательно относится к полякам, доказательством чего может служить хотя бы выделение для размещения польского войска районов пустыни, малярийных, куда не посылаются английские солдаты. Я полагаю, что переговоры Андерса дают единственную надежду на отвод наших частей, куда их сейчас направляют. Из Вашей телеграммы следует, будто дивизии, прибывающие из СССР, должны расформировываться и вливаться во второй корпус. Это значит, что Андерс должен быть поглощен Заенцем. Если и можно говорить о каких-либо ошибках Андерса в России, то я уверен, что он своей энергией и полководческим талантом превышает всех здешних на несколько голов и что войска, прибывшие из СССР, не признали бы другого командующего, так как все были очевидцами невероятных трудов и усилий Андерса. Мне кажется, что и Черчилль, и Брук, и другие только в нем видят действительного командующего польскими силами и именно с его мнением будут считаться, — впрочем, это покажет будущее. Интересы нашего дела на Востоке требуют того, чтобы здесь не имели места никакие кризисы, тем более раздраженность. Поэтому видя, как Андерс удручен твоей телеграммой, очень прошу тебя изменить в отношении его тон и показать ему, что он пользуется твоим доверием, которого он заслуживает больше чем те, кто здесь против него интригует по чьей-то команде, сторонники старого режима и «двуйкажи», как будто теперь защищающие тебя от Андерса, а в других разговорах заявляющие, что их вождем был и будет Рыдз...»
Вот этакое письмо послал «приятель» Сикорского посол Кот в то время, когда он уже хорошо знал Андерса и его различные махинации. Сколько лжи в этом письме!
Совершенно очевидно, что Черчилль приглашал Андерса в Москву не для обсуждения вопросов Ближнего Востока. О Ближнем Востоке Андерс не имел ни малейшего представления, и трудно себе представить, чтобы английский премьер-министр искал совета и мнения Андерса на эту тему. Черчилль пригласил Андерса в Москву в расчете на то, что получит определенные конкретные данные о положении в России.
Телеграмму, запрещающую вылет в Каир, Андерс получил в гостинице «Дербент» в десять часов вечера во время ужина, на котором присутствовал и профессор Кот. А в два ночи об этом же было получено шифрованное письмо. Отлет был назначен на восемь часов утра, следовательно времени имелось вполне достаточно для его отмены.
Аргумент, что армия не признала бы другого командующего, кроме Андерса, был величайшей глупостью. Армия приняла бы любого, который был бы назначен приказом верховного главнокомандующего. Только может быть те, другие, не были бы так милы профессору Коту.
Запугивание Сикорского маршалом Рыдз-Смиглы — тоже невероятный абсурд: все мы прекрасно знали, что маршала тогда уже не было в живых.
Пока письмо посла Кота не вызвало положительной реакции, участниками событий вновь становятся генералы Янушайтис и Соснковский. Одного из них Сикорский намеревался послать на Ближний Восток. Когда распространился слух о возможном приезде Янушайтиса, наступила пора тесного союза Андерса с санацией. Андерс созвал в Тегеране специальное совещание высших командиров, на котором присутствовали генералы Токаржевский, Богуш, полковники Окулицкий, Сулик, Рудницкий, Коц и другие. Андерс заявил собравшимся, что Сикорский за вывод армии из Советского Союза может снять его с должности командующего. Хотя делал это он не один, все присутствующие были согласны с Сикорским. Он только осуществлял их желания. Кроме того, Сикорский вменяет Андерсу в вину переговоры с англичанами, главным образом с Черчиллем. Андерс заявил, что все это он делал в интересах и на благо Польши. Если Сикорский действительно не утвердит Андерса и захочет его отозвать, он просит поддержки присутствующих на совещании. Если они окажут ему такую поддержку, то он приказ Сикорского не выполнит.
Все присутствующие поддержали позицию Андерса, хотя не высказались, как они поступят в случае, ели Сикорский отдаст упомянутый приказ. А полковник Коц в довольно циничной форме заявил, что ему все равно, кто будет командовать армией, поскольку лично ему от этого никакой пользы. После разговора с командирами Андерс почувствовал себя немного увереннее.
Обо всем этом со стороны узнал посол Кот, конечно, с определенными комментариями. Вероятно, не желая, чтобы без его ведома разразился какой-то скандал, а, возможно, делая расчеты на будущее, профессор Кот провел с Андерсом длительное совещание, после которого написал большое письмо Сикорскому. В письме он добивался безусловного оставления Андерса на должности командующего армией на Ближнем Востоке, обосновывая это требованием времени. Перед отправлением письма, он передал его Андерсу для ознакомления и обсуждения. Прочтя письмо, Андерс внес несколько поправок и, обращаясь ко мне, сказал: «Вот видишь, какие у меня хорошие отношения с профессором Котом, как он мне помогает». Он передал мне письмо, чтобы я прочитал его. В тот же день письмо из посольства в Тегеране было передано шифром лично Сикорскому в Лондон.
В этот период Сикорский чувствовал себя уже совершенно одиноким, никто его не поддерживал. Правительство к военным делам относилось, пожалуй, безразлично. Впрочем, говорить о правительстве, способном принимать реальные решения, в то время было трудно. Это была просто группа разнородных людей с различными взглядами, преследующих различные цели.
Оппозиция, не представленная в правительстве, неистовствовала, стараясь свергнуть Сикорского. Борьба с Сикорским была единственным содержанием ее деятельности.
Ближайший друг Сикорского профессор Кот, открыто выступал против его планов.
В верховном командовании, которое почти целиком состояло из санацистов, у Сикорского также не было поддержки. Почти все не переносили Сикорского и рассчитывали на то, что в Андерсе они могут иметь «своего человека» именно для борьбы против Сикорского, поэтому и поддерживали его.
В конце концов, Сикорский под давлением всех этих обстоятельств смирился и отказался от своего решения отозвать Андерса. Письмо посла Кота, утверждавшее, что Андерс весьма лоялен по отношению к Сикорскому, способствовало назначению Андерса командующим польскими вооруженными силами на Ближнем Востоке.
Таким образом, после нескольких недель колебаний в середине сентября 1942 года, наконец, пришел приказ, и Андерс стал командующим польскими вооруженными силами на Ближнем Востоке.
Победа Андерса была полной. Генерал Заенц стал его заместителем.
Что представлял собой Заенц и почему выбор пал на него? Вероятно, у Сикорского просто не было под рукой никого другого. Некоторых он опасался, а Заенц ничего собой не представлял. Это был человек безвольный, слабохарактерный и неумный. Сикорский присвоил ему звание генерала дивизии и направил на Ближний Восток, как кандидата на должность командира второго корпуса, который предполагалось формировать. Сикорский полагал что Заенц сможет стать противовесом Андерсу, внушающим опасение, что в случае чего не Андерс, а он будет командующим (первоначальный вариант Сикорского). Если согласие Сикорского на назначение Андерса командующим еще как-то можно было объяснить, то назначение Заенца его заместителем понять было трудно, тем более, что Заенц никаким противовесом Андерсу стать не мог, поскольку он не имел авторитета и к тому же был большим трусом.
В это время Андерс больше всего заботился о том, чтобы упрочить и расширить свою популярность.
Через несколько дней после возвращения из Каира в Тегеран генерал выбрался в Пехлеви, куда прибывали транспорты людей из СССР и где временно располагался наш военный лагерь. Поездка проходила в обстановке крайней спешки, ведь в тот же день должно было состояться совещание с англичанами по вопросу о нашей дислокации польских воинских частей. Время было рассчитано по минутам, его не хватало на обстоятельное инспектирование лагерей. В этот раз мы ехали в открытом автомобиле вдоль многотысячных шеренг штатских и военных, стоящих по обе стороны дороги. Генерал стоял в автомобиле с видом победителя, как спаситель. Толпа восторженно приветствовала его, как освободителя всех из неволи. Он приказал остановить машину и поднял на руки какого-то мальчика лет шести, дал ему конфет и несколько минут с ним занимался. Стоявшая в стороне мать ребенка была восхищена, остальные умилялись этой идиллической картинкой. Когда мы двинулись дальше, я спросил генерала, зачем он это делает, зная, что у нас так мало времени. Генерал мне ответил:
— Понимаешь, это очень важно, это лучшая реклама.
Подобным образом он вел себя и во время посещения больницы в Тегеране. У Андерса не было тогда времени, чтобы выявить недостатки и трудности особенно с медикаментами, чтобы реально помочь делом, но зато он присаживался к какой-нибудь больной старушке и порядочное время вел с ней разговор.
— Это дела самые важные, — сказал он мне потом, — вот так создаются легенды. Она будет после рассказывать об этом, как о самом величайшем событии в своей жизни. Всем кумушкам будет хвалиться, что разговаривала с самим генералом и какой это благородный генерал...
Во время каждого нашего инспекторского выезда к генералу подходили десятки лиц с различными просьбами. Он приказывал мне все просьбы обстоятельно записывать. Когда после инспекции я напоминал генералу, что нам нужно еще решить несколько вопросов, о которых просили люди, он отвечал: «Ты, что с ума сошел, брось в угол, не хватало еще этим забивать себе голову.»
В середине сентября, уже после назначения командующим армией, Андерс переехал в расположение новой главной квартиры в Кызылрабат, вместе с ним переехал туда и я. Одновременно англичане передали в расположение генерала роскошную виллу в Багдаде, находившуюся за городом в большом, ухоженном саду, чтобы он мог каждую субботу ездить туда на отдых после недельного «изнурительного» труда.
Даже и теперь не понимаю, по каким причинам в этот период профессор Кот резко выступал против меня. Несколько раз я обращался к Андерсу с просьбой освободить меня от должности офицера для поручений, мотивируя тем, что могу в будущем принести ему немало «беспокойства».
Защищая Андерса, посол Кот писал:
«Андерсу очень вредит деятельность Климковского..»,
или в другом месте:
Андерс производит отличное впечатление. Как его деятельность, так и его военные знания открыли ему дорогу в высшие инстанции, и каждое его пожелание выполняется. В основных вопросах его взгляды те же, что и Сикорского, они могли бы обойтись без переписки, словно мысли верховного главнокомандующего передаются ему. Мое с ним сотрудничество предвещает быть примерным... Андерс замечательный человек...»
Может быть генерал и освободил бы меня, по моим неоднократным просьбам, если бы не вмешательство в эти дела посла Кота. Как только об этом он заговорил, Андерс упрямился и наперекор ему оставил меня при себе.
Все время после выхода армии из Советского Союза на Ближний Восток в военной среде было неспокойно. Период до конца 1942 года прошел во внутренних интригах, в столкновениях в верхах, во взаимном подсиживании с должностей и непрекращающейся реорганизации армии.
Сначала по плану верховного главнокомандующего на Ближнем Востоке предполагалось создать два корпуса, в каждом по две дивизии и в каждой дивизии по две бригады плюс корпусные части. Такая структура Андерса не устраивала, он не желал быть командиром корпуса и иметь соперника в лице командира другого корпуса. Он стал маневрировать, чтобы этого не допустить, и вновь при участии министра Кота, который его поддержал, поставил на своем, решили, что будет один отдельный корпус из двух дивизий, по две бригады в каждой, две танковые бригады и корпусные части. Но и это не удовлетворяло амбиций Андерса, он хотел быть командующим армией. Наконец, согласились и на это. Этот корпус назвали Польской армией на Востоке.
Когда название было установлено, Андерс сразу же начал саботировать все изданные ранее организационные приказы в пользу существующего положения, создавая этим невероятный хаос. Фактически имелись: 3-я дивизия генерала Копаньского в полном составе, 5-я дивизия генерала Богуша, 6-я дивизия генерала Токаржевского, укомплектованная лишь на 50%, и 7-я запасная дивизия полковника Окулицкого с 30 % личного состава, одна танковая бригада генерала Пашкевича и корпусные части. Эта структура фактически сохранялась почти до самой смерти Сикорского.
После долгой тяжбы с Андерсом по поводу организации армии первой жертвой закулисных интриг стал Пашкевич, назначенный Сикорским командиром 5-й дивизии.
5-я дивизия полного состава с точки зрения ее боевой подготовки была одной из лучших. Она первой формировалась еще в Ташкенте и не претерпела крупных реорганизаций, кроме перемены командиров. Ее первым командиром был генерал Борута-Спехович, которого Андерс сплавил на Средний Восток. Следующим командиром дивизии был Раковский. После прибытия на Ближний Восток согласно приказу верховного главнокомандующего ее командиром должен был стать Пашкевич.
Но Андерса это не устраивало. Он решил помешать. Пашкевича он не любил за его лояльное отношение к Сикорскому и опасался, что по этому поводу будет иметь с ним много хлопот. Учитывая, что Пашкевич командовал бы лучшим боевым соединением, Андерс боялся, что это может стать для него небезопасным, и решил не допустить этого. На 3-ю дивизию Копаньского он рассчитывать не мог, так как Копаньский ни в каких интригах никакого участия не принимал. Он всегда поддерживал Сикорского. Что касается 6-й дивизии, которой командовал Токаржевский, то Андерс никогда не знал, чего можно от нее ожидать. Эта дивизия была насквозь санационной и пребывала в полной зависимости от настроения и капризов Токаржевского.
Таким образом Андерс был остро заинтересован, чтобы по крайней мере эта единственная 5-я дивизия была доверена преданному ему человеку.
Он старался где и как мог скомпрометировать Пашкевича. Это было довольно трудно, так как Андерс не хотел снова обострять отношения с Сикорским, тем более, что лишь недавно едва выкарабкался из затруднительного положения. Тем не менее он все же решил 5-я дивизию передать Богушу, своему, как он полагал, приятелю и сообщнику по многим нечистым комбинациям, во всяком случае явному в то время недругу профессора Кота.
Он считал необходимым так повести дело, чтобы Пашкевич сам отказался от командования 5-й дивизией. Андерс прилагал все усилия, чтобы охарактеризовать Пашкевича в самых темных тонах, подорвать его авторитет, создать о нем плохое мнение. Когда почва была подготовлена, он пригласил Пашкевича к себе и стал доказывать, что тот не должен принимать командование 5-й дивизией, поскольку его не примет офицерский корпус. Он убеждал в том, что этот офицерский корпус, сформированный в Советском Союзе, имеет своеобразный способ мышления, которого не знает Пашкевич, и это создаст ему дополнительные непреодолимые трудности и т. д. и т. п. Наконец, он советовал Пашкевичу добровольно отказаться от 5-й дивизии и взамен предложил ему командование танковой бригадой, которая должна была формироваться. Пашкевич, не разбиравшийся еще тогда в обстановке и не знавший комбинаций Андерса, не увидел в этом коварства. Он уступил нажиму и отказался от 5-й дивизии, согласившись принять командование танковой бригадой. В состав бригады входил первый полк Креховецких уланов, батальон «Львовских детей» и танковый батальон. Словом весьма разнородный элемент. Из такого конгломерата Пашкевич старался сделать однородное соединение.
Казалось, наступила определенность: командующим армией стал Андерс, его заместителем Заенц, начальником штаба армии Раковский, командирами дивизий, 5-й Богуш, 6-й — Токаржевский, 7-й запасной — Окулицкий, 3-й Капаньский, командиром танковой бригады — Пашкевич. Главные должности укомплектованы, и должно, наконец, наступить спокойствие и начаться нормальная работа. Но именно после назначений интриги усилились.
Желая приблизить профессора Кота к армии, показать ему ее подлинное лицо и на этом фоне роль молодежи (в Советском Союзе посол Кот ни разу не посетил военных лагерей), в своем полку на Новый год я устроил вечер, на котором присутствовало свыше двухсот человек. Было много молодежи, именно той, наиболее подвижной и деятельной, которая принимала в жизни армии активное участие. Молодежь, которая составляла ядро армии. Конечно, был в полном комплекте и генералитет и немного штабных офицеров. Приглашены министры Кот и Махломме, польский посол в Багдаде.
Профессор Кот не оправдал моих надежд, так как почти все время беседовал главным образом с генералами, и то наиболее санационными. Видимо, генеральский мундир импонировал ему больше, независимо от хозяина. Разговаривал он с Токаржевским, с полковником Вятром и другими, суля каждому златые горы и стараясь привлечь их на свою сторону. Токаржевский вскоре получил звание генерала дивизии. Вятр получил звание генерала. Зато с Пашкевичем, единственным из генералов, сохранившим лояльность в отношении верховного главнокомандующего, министр Кот перебросился лишь несколькими общими фразами. Подхорунжих, которых присутствовало свыше двадцати, он почти не замечал и ими не интересовался, с младшими офицерами разговаривал мало. В основном министр Кот беседовал с коллегами Бау и Раценским по общим вопросам. Когда Бау указывал ему на некоторые недостатки в деятельности правительства — бесплановость и отсутствие успехов, профессор Кот отвечал односложно и старался избегать серьезной дискуссии.
Из новогодней речи, произнесенной на этом вечере, мы узнали от профессора, что главным государством на земле, которое будет иметь решающий голос на мирной конференции и от которого в большей мере будет зависеть судьба Польши, является ... Мексика (?). Именно в это время в Мексике находился Сикорский и вручил ее президенту орден Белого Орла.
Повидимому, профессор Кот немного изменил свое отношение ко мне. С этого времени он не только не избегал меня, но пожалуй, даже искал со мной контакта и часто приглашал на беседы. Помню его телеграмму, посланную Андерсу из Иерусалима:
«Прошу Вас, господин генерал, в ближайшие дни приехать в Иерусалим, если Вы не сможете лично, то пусть прибудет ротмистр Климковский.
Ст. Кот»Таким образом, произошла перемена в лучшую сторону. Однако, чтобы разобраться во всей обстановке, чтобы прекратить всякие кривотолки относительно моей позиции и других молодых офицеров, особенно о мятеже, о котором болтали все чаще — называлась даже дата — февраль 1942 года, я решил вместе с ротмистром Юзефом Чапским поехать из Ирака в Иерусалим. Там в четырехчасовой беседе с профессором Котом я старался осветить действительное положение вещей в армии и изложить свои взгляды. Министр Кот во всем соглашался с нами, что в правительстве, мол, нет подходящих людей, однако объяснял это действиями разных партий, входящих в состав правительства.
В заключение мы решили, что он обо всем доложит Сикорскому.
Более ясного заявления и более четкой позиции нельзя было и представить.
В это время отношения Андерса с англичанами начинают все более укрепляться. Дружба растет изо дня в день, а атаки на Сикорского становятся все более дерзкими. Теперь Андерс уже не скрывает своих взглядов, а говорит ясно и громко, что Сикорский должен уйти в отставку. При этом дает понять, что его точку зрения разделяют англичане.
Несколько раз к нам из Каира приезжал английский министр Кейси. Он был тогда государственным министром по вопросам Ближнего и Среднего Востока и входил в состав узкого военного кабинета. Приезд такого сановника в польскую армию, которая, учитывая ее небольшой количественный состав, не могла входить в серьезные английские расчеты, являлся событием, заслуживающим широкого внимания. Кейси знакомился с нашими военными лагерями, вел разговоры с Андерсом, и всюду его принимали с большим почетом.
Несколько раз нашим гостем был Вильсон, командующий группой войск «Сирия — Палестина — Ирак — Иран». Приезжали также генерал Боннет-Несбит, английский посол в Багдаде Корнваллис и ряд других лиц.
Все эти визиты организовывал и осуществлял Гулльс. Он над ними шефствовал и всегда старался, чтобы обе стороны были в полной мере удовлетворены встречей.
Важнейших гостей, таких, например, как Кейси, всегда сопровождал почетный эскорт как в городах и лагерях, так и в пути. Встречали их всегда с большой помпой, с эскадроном почетного караула, с оркестром, парадами и приемами в какой-либо из дивизий, а затем показом спектаклей или так называемыми встречами у костра. Во время приемов, обедов или ужинов выступали хоры, балетные группы, солисты и т. д.
То же самое делалось, если приемы происходили на вилле Андерса в Багдаде. Тогда также приглашались художественные ансамбли, оркестры, солисты и т. п.
Во время таких приемов или визитов никогда не затрагивались какие-либо важные вопросы, касающиеся армии или общих польских дел.
Кроме вечеринок и других развлечений ничего не делалось конечно, помимо того, в чем были заинтересованы англичане.
Все приезжающие к Андерсу были очарованы тем, как их встречали, угощали, чествовали, каким окружали вниманием, они были приятно поражены предупредительностью хозяина и проводили время в исключительно веселом настроении дружелюбия и сердечности.
Уместно заметить, что, если бы от количества пиров зависел выигрыш войны, то Андерс затмил бы Наполеона.
Одновременно происходили и большие приемы, которые приятно импонировали праздному образу жизни Андерса.
Хотя такие приемы устраивались не в английских сферах, однако всегда над ними шефствовал Гулльс. В большинстве случаев он даже сам приносил приглашения.
Таким способом мы дважды побывали у шаха Ирана. В первый раз это было в честь его дня рождения. Он принял нас на специальной аудиенции. Я вручил ему отделанную серебром шкатулку с фотоснимками эпизодов из жизни польской армии, в качестве дара иранской армии шаха. Во второй раз, он пригласил нас на охоту на муфлонов, специально для нас организованную, проводившуюся в красивых окрестностях Тегерана. Нас было всего несколько человек: шах, маршал его двора и великий ловчий, Андерс, я и, конечно, Гулльс.
Мы поехали на автомобилях в горы, примерно в тридцати километрах от Тегерана, на исходный пункт, куда нас привел какой-то иранец из свиты шаха. Когда мы туда прибыли, то почти тотчас же на замечательном «Паккарде» подъехал шах, сам управлявший машиной. После взаимных приветствий пересели на коней и двинулись в горы. Лошади шли по горам, а вернее по скалам, привычно легко, как в ковбойском фильме. Заметив за километр-два от нас стадо муфлонов, мы устремлялись к нему, за двести-триста шагов от него — соскакивали с лошадей и начинали стрельбу по муфлонам. Перепуганное нашими выстрелами стадо убегало, а мы садились на коней и скакали в горы искать новое стадо.
Я восхищался шахом, который как настоящий джигит на полном скаку соскакивал с коня, припадал на колено и стрелял. Лишь один он убил трех муфлонов. Никто из участников охоты ни разу не попал в цель.
Часа в два сделали перерыв, и шах пригласил нас на охотничий обед в палатку, специально поставленную в районе нашей охоты.
Все были так измучены, что после обеда, составленного из самых изысканных, национальных блюд, только шах и я сели на коней и помчались искать муфлонов. Однако испуганные нашей утренней стрельбой животные убежали и скрылись, так что через несколько часов мы вернулись ни с чем. Вечером мы отправились в Тегеран.
Несколько раз мы были на приемах у регента Ирака — Эмира Абдулы Иллоха и однажды на большом вечернем приеме по случаю дня рождения короля Фейсала.
Прием проходил в Багдаде вечером в великолепном саду. Сад действительно был как в сказке из «Тысячи и одной ночи». В темноте всюду мерцали разноцветные фонарики, освещающие дорожки, клумбы, аллеи, беседки и иные чудеса королевского парка. Красиво выглядели расцвеченные фонтаны. Множество разноцветных огней всех видов и тихая музыка создавали незабываемое настроение.
Встреча с королем Египта Фаруком состоялась в Каире.
Ничего удивительного, что все это очень нравилось и импонировало Андерсу. Его принимали во дворах королей и шахов, царствующие особы оказывали ему почести.
Он жил, как в сказке, обстановка менялась, как в калейдоскопе — все краше, все привлекательнее. Генерал всем этим был очарован, восхищен, почти опьянен, находится в постоянном возбуждении, как в горячке. Он таял от восхищения англичанами, подхватывал каждую их мысль, с величайшим удовольствием выполнял все их указания, как будто по их милости уже стал неким царьком.
В этот период он мне часто говорил:
— Знаешь, мне хорошо, просто замечательно, хотел бы, чтобы всегда так было, до конца жизни. Лучше мне никогда не будет.
Андерс довольно быстро приобрел себе среди англичан много друзей и пользовался у них самой лучшей репутацией. Крупные полководцы и министры Ближнего и Среднего Востока начали его открыто поддерживать уже не только в этом районе, но и в Лондоне, выдвигая его на первое место и считая его более удобным для себя, чем Сикорского.
С Сикорским они вынуждены были считаться как с государственным деятелем, вынуждены были считаться с его большим международным авторитетом. С Андерсом же вообще могли не считаться. Он был ничем и ничего собой не представлял, зависел только от англичан, и они могли с ним делать что хотели и как хотели — он послушно выполнял их волю.
Все чаще в кругу Андерса слышался ропот в адрес Сикорского, что он мешает, осложняет жизнь. Во время таких сетований Андерс несколько раз обращался к Гулльсу за советом — что сделать, чтобы лишить Сикорского поста верховного главнокомандующего, так как, он мол не подходит для этого поста, не знает как вести войну и кроме двадцатого года участия ни в какой другой войне не принимал и т. д. и т. п.
Мне казалось, подобные мысли исходили не столько от самого Андерса, сколько от Гулльса.
Наконец, после многократных подобных рассуждений было согласовано почти под диктовку Гулльса, что Андерс пошлет на имя президента Рачкевича письмо, в котором будет требовать снятия Сикорского с поста верховного главнокомандующего. Написав это письмо, Андерс дал его просмотреть Гулльсу, чтобы услышать его одобрение.
Когда я однажды зашел к Андерсу на завтрак, завтракали мы всегда вместе, я застал Гулльса, который тоже всегда завтракал с нами, рассуждавшего о том, кого направить к президенту Рачкевичу с письмом, чтобы тот мог спокойно его вручить и без осложнений вернуться. Опасались, что посланец может быть арестован Сикорским за подобного рода выходку.
Тогда Гулльс решил, что в Лондон полетит Казимеж Висьневский, заместитель начальника штаба. Там он явится в английскую разведку, которая уже будет о нем знать и гарантирует ему безопасность. При этом дал адреса, где и к кому Висьневский должен обратиться, чтобы обеспечить себе средства передвижения и безопасность как в пути, так и в Лондоне.
Выбор пал на Висьневского, на мой взгляд, не случайно. Он был офицером штаба Соснковского еще до войны и являлся большим его поклонником. На Востоке он был довольно активным деятелем санации, имел задание наладить взаимоотношения санации лондонской с той, которая находилась на Ближнем Востоке вместе с Андерсом.
Зная подробно о задуманной Андерсом и согласованной с англичанами акции, понимая, что она подготовлена англичанами, и имея возможность пользоваться самолетом, который постоянно летал в Каир, Тегеран или Палестину, я специально вылетел к профессору Коту.
Это было в начале марта 1943 года. Я прилетел в Каир и сообщил профессору Коту, что хочу с ним увидеться. Он пришел ко мне в гостиницу «Шепардс», где я остановился.
Я рассказал тогда профессору Коту, что Андерс по наущению Гулльса специальным курьером направляет письмо Рачкевичу, в котором требует снятия Сикорского с поста верховного главнокомандующего. При этом я подчеркнул, что англичане обеспечили курьеру перелет в Лондон и обратно. Они зашли так далеко, что на случай, если бы Сикорский захотел задержать Висьневского, они гарантировали ему полную безнаказанность, обещая возвращения его к Андерсу.
Профессор Кот не выразил особого удивления этим сообщением. Он лишь недоумевал, почему Андерс так спешит с устранением Сикорского, и Кот говорил мне, что в лице Андерса видит преемника Сикорского через несколько лет. Такими выводами я был совершенно поражен.
Наконец, после нескольких часов беседы, когда я доказал профессору Коту, что Андерс тесно сотрудничает в деле смещения Сикорского с санацией, Кот заявил мне, что если Андерс хочет, чтобы Соснковский стал премьером, а он верховным главнокомандующим, то из этих планов ничего не выйдет. Англичане Соснковского недолюбливают и не согласятся на то, чтобы он был премьером, следовательно Андерс не может стать верховным главнокомандующим. Профессор Кот также особо подчеркнул, что группа «людова», имея безусловную поддержку англичан и почти гарантию, что она из правительства не выйдет, имеет обеспеченную возможность правления в будущем.
Я указал профессору Коту на сотрудничество, причем самое близкое, англичан с Андерсом. Обратил его внимание на то, что это нечто большее, чем сотрудничество, поскольку речь идет о вмешательстве англичан в наши внутренние дела. Они провоцируют и организуют интриги и трения, они их даже вызывают и организуют. Реакция профессора Кота была спокойной. Он явно старался сгладить остроту, подчеркивая: «Они могут этим заниматься для каких-то своих надобностей, но не стоит придавать этому значения.»
Позже, я убедился из всех тех сообщений, которые от меня получил Кот, он постарался извлечь как можно больше пользы лично для себя.
Через несколько дней после этого разговора подполковник Висьневский по пути в Лондон остановился в Каире. А пятью днями позже Кот был вызван к Сикорскому.
Перед отлетом он направил Андерсу телеграмму, полную славословия и пожеланий, чтобы «под его замечательным командованием Войско Польское развивалось, набирало сил, и чтобы он счастливо довел его до Польши».
Лесть была характерна в отношениях профессора Кота к Андерсу. Телеграммы изобиловали восхищениями и восторгами, например:
«... В день Вашего рождения, от себя лично и от сотрудников посольства шлю Вам, господин генерал, самые сердечные пожелания. Радуюсь, что счастливая звезда Польши сосредоточила в Ваших руках все наши военные усилия на востоке, верю, что Вы поведете на Родину наше войско, и легенда о Ваших походах и делах будет одной из замечательных в истории.
Кот».Андерс хранил эти «бумажки», как он их называл, для того, чтобы при надобности показывать.
Когда посол Кот после прибытия в Лондон, явился к Сикорскому, тот, не скрывая возмущения, показал ему письмо Андерса к Рачкевичу: «Вот он, хваленый твой Андерс!» Кот был потрясен. Но даже после этого он не решился честно рассказать правду об Андерсе, о его происках и намерениях. Как всегда, профессор Кот смалодушничал, но Сикорский многое понял.
У нас в это время все обстояло как будто нормально. Вечеринка за вечеринкой — одна лучше другой, все расточительней, все изысканней и все оригинальней.
И при всем этом — непрекращающиеся интриги и взаимное подсиживание.
Поскольку такая роскошная жизнь требовала значительных расходов, то на нее тратились казенные деньги, конечно, без отчета.
Вид восточной роскоши, богатство дворцов, комфортабельные условия усилили аппетит Андерса. Он понимал, что все то, что его окружает, носит лишь временный характер, что этот мираж должен будет когда-нибудь кончиться, а к обычному образу жизни ему возвращаться не хотелось. По его разумению, это было бы унизительным. Поэтому нужно было сейчас так себя обеспечить, чтобы продлить роскошную жизнь на долгое время. Конъюнктура этому благоприятствовала. Итак, Андерс начал «обеспечиваться».
Сначала он покупает бриллианты, а позже уже без всякого стеснения переводит казенные деньги в заграничные банки на свое имя.
Первый бриллиант Андерс купил в Каире. Стоил он триста шестьдесят фунтов. Это был довольно красивый камень в три с половиной карата.
Он распорядился вправить его в свой золотой портсигар (приобретенный, как я уже писал, еще в Москве, тоже на казенные деньги).
Через две-три недели купил следующий бриллиант, более дорогой и более красивый. Он стоил уже пятьсот пятьдесят фунтов и имел пять каратов. Он заказал вделать его в перстень и стал носить на пальце.
Вскоре о бриллиантах генерала начали поговаривать. Некоторые посмелее позволяли себе распространять на эту тему остроты, вроде той, что лишь стяжатели, разбогатевшие на торговле свиньями, так фасонят и похваляются безделушками. Начальник штаба армии Раковский несколько раз просил Андерса не носить перстень, поскольку это вызывает «непристойные сплетни». Андерс, возмущенный и недовольный, все же снял перстень и спрятал в свою шкатулку.
Это, однако, не помешало генералу продолжать приобретение одного бриллианта за другим. Их было уже семь, весом от трех до шести каратов и стоимостью свыше двух тысяч девятисот фунтов. Совершенно ясно, что все эти приобретения делались за казенные деньги.
Как мне стало известно, генерал при посредничестве своих доверенных лиц начал почти регулярно заниматься спекуляцией бриллиантами, которая приносила неплохой доход, особенно если к этому добавлялось кое-что из государственной кассы.
В вопросах кадров Андерс последовательно проводил политику устранения офицеров, симпатизирующих Сикорскому. Особенно сильную кампанию он вел против генерала Пашкевича и полковника Корнауса, которого хотел отдать под суд или перевести в резерв. Но поскольку этот офицер был очень тактичен и безупречен в поведении, было трудно к чему-либо прицепиться. Эта борьба закончилась смертью Корнауса. Как объясняли причины этой смерти, расскажу позже.
Вскоре вернулся подполковник Висьневский и привез ответ из Лондона.
Президент Рачкевич, собственно, на письмо Андерса никакого ответа не дал, обошел его полным молчанием. Прислал же ничего не значащее письмо вежливости, которое кроме благодарности за память и весьма скромных и умеренных пожеланий Андерсу ничего не содержало. Разочарование и злоба охватили Андерса.
Ответил же Андерсу сам Сикорский. Я читал его письмо. Из него было видно, что Рачкевич письмо Андерса передал Сикорскому. Сикорский между прочим писал: «...только вместе с жизнью расстанусь с постом верховного главнокомандующего...»
На лице Андерса, когда он мне показывал письмо Сикорского, я заметил ранее не известное мне выражение какой-то ожесточенности и ненависти, глаза блестели угрожающе.
Само собой разумеется, что письмо Сикорского было показано Гулльсу и вместе с ним обсуждалось.
У меня сложилось такое впечатление, что все происшедшее на этом свете позже становится понятным и не требует комментариев.
После письма Андерса к Рачкевичу и ответа, присланного Сикорским, настроения и взаимоотношения в «военной верхушке» обострились.
Санация обрела самоуверенность и делала вид, что готовит новый «май», поговаривая даже о мятеже. Она была, однако, бессильной и кроме пустой болтовни ни на что серьезное не могла решиться. А болтовня никого не трогала.
В это время, как гром среди ясного неба, сразила нас весть о разрыве дипломатических отношений между правительствами СССР и Польши. Одновременно мы узнали, что польское правительство обратилось к правительству Австралии с просьбой взять на себя заботу о наших делах в Советском Союзе.
Разрыв отношений всеми, от солдата до генерала, очень широко комментировался.
Первые весьма этим встревожились и огорчились, хотя бы в связи с тем, что у них в СССР остались родные. Вторые же не пытались скрывать своей радости по этому случаю, тем более, что их семьи так же, как в 1939 году, были устроены в первую очередь.
В связи со всеми этими фактами и настроениями Сикорский после отъезда профессора Кота в Англию, прислал в Ирак начальника своего штаба генерала Климецкого.
На иракской земле Климецкий быстро столковался с санацией. Впрочем, сам бывший санационный офицер, один из молодых офицеров лагеря легионистов, заместитель начальника высшей военной школы до войны, он быстро сошелся с Токаржевским, Богушем и Вятром, в то же время к Пашкевичу относился с большой сдержанностью. Климецкий не нашел ничего такого, что обосновывало бы необходимость вмешательства в дела армии верховного главнокомандующего.
Вначале, правда, он относился недоверчиво к Андерсу, который теперь открыто говорил, что препятствием всему является Сикорский и что если он уйдет в отставку — все будет хорошо.
Помню, как однажды, в середине апреля, уже после приезда Климецкого, ко мне в комнату зашел Андерс и предложил пойти с ним прогуляться.
Мы вышли, генерал взял меня под руку, и мы начали прохаживаться по плацу перед штабом. Андерс начал разговор с разрыва отношений с Советским Союзом. Как хорошо, мол, что мы ушли из СССР, а то неизвестно, что было бы теперь. А так все получилось хорошо. Англичане тоже такого же мнения и т. д. и т. п. В конце беседы, говоря о Сикорском, прямо заявил, что он всему помеха, что он, безусловно, должен уйти с постов верховного главнокомандующего и премьера. Андерс упорно возвращался к этой мысли: «он должен уйти в отставку, он должен уйти. Да, он должен быть отстранен от всего».
Я удивленно взглянул на генерала и сказал:
— Вы ведь не думаете, господин генерал, что Сикорский захочет уйти и жить в стороне, ни во что не вмешиваясь.
— Нет, он обязан отойти, полностью, полностью, навсегда.
Должен признаться, что я был поражен жестокостью и грубостью, переполнявшими речь генерала, и хотя я знал его хорошо, все же не предполагал, что он зайдет так далеко. Тем более, что, как мне было хорошо известно, Андерс не имеет ни плана, ни политической программы и до сих пор он был заинтересован лишь в получении поста верховного главнокомандующего. Откуда же этот новый, неизвестный дотоле и угрожающий тон?
Возвращаясь к Климецкому, следует заметить, что он не долго косился на Андерса. Как только прошел слух, что генерал Копаньский, тогда командир 3-й дивизии, назначается на должность начальника штаба верховного командования, а он, Климецкий, должен принять командование 3-й дивизией (это предусматривалось в проектах верховного главнокомандующего), он сообразил, что Андерс через несколько месяцев станет его непосредственным командиром и начальником. И тогда он начал заранее проводить примирительную политику в отношении Андерса, чтобы без нужды не вступать с ним в конфликт.
Словом, Климецкий начал играть роль, похожую на ту, специалистом которой перед этим был профессор Кот: он занял в отношении Сикорского двуличную позицию.
А санация тем временем проводила совещания, собрания и заверяла Андерса в своих к нему симпатиях и горячей поддержке.
Таких санационных сборищ и групп имелось несколько. В Иерусалиме верховодили Енджевичи, Складковский, Заморский. В Египте Каспшицкий, Бобковский и ряд других. Эта группа была, пожалуй, самой солидной с точки зрения весомости лиц, представлявших старый режим, — наследников Рыдз-Смиглы и Мосьцицких. Однако она была мало активна и, отягощенная ответственностью за компрометацию в 1939 году, в известной мере даже в своей сфере считалось «проигрышной».
Вторая, менее солидная, но более подвижная и более активная, а также более решительная, — это группа генерала Вятра, возглавляемая Дрымером, небезопасная потому, что непосредственно действовала в армии и на нее опиралась.
Наконец, третья, менее серьезная, но крупнее других, это группа, руководимая генералом Токаржевским и его ближайшими сотрудниками — подполковником Домонем, Шафрановским и очень энергичным Деменгером. Эта группа довольно тесно сотрудничала с группой Вятра, они были родственны и действовали в армии, взаимно дополняя друг друга.
Все эти группы, вместе взятые и каждая в отдельности, могли строить планы и козни без каких-либо серьезных открытых выступлений. О таких выступлениях не могло быть и речи. Организация какого-либо бунта была нереальна. Впрочем, их взгляд был устремлен на своего главного лидера Игнация Матушевского, находившегося в Америке и объединявшего вокруг себя крупнейший озоно-легионерский центр, задающий тон всем санационным начинаниям. Конечно, главной целью являлась борьба с Сикорским.
В сущности говоря, эти люди не считали Андерса своим. В то же время они определенно стремились использовать его враждебное отношение к Сикорскому, чтобы совместно его атаковать.
Сам Андерс представлял совершенно отдельную позицию, и, полностью опираясь на англичан, был в основном совершенно спокоен за ход своей кампании, так-как не он, а англичане вели ее.
Он опасался лишь скандала и компрометации в случае, если бы Сикорский отозвал или отстранил его от должности.
А дни между тем текли спокойно, ученья проходили нормально, все шло своим чередом. Увеселение за увеселением, парад за парадом и при каждой оказии речи. Андерс наслаждался своими патетическими речами, произносимыми по разным поводам. Помню, как, выступая перед фронтом 5-й дивизии, Андерс затронул чувствительные струны, тоску о семьях, о Польше. Он говорил, что недолго, еще немного — и все мы увидимся со своими близкими. Он понимает наше состояние. У него в Польше тоже остались жена и дети, которых он очень любит и о которых очень тоскует. Но что же делать? Такова судьба. Однако он считает, что уже скоро увидит дорогие ему лица.
Он говорил о необходимости сохранения высокой морали, большой закалки духа и чувства чести. Все это для того, чтобы после стольких переживаний и разлуки, можно было предстать перед родными с гордо поднятой головой. Родным, как об этом хорошо известно, в Польше живется трудно, они там страдают и мучаются, а часто их жизни угрожает опасность и они никогда не знают, что принесет им день грядущий.
Однако, произнося такие речи, сам господин генерал исповедовал несколько иные принципы и имел несколько иные представления об этих вопросах...
Из сцен, может быть, менее существенных для нашего быта, тем не менее характеризующих наши взаимоотношения и обычаи, мне припоминаются такие факты.
Однажды, кажется в мае 1943 года, к Андерсу пришел подполковник Тадеуш Закшевский, знакомый мне еще по румынскому периоду. Увидев меня, сразу же стал говорить по моему адресу множество комплиментов, чему я очень удивился, поскольку знал, что этот подполковник, большой приятель Василевского и Гано, никакого расположения ко мне не питал, наоборот, постоянно выступал против меня.
Я доложил о нем генералу. Через несколько минут подполковник вышел от Андерса красный как рак, злобно взглянул на меня и молча вышел. Я не понимал, в чем дело. Вошел к Андерсу и спросил его, что произошло. Генерал ответил:
— А я выгнал этого мерзавца.
Отругал его, как святой Михаил дьявола, я указал ему на дверь.
Тогда я узнал, что Закшевский издал какую-то газетку об офицерской школе и поместил в ней свою статью, которая не понравилась генералу и вызвала такую бурную реакцию.
Спустя несколько недель Закшевский, когда к нам приехал министр социального обеспечения Станьчик, вручил ему заявление, в котором между прочим доносил, что ротмистр Климковский, помещик с кресов, вместо того, чтобы быть привлеченным к ответственности за невыполнение приказа верховного главнокомандующего от июля 1940 года (вопрос перехода из Румынии в Польшу) получил повышение и является командиром полка. Продолжая, он очень сожалал, что такой националист, как я, мечтающий о том, чтобы границы Польши на востоке простирались до Днепра, — выполняет ответственную функцию в армии, и т. д. При этом он забыл лишь об одном: что присвоил мне звание не кто иной, как именно Сикорский, и что с его санкции я назначен командиром полка.
Но в данный момент он меньше всего заинтересован был в правдивости, главное, он хотел обратить на себя внимание Станьчика, временно гостившего на Ближнем Востоке.
Тем временем, получив тревожные сигналы о положении на Ближнем Востоке, Сикорский решил туда поехать и лично разобраться во всем.
Решение о приезде Сикорского на Ближний Восток до последней минуты держалось в секрете от Андерса. Это нужно было англичанам для облегчения своей игры и для того, чтобы поставить Андерса в положение, при котором он больше всего нуждался бы в них.
Как бы невзначай, вечером во время ужина Гулльс в общей оживленной беседе «проговорился»: «Завтра Сикорский прилетает в Каир».
Андерс подпрыгнул в кресле. Сначала не хотел этому поверить. Как же так, без предупреждения? Ведь два дня тому назад из Каира выехал начальник штаба Сикорского Климецкий, он, наверное, знал об этом и мог бы кое-что сообщить.
— Именно потому и уехал, — сказал Гулльс, — чтобы встретить Сикорского.
Андерс очень смутился и со страхом взглянул на Гулльса.
— Нужно поехать и встретить Сикорского в Каире, — спокойно проговорил Гулльс.
Странным показался в данный момент даже Андерсу этот «друг» — ведь он хорошо знал обо всем. Англичане сами составили весь маршрут Сикорского, от начала и до конца руководя всей его поездкой. Никто иной как именно они дали Климецкому самолет для полета в Каир и встречи Сикорского. Следовательно, Гулльс знал обо всем уже более двух дней. Знал, но молчал.
Приняли решение, что на следующий день утром вылетят в Каир.
На встречу Сикорского вместе с Андерсом полетели начальник второго отдела подполковник Бонкевич, подполковник Бонбинский, несколько доверенных представителей как Андерса, так и англичан. Впервые Андерс полетел без меня. Они застали в Каире уже несколько дней пребывающего там Климецкого, который хотел по-своему без свидетелей информировать верховного главнокомандующего.
Сикорский весьма холодно встретил Андерса и тут же начал ему резко выговаривать за происходящее в армии и за его отношение к верховному главнокомандующему. Разговор был долгий и неприятный. Улучив момент, Андерс, желая отвести удар от себя, указал на меня, как на оппозиционера и даже подал Сикорскому мысль о моем аресте. Сикорский запротестовал против этого и в присутствии Климецкого, Бонкевича и еще нескольких офицеров заявил, что сразу же по приезде в Ирак он должен со мной встретиться и поговорить. Это в известной мере поразило всех присутствующих. Климецкий сказал, что не подобает верховному главнокомандующему вести какие-то разговоры с ротмистром. Но Сикорский своего решения не изменил.
Сразу после приезда в Ирак он вызвал меня на беседу, продолжавшуюся несколько часов. Потребовал объяснения по поводу пресловутого «мятежа», о котором слышал. Я исчерпывающе рассказал ему о царящих у нас отношениях и доложил об обстановке так, как я ее знал и оценивал. Прежде всего я указал, что он обо всем был ложно информирован, особенно профессором Котом. Я вынужден был почти в получасовом анализе показать верховному главнокомандующему, каково действительное положение. Почти ежеминутно Сикорский взрывался: «Ну, как меня обманывали, куда ни пойду, всюду измена!»
Я еще раз просил генерала сбросить балласт, который его угнетает и терзает. Генерал, как бы в раздумье возвращаясь к нашему предыдущему разговору, во время которого я ему подробно разъяснил, как и что повлияло на посылку письма Андерсом президенту и какую роль в этом сыграли англичане, спрашивал:
— Но эти англичане, что им надо? Я на самом деле их не понимаю. Последнее время оказывали мне столько почестей, приглашали со всем правительством к королю. Неужели это была лишь комедия?
Я сказал, что в то время как в Лондоне его всюду приглашали и оказывали почести, здесь также шумно чествовали Андерса. Все это делалось не искренне, а лишь для того, чтобы усыпить нашу бдительность и делать свое дело. Если речь идет об Андерсе, то он на такую липкую приманку летит буквально как муха.
— Да, и я почувствовал какой-то чужой, новый тон в разговорах с англичанами, чего раньше не было, — говорил Сикорский, — тон, который мне очень не понравился, который, пожалуй казался фальшивым. Но ничего, не одни англичане на свете. Не только на них будем опираться.
Сейчас я хочу главное направление в нашей политике переключить на США и там искать необходимой поддержки. Кроме того, моим большим желанием является вновь восстановить согласие с Советским Союзом, предпринимая в этом направлении определенные усилия, я должен это осуществить.
Разрыв отношений с СССР является, собственно, результатом выходки, да, совершенно неразумной выходки генерала Кукеля. Но это уже произошло, плохо получилось.
Продолжая беседу, я сказал генералу прямо в глаза, что сегодня позиция его и Польши значительно слабее, чем была в 1940–1941 гг. Отсутствие достижений и более или менее крупных успехов в 1942–1943 гг. необходимо отнести прежде всего на счет его окружения, которое за его спиной служит санации и руководствуется только ее интересами.
Одной из многих причин наших неудач, но весьма, по-моему, существенной, был тот факт, что управление нашими делами находилось в руках старого поколения. Эти люди непригодны не потому, что они старые, а потому, что они скомпрометированы и неисправимы, неизлечимо продажны и хронически слепы. Я предлагал омолодить политическое и военное руководство, высказывал уверенность, что тогда действительно семимильными шагами мы двинемся вперед.
Когда я высказал свою точку зрения, мы довольно долго спорили, а в итоге решили, что я поеду в Америку с особой миссией с прикомандированием к союзническому комитету по вопросам ведения войны. Сикорский мне сказал, что пока центр наших дел он переносит в тот район. Там я должен был обстоятельно познакомиться с обстановкой разобраться, как американцы понимают и оценивают польские вопросы. Генерал предупредил меня о существовании там очень сильной санационной группы, возглавляемой бывшим министром Матушевским, которая много вредит, вставляя, как он выразился, палки в колеса и подрывая его авторитет. В случае, если бы дело дошло до восстановления отношений с Советским Союзом, то мне предстояло поехать на работу в Москву.
Я дал свое согласие на поездку в Америку. Это решение было доведено до сведения Андерса, а затем объявлено официально.
В ходе беседы Сикорский при мне продиктовал полковнику Марецкому ряд фамилий генералов и старших офицеров, которые немедленно снимались со своих должностей и переводились в резерв (в положение бездеятельности). Это были генералы Токаржевский, Раковский, Коссаковский, полковники Окулицкий, Дзвонковский, Домань, Шафрановский и многие другие. Такой приказ действительно через несколько дней появился.
Через два-три дня после беседы на совещании старших офицеров в Киркуле Сикорский заявил официально, что в своей деятельности он намерен опираться на молодых офицеров и собирается двадцать-тридцать человек из них назначить на высокие должности в армии и на руководящие политические посты.
Это высказывание явилось тяжелым ударом по санации и ее планам, а также по планам профессора Кота и Андерса.
Вскоре был издан приказ Сикорского, чтобы командиры дивизий представили ему примерно по тридцать фамилий молодых офицеров, желающих посвятить себя политической деятельности. Кроме того, я лично должен был представить Сикорскому список около тридцати коллег, которые сразу же были им назначены на ответственные должности. Потом я этот вопрос обсуждал со многими товарищами. Некоторые из них (как, например, Збигнев Раценский) вскоре после моего разговора с Сикорским были им приняты. На аудиенции вновь затрагивались вопросы участия молодых и соответственного их использования.
В это время Андерс производил впечатление человека дезориентированного, незнавшего, что ему предпринять. Он хотел всем окружающим внушить, что пользуется поддержкой старших офицеров, но это ему совершенно не удавалось, так как он не защищал тех, кто был снят приказом Сикорского. Помню, как во время разговора на эту тему я спросил, будет ли он защищать Раковского, Андерс ответил:
— Это деревянный человек, сухарь, и для дальнейшей работы он не годится, я его использовал должным образом при организации штаба. — При этом заметил, что Раковский на почве болезненной впечатлительности «легализма» становится для него препятствием. Поэтому не жалеет его и защищать не собирается.
То же самое относилось и к другим, в частности к Токаржевскому, которого Андерс не любил и был доволен, что Сикорский его отстранил. Должен одновременно сказать, что хотя Токаржевский и был снят Сикорским со своей должности и переведен в резерв, однако держался с большим достоинством и солидностью, чем резко отличался от Андерса.
Желая на предстоящем совещании высшего состава заполучить определенную поддержку генералов, Андерс пытался некоторых из них привлечь на свою сторону. Перед совещанием командиров соединений он обратился к Пашкевичу, чтобы тот поддержал его, а Сикорского представил бы как «конченного политического банкрота», который вскоре должен будет уйти в отставку, а его место верховного главнокомандующего займет он, — Андерс. Он просил Пашкевича оказать ему поддержку теперь, а в награду за это он его не забудет. Не знаю точно, какие еще вопросы затрагивались, так как разговор происходил в соседней комнате. Продолжался он около трех часов. Только хорошо помню, как вдруг распахнулись двери и в них показался Пашкевич. Тогда я услышал его возбужденный, слегка прерывающийся голос:
— Я забыл и не хочу помнить, что мы пили с вами, господин генерал, на брудершафт. Я не хочу знать, что являюсь крестным отцом вашего сына! — После этого двери с треском захлопнулись, и я увидел красное лицо Пашкевича, на котором виднелись следы крайнего возбуждения. Я проводил его до автомобиля.
Через минуту я вошел к Андерсу. Он сидел за столом и нервно курил папиросу. Он еще не остыл от только что состоявшегося разговора. Красные пятна отчетливо выделялись на его обычно бледных щеках. Только глаза бегали быстрее, чем всегда. Было явно заметно, что он зол.
Как только я вошел, Андерс обратился ко мне со словами: «Смотри, какой глупец! Он продолжает, поддерживать Сикорского».
Я молча слушал. Андерс же продолжал: «Я ему объяснил, как мог, что это конченный банкрот, а он ни в какую».
Во время этих излияний вошел Висьневский, я же вернулся в свою комнату.
С этого момента Андерс уже нигде не скрывал своего недовольства Пашкевичем, порочил его, где только можно, старался придираться к нему на каждом шагу. Он довел его до того, что Пашкевич, уже после смерти Сикорского, отказался от командования танковой бригадой и уехал в Англию, стараясь уйти от всего, что происходило на Ближнем Востоке.
Пребывание Сикорского прошло спокойно, как этого и следовало ожидать. Нигде никаких эксцессов. Войска, замечательно выглядевшие, встречали его с энтузиазмом. Сикорский был этим весьма доволен. Он убедился воочию, что всяческая болтовня о «бунтах» было бахвальством, сознательно выдуманным нарочно теми, кто больше всего был в этом заинтересован. Сикорский задумывался лишь над тем, для чего это делалось и почему англичане принимали в этом такое активное участие. После окончания инспекции он выехал на десять дней в отпуск в Ливан, куда вызвал министра Бадера из Тегерана, и первые слова, обращенные к нему, были: — «Что же этот Кот мне тут натворил?»
Во время инспекции Сикорский посетил все части, принимал парады, проводил полевые учения и провел несколько совещаний с офицерами. Его взаимоотношения с Андерсом проходили различные фазы. Сначала он резко раскритиковал Андерса, поставив его на место. Тогда Андерс прикинулся покорным и стал очень тихоньким. Думал лишь о том, как бы сохранить свою должность. Сикорский приказал провести реорганизацию армии согласно его указаниям и в категорической форме предложил представить ему на утверждение подробные материалы. Это должен быть корпус, и только на некоторое время можно было еще сохранить за ним прежнее название — армия. Окончательное решение по этому вопросу Сикорский обещал принять в Лондоне. Это был компромисс, достигнутый по организационным вопросам.
По вопросам политическим ни к какому согласию не пришли. Сикорский высказал Андерсу претензию по поводу его политики в Советском Союзе и ухода армии из СССР. Он подчеркнул, что именно это явилось главной причиной наступившего позже разрыва отношений, за что несет ответственность Андерс, а также, разумеется, и профессор Кот. Сикорского это очень волновало. Он говорил, что в результате этого престиж польского правительства на международной арене упал и будет очень трудно договориться на мирной конференции, если до этого отношения не будут нормализованы. Сикорский категорически запретил Андерсу в будущем вмешиваться в какие-либо политические дела. Он должен заниматься только войсками, их организацией и обучением — и ничем больше.
По вопросам политическим на Ближнем и Среднем Востоке Сикорский оставил министра Ромера, а общие вопросы большого значения брал на себя. Андерс выслушивал эти замечания, как бедный студент, сдерживался и лишь внутренне сжимался: однако, чтобы Андерс не особенно переживал от горьких пилюль, которых он столько наглотался, и чтобы хоть немного подсластить переживаемые неприятности и унижения, Сикорский подарил ему... свою книгу «Над Вислой и Вирой».
Само собой разумеется, что Андерс выходил из себя, так как был бессилен и лишь подавлял в себе огромную ненависть к Сикорскому.
Когда Сикорский находился в Ливане, у нас в армии очень активно комментировались разные его распоряжения. Наибольшее внимание привлекал факт снятия и перевода в резерв ряда генералов и назначение Копаньского командиром 3-й дивизии. Множество слухов ходило и об Андерсе, между прочим и о том, что он будет снят.
В этот момент Андерс чувствовал себя одиноким и покинутым, против него выступили и легионерские старейшины, возмущенные тем, что он не защитил их перед Сикорским. Даже его приятель Богуш, не знавший как себя вести в создавшейся обстановке, прикинулся больным и на весь период пребывания Сикорского нигде не появлялся, оставив Андерса одного. Тогда Андерс решил сделать реверанс в сторону молодых. 27 июня, в день своих именин, когда мы его официально поздравляли, Андерс обратился ко мне и заявил, что хочет этот вечер провести у меня в полку. Меня очень удивило такое предложение.
В данном случае он был заинтересован лишь в одном: показать, какие у него хорошие отношения с молодежью. Одновременно он хотел у меня разузнать, о чем я разговаривал с Сикорским, а также зачем и в качестве кого я еду в Америку. Вечер был неприятный. Разговор в искусственной, напряженной атмосфере не клеился, на все вопросы я отвечал уклончиво. Сказал, что лишь в Каире, куда меня вызывают, все окончательно выяснится. Через несколько часов Андерс от нас уехал, так и не узнав ничего конкретного.
Смерть Сикорского
После отдыха в Ливане Сикорский вылетел в Каир, откуда должен был направиться в Лондон. В основном все было урегулировано. Только вопрос, связанный с Андерсом, не был решен ясно и определенно. Командование армии предстояло реорганизовать. Сикорский принял решение отделить функции командующего армией от функций командира корпуса. А пока же обе эти функции находились в руках Андерса. Сикорский поставил этот вопрос совершенно ясно и, обращаясь к Андерсу, сказал:
— Вы можете избрать либо одно, либо другое: можете остаться командующим армией, тогда назначу командира корпуса. Если же вы захотите стать командиром корпуса, я назначу командующего армией.
Оба эти варианта Андерса не устраивали. Хотя командующий армией по положению был выше, однако он не имел солдат. Войска же непосредственно подчинялись командиру корпуса, который по существу являлся хозяином положения. Андерс считал, что если он оставит за собой должность командира корпуса, то есть фактического командира, тогда он должен в какой-то части отказаться от положения вождя в пользу командующего армией, что для него было неприемлемым. По его мнению, никто кроме него не мог занимать высшей должности. Если бы он согласился остаться командующим армией, а Сикорский назначил кого-нибудь командиром корпуса, то он фактически был бы командиром без войска, ограниченного значения и силы, с чем он категорически не мог примириться. Словом, ни одно из предложений Сикорского его не устраивало. Андерс хотел и впредь нераздельно выполнять функции командующего армией и командира корпуса и иметь двух заместителей, одного по армии, другого по корпусу.
Между прочим, позже, уже после смерти Сикорского, этот замысел на некоторое время был осуществлен. Сикорский же на это соглашаться не хотел. Однако он уехал, так и не решив этого вопроса.
Окончательное решение он хотел принять уже в Лондоне. Андерс имел все основания полагать, что этот вопрос решится не в его пользу. Говорили, что Сикорский намерен даже совсем отозвать Андерса с Ближнего Востока, но пока не имеет кандидата на его место.
Напряжение в отношениях между Андерсом и Сикорским за последнее время усилилось. Англичане едва сдерживали строптивого Андерса, заверяя его, что все будет как нельзя лучше.
Пока же Сикорский не произвел никаких изменений. Андерс оставался на своей прежней должности.
От приезда Сикорского на Ближний Восток очень много потеряла санация. Андерс же сохранил пока прежние позиции.
Перед отлетом Сикорский еще раз вызвал меня в Каир, чтобы дать окончательные инструкции о моей работе в Вашингтоне. Во время разговора я убедился, что Андерсу не удалось добиться отмены решения о моем отъезде в Америку, к чему он упорно стремился. Сикорский настоял на своем, ссылаясь на то, что я буду ему там нужен для его дел.
Он до сих пор не мог понять некоторых поступков англичан, и поэтому в ходе беседы показал мне телеграмму, полученную несколько часов тому назад от Черчилля. Черчилль поздравлял его с победой на Среднем Востоке. Сикорский не мог понять, какую победу имел в виду Черчилль. Стоявший рядом полковник Марецкий был явно встревожен. В этом было что-то, чего ни тот, ни другой не понимали. В этой же телеграмме Черчилль просил Сикорского «немедленно возвратиться». В связи с этим Сикорский отказался от намерения поехать в Африку, где хотел ознакомиться с положением проживавших там в лагерях поляков. Он решил возвратиться в Англию. Видимо, там его ожидали какие-то весьма важные дела, если его так срочно вызывали и даже заблаговременно предоставили в его распоряжение самолет. Он был очень раздражен по этому поводу, тем более, что через несколько дней через Каир должен был пролетать Вышинский, с которым он хотел встретиться по вопросу польско-советских отношений. Телеграмма Черчилля эту встречу срывала.
Сикорский еще раз вернулся к вопросу о моем отъезде в Америку. Спрашивал, знаю ли английский, а узнав, что нет, прикомандировал в мое распоряжение инженера Хрыневича в качестве переводчика. Я просил назначить именно его, так как он знал не только английский язык, но и условия жизни в Америке. Он должен был сопровождать меня в пути и все время пребывания там. Хрыневич из солдат был произведен в подпоручики.
В моем присутствии Сикорский составил телеграмму в Вашингтон на имя заместителя начальника штаба армии, извещавшую о моем приезде. Дал также указания нашему послу в Каире Зажулинскому оформить все документы, связанные с моим выездом в США.
Сикорский был встревожен телеграммой Черчилля, он все раздумывал, к чему бы это.
Прямо от Сикорского я направился к Андерсу (мы жили вместе в гостинице), чтобы доложить ему о решении верховного главнокомандующего относительно меня. У него я застал Гулльса. Андерс встретил меня словами:
— Вот видишь, я одержал большую победу, как раз пришел подполковник с поздравлениями мне от генерала Боннет-Незбита.
Я стоял пораженный, ведь несколько минут тому назад эти же слова я слышал от Сикорского. Сикорский получил поздравления от Черчилля и такие же поздравления получил Андерс от Боннет-Незбита. Что это могло значить?
— С какой победой? — спросил я.
Генерал улыбнулся и довольный ответил:
— С победой над Сикорским.
Я внимательно посмотрел на генерала. Он странно смутился. Вообще он выглядел как-то необычно. Видимо, что-то произошло, чего я не знал. Когда несколько часов назад я разговаривал с Андерсом, он был другим человеком; спокойным, сдержанным, а теперь, хотя его и поздравили с «победой», он совершенно не походил на победителя, дрожал, будто в лихорадке. Было заметно, что он очень возбужден, глаза горели, лицо было покрыто красными пятнами. Он был сам не свой. Действительно, когда через некоторое время пришел врач, он установил, что у Андерса повышена температура. Однако я не мог понять причины этого.
Я сказал генералу о моем предстоящем отъезде в США. Андерс был эти недоволен.
Он лег в постель и принял какие-то порошки. Все это выглядело как-то странно. Я не мог разобраться в происходящем, но атмосфера была смутной и неприятной. Вскоре к Андерсу пришел Незбит. После его ухода я постучался в дверь комнаты генерала. Он сразу же встретил меня словами.
— Знаешь что, я не буду присутствовать на проводах Сикорского.
Я был поражен. До отлета оставалось еще несколько дней, а Андерс уже предупреждал, что не будет провожать Сикорского. Почему? Не потому ли, что чувствовал себя слишком плохо? Может быть генерал решил пораньше вернуться в Киркук, поскольку в Каире он чувствовал себя плохо? Впрочем, было видно, что ему на самом деле не по себе.
Вскоре пришел с приказаниями Сикорского полковник Марецкий. Генерал с ним почти не разговаривал. Получил приказы и сказал, что чувствует себя плохо и вероятно не будет провожать Сикорского. Чем ближе подходил момент отъезда Сикорского, тем большее беспокойство охватывало Андерса. Бывали минуты, когда он весь дрожал словно в лихорадке. Однако приглашенный врач не установил никакой болезни. Между тем, было что-то такое, что вынуждало Андерса как можно скорее покинуть Каир. Он этого совершенно не скрывал, а приказал приготовить себе самолет для возвращения в Киркук. Было похоже, что он хотел от чего-то бежать, вообще как можно скорее оставить Каир, словно он чего-то боялся, ожидал чего-то необычного, но не хотел быть этому свидетелем.
Андерс доложил Сикорскому, что не сможет присутствовать при его отлете, так как чувствует себя плохо. Я удивился его поведеннию, ведь я видел, что он не такой уж больной, чтобы действительно не мог проводить Сикорского, так как этого требовал служебный долг. Не было также никакой причины для срочного выезда в Киркук.
Сикорский также очень удивился, но сказал Андерсу, что если он нездоров, то может с ним попрощаться накануне и может не приезжать на аэродром. Сикорский мог предполагать, что Андерс обиделся и поэтому не хочет его проводить. Как бы то ни было, все это походило на демонстрацию пренебрежения по отношению к верховному главнокомандующему.
Словом, Андерс самолетом направился в Киркук, а я через час поехал туда же автомашиной. По пути из Каира в Киркук я заехал в Тель-Авив. В гостинице «Гатримон», где я остановился с адъютантом полка поручика Хашковским, я узнал из радиопередачи о смерти Сикорского. Сначала я не мог этому поверить, точно так же, как и другие поляки, находившиеся в зале. Когда же это сообщение подтвердили и другие радиостанции, никаких сомнений не оставалось. Было передано также официальное правительственное сообщение, в котором министр Иден заявил, что над Гибралтаром произошла катастрофа самолета, в котором летел Сикорский. Все пассажиры погибли. Причины катастрофы выясняются и будут сообщены позже.
Следующее правительственное сообщение о смерти Сикорского было очень смутным, путаным и неубедительным, Расследования по происшедшему «случаю» фактически не было. Для видимости создали комиссию по установлению причины катастрофы, но она приняла ту версию, которую ей сообщили якобы живые свидетели события. Комиссия установила, что отказали рули управления и в результате этого самолет после взлета упал в воду. От удара об воду самолет разбился. Утонули все, за исключение пилота, который спасся, хотя и был ранен. Выловили лишь тело Сикорского.
И на этом все. Все содержание правительственного сообщения. Даже не утруждали себя выяснением, почему не действовали рули управления, как об этот говорилось в официальном извещении. Почему их заклинило? В чем причина этого?
В случайность никто не верил, сообщению также не верили. То, о чем в нем говорилось, было слишком малоправдоподобным. Комментаторы передавали друг другу совершенно иной ход катастрофы.
Нельзя было не комментировать тот факт, что американцы, не знающие всего дела, предложили включить в комиссию своих экспертов и расследовать причины гибели, так как самолет был американского производства и еще не случалось, чтобы «Либерейторы» подвергались подобным авариям. Однако их не пригласили в комиссию, так как признали, что подобного рода расследования излишни.
Разбирали обстоятельства катастрофы, старались сопоставить официальные коммюнике с основами логики.
Если самолет действительно упал в воду сразу же после старта, как говорилось в сообщении, в результате неисправности рулей, то в худшем случае он затонул бы и его можно было выловить со всем экипажем и пассажирами. Даже если бы они не были живыми.
Самолет такого типа, четырехмоторный огромный бомбардировщик стальной конструкции, ни в коем случае не мог при соприкосновении с водой разлететься на мелкие куски в радиусе почти ста метров. Если предположить, что он упал даже с большой высоты, чего не было на самом деле ввиду заклинивания рулей, то он ударился бы крылом, моторами, кабиной пилота. А ведь именно пилот остался жив.
Во всяком случае, какой бы своей частью он не ударился о воду, эта часть амортизировала бы силу удара и была бы больше других повреждена, а пассажирская кабина, расположенная в хвосте, более или менее сохранилась бы. Таким образом, смятый самолет можно было бы целиком вместе со всеми в нем находившимися извлечь из воды.
Ходила иная, более правдоподобная, версия, что самолет разлетелся на мелкие части еще в воздухе и что лишь его остатки, разбитые и раздавленные, упали в воду на расстоянии нескольких десятков метров один от другого.
Потому нет ничего удивительного, что не удалось выловить ни одной целой части, ни тел пассажиров, поскольку уже при разрыве самолета в воздухе они были изуродованы. Так что по извлечении тел нельзя было бы их опознать. Хотя никто и не взял на себя труда выловить тела или останки самолета.
Что касается тела Сикорского, то никто и никогда не установил, он ли это.
Почему так спешили с ликвидацией Сикорского? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны напомнить, в какое время это произошло. Это случилось в переломный период войны, когда чаша весов решительно наклонилась в сторону союзнических государств. Это было в период, когда Запад хотел определять послевоенное будущее Европы. Точнее — это произошло между Касабланкой и Тегераном.
На конференции в Касабланке Рузвельт, Черчилль и Чан Кайши обсуждали общие принципы будущего послевоенного устройства. В Тегеране должны были быть приняты уже более конкретные решения.
Вопрос о Польше являлся для англичан щекотливым. Между прочим, английский проект по вопросу о Центральной и Восточной Европе, поддерживаемый и американцами, касался также и Польши. Предусматривалось создание Польши в границах: на востоке — по так называемой линии Керзона (то есть, примерно, по линии Буга), на западе по тем же границам, какие существовали в 1939 году. Эта территория была несколько большей, чем созданное Германией Генеральное губернаторство.
На этой конференции Польское правительство не было представлено. Не предполагалось его присутствие и на конференции в Тегеране.
Такие условия было бы очень трудно предложить Сикорскому. Во-первых, потому, что он никогда бы их не принял. Во-вторых, как Черчилль, так и Рузвельт лично дали Сикорскому большие обязательства, жили с ним в дружбе, авторитет Сикорского они вынуждены были признавать и с ним считаться.
Насколько сильно опасались англичане соглашения Сикорского с властями Советского Союза, свидетельствует такой факт. Когда Сикорский объявил о своей поездке в Каир для встречи с Вышинским, направлявшимся из Вашингтона в Москву и предполагавшим там остановиться, англичане, не желая допустить этой встречи и переговоров, вызвали Сикорского телеграммой в Лондон. Вызвали, сначала подготовив все, чтобы этот полет был для него последним.
Таким образом, со смертью Сикорского Андерс получил возможность сорвать планы покойного относительно будущего армии, и перед ним открылись перспективы стать вождем, к чему он так стремился.
Со смертью Сикорского англичане также получили свободу политических действий в польском вопросе, что также содержалось в их политических планах, но чего при жизни Сикорского они абсолютно не могли реализовать.
С горизонта исчез человек, с которым должны были безусловно считаться, а вместо него пришли люди, а вернее человек, который являлся лишь марионеткой в руках англичан.
Санация также получила то, чего хотела, — своего человека на посту верховного главнокомандующего. Она теперь считала, что пока добилась всего. Ее власть на будущее гарантирована. Теперь осталось лишь изменить состав правительства, что это при поддержке верховного главнокомандующего пройдет уже проще. Главная цель достигнута.
Хотя Андерс так к этому стремился и хотя перед ним открылись широкие горизонты и возможности, фактически именно он проиграл больше всего. Он являлся лишь орудием в руках санации и таким остался до конца. Он был уверен, что после смерти Сикорского получит пост верховного главнокомандующего. Это приводило его в необычайную радость, которую он не пытался скрывать. Он уже видел себя в роли диктатора, уже чувствовал себя верховным главнокомандующим. Поэтому сразу же начал борьбу с людьми, которых считал своими противниками. И это его погубило.
Он ни одной минуты не сомневался в том, что президент Рачкевич назначит его верховным главнокомандующим. Поэтому под нажимом Токаржевского, который принимал в этом деле самое активное участие, — направил в Лондон делегацию. После смерти Сикорского Токаржевский как бы очнулся, его охватил порыв огромной активности и высокомерия, которых за ним до сих пор не замечали. Помню, как однажды, вскоре после смерти Сикорского, во время подготовки к выезду этой делегации, Андерс был слегка нездоров и никого не хотел принимать. Когда пришел Токаржевский и узнал об этом, то возмутился и с гневом громко, чтобы все слышали, изрек: «Теперь не время на слабости!» — отворил двери и вошел в спальню Андерса. Он навязал ему состав делегации и цель ее поездки. Это явилось первым поражением Андерса, и позже он не мог уже оправиться от него. К этому же потом добавились еще дела о злоупотреблениях и иные, которые использовали те, кто опасался его всемогущества и кто его почти полностью прикончил.
Делегация направилась как будто для участия в похоронах Сикорского. На самом же деле ее целью являлась доставка писем Рачкевичу с требованиями не столько Андерса, сколько санационных кругов. В этих письмах, которые писались и составлялись на собраниях сообща Андерсом, Токаржевским и Окулицким, содержались требования, адресованные президенту, по поводу самых высоких государственных постов. На этих собраниях секретарствовал Окулицкий, он и писал письма вчерне. Затем секретарь Андерса Ирэна Грабская в моем присутствии переписывала их на машинке.
Между прочим в них выдвигались требования устранить из правительства министров Квапинского и Станьчика, к которым Андерс питал личную неприязнь. Именно это обстоятельство ему повредило и не позволило занять пост верховного главнокомандующего. Затем Андерс писал:
«Мы глубоко уверены, что в момент, когда дела Польши плохи и речь идет о том, быть или не быть Родине, Вы, господин президент, найдете силы, чтобы призвать к руководству делами Польши людей деловых, честных и пользующихся доверием народа, Вы решительно отстраните тех, кто в такой тяжелый для Польши час заботятся лишь о выгодах партийных или личных. Мы также верим, что наступит наконец отделение командования войсками от руководства политикой, столь необходимое для здоровья и мощи Армии. Докладываю, что впредь до решения Вами всех этих вопросов, буду выполнять лишь Ваши приказы.»
Из приведенного фрагмента видно, что Андерс думал только о себе и тогда, когда писал о привлечении честных людей и устранении тех, кто «заботятся лишь о выгодах партийных или личных», как Станьчик, Квапинский, Кот, и тогда, когда писал об отдельном руководстве для армии и отдельно для политики, — он видел себя во главе вооруженных сил. И в конце он подчеркнул, что «впредь до решения Вами всех этих вопросов «будет выполнять лишь приказы президента, тем самым давая понять, что «иначе быть не может и что он, Андерс, будет признавать лишь один авторитет, авторитет президента».
Это письмо Токаржевский обязан был вручить лично президенту Рачкевичу в присутствии всей делегации, что являлось непременным условием Андерса.
Последствием же письма явилось то, что, когда Рачкевич сообщил его содержание заинтересованным лицам, то министр Квапинский, оставшийся в правительстве, решительно не согласился на назначение Андерса. Вторым фактором, весьма отрицательным для Андерса, который не менее фатально отразился на возможности занятия им поста верховного главнокомандующего, был состав самой делегации. Как известно, в нее входили: Токаржевский, ярый противник Андерса, только и ожидавший подходящего момента, чтобы на нем отыграться, и определенно поддерживавший Соснковского; он ни за что на свете не хотел бы видеть Андерса на этом посту. Окулицкий, также питавший большие симпатии к Соснковскому, чем к Андерсу, имея перед собой выбор, предпочел бы Соснковского, хотя бы еще и потому, что слишком хорошо знал Андерса и имел о нем определенное мнение. Единственным, кто мог оказать довольно большое влияние через англичан, был Бомбинский. Но англичанам, по крайней мере, сразу же после гибралтарской катастрофы было неудобно решительно вставать на сторону Андерса.
К делегации присоединился епископ Гавлина, который, как на зло, был в это время с Андерсом в ссоре. Андерс был взбешен на епископа за то, что тот в своих проповедях, обращенных к войскам, сравнивал Сикорского с королем Собесским, желая ему таких же побед. Епископ же имел претензии к Андерсу по поводу того, что тот задержал производство его в генералы дивизии. Следовательно, такая делегация не только не представляла интересов Андерса в Лондоне, а, наоборот, была по отношению к нему враждебной и больше вредила, чем помогала. Это в огромной степени укрепило позицию Соснковского, которого считали человеком солидным и ставили выше, как всюду говорили, «недоразвитого» Андерса.
Сначала в состав делегации намечался и я, но Гулльс отсоветовал Андерсу посылать меня, в результате чего выезд мой не состоялся.
Тем временем, через несколько дней после гибели Сикорского и выезда уполномоченной делегации пришла телеграмма, сообщавшая, что генерал Кукель временно принял обязанности верховного главнокомандующего. Получив это сообщение, Андерс рассмеялся и назвал его «шутовским колпаком», а не верховным главнокомандующим. При этом стукнул пальцем по голове и сказал: «Кто мог внести такое дурацкое предложение?»
Он немедленно направил Рачкевичу телеграмму, в которой ставил его официально в известность, что не признает Кукеля верховным главнокомандующим и может подчиняться лишь президенту Речи Посполитой. Этим он уже вторично дал понять, что только он может быть верховным главнокомандующим.
На вопрос Кукеля, как ему следует понимать эту телеграмму, Андерс ответил, что буквально.
Андерс продолжал свято верить, что никто кроме него не достоин и не может занять пост верховного главнокомандующего. Соснковского он вообще не принимал в расчет.
А в это время в Лондоне велась борьба. Санация, избавившись от Сикорского, не нуждалась в помощи в дальнейшей борьбе с противниками. Наоборот, Андерс был ей невыгоден, она предпочитала иметь своего человека. Все свои усилия она направила теперь на борьбу против Андерса, что, впрочем, было не трудно, ибо никто его особо не поддерживал. Министр Квапиньский самым категорическим образом возражал против кандидатуры Андерса, угрожая даже расколом в правительстве в случае, если его назначение состоится. Англичане, хотя и поддерживали кандидатуру Андерса, все же не могли официально вмешиваться в этом дело, опасаясь возможности возникновения слишком большого скандала. Они предпочли заявить (и этот взгляд в то время был довольно модным), что пост верховного главнокомандующего вообще не нужен. Таким образом, они заняли выжидательную позицию и даже сделали поклон в сторону Миколайчика, который также бы за то, чтобы ликвидировать пост верховного главнокомандующего. Протекция профессора Кота, который на основе своих ранее весомых принципов старался помочь Андерсу, тоже подвела.
После недельных обсуждений и согласований Рачкевич назначил, наконец, верховным главнокомандующим Соснковского. Когда о назначении Соснковского стало известно, Андерса охватило разочарование, сменившееся яростью. Он предпочел бы, чтобы Сикорский жил, чем получить подобное оскорбление, такое бесчестие. Метался по комнатам и кричал. Как безумный стучал кулаками по столу. А когда оповестили о составе нового правительства, в которое вошли Квапинский и Станьчик, он был на грани помешательства.
— Я им покажу! — угрожал он Лондону, — посчитаемся, когда приедем в Польшу!
Тогда же он решил не признавать Соснковского верховным главнокомандующим, объявил о своем отказе подчиняться правительству Миколайчика, провозгласил свою армию на Ближнем Востоке самостоятельной, подчиненной лишь английскому командованию.
Действуя в этом направлении, Андерс ограничился пока посылкой в Лондон телеграммы, написанной в спокойном тоне, с предложениями о назначении на важнейшие должности в армии. Он намеревался сначала окружить себя слепо послушными ему людьми, чтобы таким способом предотвратить возможность возникновения какой-либо оппозиции. Именно в это время при невыясненных обстоятельствах умер полковник Корнаус, о котором было известно, что он предан Сикорскому и является активным противником Андерса. Корнаус категорически возражал против различных выступлений Андерса и неоднократно говорил об этом на совещаниях. Однажды, как раз в период кульминации разногласий в правительстве, Корнауса нашли в его квартире мертвым. Смерть наступила в результате выстрела из огнестрельного оружия. Сначала пытались это скрыть, затем начали внушать окружающим, что Корнаус умер естественной смертью. И лишь тогда, когда в связи с этим возникло слишком много слухов, а свидетели, видевшие его после смерти, громко говорили об огнестрельной ране, распустили слухи, что полковник отравился, а затем, что он застрелился.
Пашкевич также почувствовал себя в небезопасности и вынужден был отказаться от своей должности и уехать из Ирака.
Андерс предлагал правительству в Лондоне произвести следующие персональные перемещения: вместо Токаржевского заместителем командующего назначить Богуша своего приятеля, вместо Пашкевича командиром танковой бригады он хотел иметь Раковского (отозванного приказом Сикорского с должности начальника штаба и переведенного в Лондон в историческое бюро), вместо Копаньского командиром 3-й дивизии Окулицкого. Командиром 5-й дивизии вместо Богуша рекомендовал полковника Сулика. Начальником штаба вместо Раковского выдвигал генерала Пшевлоцкого. Он был уверен, что при такой расстановке армия будет покорным орудием в его руках.
Одновременно со своими планами и политическими комбинациями Андерс начал уже совершенно открыто вести различного рода денежные махинации, без всякого стеснения пересылая казенные деньги на свое имя в заграничные банки. Между прочим перевел пятьсот фунтов в Лондонский банк, а через несколько дней опять пятьсот фунтов в банк в Каире.
Андерс открыто говорил о непризнании им верховного главнокомандующего и правительства и обращался по этому поводу к ряду офицеров, как старших, так и младших, стараясь убедить их в необходимости такого шага и в его благотворных результатах для будущего. Так, он разговаривал на эту тему с ротмистрами Кедачем, Чапским, со мною и другими. Наконец, когда он решил, что почва уже подготовлена, он обратился ко мне, чтобы я использовал свое большое влияние в армии для организации широкой антиправительственной пропаганды. Это ему позволит провозгласить свою армию самостоятельной и сделать совершенно независимой от каких-либо польских властей.
В течение двухчасовой беседы я пытался убедить Андерса в пагубности подобного шага. Я сказал, что не понимаю, почему он стремится к этому. Конечно, на самом деле я понимал, что это были сугубо личные планы Андерса, продиктованные уязвленным самолюбием в связи с тем, что он не получил поста верховного главнокомандующего. Генерал, однако, настаивал. Тогда я спросил, согласятся ли англичане на такую акцию. Генерал быстро ответил, что подобная акциях их весьма устроила бы и с этой стороны он имеет гарантированную поддержку. В конце беседы я отказался от участия в этом деле.
Мы расстались.
Эпилог
Через несколько дней после нашего разговора Андерс самовольным решением, вопреки приказу Сикорского, приостановил мой отъезд в Вашингтон.
В это же время профессор Кот, известный своими интригами, издал без согласования со мной от моего имени и «группы молодых» обращение в форме листовки с подделанной моей подписью, которое призывало поддержать правительство мною и «группой молодых». Листовка была поддельной, я никогда ее не составлял и не подписывал, хорошо понимая, что спасти престиж правительства, подвергавшегося со всех сторон нападкам и неимевшего никакого авторитета в армии таким способом невозможно. Андерс в это время командировал меня в Палестину на курсы командиров полков, чтобы таким образом избавиться от меня в Ираке. Он выехал в краткосрочный отпуск в Ливан, ожидая возвращения из Лондона делегации, чтобы детально разобраться в обстановке и принять окончательное решение.
Спустя две-три недели, когда делегация в составе Окулицкого и Бомбинского вернулась, Андерс прислал за мной в Палестину автомобиль, чтобы я приехал к нему в Ливан. Я поехал.
К тому времени отношения между мною и генералом были очень напряженными. Почти в молчании пообедали. Генерал не знал, с чего и как начать разговор. Я же избегал тематики, интересовавшей генерала. После обеда Андерс предложил проехаться в какой-то замок, замечательно расположенный в горах на берегу моря. Я деликатно уклонился от этого предложения и остался в гостинице.
Он поехал в другой компании. После его возвращения мы сели ужинать. Ужин прошел тоже не в лучшем настроении, затем перешли на террасу пить кофе. Здесь Андерс заговорил со мною о полке, моих планах, спросил, настаиваю ли я на поездке в Вашингтон. Как бы между прочим, он упомянул о своих проектах, желая выведать, не изменил ли я своих убеждений с связи с его предложениями. Я старался избегать прямых ответов. Они были, пожалуй, банальными, тем не менее Андерс почувствовал неприятие мною его предложений. Он был очень этим расстроен. Еще раз он пытался убедить меня в том, что задуманное им будет для нас замечательно. При этом я узнал, что Соснковский не все предложения Андерса по части перестановок утвердил, а внес поправки такого рода: командиром 3-й дивизии назначил генерала Духа, начальником же штаба армии назначил полковника Висьневского. Затем мне стало известно, что план, принятый в Лондоне и одобренный Андерсом, предусматривает отъезд Окулицкого в Польшу с целью организации кампании против Миколайчика, внесения раскола в целях подчинения своему влиянию всех подпольных организаций. Это известие меня очень расстроило и огорчило.
С тяжелым сердцем примерно в полночь я выехал от Андерса, еще раз решительно отказавшись от участия в каких-либо его планах. Я спешил в Палестину, чтобы успеть еще на дневные лекции.
Несколько недель спустя, услышав от поручика Скацегины, приехавшего в Палестину из Ирака, и еще от некоторых офицеров, что Андерс не отказывается от своего намерения целиком подчиниться английским властям и не признавать вышестоящую польскую власть в Лондоне, я в середине августа 1943 года через того же поручика Скацегину направил Андерсу письмо. Одну копию письма спрятал Скацегина, вторая осталась у меня. Оригинал письма Скацегина вручил Андерсу.
Я послал это письмо генералу в тот момент, когда наши разногласия достигли высшей точки. Я предупредил, что в случае какого-либо мятежного акта против верховного главнокомандующего и правительства, я использую силу своего полка. В этом письме я обвинил Андерса в том, что он:
1. Злоупотребил доверием, которое оказывал ему Сикорский, назначая его командующим польской армии в СССР, а позже на Ближнем Востоке.
2. Злоупотребил доверием, которое возлагали на него солдаты и общество.
3. Постоянно использовал свое служебное положение в личных целях, при этом сознавая, что этим он приносит огромный вред польскому государству. Такое использование служебного положения явно во вред государству я считал самым настоящим предательством.
4. Я предъявил Андерсу обвинение также в совершении ряда уголовных и политических преступлений.
Я просил, чтобы он изменил направление и методы своих действий и свое поведение, иначе моим долгом будет передать дело прокурору. При этом я добавил, что сомневаюсь в том, что найдется защитник, который, зная эти факты, отважился бы его защищать, особенно перед лицом общественного мнения.
С этого дня началась активная «работа» по ликвидации меня как можно скорее. Во время последнего разговора Андерс понял, что я без колебаний использую все средства для предотвращения реализации его планов. Это подтверждало мое письмо. Он знал, что я хорошо понимаю как его намерения, так и истинное поведение, а это уже само по себе срывало планы ниспровержения Соснковского и правительства премьера Миколайчика. Мои действия могли очень осложнить замысел Андерса по захвату власти.
Поразмыслив, Андерс пришел к выводу, что следует прежде всего избавиться от меня. В первую очередь не допустить моей встречи с Соснковским, которому я захочу все детально доложить. Пока я находился на курсах, проводились лихорадочные совещания, обсуждавшие, каким образом меня обезвредить, и в первую очередь предотвратить возможность моих встреч или контактов с людьми из военных и политических сфер, с которыми я поддерживал отношения. Спешили расправиться со мной до приезда верховного главнокомандующего потому, что это было проблемой, нависшей над ними как дамоклов меч. Начиная решительную борьбу со мной, Андерс любой ценой хотел прежде всего изъять ряд компрометирующих его документов, которые, как он полагал, находятся у меня. Пока я был на курсах, он приказал провести в мое отсутствие генералу Мариану Пшевлоцкому занятия полка, командиром которого я был, с выходом с места расположения. В «учебных» целях было приказано покинуть расположение полка всем освобожденным от занятий по болезни и по другим причинам, а также тем, кто по роду своих обязанностей на занятия не поехал. Вопреки уставу, были сняты караулы и дежурные и отосланы за пределы расположения полка. Так были устранены ненужные свидетели. Территорию полка снаружи окружили постами жандармерии. Мне говорили, что начальник жандармерии сначала отказался выполнять такой приказ как полностью беззаконный и противоречащий уставу. Он подчинился только категорическому требованию Андерса. Затем к моей палатке с обозначением командира полка подъехал автомобиль второго отдела. Перед палаткой всегда стоял пост — теперь же в «учебных» целях он был снят. Из машины вышли два офицера второго отдела, доверенные люди Андерса, вошли в мою палатку и, разбив железный ящик, все его содержимое высыпали в одеяло и отвезли на квартиру Андерса, доложив о выполнении приказа. После их ухода Андерс сам просмотрел содержимое ящика, откладывая различные компрометирующие его бумаги и отбирая из остальных те, которые, по его мнению, могли ему потребоваться в будущем. Лишь на второй день Андерс вызвал из второго отдела капитана Квятковского и своего адъютанта поручика Любомирского. Он вручил им одеяло с бумагами и приказал произвести их опись.
Произвели точную опись того, что им передал Андерс, и переслали военным инстанциям по принадлежности, за исключением того, что Андерс спрятал для себя, как опасное.
Один из офицеров полка специально приехал ко мне, чтобы рассказать обо всем. Спустя несколько дней приехала секретарь Андерса Ирэна Грабская, невестка председателя Рады Народовой, находящегося в Лондоне. Она попросила Андерса немедленно освободить ее от работы и, приехав в Палестину, рассказала мне обо всем, что творилось последнее время в ближайшем окружении Андерса, о принимаемых им мерах и планах.
Из разных источников я был подробно информирован о происходящем в штабе командующего армией.
По окончании курсов я направился в штаб Карпатской дивизии, в составе которой был мой полк. От полковника Ястржембского я узнал там, что несколько минут назад была получена телеграмма, отстраняющая меня от командования полком. Я спросил, что он думает об этом. Полковник сказал, что полагает дело серьезным, потому что офицеров с должности командиров полков таким способом не снимают. В то же время он предупредил меня, чтобы я был осторожен и внимательно смотрел вокруг.
Я взял отпуск на несколько дней и направился в Тель-Авив, прекрасно понимая, что в отношении меня разыгрывается первый акт мести. Я хотел спасти положение, решил реагировать на происходящее самым решительным образом, чтобы пресечь не предвидимые по своим последствиям выходки Андерса. Начальнику жандармерии майору Фишеру я вручил для передачи верховному главнокомандующему Соснковскому рапорт с просьбой направить его в суд чести для генералов по делу Андерса. Копию переслал генералу Вятру:
ротмистр Ежи Климковский Гааза, 16.IX.1943 года
о передаче дела в суд чести для генералов
Господину генералу
верховному главнокомандующему
Лондон
Направляю Вам, господин генерал, как верховному главнокомандующему, дело против господина генерала Андерса, с просьбой о передаче его суду чести для генералов. Господин генерал Андерс совершил ряд преступлений уголовного характера, а также политических преступлений, равнозначных государственной измене.
1. Систематически присваивал казенные деньги и покупал на них золотые портсигары, золотые шкатулки и золотые монеты.
2. Переводил казенные деньги на свое имя в заграничные банки, использовал их в своих личных целях.
3. В то время, когда в Ташкенте люди умирали с голоду, Андерс скупал у них золотые кольца, доллары и тому подобное.
4. Присвоил три тысячи (3.000) долларов, полученных в польском посольстве в Москве.
5. Израсходовал на своих приятельниц около двух тысяч фунтов стерлингов из государственного фонда.
6. Систематически занимался спекуляцией бриллиантами.
Преступления государственно-политического характера совершены им в таком масштабе, что я могу о них доложить лишь господину президенту Речи Посполитой, Вам, господин генерал, как верховному главнокомандующему, и правительству.
Прошу Вас, господин генерал, вызвать меня для доклада, чтобы вышеуказанные вопросы представить Вам лично. Я знаю, что местные власти всеми силами будут пытаться воспрепятствовать моей встрече с Вами. Прошу не поддаваться влиянию окружения и сплетням, прошу меня вызвать и выслушать.
Ежи Климовский, ротмистр.»Мое выступление вызвало замешательство и растерянность. Оно вместе с тем вызвало реакцию.
В результате совещаний между Андерсом, Богушем, начальником юридической службы полковником Рохма и другими заслуживающими доверия людьми по предложению Рохмы решили «состряпать» против меня дело и устроить суд, а пока произвести немедленно временный арест, что Андерс считал весьма важным для хода дела.
Из затруднительного положения вывел Рохма, заявив, что даже на основе тех ничего не значащих бумаг, которые были забраны у меня, он в состоянии выдвинуть против меня обвинение, используя специальную статью о «Собирании документов государственной важности». Немедленно было отдано распоряжение собрать уже разосланные документы, «скомплектовать их» и составить их соответствующий перечень.
Опись их произвел личный секретарь Андерса Анджей Строньский. Позже этому перечню придали заголовок «Выписка из протокола обыска», которого в действительности никогда не было, так как то, что было совершено, нельзя назвать иначе, как кражей со взломом. Таким образом, насилие и кража приобретали форму закона.
Точность выписки из несуществующего протокола заверил своей подписью капрал Строньский.
После завершения этого дела, объединившего целых пять генералов и значительное количество офицеров разных званий, и придания ему атрибутов законности было решено заняться непосредственно моей особой. По предложению Рохмы, ибо другого способа замести следы совершенных Андерсом преступлений не было, решили начать с обыска.
Майор жандармерии Фишер, с которым я продолжал находиться в хороших отношениях явился ко мне официально. У него был написанный рукой Богуша и подписанный Андерсом приказ о производстве тщательного личного обыска. Как оказалось, речь шла об изъятии у меня всяческих записок, заметок, бумаг, которые, возможно, находились при мне и которые могли компрометировать Андерса. Рассчитывали на то, что, возможно, найдут такие документы, которые могут быть обвинительным материалом и против меня! Увы, на этот раз, кроме личных писем, ничего не нашли. При этом ряд вещей, мелочей сугубо личных, которые я приобретал во время поездок, а также коллекцию фотографий из СССР и Ирака, являвшихся моей собственностью, и даже мои труды, рукописи, доклады и записи, Андерс попросту присвоил.
Я был арестован по состряпанному обвинению в «собирании документов государственной важности». По приказу Андерса была подобрана соответствующая статья закона.
По служебному положению я подлежал 13-му полевому суду. Однако мое дело направили в 12-й полевой суд, вышестоящим начальником которого являлся Богуш. В качестве заседателей подобрали офицера для поручений у Богуша майора Левицкого и офицера из штаба Богуша капитана Хомюка. Таким образом, все было подготовлено в узком кругу обоих генералов. Роли распределены весьма предусмотрительно, так что никаких неожиданностей не могло быть. Приговор был вынесен еще в тот момент, когда «обвинение» направлялось в суд ради соблюдения лишь чистой формальности, необходимой для введения в заблуждение окружающих и общественного мнения.
До моего сведения довели «обвинительное заключение». Капитан Марнхайм, правая рука начальника юридической службы армии полковника Рохмы, прочитал мне сфабрикованное заключение и «постановление суда» о содержании меня под стражей до судебного разбирательства, сообщив при этом, что я имею право обжаловать это постановление перед вышестоящей инстанцией, коей являлся тот же Богуш.
После этого в сопровождении офицера жандармерии поручика Червинского я был направлен в военную тюрьму в Иерусалиме. Происходило это 18 сентября 1943 года.
Прибыв в тюрьму, я узнал, что камера для меня была приготовлена уже более двух недель назад. Об этом рассказал мне начальник тюрьмы поручик Трешка.
Я решил сохранять спокойствие и по мере возможности защищаться, используя все доступные при тех обстоятельствах средства.
Начал с требования предоставить мне адвоката. В этом мне было отказано. В то же время, чтобы создать видимость законности, мне выделили из своей компании защитника по назначению, поручика Ежи Ясинского. Он не считал уместным даже придти ко мне, несмотря на неоднократные обращения.
Вся защита свелась к получасовому свиданию с Ясинским перед самым судом.
Характерным было также снятие с должности начальника тюрьмы поручика Трешки, о котором знали, что он является моим знакомым.
Я решил действовать.
В ближайшее же воскресенье попросил ксендза, приходившего к нам проводить богослужение, чтобы он меня исповедовал. После принятия причастия я попросил его придти ко мне в камеру. Там под присягой я посвятил ксендза Хрыстовского, которого в общем хорошо знал, так как он являлся капелланом епископа Гавлины, в подоплеку расправы Андерса надо мной. Я также передал ему для вручения Соснковскому ряд писем и документов.
За передачу их верховному главнокомандующему ксендз был лишен должности военного священника и приговорен к шестимесячному тюремному заключению. Часть наказания он отбывал в той же тюрьме, в соседней камере.
А тем временем от тех же высоких чинов я получил следующий ответ:
«Верховный главнокомандующий 23 ноября 1943 года.
Ротмистру Ежи Климковскому
Ваше письмо от 16 ноября 1943 года, содержащее ряд клеветнических инсинуаций против Вашего командующего, получил.
Не считаю нужным передавать вопрос суду чести для генералов, а Ваше письмо, господин ротмистр, направляю полевому суду, в котором ведется разбирательство Вашего дела, поскольку оно составляет новое преступление.
Верховный главнокомандующий
Соснковский
(К. Соснковский, генерал брони)»Видимо, это была плата Соснковского за несколько месяцев пребывания на посту верховного главнокомандующего. Не желая восстанавливать против себя грозного соперника Андерса, он, как Пилат, умыл руки, передав дело суду.
В таких условиях военный суд был совершенно избавлен от необходимости руководствоваться законом. Он был так же избавлен от опасений, что правда может обнаружиться и что приговор может не быть утвержден вышестоящими инстанциями.
Вопрос о следствии даже не возникал. Суд получил весь материал от начальника юридической службы Рохмы, а тот от командующего армией — и этого достаточно. Какое же тут нужно следствие? Кому и зачем? Командующий армией приказал, назначил судей, а начальник юридической службы определил приговор. И на этом все.
Сначала председателем суда назначили майора Гисяка, который не пользовался особым благоволением, но которому обещали значительное вознаграждение за «хорошее» ведение дела. Гисяк, совершенно не искушенный в «приемах» военной верхушки, приступил к разбирательству честно. Однако, ознакомившись с материалами дела и будучи человеком порядочным, не захотел выполнить навязанную ему волю. Тогда начальство, видя, что он не будет послушным орудием в их руках, вынуждено было его быстро отозвать.
Я со своей стороны выступил против состава суда, особенно против заседателей — майора Левицкого и капитана Хомюка. Мотивировал тем, что они, как непосредственно подчиненные заместителю командующего армией Богушу, а в данном случае также являющемуся высшей судебной инстанцией, которая должна утверждать приговор, как офицеры его штаба и постоянные участники предварительных совещаний и махинаций по этому делу, — не могут быть беспристрастными. Назначенные заседателями, они являются послушными исполнителями воли своего вышестоящего начальника, который не только выполнял приказы командующего Андерса, но и сам являлся инициатором создания этого дела.
Свой отвод я сообщил лично заседателям, соглашаясь в то же время с кандидатурой председательствующего Гисяка. Несмотря на такие обоснованные мотивы, просьбу мою отклонили. Состав суда не изменили. Наоборот, заменили лишь председателя Гисяка, к которому я не имел никаких претензий. Из обвинения, выдвинутого мною против заседателей (что не верю в их беспристрастность, что знаю их в этом смысле очень хорошо), они не сделали никаких выводов. Это противоречило чести офицера, тем не менее они согласились остаться в составе суда.
Суд назначили на 27 ноября 1943 года.
В этот день в девять часов утра меня отвели в другую, значительно большую по размерам камеру, находившуюся в нескольких шагах от моей. В камере уже находился весь состав суда, здесь должно было состояться «разбирательство».
Собственно, я совсем не удивился, когда, войдя в «зал суда», вместо Гисяка в кресле председателя увидел полковника Борковского, специалиста высшего класса по различным состряпанным процессам, проводимым по приказу. Все остальное осталось без изменения, несмотря на мои протесты.
Никакого наблюдателя со стороны верховного главнокомандующего не было, а ведь процесс был необычный. Это был процесс между офицером для поручений командующего армией, офицером на должности командира полка, между человеком, который был посвящен в вопросы государственной важности, перед которым по существу не было никаких секретов, и командующим армией Андерсом, фактически обвинявшимся в государственной измене.
После «торжественной присяги» суда и прочтения известного мне обвинения в «преступном собирании документов государственной важности» суд начал разбирательство. Трудно себе представить лучший подбор состава суда, если речь идет о защите организаторов процесса от каких-либо неожиданностей.
И все же...
Когда в один из моментов судебного рассмотрения я потребовал предъявить все содержимое моего взломанного ящика, перевезенного затем на квартиру Андерса, в зале воцарилось глухое молчание. Наконец полковник Борковский неуверенным голосом ответил мне, что это не имеет отношения к делу.
В ходе разбирательства суд так и не узнал, по чьему приказу произведен был так называемый «обыск», кто его проводил и в чьем присутствии. Он не мог также обнаружить в деле протокола «произведенного обыска».
Протокола «обыска» суд не нашел. Впрочем, он в нем и не нуждался.
За основу дела приняли пресловутую выписку из протокола — оригинала которого не существовало, — состряпанную по приказу и заверенную подписью самого... капрала Строньского.
На помощь обескураженному председательствующему, располагавшему только фальшивками, к тому же неумело сделанными, поспешил прокурор. Он заявил, что, действительно, в деле имеется ряд нарушений формальностей, однако они неизбежны, иначе нельзя было бы вообще вести рассмотрение дела.
Короче говоря, приказ должен быть выполнен, и никто из стражей закона — даже перед лицом присяги — не может против него выступать.
Известно, от кого исходил приказ и каковы причины, его породившие.
В конце заседания я вновь потребовал, чтобы в суд представили содержимое забранного у меня ящика. Борковский ответил, что этот вопрос будет рассматриваться потом.
Должен признаться, что я был поражен этим ответом. Никогда не приходилось слышать, что дело можно вести по частям, в рассрочку. Я выразил это мнение вслух. Борковский страшно разнервничался и предоставил слово прокурору.
Прокурор капитан Майнхарт сказал только, что он поддерживает обвинение и просит о вынесении осуждающего приговора. Он отметил, что несоблюдение формальностей вызывалось необходимостью подготовки обвинения, при этом подсунул Борковскому какую-то записку.
Был объявлен перерыв, и суд удалился на совещание.
Примерно через полчаса он вернулся и огласил приговор, осуждающий меня на полтора года заключения.
После получения мотивов приговора в письменном виде я мог заявить свои возражения против него.
Через некоторое время я направил их через начальника тюрьмы по инстанции. Видимо случайно, в связи с постоянной реорганизацией армии и командования, они попали в руки генерала Раковского. А может быть, это и не было случайно. Раковский, возмущенный подобным ведением дела, обратил внимание Борковского на то, как он мог допустить такой способ проведения судебного разбирательства. Ведь когда-нибудь ему придется за это отвечать. Борковского несколько взволновало это замечание.
В свою очередь Андерс начал резко выговаривать Борковскому, что он приговорил меня лишь к полутора годам тюрьмы, когда тот требовал пять лет, что это его компрометирует и подрывает авторитет. Но поскольку дело еще полностью не закончено, нужно как-то его завершить, то есть возбудить дело о клевете (имелось в виду мое письмо, направленное в суд чести для генералов), при этом Андерс заметил, что он не делает выводов в отношении Борковского, а поручает ему это дело, чтобы он мог в его глазах реабилитировать себя.
Но здесь разразился скандал.
Борковский, то ли под влиянием угрызений совести, то ли под впечатлением разговора с Раковским, решительно отказал. Если Андерс будет иметь к нему претензии и потребует продолжения процесса, то он доложит Соснковскому, как выглядит дело в действительности.
Андерс спохватился, что в своих требованиях и принуждении зарвался и что Борковский уже не будет его послушным орудием.
Спустя пару дней Борковский скончался. В официальном коммюнике сообщалось, что он умер от сердечного приступа.
Примерно через месяц, как-то вечером меня препроводили в тюремную светлицу. Там я застал полковника Хааса, известного своими германофильскими убеждениями и еще несколько офицеров. Хаас представился, как председатель 13-го полевого суда, и сказал, что продолжение судебного заседания начнется через минуту. Затем, указав на двух неизвестных мне капитанов, сказал, что это заседатели, а показав на третьего, заявил, что это прокурор, и, наконец, указал на какого-то капрала, стоявшего у окна и выглядевшего весьма перепуганным, что это мой защитник.
Странный этот суд, неизвестно откуда появившийся, приступил к своим обязанностям.
Для придания солидности принес присягу, что будет беспристрастным и будет судить по совести.
Потом Хаас сказал, что приступает ко второй половине судебного рассмотрения, во время которой будет разбираться мое письмо в генеральский суд чести и на основе которого я обвиняюсь в нарушении воинской дисциплины и намерении подорвать авторитет генерала Андерса. Он обратился ко мне с вопросом, что я хочу сказать по этому поводу.
Я начал пункт за пунктом доказывать, что все написанное мною является сущей правдой.
Когда я приводил факты, Хаас краснел, вертелся на кресле, метал в меня громы и молнии, словно собирался убить взглядом. Мой «защитник» дрожал всем телом, не поднимал головы и лишь украдкой бросал взгляды на Хааса.
Нет необходимости говорить, что обстановка по мере того, как я приводил факты совершенных Андерсом афер, становилась все более удушливой. Хаас не знал, что ему делать. Остальные офицеры сидели, ничего не понимая, по крайней мере так выглядели, а мой защитник делал вид, что ничего не слышит. Хаас пытался несколько раз иронизировать, но это у него не получалось. Он выходил из себя, теряя самообладание, и только повторял: «Ну и что дальше, что дальше?»
Я сказал, что приведенного мною вполне достаточно, чтобы привлечь Андерса к уголовной ответственности и к суду чести.
Говоря о совершенных им преступлениях государственно-политического характера, я привел в качестве доказательства поведение Андерса в Советском Союзе, закончившееся выводом наших войск.
Раскрыл, каково было отношение Андерса к Сикорскому, рассказал о его письмах к президенту, в которых он добивался устранения Сикорского, о его телеграммах президенту, в которых он заявлял, что не признает Сикорского верховным главнокомандующим, и т. д.
Я прекрасно видел, что заседатели абсолютно ни в чем не ориентируются, что для них это совершенно непонятные вещи, и как люди военные, они совершенно не представляют, что подобное вообще могло иметь место.
Хаас несколько раз меня прерывал, спрашивал, все ли уже сказано. Старался все превратить в шутку, отнестись несерьезно и перейти к следующим вопросам.
Я заявил, что и так достаточно, чтобы привлечь Андерса к ответственности. Ведь имеется такая статья, которая гласит, что если суд узнает о преступлении, то передает дело прокурору и может применить предварительный арест подозреваемого. Оставляя Андерса на свободе, суд дает ему возможность замести следы своих преступлений, подговорить свидетелей и т. п. Хаас прервал меня и заявил, что судебное следствие прекращает и предоставляет слово прокурору.
Прокурор, по существу, меня не обвинил, ему нечего было сказать. Зато буквально в нескольких предложениях облил меня потоком самой отборной ругани.
Защитник также ничего не сказал. Он лишь смотрел на Хааса и весь дрожал, боясь сказать такое, что могло бы вызвать неприятности.
Суд удалился на совещание. Вернулся через десять минут и объявил, что за нарушение воинской дисциплины и желание подорвать авторитет своего командира приговаривает меня к трем годам тюремного заключения. Но поскольку на первом заседании я получил полтора года, а теперь три, то в общей сложности суд определяет три года.
Раз речь зашла о суде и тюрьме, то я хотел бы, чтобы читатель имел определенное представление о существовавших там порядках.
Избиение заключенных считалось явлением нормальным и во всех случаях применялось, как средство «воспитательное». Били так, что иногда забивали насмерть.
Так было с уланом Морозом, которого били палками в течение нескольких дней. Ежедневно из его камеры до нас доносились крики, а временами прямо-таки невероятные вопли истязаемой жертвы. Отчетливо доносились удары палок. Как потом стало известно, его так избили, что вытек глаз, а на теле не осталось живого места. Под ударами палок он скончался, а палачи самым спокойным образом повесили его в той же камере, объявив, что улан Мороз покончил жизнь самоубийством.
Англичане, наблюдая за происходящими в нашем войске различными трениями, издали приказ о реорганизации польской армии на Ближнем Востоке, создании из нее одного корпуса с полными штатами и потребовали перевода его, чтобы он не был бездеятельным — ближе к фронтовому району.
После удачно проведенных инспекций и менее удачной реорганизации армии, когда пришлось ликвидировать 6-ю и 7-ю дивизии, чтобы пополнить 3-ю и 5-ю дивизии, наконец, определили количество и состав корпуса. Он складывался из 3-й Карпатской дивизии, 5-й дивизии, танковой бригады и корпусных частей. Командиром этого корпуса стал Андерс. Остатки различных родов войск пока оставались в Египте, как основа будущего 3-го корпуса. Командиром его был назначен Токаржевский. Таким образом, два генерала, из которых каждый претендовал на пост верховного главнокомандующего и хотел любой ценой устранить своего соперника, пошли на компромисс. Правда, не обошлось без известных столкновений между Андерсом и Соснковским, особенно по вопросам реорганизации войск, и хотя Андерс возражал, все же на этот раз вынужден был явно уступить: создали два корпуса. Словом, в том, с чем Андерс никогда не хотел согласиться, теперь он вынужден был уступить. Он имел равноценного партнера, на такой же самой должности. Соперник вырастал, но пока он не имел войска.
Лишь теперь оба соперника показывали, на что они способны. Токаржевский стремился иметь возможно больше людей, чтобы доказать необходимость существования корпуса. Поэтому не давал никакого пополнения Андерсу, части которого таяли в сражениях в Италии и который крайне нуждался в свежих силах. По установившейся привычке Андерс жаловался на Токаржевского как на нелояльного офицера. В то же время Токаржевский при помощи своих дружков из легионов старался как мог подорвать позицию Андерса. Кто вышел бы победителем в этих закулисных интригах — трудно предугадать. Однако следует признать, что положение Андерса становилось все более трудным и даже существовала вероятность, что он проиграет в борьбе с Токаржевским.
Точно так же и мое дело, как будто законченное, постоянно на нем висело и фактически полностью не было решено. Опасаясь, чтобы оно не стало известно верхам, Андерс стремился любым способом избавиться от меня. С этой целью он прислал ко мне из Италии своего секретаря капрала Строньского.
Строньский прилетел из Италии самолетом. Это было в начале мая 1943 года.
Обычно все мои разговоры с посетителями происходили при свидетелях из числа тюремного персонала. Ими являлись то начальник тюрьмы капитан Мизиняк, то старший сержант Загерский и лишь в редких случаях кто-либо другой.
Здесь же разговор с капралом Строньским происходил без свидетелей и продолжался около полутора часов. Строньский мне заявил, что происшедшее следует считать неприятным недоразумением, которое можно в любой момент исправить. Он сказал, что я могу покинуть тюрьму, и он это оформит буквально в течение нескольких дней, но, конечно, если я соглашусь на некоторые условия, а именно — переменить фамилию и вернуться в армию рядовым. Через несколько недель мне восстановят звание и все вернется к прежнему порядку. Я спросил, зачем мне менять фамилию. Получил ответ, что это необходимо, ибо как Климковский я хорошо известен в корпусе и это могло бы осложнить мне жизнь и вызвать ненужные разговоры.
Я спросил, не является ли это еще одним из способов, имеющих целью ликвидировать меня.
Застигнутый врасплох моим вопросом, Строньский не задумываясь спросил: — Откуда ты об этом знаешь? — но сразу же спохватился, что брякнул глупость, и начал затушевывать свою промашку.
И на этот раз Андерс для осуществления своих подлых намерений воспользовался услугами не слишком умного посла.
После еще нескольких незначительных фраз Строньский вышел.
А между тем и к нам за решетку доходили вести с воли.
Когда в конце июля 1944 года президент Рачкевич вызвал телеграммой Соснковского в Лондон, так как предстояло принять некоторые решения, в частности в связи с восстанием, Соснковский ответил, что не может покинуть Италию, поскольку обязан закончить инспекцию военных частей. Лишь после того, как президент вторичной телеграммой потребовал немедленного прибытия, Соснковский вылетел в Лондон. Все же он задержался на несколько дней в Неаполе, после чего вернулся в Рим. В Риме приказал вызвать к себе военного корреспондента Здислава Бау по срочному делу. Корреспондент был уверен, что получит сообщение огромной государственной важности, тем более, что знал о происходящей закулисной борьбе внутри кабинета Миколайчика. Он знал также содержание телеграммы Рачкевича Соснковскому, переписывал ее на пишущей машинке, когда она поступила из шифровального отдела. Словом, ожидал сенсационного сообщения.
Озабоченный, задыхающийся Бау, как он сам мне об этом рассказывал, вбежав к верховному главнокомандующему, весь превратился в слух, чтобы не пропустить ни одного слова главкома. Сказав несколько общих слов вежливости, верховный главнокомандующий тихим голосом обратился к Бау с такой просьбой:
— Не могли бы Вы сделать так, чтобы моя фотография, знаете, с тем маленьким мальчиком на руках — появилась в «Белом орле», это было бы так кстати, и я был бы очень доволен.
Корреспондент чуть не потерял сознания от услышанного — так оно его поразило. Он кивнул головой и сказал, что фото будет опубликовано. На этом аудиенция закончилась.
Такими оказывались наши вожди в минуты величайших порывов польского народа, в минуты самые для него трудные. Такие «проблемы исключительной важности» они решали.
Не имея возможности больше увиливать и оттягивать, Соснковский в «спешном порядке» наконец 6 августа 1944 года прибыл в Лондон. Находясь там, он мог издавать свои приказы и оказывать влияние на ход борьбы, связанной с самыми большими усилиями поляков в этой войне.
Вскоре Соснковский все же понял, что уделял слишком мало внимания делу восстания. Чтобы исправить свою ошибку, 1 сентября 1944 года он издал приказ, обращенный к Армии Крайовой, в котором дал понять, что англичане слишком мало помогают восстанию.
И тут началось. Разразилось чуть ли не второе восстание, но уже в польских кругах в Лондоне.
Теперь сообща набросились на Соснковского, словно это было самым важным в тот момент. Миколайчик, а также англичане при его поддержке, ну и, конечно, Андерс, считавший, что наступил походящий момент для устранения верховного главнокомандующего и занятия, наконец, этого такого желанного престола, — все они решили использовать обстановку для снятия Соснковского. Андерс быстро приехал в Лондон, чтобы на этот раз лично проследить за ходом событий и не прозевать такого необыкновенного случая, чтобы не повторилось то, что произошло после смерти Сикорского.
Эти прямо-таки непрекращающиеся драки в самых высоких польских сферах, происходившие к тому же в период Варшавского восстания, не только не помогали ему, а наоборот, сводили на нет и так уж незначительный наш международный авторитет. Премьер Миколайчик в первой половине сентября дважды был у президента Рачкевича с требованием снятия Соснковского с занимаемого им поста. В этот период Миколайчик довольно резко выступал против Соснковского потому, что тот вмешивался в политику и тем самым срывал переговоры в Москве, которые вел Миколайчик. Соснковский даже угрожал выйти из подчинения вместе со всеми войсками, если переговоры приведут к объединению лондонского правительства с Люблинским комитетом, что выразил в телеграмме, адресованной Рачкевичу:
«Докладываю господину президенту, что если результатом настоящей поездки в Москву явятся уступки за счет Польши и произойдет в той или иной форме слияние легального правительства с правительством советских агентов, то польские вооруженные силы не потерпят подобного оборота дела, и в таком случае я предвижу трудно оценимый по своим последствиям кризис, могущий выразиться по меньшей мере в отказе подчиняться правительству, которое привело решение польского вопроса к такому состоянию...»
Англичане также уже без всякого стеснения оказывали по этому вопросу давление на президента, а министр Иден был у Рачкевича 22 сентября 1944 года и прямо ставил вопрос об освобождении Соснковского. В этот же день, 22 сентября, по своей инициативе и под нажимом англичан Совет министров единогласно принял решение, требующее от президента снятия Соснковского.
Андерс, конечно, подстрекал любые выступления против Соснковского, радуясь в душе его поражениям, и внешне показывался с грустным и озабоченным лицом. Одновременно он как мог хлопотал о своем деле перед англичанами. Будучи теперь уверенным, что достиг своего, 25 сентября он покинул Лондон, направляясь обратно в Италию.
Под влиянием всех этих интриг, ходатайств и нажимов Рачкевич 30 сентября 1944 года освободил Соснковского от поста верховного главнокомандующего.
Андерс считал, что теперь он остался один на поле боя, и не видел вокруг себя соперников, которые так же осмелились бы хлопотать о получении этого поста, тем более, что он имел полную поддержку со стороны англичан.
Тем не менее, продолжая следить за «своим делом», Андерс 2 октября направил президенту телеграмму, в которой между прочим писал: «...Солдат глубоко верит господину президенту, в лице которого видит величие Речи Посполитой и защитника суверенитета, независимости и целостности Польши...»
Этой льстивой телеграммой Андерс хотел, с одной стороны, напомнить о себе, а с другой, указывая, что верит в президента, давал понять, что на этот раз президент уже не может его обойти и пришлет ему назначение на пост верховного главнокомандующего.
Но именно в тот же день президент на вышеуказанную телеграмму ответил назначением на пост верховного главнокомандующего генерала Бур-Комаровского.
Андерс был сражен этой вестью, как громом, такого оборота никак не ожидал. Он упрямился, и хотя этого не объявил публично, перестал с этого времени признавать Лондон своей вышестоящей властью.
Но и Лондону он порядочно надоел. Таким образом, на этот раз не могло быть и речи о назначении Андерса на этот пост.
Верховным главнокомандующим был назначен Бур-Комаровский, о котором было известно, что фактически он не сможет выполнять этих обязанностей. Было известно, что он капитулировал и находится в плену. Словом, выбор являлся функцией, это каждый прекрасно понимал.
Обязанности верховного главнокомандующего разделили между тремя лицами. Ряд функций принял генерал Копаньский, начальник штаба, а часть генерал Кукель, как министр национальной обороны. Некоторые функции оставил за собой президент Рачкевич. Это была невероятная бессмыслица, но все предпочитали идти на подобный абсурд, чем поручить пост верховного главнокомандующего Андерсу, которого видели насквозь и подстрекательских методов которого уже никто не мог переносить.
Такого афронта Андерс еще ни разу в жизни не испытывал, это была явная пощечина и доказательство полного недоверия к его персоне.
После временного потрясения Андерс пришел в себя и решил не сдаваться. Поддерживаемый англичанами, он так долго хлопотал, так долго интриговал, представляя всем, а в особенности англичанам, какой вред приносит отсутствие верховного главнокомандующего и какие неприятности от этого и от того, что он им не является, могут быть в будущем, что в конце концов договорился с фельдмаршалом Александером о необходимости назначить его, Андерса, на этот пост. Затем представил это президенту и так долго просил и угрожал, что в конце концов после полугодовых стараний, используя международную обстановку, получил 26 февраля 1945 года назначение на время отсутствия Бур-Комаровского «исполняющим обязанности верховного главнокомандующего».
Таким образом, наконец-то, он обрел желаемый пост.
Тем временем приближался срок моего выхода из тюрьмы. Попав под амнистию лондонского правительства, я должен был покинуть тюремные стены 17 марта 1945 года.
Во всем мире принято, что заключенный после отбытия срока наказания освобождался и никто не имеет права его дольше задерживать.
Со мной произошло иначе.
Только я вышел из тюрьмы и направился в город к знакомым, как подъехал автомобиль жандармерии Андерса, из которого выскочило несколько жандармов. Схватили меня средь бела дня на улице, бросили в машину и вывезли в пустыню. Ликвидировать там человека было очень просто. Но это насилие, совершенное на глазах нескольких десятков людей, произвело такой шум, что в дело вмешались даже местные палестинские власти. Одновременно об этом появился ряд заметок и более крупных статей в прессе. Совершенно очевидно, что и мои коллеги предпринимали различные шаги, старались позаботиться обо мне и делали все, чтобы меня освободить. Это было тем легче, что такое явное насилие, совершенное совсем открыто, глубоко возмутило всех, так что мне помогали со всех сторон. Особенно успешным были старания господ Тхенув. Вот почему после двухнедельного пребывания в пустыне в лагере Квасасин я был освобожден.
Таким образом, и на этот раз у Андерса ничего не получилось. Я знаю, что под любым предлогом намеревались перевести меня в Италию и там уничтожить, но генерал не мог найти новых палачей для исполнения своих намерений. Офицеры постоянно меня предостерегали и даже отказывались выполнять приказы Андерса, связанные со мною. Не буду подробно описывать своих переживаний, так как, вероятно, это весьма личный вопрос. Зная Андерса, я не был удивлен всем происшедшим, ведь в тогдашних исключительных условиях были возможны различные чудеса. Сколько же людей погибло в то время, подсчитать трудно. Судьба моя сложилась так, что я пережил эти времена и получил возможность огласить все то, что должно было быть тщательно скрытым.
Я не писатель, поэтому написал в сухих выражениях лишь то, что видел сам и что сам пережил. То, что сохранилось в моей памяти.
Моим намерением является только одно: чтобы до читателя дошла голая неприукрашенная, хорошая и плохая, правда.
Иерусалим, апрель 1945 — Рим, июнь 1947.
Примечания
1
Перед началом и в период Второй мировой войны в составе Генерального штаба польской армии работал II (разведывательный) отдел, занимавшийся борьбой против революционного рабочего движения. Офицеров и сотрудников этого отдела называли «двуйкажами».
(обратно)2
Санация — «оздоровление» — реакционный антинародный режим, установленный в Польше после фашистского переворота Пилсудского в мае 1926 г. Существовал до 1939 г.
(обратно)3
Польские воинские части созданы в 1914 г. в Галиции, входившие в состав австрийской армии. В первой мировой войне выступали против русской армии. Командиром первой из трех бригад был Ю. Пилсудский.
(обратно)4
Бек Юзеф (1894–1944) — полковник бывший адъютант Пилсудского. Министр иностранных дел с 1932 г. по 1939 г.
(обратно)5
Рыдз-Смиглы Эдвард (1886–1941) — маршал Польши. После смерти Пилсудского один из главарей санации. Во время нападения гитлеровской Германии на Польшу сбежал в Румынию.
(обратно)6
С 1944 г. — Черновцы.
(обратно)7
Поэма А. Мицкевича.
(обратно)8
Второй (разведывательный) отдел генерального штаба польской армии, руководивший также борьбой против революционного рабочего движения. Офицеров и сотрудников этого отдела называли «двуйкажами».
(обратно)9
Армия Крайова в 1942–45 гг. действовала под руководством польского эмигрантского правительства в оккупированной фашистской Германией Польше.
(обратно)10
Падеревский Игнаци (1860 -1941) — известный польский пианист и комментатор, политик близко связанный с санацией. В 1919 году был премьер-министром и министром иностранных дел Польши.
(обратно)11
Генерал-майор.
(обратно)12
генерал-лейтенант.
(обратно)13
В 1941 г. Сталин стал Маршалом.
(обратно)
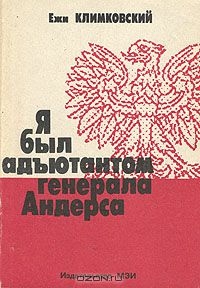



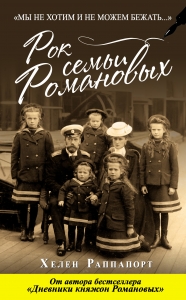
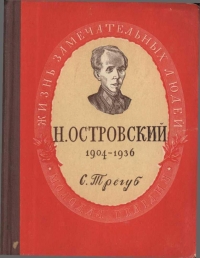
Комментарии к книге «Я был адъютантом генерала Андерса», Ежи Климковский
Всего 0 комментариев