Казанова. История моей жизни до года 1797
Напрасна мудрость того, кто не мудр к себе
Цицерон., К ТребониюПредисловие
Я начинаю, заявляя моему читателю, что во всем, что сделал я в жизни доброго или дурного, я сознаю достойный или недостойный характер поступка, и потому я должен полагать себя свободным. Учение стоиков и любой другой секты о неодолимости Судьбы есть химера воображения, которая ведет к атеизму. Я не только монотеист, но христианин, укрепленный философией, которая никогда еще ничего не портила.
Я верю в существование Бога — нематериального творца и создателя всего сущего; и то, что вселяет в меня уверенность и в чем я никогда не сомневался, это что я всегда могу положиться на Его провидение, прибегая к нему с помощью молитвы во всех моих бедах и получая всегда исцеление. Отчаяние убивает, молитва заставляет отчаяние исчезнуть; и затем человек вверяет себя провидению и действует.
Каковы те средства, к которым прибегает существо, взывающее о помощи, чтобы отвратить надвигающиеся беды, — это вопрос вне возможностей ума человека; когда же он видит непознаваемость божественного провидения, он должен преклониться перед ним. Наше невежество становится нашим единственным ресурсом, и действительно счастливы те, кто ценит его. Поэтому следует молиться Богу и верить в обретение благодати, даже если видимость говорит нам, что мы её не получили. Что же касается положения тела, в котором он должен находиться, когда обращает к создателю свои обеты, на это указывает стих Петрарки:
Con le ginocchia délia mente inchine.[1]Человек свободен, но он не остается таковым, если не считает себя сущностью, и чем больше он полагается на силу Судьбы, тем более он лишает в себе то, что дал ему Бог, когда наделил его разумом.
Разум это частица божественной сущности Создателя. Если мы прибегаем к нему, чтобы быть смиренными и праведными, мы можем только радовать Того, кто нам его подарил. Бог перестает быть Богом только для тех, кто допускает возможность его отсутствия. Они не могут претерпеть более сурового наказания.
Хотя человек свободен, не следует полагать, что он может делать все, что хочет. Он становится рабом, когда позволяет себе направляться туда, куда ведет его страсть. Nisi paret imperat.[2] Тот, кто в силах сдержать свои порывы, пока не обретет спокойствия, тот мудр. Но такое бытие — редкость.
Читатель, любящий размышлять, увидит в этих мемуарах, что никогда не останавливался я на одной и той же точке зрения; единственная система, которой я придерживался, если таковая существует, состояла в том, чтобы идти туда, куда ветер дует. Сколько превратностей таится в этой независимости от метода! Мои несчастья, как и мои удачи, показали мне, что в этом мире, как физическом, так и моральном, добро проистекает из зла, как и зло — из добра. Мои заблуждения подскажут мыслящим людям другие пути или научат их великому искусству удержаться в седле при ухабах. Речь идет только о мужестве, поскольку сила без доверия не стоит ничего. Я очень часто видел, как счастье выпадало мне в результате неосторожного шага, который должен был бы привести меня к пропасти, и, хотя следовало бы порицать себя, я благодарил Бога. Я также видел, напротив, как великое несчастье проистекало из поведения, продиктованного мудростью; это меня удручало, но, будучи уверен, что прав, я легко утешался.
Несмотря на основы превосходной морали, необходимый плод божественных принципов, укоренившихся в моем сердце, всю жизнь я был жертвой своих чувств, мне нравилось заблуждаться, и я постоянно совершал ошибки, не имея другого утешения, кроме сознания, что это я сам виноват. По этой причине я надеюсь, дорогой читатель, что, отнюдь не находя в моей истории черт дерзкого хвастовства, вы заметите в ней то, что соответствует представлениям об исповеди, хотя в стиле моего повествования вы не найдете ни атмосферы раскаяния, ни стеснения человека, краснеющего от рассказа о своих шалостях. Это безумства молодости. Вы увидите, что я над ними смеюсь, и если вы добры, вы будете смеяться вместе со мной. Вы будете смеяться, когда узнаете, что я не особо стеснялся, вводя в заблуждение простофиль, жуликов, дураков, когда в этом была нужда. Что же касается женщин, это были обманы взаимные, которые не считаются, потому что, если в деле участвует любовь, то, как правило, обмануты бывают обе стороны.
Другое дело, когда это касается дураков. Я всегда радуюсь, вспоминая, как они падали в мои сети, потому что были высокомерны и самонадеянно противостояли уму. Это месть, когда обманывается глупец, и победа тем полнее, поскольку он чувствует себя защищенным и не знает, откуда ждать опасности. Обмануть дурака, наконец, это подвиг, достойный умного человека. То, что было в моей крови с тех пор как я существую — неутолимая ненависть к этой породе — связано с тем, что я чувствую себя глупцом каждый раз, когда вижу себя в их обществе. Следует, однако, отличать их от людей животного склада, поскольку этот недостаток связан с отсутствием образования, к ним я довольно благожелателен. Я нахожу в них много честности, и в характере их дурачеств есть своего рода ум. Они напоминают глаза, которые без катаракты были бы очень красивы.
Вдумываясь в характер этого предисловия, Вы, мой дорогой читатель, осуществите мою цель. Я написал его, потому что хочу, чтобы вы узнали меня до того, как начать читать. Это как если в кафе, за табльдотом, беседуешь с незнакомцами. Я написал свою историю, и никто не может к ней придраться, но поступаю ли я мудро, предлагая её публике и сознавая её большой недостаток? Нет. Я знаю, что совершаю ошибку, но вынужден её делать и смеюсь над собой — почему я не воздержусь от этого?
Древние учат: Если ты не сделал ничего, достойного описания, по крайней мере напиши о тех, кто этого достоин. Этот рецепт прекрасен, как английский бриллиант чистейшей воды, но он мне не подходит, поскольку я не пишу историю знаменитости или роман. Достойна или недостойна, но моя жизнь — моя тема, моя тема — это моя жизнь. Живя своей жизнью и даже не предполагая никогда, что посетит меня желание писать, мне теперь могло бы показаться, что моя работа представляет интерес, чего, возможно, на самом деле и не было бы, если бы я поступал в согласии с намерением описывать, и, самое главное, публиковать написанное.
В этом 1797 году, в возрасте семидесяти двух лет, когда я могу сказать Dixi, хотя еще дышу, я не могу найти большего удовольствия, чем разбираться со своими собственными делами, и давать превосходный повод для смеха в хорошей компании, которой я всегда окружен, которая меня слушает и которая всегда являет ко мне признаки дружбы. Чтобы хорошо писать, мне достаточно только представить себе, как она будет это читать: Qusecumque dixi, si placuerint, dictavil auditor[3]. Что касается профанов, которым я не могу помешать меня читать, достаточно знать, что я написал это не для них. Вспоминая полученные удовольствия, я снова их себе представляю, и я смеюсь над наказаниями, которые перенес и которых больше не чувствую. Частица Вселенной, я говорю в воздух, и я полагаю дать отчет о моем управлении, подобно тому, как дворецкий дает отчет своему господину, перед тем как исчезнуть. Что касается моего будущего, то, как философ, я никогда не желал беспокоиться об этом, потому что ничего об этом не знаю, и, как христианин, должен верить закону без рассуждений, и наилучшая защита — глубокое молчание. Я знаю, что существовал, и, будучи в этом уверен, я знаю также, что не буду существовать, когда перестану чувствовать. Если случится мне, после моей смерти, все же что-то чувствовать, я не усомнюсь более ни в чем, но уличу во лжи всех тех, кто скажет мне, что я мертв.
Мой рассказ, если начать его с самого удаленного факта, который удается вспомнить, начнется в возрасте восьми лет и четырех месяцев. До этого времени, если правда, что Vivere cogitare est[4], я не жил — я прозябал. Мысль человека, состоящая лишь в сравнениях, делающихся для рассмотрения отношений, не может предшествовать существованию его памяти. Орган, ей соответствующий, развился в моей голове только к восьми годам и четырем месяцам от рождения; к этому моменту моя душа начала воспринимать впечатления. Каким образом нематериальная субстанция, которой не может быть, существует, — ни один человек не в состоянии объяснить. Утешительная философия, в согласии с религией, утверждает, что взаимная зависимость души, чувств и органов является лишь случайной и мимолетной и что душа будет свободна и счастлива, когда смерть тела освободит ее от его тиранической власти. Это очень красиво, но, отвлечемся от религии, это не безопасно. Поскольку нет возможности убедиться с полной достоверностью в том, что, после того, как перестаешь жить, становишься бессмертным, простите меня, если я не тороплюсь познать эту истину.
Знание, которое стоит жизни, стоит слишком дорого. Между тем, я люблю Бога, охраняющего меня от любого неправедного действия и ненавидящего неправедных людей, при этом не причиняющего им зла. По мне, достаточно того, чтобы воздержаться делать им добро. Не следует кормить змей.
Прежде чем я скажу что-то о моем темпераменте и моем характере, пусть снисходительность моих читателей не будет лишена честности, ни, тем более, разума.
Я обладал всеми четырьмя темпераментами: флегматичным в моем детстве, сангвиническим в молодости, затем холерическим и, наконец, меланхолическим, который, очевидно, больше меня не оставит. Сообразуя питание со своей конституцией, я всегда пользовался хорошим здоровьем и, понимая, что то, что его ухудшает, всегда происходит либо от избытка пищи, либо от воздержания, я не имел к другого врача кроме себя самого. Но я нашел, что воздержание гораздо более опасно. Излишество приводит к нарушению пищеварения, но излишнее воздержание — к смерти. Сегодня, будучи старым, несмотря на превосходное состояние моего пищеварения, я нуждаюсь в питании только раз в день; я компенсирую это сладким сном, и легкость, с которой я засыпаю среди бумаг, полных моих рассуждений, не нуждаясь ни в парадоксах, ни в хитроумных софизмах, наложенных на другие софизмы, не позволяет мне обманываться самому и обманывать своих читателей, потому что я никогда не смогу описать себя, предлагая им фальшивые деньги, если я знаю, что они фальшивые.
Сангвинический темперамент сделал меня очень чувствительным к прелестям наслаждений разного рода, радостей, готовым переходить от одного наслаждения к другому и изощренным в их изобретении. Отсюда моя склонность к заведению новых знакомств, так же как лёгкость в их разрыве, хотя всегда с сознанием причины и никогда не по легкомыслию. Дефекты темперамента неисправимы, потому что сам темперамент не зависит от наших усилий, но характер-это другое дело. Его образуют сердце и ум; и темперамент оказывает на него очень малое влияние, отсюда следует, что он зависит от воспитания и поддается коррекции и переделке. Я оставляю другим решить, хорош мой характер или плох, но каков он — легко видно по моему лицу для любого знатока. Именно там характер человека проявляется как объект наблюдения, поскольку это его местоположение. Отметим, что люди, не имеющие физиономии, число которых очень велико, не имеют также и того, что называют характером. Поэтому разнообразие физиономий соответствует разнообразию характеров.
Признав, что всю мою жизнь я действовал более под влиянием чувства, чем размышлений, я нашел, что мое поведение в большей степени зависит от моего характера, чем от ума, после долгой войны между ними, в которой, в свою очередь, никогда не обнаруживалось ни достаточно разума для моего характера, ни достаточно характера для моего ума. Прервёмся на этом, потому что это случай, когда si brevis esse volo obscurus fio [5]. Полагаю, что, не нарушая скромности, могу присвоить себе эти слова моего дорогого Вергилия:
Nec sum adeo informis: nuper me in litore vidi Cum placidum ventis staret mare[6].Посвящать своё время доставлению удовольствий для моих чувств было в жизни моим основным занятием; для меня никогда не было ничего более важного.
Чувствуя себя рожденным для пола, противоположного моему, я всегда его любил, и я стремился всегда любить его, как только мог. Мне также нравился хороший стол, переезды и, страстным образом, всё, пробуждающее любопытство.
У меня были друзья, которые делали мне много добра, и я полагал себя счастливым, когда имел случай дать им знаки моей благодарности; и у меня бывали ужасные враги, которые преследовали меня, и я не уничтожал их лишь потому, что у меня не хватало для этого возможностей. Я бы никогда не простил их, если бы не забыл зло, что они мне сделали. Человек, который забывает оскорбление, не простил его, а забыл; прощение происходит от героического чувства благородного сердца и просвещенного ума, тогда как забвение исходит от слабости памяти или мягкой дружелюбной беззаботности миролюбивого ума, и часто от потребности сохранять спокойствие и мир, поскольку ненависть, в конечном итоге, убивает несчастных, которые поощряют её в себе. Будет неправильным называть меня чувствительным, потому что сила моих чувств никогда не отрывала меня от моих обязанностей, когда они предо мной стояли. По этой же причине мы никогда не должны называть Гомера пьяницей: Laudibus arguitur vini vûtosus Homerus[7].
Мне нравились тонкие блюда: патэ из макарон, приготовленное хорошим неаполитанским поваром, ольяподрида, хорошо разделаная треска из Нового Света, тушеная дичь под грибным соусом и сыры, совершенство которых проявляется, когда маленькие существа, населяющие их, начинают заявлять о себе видимым образом. Что касается женщины, то я всегда полагал, что это то, что мне нравится, и чем сильнее чувствую я её аромат, тем кажется она мне слаще.
Что за развращенный вкус! Как не стыдно признаваться в этом и не краснеть! — эта критика заставляет меня смеяться. Я достаточно дерзок, полагая, что благодаря моим грубым вкусам чувствую себя счастливее, чем другой, прежде всего потому, что, я уверен, мои вкусы делают меня более восприимчивым к удовольствиям. Счастливы те, кто, не причиняя никому вреда, может их добиться, и безумны другие, которые воображают, что Высшее Существо могло бы наслаждаться страданиями, наказаниями и воздержанием, которые ему предлагаются в жертву, и что ценятся только странные создания, которые к ним стремятся. Бог может требовать от своих созданий только осуществления добродетелей, которые он поместил зародышем в их душе, и он не дал нам ничего, кроме возможности сделаться счастливыми: самолюбие, желание похвалы, чувство соперничества, силу, мужество и власть, которой никакая тирания не может нас лишить: это власть убить себя, если, после расчета, справедливого или ошибочного, нам, к несчастью, вручают счет. Это самое сильное доказательство нашей нравственной свободы, о которой так спорит софистика. Однако, это, в конце концов, просто противно природе, и все религии должны это запрещать.
Ум, считая себя сильным, говорит, что я не могу считать себя философом и допускать откровение. Если мы в этом не сомневаемся в физике, почему бы нам не признать этого в отношении религии? Речь идет всего лишь о форме. Дух говорит с духом, и не в уши. Принципы всего, что мы знаем, могут быть выявлены только в том, что мы воспринимаем через большой и высший принцип, который содержит их все. Пчела, что лепит свой улей, ласточка, которая строит свое гнездо, муравей, который делает свою нору, и паук, что ткет свою паутину, никогда не сделают ничего без предварительного высшего откровения. Либо мы должны верить, что все именно так, либо признать, что материя думает. Почему нет, скажет Локк, если Бог этого захотел? Но мы не осмеливаемся оказать такую честь материи. Поэтому согласимся на откровение.
Великий философ, который, изучив природу, думал, что может петь победу познания Бога, умер слишком рано. Если бы он жил ещё некоторое время, он бы пошел гораздо дальше, и его поездка не была бы долгой. Находящийся в своем авторе, он был бы не в состоянии его отрицать: meo movemur, et et sumus[8]. Он нашел бы его непознаваемым, и его бы это не смутило. Бог, великий принцип всех принципов, который никогда не имеет принципа, мог ли он представить себя сам, если бы ему пришлось разработать для этого собственный принцип? О блаженное неведение! Спиноза, добродетельный Спиноза, умер, не достигнув понимания. Он стал мертвым ученым, и право требовать возмещения за его добродетели полагается его бессмертной душе. Это неправда, что претензия на вознаграждение не свойственна истинной добродетели и наносит ущерб её чистоте, потому что, напротив, она используется для её поддержки, поскольку человек слишком слаб, чтобы желать добродетели лишь в угоду самому себе. Я полагаю сказочным персонажем этого Амфиарая, который vir bonus esse quain videri malebat[9]. Я полагаю, наконец, что в мире нет честного человека, не имеющего каких-либо притязаний, и я буду говорить о моих. Я претендую на дружбу, уважение и признание моих читателей. Также, после признания, — если чтение моих воспоминаний послужит им назиданием и доставит удовольствие. На их уважение, если они найдут у меня, по справедливости, больше достоинств, чем недостатков; и на их дружбу — привилегия, которой они удостоят меня заранее, на добросовестность, с которой я полагаю себя на их суд, без какой-либо маскировки. Они найдут, что я всегда любил истину так страстно, что частенько начинал с её искажения, чтобы внедрить её в головы, которым неведома её прелесть. Они не осудят меня, когда увидят меня опустошающим кошелёк своих друзей для удовлетворения моих капризов. Они вынашивали химерические проекты, и, внушая им надежду на успех, я в то же время надеялся вылечить их безумие с помощью разочарования. Я их обманывал, чтобы они поумнели, и я не считаю себя виновным, потому что действовать заставлял меня отнюдь не дух алчности. Я использовал для оплаты своих удовольствий суммы, предназначенные для обретения целей, которые природа сделала недостижимыми. Я считал бы себя виновным, если бы сегодня был богат. Я ничего не имею, я выбросил всё, и это меня утешает и меня оправдает. Это были деньги, предназначенные на некие безумства, я обратил их в свою пользу, заставив служить моим.
Если в проявлении своих талантов к развлечениям я бывал неправ, признаю, что я бывал зол, но не настолько, чтобы теперь надо было каяться, написав об этом, потому что ничего из этого не делалось такого, что бы меня не забавляло. О, как жестока бывает скука! Только забывчивостью изобретателей адских мук можно объяснить, что они её туда не добавили.
Я признаю однако, что не могу защититься от страха быть освистанным. Вполне естественно, что я осмеливаюсь хвастаться тем, что я выше этого; и я далек от того, чтобы утешать себя надеждой, что, когда мои мемуары выйдут в свет, меня уже не будет. Я не могу избежать ужаса от некоторых обязательств, связанных со смертью, которую я ненавижу. Счастливая или несчастная, жизнь — это единственное сокровище, которым человек обладает, и те, кто её не любит, не достойны её. Ей предпочитают честь, потому что бесчестье её позорит. Если альтернативой становится самоубийство, философия должна умолкнуть. О смерть! Жестокий закон природы, который разум должен осудить, поскольку этот закон направлен на разрушение. Цицерон говорит, что она освобождает нас от наказания. Этот великий философ записывает расходы и не учитывает доход. Не припомню, была ли мертва Туллиола, когда он писал свои Тускуланские беседы. Смерть это монстр, который охотится в большом спектакле за внимательным зрителем, готовя момент, когда пьеса, которая бесконечно его интересует, вдруг кончается. Одной этой причины должно быть достаточно, чтобы её ненавидеть. В этих воспоминаниях вы не найдете все мои приключения. Я опустил те из них, которые не понравится людям, принимавшим в них участие, поскольку они выглядят там плохо. Тем не менее, порой можно счесть меня слишком нескромным, и меня это огорчает. Если перед смертью я стану мудрее и если хватит времени, я все сожгу. Сейчас я на это не в силах. Те, кому будет казаться, что я слишком приукрашиваю подробности некоторых любовных приключений, будут неправы, по крайней мере, если найдут меня неплохим художником. Я прошу их простить меня, если моя старая душа сжалась до того, что в состоянии наслаждаться только в воспоминании. Добродетель перескочит через все картины, которые могут её встревожить, и я рад дать ей это уведомление в этом предисловии. Тем хуже для тех, кто это не прочтет. Предисловие в книге, это как афиша в комедии. Надо его читать.
Я не пишу эти воспоминания для молодёжи, которая, чтобы гарантировать себя от падений, должна проводить юность в неведении; но для тех, кто, имея силу выжить, становится неподвластным обольщению, и тех, кто, оказавшись в силах пережить пламя, стал Саламандрой. Настоящие достоинства — это не что иное как привычки; я осмелюсь сказать, что истинно добродетельные — это счастливцы, не испытывающие каких-либо огорчений при следовании добродетелям. Эти люди не имеют представления о нетерпимости. Это для них я писал. Я написал по-французски, а не по-итальянски, потому что французский язык более распространен, чем мой. Пуристы, находящие в моем стиле обороты, свойственные моей стране, будут справедливо меня критиковать, если эти обороты помешают им понять меня ясно. Греки находили приятным Теофраста, несмотря на его греческий, и римляне — Тита Ливия, несмотря на его провинциализмы. Если я интересен, я могу, мне кажется, рассчитывать на то же снисхождение. Вся Италия любит Альгароти, хотя его стиль пестрит галлицизмами. При том, стоит заметить, что между всеми живыми языками, которые имеются в республике литературы, французский — это единственный, которому её правители предписали не обогащаться за счет других, в то время как другие, более богатые, чем он, грабили его как в отношении слов, так и в отношении стиля, прежде всего потому, что знали, что благодаря этим маленьким кражам они преукрасятся. Те, кто подчиняется этому закону, соглашаются однако с его убожеством. Они скажут, что при обладании всеми красотами, которые содержатся во французском, малейший след иностранного языка его обезобразит. Эта сентенция может быть заявлена как предупреждение. Вся нация, со времён Люлли, придерживалась того же мнения на свою музыку, пока Рамо не пришел, чтобы её разубедить. В настоящее время, под республиканским правительством, красноречивые ораторы и ученые литераторы уже убедили всю Европу, что они поднимут французский на столь высокий уровень красоты и силы, которых в мире до сих пор не достигал ни один другой язык. В кратком обзоре можно выделить сотню слов, удивительных своей мягкостью, своим величием или своей благородной гармонией. Можно ли изобрести, например, что-либо более красивое в языке, чем «ambulance» (скорая помощь?), «Franciade» (?), «monarchien» (монархический) «sansculotisme» (санкюлотство)?[10] Да здравствует Республика! Тело без головы творит безумства.
Девиз, который я принял, оправдывает мои отступления и комментарии, которые я, пожалуй, делаю слишком часто при описании моих подвигов разного вида. По этой же причине я испытываю потребность услышать похвалы в хорошей компании.
Я бы охотно обернул гордую аксиому Nemo auditur nisi a seipso[11], если бы не боялся оскорбить огромное количество тех, кто во всех случаях, когда что-то идет не так, кричат — это не моя вина. Надо оставить им это слабое утешение, потому что без него они бы себя ненавидели, и в результате этой ненависти приходили бы к идее самоубийства. В том, что касается меня, признавая себя всегда главной причиной всех несчастий, которые произошли со мной, я наблюдаю себя с удовольствием, оставаясь учеником себя самого и испытывая обязанность любить своего учителя.
Глава I
Nequicquam sapit qui sibi non sapit[12]
История Жака Казановы де Сейнгальт, венецианца, написанная им самим в замке Дукс, Богемия.
В году 1428 дон Джакопо Казанова, родившийся в Сарагосе, столице Арагона, побочный сын дона Франческо, выкрал из монастыря донью Анну Палафокс в день, когда она уступила его желаниям. Он был секретарем короля дона Альфонсо. Он бежал с ней в Рим, где, после года в тюрьме, папа Мартин III, по рекомендации дона Жуана Казанова, магистра святого престола, дяди дона Джакопо, дал донне Анне освобождение от её обетов и благословение на брак. Все, произошедшие от этого брака, умерли в раннем возрасте, кроме дона Жуана, который женился в 1470 на Элеоноре Альбини, от которой имел сына по имени Марк-Антонио.
В 1481 году дон Жуан был вынужден покинуть Рим из-за убийства офицера короля Неаполя. Он бежал в Комо со своей женой и сыном, а затем отправился искать счастья. Он умер во время путешествия с Христофором Колумбом в 1493 году. Марк-Антонио стал хорошим поэтом, в духе Марциала, и был секретарем кардинала Помпео Колонна. Сатира против Джулио Медичи, которую мы читаем среди его стихов, вынудила его покинуть Рим, он вернулся в Комо, где женился на Абондии Реццонико.
Этот Жюль де Медичи, став папой Климентом VI, простил его и вернул с женой в Рим, где, после взятия и разграбления города имперцами в 1526 году, он умер от чумы. В противном случае он бы умер от нищеты, поскольку солдаты Карла V забрали у него все, чем он владел. Пьер Валериан говорит достаточно об этом в своей книге De inleticitat litteratorum.
Через три месяца после его смерти его вдова родила Жака Казанову, который умер в старости во Франции, в чине полковника армии Фарнезе, воевавшего против Генриха, короля Наварры, затем — Франции. Он оставил сына в Парме, который взял в жены Терезу Конти, от которой имел Жака, который женился в году 1680 на Анне Роли. Жак имел двух сыновей, из которых Ж. Батист, старший, уехал из Пармы в 1712 году и неизвестно, что с ним сталось. Младший Гаэтан Жозеф Жак оставил также свою семью в 1715 году в возрасте девятнадцати лет. Это все, что я нашел в капитулярии моего отца.
Из уст моей матери я узнал следующее: Гаэтан Жозеф Жак оставил свою семью, очарованный прелестями актрисы по имени Фраголетта, которая играла роли субреток. Влюбленный, не имея средств существования, он решился зарабатывать на жизнь собственной персоной. Он посвятил себя танцу и, спустя пять лет, играл в комедии, отличаясь своими манерами даже больше, чем талантом.
То ли из-за непостоянства, то ли по мотивам ревности, он покинул Фраголетту и отправился в Венецию в труппе комедиантов, которые играли на сцене театра С. Самуил. Напротив дома, где он жил, был сапожник по имени Джером Фарусси с женой Марсией и Занеттой, их единственной дочерью, совершенной красоты, шестнадцати лет от роду. Молодой актер влюбился в эту девушку, смог воздействовать на её чувства и уговорить с ним бежать.
Будучи актером, он не мог надеяться на согласие ее матери Марсии и, тем более, отца Жеронимо, в котором актер подозревал ужасный характер. Молодые влюблённые с необходимыми документами и в сопровождении двух свидетелей предстали перед патриархом Венеции, который соединил их в браке. Марсия, мать девушки, разразилась воплями, а отец умер от горя. Я родился от этого брака по истечении девяти месяцев, 2 апреля года 1725.
В следующем году моя мать оставила меня на руках у своей, которая простила её, потребовав сначала, чтобы мой отец пообещал никогда не допускать ее на сцену. Это то обещание, которое все комедианты дают дочерям буржуа, с которыми вступают в брак, и которое они никогда не соблюдают, потому что те не очень заботятся о соблюдении этих слов. Моя мать была очень рада, что научилась играть в комедии, поскольку без этого, овдовев после девяти лет брака, с шестью детьми, она не имела бы средств, чтобы их вырастить.
Мне был год, когда мой отец оставил меня в Венеции, чтобы ехать играть комедии в Лондоне. В этом великом городе моя мама в первый раз вышла на сцену и там родила в 1727 году моего брата Франсуа, известного художника-баталиста, который с 1783 года живет в Вене, занимаясь там своим ремеслом. Моя мать вернулась в Венецию со своим мужем в конце 1728 года, и, поскольку она стала актрисой, она продолжала ею быть. В 1730 году родился мой брат Жан, который умер в Дрездене в конце 1795 года, на службе у курфюрста, директором Академии живописи. В течение следующих трёх лет она родила двух дочерей, из которых одна умерла в младенчестве, а другая была замужем в Дрездене, где в этом, 1798 году, она еще живет. У меня был другой брат, родившийся после смерти отца, который стал священником и умер в Риме пятнадцать лет назад.
Вернёмся теперь к началу моего существования как мыслящего существа. Орган моей памяти стал действовать к началу августа 1733 года. Мне тогда было восемь лет и четыре месяца. Я ничего не помню, что случалось со мной до этого времени. Вот факт.
Я стоял в углу комнаты, наклонившись к стене, поддерживая голову и не спуская глаз с текущей обильно из моего носа на пол крови. Марсия, моя бабушка, у которой я был любимчик, пришла ко мне, вымыла мне лицо холодной водой и без ведома всего дома взяла с собой в гондолу и отвезла на Мурано.
Это густонаселенный остров, отстоящий от Венеции в получасе. Выйдя из гондолы, мы входим в лачугу, где находим старуху, сидящую на убогой лежанке, держащую на руках черного кота, и пять или шесть других кошек вокруг неё. Две старые женщины завели длинную беседу, предметом которой был я. В конце своего диалога на фриульском диалекте ведьма, получив от моей бабушки серебряный дукат, открыла ящик, взяла меня на руки, положила туда и закрыла, велев мне не бояться. Это был бы способ как раз внушить мне страх, если бы я немного соображал, но я был ошеломлен. Я оставался спокоен, держа платок у носа, потому что кровотечение продолжалось, весьма равнодушный к грохоту, который слышался снаружи. Я слышал смех, плач, время от времени крики, пение и удары по ящику. Всё это было мне безразлично. Наконец, меня вытащили наружу, моя кровь утихла. Эта необыкновенная женщина, дав мне сотню поцелуев, раздела меня, положила на кровать, стала жечь снадобья, собирая дым в полотенце, пеленая меня в него, читая заклинания, после чего развернула меня и дала мне пять пилюль, очень приятных на вкус. Затем она тут же натирает мне виски и шею мазью со сладким запахом и одевает меня. Она сказала мне, что мои кровотечения будут постепенно уменьшаться, если я не расскажу никому, что она сделала, чтобы вылечить меня, и пообещала, наоборот, потерю всей крови и смерть, если осмелюсь кому-нибудь поведать эти тайны. После этого наказа она поведала мне о милой даме, которая придет ко мне в гости на следующую ночь, что мое счастье зависит от того, смогу ли я никому не говорить об этом визите. Мы вышли и вернулись домой. Едва улегшись спать, я уснул, даже не помня о прекрасном визите, который мне должны были нанести; но, проснувшись через несколько часов, я увидел, или подумал, что увидел, спустившуюся из дымохода в большой корзине ослепительную женщину, окутанную в превосходную ткань, с надетой на голове короной, усыпанной драгоценными камнями, казалось, сверкающими огнем. Она подошла медленно, с величественным и добрым видом, и села на мою постель. Она достала из своего кармана маленькие коробки, которые приложила к моей голове, бормоча слова. Проведя со мной длинную беседу, из которой я ничего не понял, и поцеловав меня, она ушла туда, откуда пришла, и я заснул. На следующий день моя бабушка, прежде, чем подойти к моей кровати, чтобы меня одеть, велела мне молчать. Она предсказала мне смерть, если я осмелюсь повторить то, что должно было случиться со мной ночью. Это указание, данное женщиной, бывшей для меня абсолютным авторитетом, кому я привык подчиняться слепо во всем, было причиной, по которой я запомнил видение и, запечатлев его, поместил в самом укромном уголке моей детской памяти. Кроме того, я не чувствовал искушения передавать кому-то этот факт. Я не знал, кому бы это могло быть интересно, ни кому бы это можно было рассказать. Моя болезнь делала меня хмурым и совсем не веселым; мне хотелось, чтобы все оставили меня в покое; я просто существовал. Мои отец и мать никогда со мной не говорили. После поездки на остров Мурано и ночного визита феи, у меня ещё бывали кровотечения, но все же меньше, и моя память постепенно развивалась; менее чем через месяц я научился читать. Смешно было бы отнести мое исцеление к этим двум странным происшествиям, но было бы также ошибкой сказать, что они не могли на него повлиять. Что касается появления прекрасной королевы, я всегда считал его сном, если только эта шарада не была специально проделана для меня; но средства лечения самых тяжких болезней не всегда находятся в аптеке. Каждый день какие-то феномены демонстрируют нам наше невежество. Я полагаю, что именно по этой причине нет ничего столь редкого, как ученый с умом, полностью свободным от предрассудков. В мире никогда не было волшебников, но их власть всегда существовала в отношении тех, кого они своим талантом смогли убедить в своём существовании. Somnio, nocturnos, lémures, ponentaque Thessala rides[13].
Многие вещи, которые ранее существовали только в воображении, становятся реальными, и, следовательно, некоторые эффекты, связанные с верой, могут не всегда быть чудесными. Они — для тех, кто придает вере безграничную власть.
Второй факт из тех, что я помню и о котором хочется сказать, произошел со мной через три месяца после поездки на Мурано, за шесть недель до смерти моего отца. Я скажу о нём читателю, чтобы дать представление о том, как развивался мой характер.
Однажды, где-то в середине ноября, я находился с братом Франсуа, моложе меня на два года, в комнате моего отца, осторожно рассматривая, как он работает в очках. Заметив на столе большой ограненный блестящий круглый кристалл, я был очарован, поднеся его к глазам и видя все объекты увеличенными. Видя, что на меня никто не смотрит, я улучил момент, чтобы положить его в карман. Три или четыре минуты спустя мой отец встал, чтобы взять кристалл и, не найдя его, говорит нам, что один из нас его, должно быть, забрал. Мой брат заверил его, что он ничего об этом не знает, и, будучи виновным, я, однако же, сказал то же самое. Он пригрозил нас разоблачить и обещал розог лжецу. Полагая, что будет обследован каждый уголок комнаты, я ловко положил кристалл в карман одежды моего брата. Мой отец, озабоченный нашими бесплодными поисками, нас обыскивает, находит кристалл в кармане невинного и налагает на него обещанное наказание. Три или четыре года спустя я имел глупость похвастаться брату, что проделал такую штуку. Он не простил меня за это и пользовался любой возможностью, чтобы мне отомстить. На общей исповеди, сообщив исповеднику об этом преступлении со всеми его обстоятельствами, я обогатился эрудицией, доставившей мне удовольствие. Это был иезуит. Он сказал мне, что, зовясь Жаком, я подтвердил этим действием смысл своего имени, так как Иаков по древнееврейски означает Утеснитель. По этой причине Бог изменил имя бывшего патриарха Якова на имя Израиль, которое означает Видящий, поскольку тот обманул своего брата Исава. Через шесть недель после этого приключения моего отца сразил абсцесс от уха в голову, что за восемь дней свело его в могилу. Врач Замбелли, после того, как прописал пациенту закрепляющее снадобье, вознамерился исправить свою ошибку с помощью бобровой струи, от чего тот и умер в конвульсиях. Абсцесс прорвался через ухо через минуту после его смерти; врач удалился после убийства, как если бы не имел ничего с этим общего. Отец был в прекрасном возрасте тридцати шести лет. Он умер, оплакиваемый обществом, и, прежде всего, благородным сословием, которое воздавало ему похвалы как в отношении его поведения, так и его познаниям в механике. За два дня до смерти он захотел видеть всех нас около своей постели, в присутствии своей жены и господ Гримани, венецианских нобилей, призывая их быть нашими защитниками.
После того, как он дал нам свое благословение, он заставил нашу мать, заливавшуюся слезами, обещать ему, что она не направит никого из своих детей в театр, куда он бы сам никогда не пришел, если бы его не заставила несчастная страсть. Она поклялась ему в этом, и три патриция гарантировали ему нерушимость этой клятвы. Обстоятельства помогли ей исполнить свое обещание.
Моя мать, будучи на сносях на шестом месяце, была вынуждена играть в комедии вплоть до Пасхи. Молодая и красивая, она отказывала в своей руке всем претендентам. Не теряя мужества, она считала себя способной нас вырастить. Она полагала своим долгом позаботиться сначала обо мне, не столько из-за предпочтения, сколько из-за моей болезни, которая стала такова, что никто не знал, как со мной быть. Я был очень слаб, без аппетита, не в состоянии что-либо делать, выглядел бессмысленным тупицей. Врачи обсуждали между собою причину моей болезни. Он теряет, говорили они, по два фунта крови в неделю, а её не может быть больше шестнадцати — восемнадцати. Откуда же может происходить кроветворение в таком изобилии? Один из них говорил, что весь мой хилус[14] стал кровью; другой заявил, что воздух, которым я дышу, с каждым вдохом должен увеличиваться в объеме в моих легких, и именно по этой причине я всегда держал рот открытым. Вот что узнал я через шесть лет от г-на Баффо, большого друга моего отца.
Он проконсультировался в Падуе с известным врачом Мако, который высказал свое мнение в письменном виде. Это письмо, которое я сохранил, говорит, что наша кровь являет собой эластичную жидкость, которая может сжиматься и растягиваться в своей плотности, а никак не в количестве, и что мои кровотечения могут проистекать только из-за разжижения крови. Она разжижается естественным образом для облегчения циркуляции. Он сказал, что я был бы уже мертв, если бы природа, которая хочет жить, не помогла сама себе. Он пришел к выводу, что причина этого разжижения может быть найдена только в паре, которым я дышал, надо изменить его, или готовиться меня потерять. По его мнению, плотность моей крови была причиной тупости, что проявлялась на моем лице.
Г-н Баффо, высокий гений, поэт в самом похотливом из всех жанров, но великий и уникальный, стал человеком, благодаря которому решено было поместить меня в пансион в Падуе, и которому, соответственно, я обязан жизнью. Он умер двадцать лет спустя, последним из древней патрицианской семьи, но его стихи, хотя и грязные, сделают бессмертным его имя. Венецианские государственные инквизиторы своим духом благочестия внесли вклад в его славу. Преследуя его рукописные книги, они придали им цену: они должны были бы знать, что spreta exolescunt . [15] Как только оракул профессора Мако был одобрен, аббат Гримани озаботился найти мне хороший пансион в Падуе, с помощью химика, своего знакомого, жившего в этом городе. Того звали Оттавиани и он был также антиквар. Через несколько дней пансион был найден, и 2 апреля 1734, в день, когда мне исполнилось девять лет, я был отправлен в Падую на барке «Бурчиелло», по Бренте. Мы сели на барку за два часа до полуночи, после ужина. «Бурчиелло» представлял собой небольшой плавучий дом. В нём имелась зала, в которой были кабинеты с каждого конца, и жилье для служащих на носу и корме; длинная площадка на империале с застекленными окнами со ставнями; мы совершили маленькое путешествие за восемь часов. Сопровождали меня, кроме моей матери, аббат Гримани, и г-н Байо. Мать взяла меня спать с собой в зале, а два друга спали в кабинете. С началом дня она встала и открыла окно, которое было напротив кровати; лучи восходящего солнца били мне в лицо, заставив меня открыть глаза. Кровать была низкой. Я не мог видеть землю. Я видел через это окно только верхушки деревьев, растущих по краям реки. Барка движется, но движение такое плавное, что я не могу его заметить; то, что деревья быстро прячутся из глаз, вызывает мое удивление. Ах, дорогая моя мама, закричал я, что это такое? Деревья идут! В этот момент входят два сеньора и, увидев меня пораженного, спрашивают меня, что меня так заняло. Почему, сказал я им, деревья идут? Они стали смеяться; но моя мать, вздохнув, сказала мне жалостливым голосом: это барка движется, а не деревья. Одевайся . Я мгновенно понял причину явления, продвигаясь дальше со своим зарождающимся здравомыслием и вовсе не беспокоясь. Поэтому возможно, сказал я, что солнце тоже не движется, и что это мы движемся с Запада на Восток. Моя добрая мать восклицает, что это глупости, г-н Гримани сожалеет о моей тупости, и я остаюсь потрясенный, озабоченный, и готовый плакать. Тот, кто возвращает мне душу, это г-н Баффо. Он бросается ко мне, целует меня нежно, говоря: ты прав, мое дитя, Солнце не движется, будь смелее, всегда рассуждай о причинах и пусть они смеются. Моя мать спросила, не сошел ли он с ума, давая мне подобные уроки; но философ не только не отвечает ей, но продолжает втолковывать мне теорию, делая её чистой и простой для моего разума. Это было первое реальное удовольствие, которое я ощутил в моей жизни. Без г-на Байо этого раза было бы достаточно, чтобы ухудшить мою способность рассуждения: отсюда проистекло бы малодушие легковерия. Глупость двух других, безусловно, притупила у меня остроту восприятия, из-за чего я не знаю, пошел бы я дальше, но я знаю, что только этой способности я обязан всем счастьем, которым я наслаждаюсь, пребывая с самим собой.
Мы приехали рано в Падую к Оттавиани, чья жена осыпала меня ласками. Я увидел пятерых или шестерых детей, среди них дочь восьми лет по имени Мария и другую — семи лет, по имени Роза, прекрасную, как ангел. Мария десять лет спустя стала женой маклера Колонда; Роза через несколько лет стала женой патриция Пьетро Марчелло, который имел от нее сына и двух дочерей, одна из которых вышла замуж за г-на Пьера Мочениго, а другая — за знатного сеньора из семьи Корраро; этот брак был признан впоследствии недействительным. Иногда мне приходится говорить обо всех этих людях. Оттавиани отвел нас сначала к дому, где я должен был остановиться в пансионе. Это было в пятидесяти шагах от его дома, близ Санта-Мария де Авансе, в приходе Святого Михаила, у старой славонки[16], которая сдавала свой первый этаж мадам Мида, жене полковника славонцев. Ей открыли мою маленькую дорожную суму, представив реестр всего, что в ней содержится. После этого ей отсчитали шесть цехинов авансом, за шесть месяцев моего пансиона. Она должна была за эту небольшую сумму кормить меня, содержать в чистоте и учить меня в школе. Надо сказать, что этого было недостаточно. Меня поцеловали, мне было приказано быть всегда послушным её приказам, и меня там оставили. Так от меня избавились.
Глава II
Моя бабушка приезжает, чтобы отдать меня в пансион доктора Гоцци. Моё первое нежное чувство.
Славонка сначала поднялась со мной на чердак, где показала мне мою постель, рядом стояли четыре других. Три из них принадлежали трем мальчикам моего возраста, они в тот момент были в школе, а четвертая — служанке, которая должна была заставлять нас молиться Богу и присматривать за нами, удерживая от обычных шалостей, присущих школьникам. После этого она спустилась со мной в сад, где, как она сказала, я могу гулять до обеда. Я не был ни счастливым, ни несчастным, я ничего не говорил, у меня не было ни опасения, ни надежды, ни капли любопытства, я не был ни весел, ни грустен. Единственное, что меня потрясло, была сама персона хозяйки. Хотя я не имел никаких представлений о красоте и уродстве, её лицо, её взгляд, тон и язык отталкивали меня: её мужские черты сбивали меня с толку всякий раз, когда я поднимал глаза на ее лицо, чтобы слушать то, что она мне говорила.
Она была высокого роста и крупная, как солдат, с лицом желтого цвета, черными волосами, бровями длинными и густыми. У нее было некоторое количество длинных волос на подбородке, уродливая наполовину открытая грудь, которая моталась, спускаясь до половины её толстой талии, и возраст около пятидесяти лет. Служанка — крестьянская девушка, которая все делала по дому. Место, называемое садом, было квадратным участком размером тридцать на сорок шагов, единственным привлекательным качеством которого был зеленый цвет. Около полудня я увидел подходящих ко мне троих детей, которые, как будто мы старые знакомые, наговорили мне кучу вещей, предполагая во мне предубеждения, которых у меня не было. Я ничего им не отвечал, но это их не смутило: они заставили меня принимать участие в их невинных забавах. Надо было бегать, носить друг друга на плечах и кувыркаться. Я принимал участие во всём этом с достаточно большой благодарностью, пока нас не позвали обедать. Я сел за стол и, видя перед собой деревянную ложку, отодвинул её, спросив мой серебряный прибор, который я ценил как подарок от дорогой бабушки. Служанка сказала мне, что, поскольку хозяйка желает равенства, я должен пользоваться общими приборами. Это меня огорчило, но я покорился. Уяснив, что все должно быть поровну, я ел, как и другие, суп из миски, не жалуясь на скорость, с которой ели мои сотоварищи, очень удивленный тем, что это допускалось. После очень плохого супа нам дали небольшую порцию сушеной трески и по одному яблоку, и обед на этом закончился. Был Великий пост. У нас не было ни стаканов, ни кружек, и мы все пили из одного глиняного бокала гнусный напиток под названием граспия. Он состоял из воды, в которой кипятили выжатые кисти винограда. В последующие дни я пил только простую воду. Этот стол меня поразил, поскольку я не знал, позволено ли мне находить его плохим. После обеда служанка отвела меня в школу к молодому священнику по имени доктор Гоцци. Славонка договорилась платить ему сорок су в месяц, что составляет одиннадцатую часть цехина. Прежде всего, я должен был научиться читать. Поэтому меня посадили с детьми пятилетнего возраста, которые поначалу издевались надо мной. Ужин был еще хуже, чем обед. Я был удивлен, что мне не позволили на него пожаловаться. Я лежал в постели, где три весьма известных вида насекомых не дали мне сомкнуть глаз. Кроме того, крысы бегали по всему чердаку и прыгали на мою кровать, внушая страх, от которого у меня холодела кровь. Вот откуда я стал чувствовать несчастье и научился терпеливо переносить его. Однако, насекомые, что пожирали меня, уменьшали страх, который внушали мне крысы, а этот страх, в свою очередь, делал меня менее чувствительным к укусам. Моя душа выигрывала от борьбы моих недугов. Служанка же была глуха к моим крикам. При первом свете дня я вышел из этого гнезда паразитов. После того, как я пожаловался на казни, что пережил, я попросил у нее рубашку, поскольку пятна от укусов на той, что была у меня на теле, делали её отвратительной. Она ответила, что переодеваются только в воскресенье, и рассмеялась, когда я пригрозил пожаловаться хозяйке. Я заплакал в первый раз от горя и гнева, слыша издевательства моих сотоварищей. Они пребывали в тех же условия, но они привыкли. Это говорит само за себя. Охваченный грустью, я провел все утро в школе, постоянно в полусне. Один из моих одноклассников рассказал о причине доктору, с целью сделать меня смешным.
Этот добрый священник, которого послало мне провидение, пожалел меня, заставил пойти с ним в кабинет, где, выслушав меня и увидев все, был потрясен видом волдырей, покрывавших мою невинную кожу. Он быстро взял свой плащ, отвел меня в мой пансион и продемонстрировал лестригонке состояние, в котором я находился. Притворившись удивленной, она свалила вину на служанку. Она была вынуждена удовлетворить любопытство, которое священник проявил к моей кровати, и я был не менее его удивлен, когда увидел грязь простыней, в которых провел ужасную ночь. Проклятая женщина, перекладывая во всем вину на служанку, заверила его, что она её прогонит, но служанка, возвратившись в этот момент и не желая перенести выговор, сказала ей в лицо, что это ее вина, раскрывая постели трех моих товарищей, грязь которых была равна моей. Хозяйка на это отвесила ей удар, на который та ответила более мощным, обратившим первую в бегство. После этого доктор ушел, оставив меня там и сказав ей, что не пустит меня в свою школу, пока она не сделает меня таким же чистым, как другие ученики. После чего я должен был вынести весьма сильный выговор, который она закончила, говоря мне, что в случае другого подобного беспокойства она выставит меня за дверь.
Я ничего не понимал, я только родился, я представлял себе только дом, подобный тому, где я родился и вырос, где соблюдались чистота и добропорядочность; я увидел грубость и ругань: мне казалось невозможным, чтобы меня в чем-то обвиняли. Она сунула мне в нос рубашку, и час спустя я увидел новую служанку, которая сменила простыни, и мы пообедали.
Мой учитель проявлял особое старание, чтобы обучить меня. Он посадил меня за свой собственный стол, где, чтобы убедить его, что я заслужил эту награду, я приложил все свои силы к учёбе. Через месяц я писал так хорошо, что он начал заниматься со мной грамматикой. Новая жизнь, которую я вел, голод, что заставлял меня страдать, и, прежде всего, воздух Падуи дали мне здоровье, о котором я понятия не имел раньше, но это же здоровье сделало для меня еще сильнее муки голода: он стал воистину собачьим. Я рос на глазах, я спал девять часов глубоким сном, который ничто не беспокоило, кроме видений, когда я видел себя сидящим за большим столом и старающимся насытить мой жестокий аппетит. Приятные мечты хуже, чем неприятные.
Бешеный голод, в конце концов, полностью бы меня истощил, если бы я не решился красть и поглощать все, что находил съедобного вокруг, когда был уверен, что никто не видит. Я съел в несколько дней пятьдесят копченых селёдок, лежавших в шкафу на кухне, куда я спускался ночью в темноте, и все колбасы, подвешенные к крышке дымохода на случай наводнений и во избежание несварения желудка, и все яйца, которые я смог подобрать на заднем дворе, которые были только снесены и были еще тёплые; мой голод находил их превосходными. Я крал съестное даже на кухне доктора, моего учителя. Славонка, в отчаянии, что не в состоянии обнаружить воров, поставила сторожить дверь служанок. Несмотря на мои старания, возможность воровать не представлялась ежедневно, я был тощий как скелет, настоящий остов.
В четыре или пять месяцев мои успехи стали настолько быстрыми, что доктор назначил меня декурионом школы. Моей обязанностью было проверять уроки моих тридцати товарищей, исправлять их ошибки и сообщать о них мэтру с определением порицания или его применением, которого они заслуживали; но моя строгость не длилась долго. Ленивцы легко смогли найти секрет меня смягчить. Когда их латинский бывал выполнен с ошибками, они мне платили жареными котлетами, курами и часто давали мне денег; но я не удовлетворялся принятием от невежд контрибуции; жадность толкала меня стать тираном. Я лишал моего одобрения также тех, кто его заслужил, когда они претендовали освободить себя от контрибуции, которую я требовал. Не желая больше терпеть мою несправедливость, они обвинили меня перед мэтром, который, осудив за вымогательство, отправил меня в отставку. Но моя судьба уже должна была завершить свое жестокое испытание. Доктор, пригласив меня в один прекрасный день в свой кабинет, спросил, как я посмотрю на то, чтобы он забрал меня из пансиона славонки и поселил к себе; увидев, что я пришел в восторг от этого предложения, он сделал мне копии трех писем, которые я послал одно аббату Гримани, другое моему другу г-ну Баффо и третье моей дорогой бабушке. Моя мать не была в это время в Венеции, а мой семестр кончался; нельзя было терять времени. В этих письмах я описывал все мои страдания, и объявлял о своей неминуемой смерти, если меня не заберут из рук славонки и не передадут моему директору школы, который был готов принять меня, но который хотел два цехина в месяц. Г-н Гримани, вместо того, чтобы ответить мне, приказал своему другу Оттавиани сделать мне выговор за то, что я дал себя уговорить, но г-н Баффо пошел поговорить с моей бабушкой, которая не умела писать, и написал мне, что через несколько дней я окажусь в более счастливом положении.
Восемь дней спустя я увидел эту прекрасную женщину, которая любила меня всегда, до самой смерти; она появилась передо мной как раз в то время, когда я сел обедать. Она вошла вместе с хозяйкой. Она села, взяв меня между колен. Став теперь храбрым, я поведал ей подробно все мои жалобы в присутствии славонки, а после того, как она обозрела нищенский стол, за которым я должен был питаться, я повел ее показать мою постель. Я кончил тем, что просил ее отвести меня с ней пообедать, после шести месяцев терзаний от голода. Неустрашимая славонка не сказала ничего, кроме того, что она не могла бы делать больше за те деньги, которые ей давали. Она была права, но кто заставлял её держать пансион так, чтобы становиться палачом молодых людей и кормить их так, как диктовала ей алчность? Моя бабушка очень тихо сказала ей, чтобы положили в мою сумку всю мою одежду, поскольку она меня забирает. Обрадованный тем, что увидел снова мой кошелёк с деньгами, я быстро положил его в карман. Моя радость была неописуема. Я впервые почувствовал силу удовлетворения, ту, которую испытав, сердцем прощаешь обиду и умом — забываешь все случившиеся неприятности.
Моя бабушка повела меня в гостиницу, где остановилась, и где она почти ничего не ела, пребывая в изумлении от той прожорливости, с которой я набросился на еду. Доктор Гоцци, которого она известила о своем приезде, явился, и его присутствие расположило её в его пользу. Это был красивый священник двадцати шести лет, полный, скромный и обходительный. В четверть часа они договорились обо всем, и он, получив двадцать четыре цехина, вручил ей квитанцию об оплате авансом за год вперёд, а она удержала меня на три дня, чтобы одеть в платье священника и заказать мне парик, грубость которого принудила меня остричься. Через три дня она сама пожелала вселить меня в дом доктора, где представила меня его матери; та сказала ему, чтобы отправился сначала купить мне кровать, но доктор возразил, что я мог бы спать с ним в его собственной постели, которая была очень широка, на что бабушка выразила благодарность за проявленную доброту. Она ушла, и мы проводили её на Бурчиелло, на котором она вернулась в Венецию. Семья доктора Гоцци состояла из его матери, которая относилась к нему с большим уважением, потому что, родившись крестьянкой, не чувствовала себя достойной иметь сыном священника, и к тому же доктора. Она была уродлива, стара и сварлива. Его отец был сапожником, работал весь день, никогда не разговаривая, даже за столом. Он становился общительным только по праздникам, которые проводил в таверне с друзьями, возвращаясь домой в полночь пьяным, не в состоянии стоять на ногах, и распевая Тассо; в этом состоянии он не мог заставить себя лечь в кровать, и становился грубым, когда пытались его утихомирить. Он не имел ни другого разума, ни другого духа, кроме того, что давало ему вино, до такой степени, что сызмальства был не в состоянии выполнять ничего по дому. Его жена говорила, что он никогда бы не женился, если бы не необходимость получать хороший завтрак перед тем, как идти в церковь.
У доктора Гоцци была также сестра тринадцати лет по имени Беттина, красивая, веселая, и большой читатель романов. Отец и мать всегда ругали её, потому что она слишком много торчала у окна, а доктор — из-за её склонности к чтению. Эта девушка мне понравилась сразу, не знаю почему. Она-то постепенно и заронила мне в сердце первые искры страсти, которая впоследствии стала моей преобладающей особенностью.
Через шесть месяцев после моего вступления в этот дом у доктора не стало больше учеников. Они все дезертировали, поскольку я был единственным объектом его внимания; и по этой причине он решился создать небольшой колледж, принимающий на пансион маленьких учеников; но прошло два года, прежде чем это смогло осуществиться. За эти два года он сумел приобщить меня ко всем наукам. Он научил меня также играть на скрипке — уменье, которым мне довелось иметь случай воспользоваться, о чем читатель узнает в свое время. Этот человек, совсем не будучи философом, преподал мне логику перипатетиков и космографию по старой системе Птоломея, над которой я насмехался непрерывно, провоцируя его теоремами, на которые он не знал, что ответить. Его манеры, впрочем, были безупречны, и в вопросах религии, хотя он не был фанатиком, он был очень строг: во всем, что касалось веры, для него не было ничего затруднительного. Потоп был всеобщим, люди до этого несчастья жили тысячу лет, Бог беседовал с ними, Ной сделал ковчег в сто лет, и земля, подвешенная в воздухе, помещалась в центре вселенной, которую Бог создал из ничего. Когда я ему говорил и доказывал, что существование «ничего» абсурдно, он прерывал меня коротко, говоря, что я дурак. Он любил хорошую кровать, бутылку вина и веселье в кругу семьи. Он не любил ни умников, ни остроумных рассуждений, ни критики, поскольку она легко превращалась в злословие, и он смеялся над глупостью тех, кто занимался чтением газет, которые, по его мнению, всегда лгали и всегда говорили одно и то же. Он говорил, что ничто не доставляет такого неудобства, как неуверенность, и поэтому осуждал мысль, поскольку она порождает сомнение.
Его страстью была проповедь, в ней он артистически пользовался своими фигурой и голосом; его аудитория состояла только из женщин, которых, однако, он был заклятым врагом. Он не смотрел им в лицо, когда был вынужден говорить с ними. Грех плоти был, по его мнению, величайшим из всех, и он сердился, когда я говорил ему, что этот грех, может быть, лишь из самых малых. Его проповеди были замешаны на отрывках из греческих авторов, которых он цитировал на латыни, и я однажды сказал ему, что он должен был бы цитировать их по-итальянски, потому что латынь не более понятна, чем греческий для этих женщин, которые слушали его, перебирая четки. Мое замечание разозлило его, и в дальнейшем я не смел говорить с ним на эти темы. Он отмечал меня со своими друзьями как чудо, потому что я научился читать по-гречески сам, без другой помощи, кроме грамматики.
В пост 1736 года моя мать написала, что он доставил бы ей удовольствие, отвезя меня в Венецию на три или четыре дня, потому что, собираясь в поездку в Петербург, она хотела бы видеть меня перед отъездом. Это приглашение ввергло его в раздумье, потому что он никогда не видел Венеции и не бывал в хорошем обществе, и он не хотел показаться новичком. Итак, мы выехали из Падуи, провожаемые на Бурчиелло всей семьей. Моя мать встретила его с благородной непринужденностью, но поскольку она была прекрасна, как день, мой бедный мэтр, очень смущенный, счел себя обязанным поддерживать с ней беседу, не осмеливаясь смотреть ей в лицо. Заметив это, она задумала его отвлечь. Таким поводом отвлечься послужил я, который обратил на себя внимание всей компании; будучи известным всем почти как слабоумный, я удивил всех, сделавшись за короткий срок в два года столь раскрепощенным. Доктор наслаждался, видя, что ему приписывается в этом вся заслуга. Первое, что поразило мою мать, был мой белокурый парик, который кричал на моем смуглом лице и представлял ещё более жестокий контраст с моими бровями и моими черными глазами. Доктор, допрошенный ею, почему он не сделал мне прическу из моих собственных волос, ответил, что с помощью парика его сестре было значительно легче содержать меня в чистоте. Отсмеявшись, у него спросили, замужем ли его сестра, и насмешки удвоились, когда, ответив за него, я сказал, что Беттина самая красивая девушка на нашей улице, в возрасте четырнадцати лет. Моя мать сказала доктору, что она хотела бы сделать его сестре очень красивый подарок, но при условии, что та сделает мне прическу из волос, и он обещал ей это. Она вызвала для начала парикмахера, который принёс мне парик моего цвета. Все занялись игрой, врач остался зрителем, а я пошел к моим братьям в комнату моей бабушки. Франсуа показал мне архитектурные рисунки, по поводу которых я сделал вид, что нахожу их сносными, Жан не показал мне ничего; он показался мне глупым. Другие ходили еще в распашонках.
За обедом доктор, сидя рядом с моей матерью, казался очень неловким. Он не произносил ни слова, пока англичанин, писатель, не обратился к нему по-латыни. Он скромно ответил, что не понимает английского языка, и вот, опять взрыв смеха. Г-н Баффо спас нас от неловкости, сообщив, что англичане читают латынь в соответствии с правилами чтения английского языка. Я осмелился к этому сказать, что они не правы в той же мере, как если бы мы читали по-английски так, как будто мы читаем латынь. Англичанин, найдя мой разум возвышенным, записал этот старый дистих и дал мне его прочитать:
Discite grammatici car mascula nomina cunnus Et cur femineum mentula nomen habet[17]После чтения вслух, я сказал, что на этот раз была латынь. Мы это знаем, сказала моя мать, но это надо объяснить. Я сказал ей, что вместо того, чтобы это объяснять, хотел бы ответить на этот вопрос, и после того, как немного подумал, написал такой пентаметр:
— Disce quod a domino nomina servus habet [18].
Это был мой первый литературный подвиг, и могу сказать, что именно этот момент посеял в моей душе любовь к той славе, что зависит от литературы, потому что аплодисменты доставили меня на вершину счастья. Англичанин, удивленный, сказав, что ни один мальчик в возрасте одиннадцати лет не сделал бы такого, подарил мне свои часы, после поцеловал меня несколько раз. Моя мать, заинтересованная, спросила г-на Гримани, что эти стихи означают, но поскольку он понял не больше её, ответил г-н Баффо, который сказал ей все на ухо; пораженная моей ученостью, она поспешила взять золотые часы и подарить их моему учителю, не зная, как ещё выразить ему свою глубокую благодарность; последовала очень смешная сцена.
Моя мать, чтобы избавить его от любых выражений благодарности, презентовала ему свое лицо: речь идет о двух поцелуях, которые ничего особенного не значили в хорошей компании, но бедный человек опешил до такой степени, что хотел скорее сейчас же умереть, чем дать их ей. Он ретировался, опустив голову, и был оставлен в покое до поры, пока мы не пошли спать. Он ждал, чтобы излить душу, пока мы не остались одни в нашей комнате. Он сказал мне, что жаль, что он не может опубликовать в Падуе ни двустишие, ни мой ответ.
— Почему?
— Потому что это стыдно, но это возвышенное. Ложимся спать и не будем больше говорить об этом. Твой ответ прекрасен, потому что ты не можешь знать ни сути дела, ни умения складывать стихи.
Что касается сути, я её знал в теории, уже прочитав Мерсиуса, тайно, разумеется, потому что это было мне запрещено, но он имел основания быть удивленным, что я был в состоянии сложить стих, потому что он сам, кто научил меня просодии, никогда не мог сочинить хоть одного. Nemo dat quod non habet[19] является ошибочной аксиомой в морали. Четыре дня спустя, к моменту нашего отъезда, моя мать дала мне пакет, в котором был подарок для Беттины, и аббат Гримани дал мне четыре цехина, чтобы купить книг. Восемь дней спустя моя мать уехала в Петербург.
В Падуе мой учитель только и говорил о моей матери каждый день и по любому поводу в продолжение трех или четырех месяцев, но Беттина особенно привязалась к моей персоне, когда обнаружила в пакете пять локтей черного сендала, называемого люстрин, и двенадцать пар перчаток. Она заботилась о моих волосах так, что менее чем за шесть месяцев я оставил свой парик. Она приходила убирать мои волосы каждый день, и часто, когда я был еще в постели, говоря, что нет времени ждать, пока я оденусь. Она мыла мне лицо, шею и грудь, и она осыпала меня детскими ласками, по сути невинными, но вызывавшими во мне дурные желания. Будучи на три года моложе ее, я полагал, что она не может любить меня с дурными намерениями, и это отвращало меня от себя самого. Как-то, сидя на моей постели, она сказала, что мне это понравится, и что для того, чтобы убедить меня, она сделает это своими собственными руками и доставит мне удовольствие. Я позволил ей это из страха, что она заметит мою чувствительность. Когда она говорила мне, что у меня мягкая кожа, щекотка заставила меня отодвинуться, и я был зол на себя, что не решился делать с ней то же самое, но рад, что она не могла догадаться, чего я хотел. После того, как она привела меня в порядок, она подарила мне самых сладких поцелуев, называя меня своим дорогим ребенком, но, несмотря на свое желание, я не осмелился вернуть их ей. Когда она, наконец, стала высмеивать мою застенчивость, я начал также возвращать ей поцелуи, но кончил прежде, чем почувствовал себя способным пойти дальше: я отвернул голову в сторону, делая вид, что что-то ищу, и она ушла.
После её ухода я был в отчаянии, что не последовал наклонностям моей натуры, и удивлен, что Беттина может делать со мной без последствий все, что она делала, в то время как я лишь с величайшим трудом мог удержаться, чтобы не идти дальше вперед. Я обещал себе изменить свое поведение.
В начале осени доктор получил трех пансионеров и один из них, в возрасте пятнадцати лет, по имени Кандиани, как мне показалось, менее чем за месяц стал очень близок с Беттиной. Это наблюдение вызвало у меня чувство, о котором до сей поры я не имел никакого представления, и которому нашел объяснение лишь несколько лет спустя. Это не было ни завистью, ни возмущением, но благородным презрением, которое, казалось, должно быть отброшено, поскольку Кандиани невежда, грубый, неумный, невоспитанный, сын фермера, и не стоил того, чтобы занимать мою голову, с одним лишь тем преимуществом, что достиг возраста возмужалости, что не казалось мне достаточным, чтобы быть предпочтительнее: мое зарождающееся самолюбие говорило мне, что я лучше, чем он. Я испытал чувство гордости, смешанной с презрением, по отношению к Беттине, которую любил, не сознавая этого. Она это заметила по манере, с которой я принимал ее ласки, когда она приходила к моей кровати, чтобы меня причесать: я отклонял её руки, я не отвечал на её поцелуи, и, будучи задетой однажды, что на её вопрос, в чем причина моего изменения, я ничего не отвечал, она сказала с сочувственным видом, что я ревную к Кандиани. Этот упрек мне показался унизительной клеветой: я сказал ей, что считаю Кандиани достойным ее, как и её — достойной его; она ушла улыбаясь, но вынашивая один проект, который мог бы отомстить за нее: она вознамерилась внушить мне ревность, но, чтобы осуществить задуманное, необходимо было заставить меня влюбиться, чем она и занялась.
Однажды утром она пришла к моей постели с моими белыми чулками, связанными ею, и, после того, как она меня причесала, сказала мне, что ей нужно их мне надеть, чтобы понять свои ошибки и приспособиться делать мне другие. Передав мне чулки, она сказала, что у меня грязные бедра, и тут же вознамерилась их помыть, не спрашивая моего разрешения. Я стеснялся показать, что мне стыдно, не думая, впрочем, что произойдет то, что должно произойти. Беттина, сидя на моей кровати, зашла слишком далеко в своем рвении к чистоте, и её любопытство доставило мне наслаждение, которое прекратилось только тогда, когда достигло предела и оказалось не в состоянии стать больше. Успокоившись, я почувствовал, что должен признать себя виноватым, и был вынужден просить у неё прощения. Беттина, которая не ожидала этого, немного подумав, сказала мне тоном снисхождения, что вся вина ее, но этого больше не случится. Она покинула меня, оставив меня с моими мыслями.
Они были жестокими. Мне казалось, что я её опозорил, предал доверие её семьи, нарушил закон гостеприимства и совершил величайшее из преступлений, преступление, которое я могу исправить только женившись на ней, если только она может решиться взять в мужья такого бесстыдника, как я, недостойного ее. После этих размышлений пришла темная печаль, которая становилась день ото дня сильнее, между тем как Беттина совершенно перестала приходить к моей кровати. В течение первых восьми дней эта партия, которую она вела против меня, мне казалась справедливой, и моя грусть в несколько дней переросла бы в настоящую любовь, если бы поведение этой девушки в отношении Кандиани не влило в мою душу яд ревности; однако, я был весьма далек от мысли считать её виновной в таком же преступлении, которое она совершила со мной. Убежденный некоторыми из своих мыслей, что то, что она делала со мной, было добровольным, я воображал, что сильное раскаяние мешало ей вернуться к моей постели, и эта идея мне льстила, потому что она позволяла мне вообразить её влюбленной.
В этой умозрительной беде я решил подбодрить её письменно. Я написал ей короткое письмо, чтобы вернуть ей душевное спокойствие, если она считает себя виновной, или если она может заподозрить меня в чувствах, противоречащих тем, которых требовало её самолюбие. Мое письмо показалось мне шедевром, и более чем достаточным, чтобы заставить обожать меня и чтобы получить преимущество над Кандиани, который казался мне настоящим животным, ни на минуту не достойным того, чтобы можно было колебаться в выборе между ним и мной. Она ответила мне через полчаса, обещая дать ответ после того, как она придет к моей кровати на следующий день, но не пришла. Я был потрясен, но она меня удивила в полдень за столом, спросив, не хочу ли я переодеться девушкой и пойти с ней к врачу Оливо, нашему соседу, на бал, который тот даёт через пять или шесть дней. Весь стол аплодировал, и я согласился. Я предвидел момент, когда взаимное оправдание сделает нас близкими друзьями и мы будем защищены от каких-либо неожиданностей, зависящих от слабости чувств. Но вот какое фатальное происшествие явилось препятствием для этой игры и породило подлинную трагикомедию. Старый крёстный доктора Гоцци, живший в довольстве в деревне, считая, после продолжительной болезни, свою смерть неминуемой, послал за ним экипаж, умоляя приехать вместе с отцом, чтобы присутствовать при его смерти и поручить его душу Богу. Старый сапожник, осушив сначала бутылку, оделся и поехал со своим сыном.
Как только я это увидел, в нетерпеливом ожидании ночи бала я улучил момент сказать Беттине, что я оставлю открытой дверь моей комнаты, выходящую в коридор, и что я буду ждать её, когда все улягутся. Она сказала, что не преминет этим воспользоваться. Она спала в комнате первого этажа, отделенной перегородкой от комнаты, где спал её отец; доктор отсутствовал и я спал один в большой комнате. Трое пансионеров обитали в зале возле кухни. У меня не было никаких оснований для опасений. Я был очень доволен, видя, что дождался вожделенного момента.
Едва только я ушел в свою комнату, я закрыл дверь на замок и открыл другую, выходящую в коридор, так что Беттине нужно было лишь нажать на нее, чтобы войти. После этого я погасил свечу, не раздеваясь.
Считается, что в романах, описывающих подобные ситуации, содержатся преувеличения, и что это далеко от правды. Но то, что Ариосто рассказывает о Роже, ожидающем Алсину, — это красивый портрет с натуры.
Я ждал до полуночи, не особенно беспокоясь, но когда прошло два, три и четыре часа, а она не появилась, я пришел в ярость. Снег падал большими хлопьями, но я умирал более от бешенства, чем от холода. За час до рассвета, я решаюсь спуститься вниз по лестнице, не надевая обуви из страха разбудить собаку, в четырех шагах от двери, которая должна быть открыта, если Беттина из нее вышла. Я нашел её закрытой. Её нельзя было закрыть иначе как снаружи: я подумал, что она, возможно, уснула; но чтобы её разбудить, я должен был бы громко стучать, и собака начала бы лаять. От этой двери до двери её комнаты было десять или двенадцать шагов. Подавленный горем и не в состоянии ничего придумать, я сижу на последней ступеньке. Ближе к рассвету, продрогший, оцепеневший, дрожащий, я решил вернуться к себе в комнату, потому что горничная, застав меня там, могла бы решить, что я сошел с ума.
Итак, я встаю, но в этот момент слышу шум внутри. Уверенный, что это появилась Беттина, я подхожу к двери, она открывается, но вместо Беттины я вижу Кандиани, который отвешивает мне такой сильный удар ногой в живот, что я, распростертый, падаю в снег. После чего он запирается в комнате, где стоит его кровать рядом с кроватями братьев Фельтрини, его товарищей.
Я быстро вскакиваю, чтобы пойти задушить Беттину, и в этот момент ничто не может утолить моей ярости, но теперь дверь закрыта. Я бью изо всей силы в дверь, собака лает, я возвращаюсь к себе, я запираюсь и иду спать, чтобы восстановить мою душу и мое тело, потому что я хуже, чем мёртв.
Обманутый, униженный, обиженный, ставший объектом презрения счастливого и торжествующего Кандиани, я провел три часа, вынашивая самые черные планы мести. Отравить их обоих мне казалось в этот несчастный момент недостаточным. Я составил сначала трусливый план идти в деревню, чтобы рассказать обо всём доктору. Мне было всего двенадцать лет, и мой разум еще не получил холодной способности разрабатывать проекты героической мести, порожденные чувством чести. Я только еще приобщался к случаям такого рода.
Находясь в таком состоянии ума, я слышу из-за моей внутренней двери хриплый голос матери Беттины, которая просит меня спуститься, потому что её дочь умирает. Раздосадованный, что она умрёт прежде, нежели я её убью, я встаю, спускаюсь и вижу ее в постели её отца, в ужасных конвульсиях, окруженную всей семьёй, полуодетую, извивающуюся. Она сгибается, выгибается, раздавая беспорядочные удары кулаками и ногами и сильными толчками то одному, то другому, избавляясь от желающих её удержать. Видя эту картину и находясь под впечатлением ночной истории, я не знаю, что думать. Я не знал ни природы, ни уловок, и был удивлен, видя себя холодным зрителем, способным владеть собой при виде двоих, из которых я намеревался одного убить, а другого обесчестить. Через час Беттина уснула. Акушерка и доктор Оливо прибыли одновременно. Первая сказала, что это были истерические припадки, и врач сказал, что дело не в матке. Он предписал покой и холодные ванны. Я посмеялся над ними, ничего не сказав, потому что знал, что болезнь этой девушки происходит только из-за её ночных трудов или из опасения, что моя встреча с Кандиани станет известна. Я решил отложить свою месть до возвращения врача. Я был далек от мысли, что болезнь Беттины притворство, потому что казалось невозможным, чтобы у нее было так много сил.
Проходя через комнату Беттины, чтобы вернуться к себе в комнату, и увидев её сумочку на кровати, я сунул туда руку. Я нахожу записку, я вижу почерк Кандиани, я иду в свою комнату, чтобы прочитать её, удивленный безрассудством этой девушки, потому что мать могла её найти и, не умея читать, отдать её доктору, своему сыну. Я подумал, что она потеряла голову. Но что сталось со мной, когда я прочитал эти слова: Поскольку ваш отец уехал, не нужно оставлять дверь открытой, как в другие разы. После обеда я пойду в вашу комнату; вы найдете меня там. После краткого размышления меня одолел смех, и, найдя себя простофилей, я счел себя излечившимся от любви. Кандиани мне показался заслуживающим прощения, а Беттина — достойной презрения. Я был рад, что получил отличный урок на будущее для моей жизни. Я нашел даже, что Беттина права, предпочтя мне Кандиани, которому было пятнадцать лет, в то время как я был еще ребенком. Вспоминая, однако, удар ногой, который он мне влепил, я испытывал желание его вернуть.
В полдень мы обедали на кухне из-за холода, когда Беттина упала в конвульсиях. Все побежали, кроме меня. Я спокойно закончил обед, а потом пошел заниматься. К ужину я увидел на кухне кровать Беттины рядом с кроватью её матери, и остался равнодушен к этому, так же как и к шуму, который производился всю ночь, и к замешательству на следующий день, когда ее припадки возобновились.
К вечеру доктор вернулся со своим отцом. Кандиани, боясь моей мести, пришел спросить меня, каковы мои намерения, но быстро убежал, увидев меня идущим на него с ножом в руке. Я не думал рассказывать доктору грязную историю: проект такого рода мог существовать при моем характере только в момент гнева. Irasci celerem tamen ut placabilis essem.[20]
На следующий день мать доктора прервала наш урок, чтобы сказать своему сыну после долгой преамбулы, что она считает болезнь Беттины вызванной заклинанием ведьмы, которую надо изгнать.
— Это может быть, моя дорогая мама, но здесь нельзя ошибаться. Кто эта ведьма?
— Это наша старая служанка, и я в этом убедилась.
— Каким образом?
— Я загородила дверь моей комнаты двумя скрещенными палками, и для того, чтобы войти, необходимо их разобрать, но когда она увидела их, она отошла, и вошла в другую дверь. Очевидно, что если бы она не была ведьма, она бы их разобрала.
— Это не так очевидно, моя дорогая мать. Пригласите сюда эту женщину.
— Почему, спросил он её, ты не вошла этим утром в комнату обычной дверью?
— Я не знаю, что вы спрашиваете.
— Разве ты не видела на двери крест Св. Андрея?
— Что такое этот крест?
— Ты напрасно притворяешься невеждой, сказала мать. Где ты спала в прошлый четверг?
— У моей племянницы, которая родила.
— Ничего подобного. Ты ходила в субботу; ты ведьма, и ты заколдовала мою дочь.
При этих словах бедная женщина плюнула ей в лицо, и доктор бросился удерживать свою мать, которая взяла палку, чтобы её поколотить. Но ему пришлось бежать за горничной, которая спускалась по лестнице, крича, чтобы поднять соседей. Он успокоил её, дав ей денег, и надел одеяние священника, чтобы изгнать беса из своей сестры и проверить, не вселился ли действительно в неё дьявол. Новизна этих таинств привлекла всё мое внимание. Все они казались мне сумасшедшими или глупцами. Я не мог вообразить чертей в теле Беттины без смеха. Когда мы приблизились к её кровати, дыхание, казалось, покинуло её и заклинания, которые делал её брат, не вернули его. Врач Оливо пришел, спрашивая у него, не являются ли эти действия чрезмерными, и доктор ответил, что это дело веры. Тогда врач ушел, ответив, что он верит только в чудеса Евангелия. Врач вошел в свою комнату, и, оставшись наедине с Беттиной, я сказал ей на ухо такие слова: — крепитесь, выздоравливайте, и будьте уверены в моей скромности . Она повернула голову в другую сторону, не ответив мне, и остаток дня провела без судорог. Я думал, что она выздоровела, но на следующий день конвульсии перешли ей на мозг. Она произносила в бреду латинские и греческие слова, и мы уже не сомневались в опасности её болезни. Её мать вышла и вернулась через час с самым известным экзорцистом из Падуи. Это был капуцин, очень уродливый, по имени брат Просперо да Боволента. Беттина при его появлении разразилась смехом, осыпая его кровными оскорблениями, которые понравились всем присутствующим, потому что только дьявол достаточно смел, чтобы так честить капуцинов, но тот, в свою очередь, поминая невежд, самозванцев и вонючек, начал наносить удары Беттине большим распятием, говоря, что он побивает дьявола. Он остановился только, когда увидел ее намерение бросить ему в голову ночной горшок, на что я бы очень хотел полюбоваться. — Если то, что тебя так возмущает, — сказала она словами, — это дьявол, ударь его своими…, ты осёл, и, если я тупица, то ты должен уважать меня, и пошел ты вон.
Я увидел, как доктор Гоцци покраснел.
Но монах, вооруженный с ног до головы, после прочтения страшного заклинания, призвал дьявольское отродье назвать ему свое имя.
— Меня зовут Беттина.
— Нет, потому что это имя крещеной девушки.
— Ты думаешь, что дьявол должен иметь мужское имя? Знай, невежественный капуцин, что дьявол это ангел, который не имеет пола. Но поскольку ты думаешь, что тот, кто говорит с тобой через мой рот, дьявол, обещай сказать мне правду, и я обещаю тебе поддаться твоим экзорцизмам.
— Да, я обещаю тебе ответить правду.
— Думаешь ли ты, что ты более ученый, чем я?
— Нет, но я думаю, что я могущественней, во имя Пресвятой Троицы и в силу моего священнического сана.
— Если ты настолько могуществен, помешай мне обличать тебя. Ты напрасно отращиваешь свою бороду: ты её расчесываешь десять раз на день, и ты бы не захотел обрезать её наполовину, чтобы я покинул это тело. Отсеки ее и, клянусь, я уйду.
— Отец лжи, я удвою твои наказания.
— Я бросаю тебе вызов.
Тут Беттина выдала такой взрыв смеха, что я прыснул, но капуцин, который увидел меня, сказал доктору, что у меня нет веры, и надо меня удалить. Я вышел, сказав ему, что он угадал, но я не увидел, как Беттина плюнула ему на руку, когда он её подставил, приказывая ей ее поцеловать.
Непостижимая девушка, полная таланта, которым привела в замешательство капуцина, что никого не удивило, так как все её слова приписывали дьяволу! Я не мог себе представить, что могло быть её целью. Капуцин, пообедав с нами и сказав сотню глупостей, вернулся в комнату, чтобы дать свое благословение одержимой, которая бросила ему в голову стакан, полный черного ликёра, что ей направил аптекарь, и Кандиани, который был рядом с монахом, получил свою долю, что доставило мне самое большое удовольствие. Беттина была права, используя любую возможность, чтобы приписать что-нибудь дьяволу. Отец Просперо, уходя, сказал доктору, что девушка, без сомнения, одержима, но он должен найти другого экзорциста, так как этот случай не для него, и Бог желает соединить освобождение и милосердие.
После его отъезда Беттина провела шесть часов очень тихо, и удивила всех нас, спустившись за стол с нами ужинать. Заверив отца, мать и брата, что она чувствует себя хорошо, она сказала мне, что будет дан бал на следующий день, и она придет утром, чтобы уложить мои волосы, как у девочки. Я поблагодарил её, говоря, что она была очень больна, и она должна поберечься. Она пошла в постель, и мы оставались за столом, говоря только о ней. Ложась спать, я нашел в своем ночном колпаке эту записку, на которую ответил, когда я увидел, что доктор заснул: Или Вы придёте на танцы со мной, одетый как девушка, или я устрою Вам такой спектакль, что Вы будете плакать .
Вот мой ответ: Я не пойду на бал, так как я полон решимости избежать любой возможности, чтобы оставаться наедине с Вами. Что касается печального спектакля, которым вы мне угрожаете, я считаю, у вас достаточно духу, чтобы сдержать слово, но я прошу Вас поберечь мое сердце, потому что я Вас люблю, как если бы вы были моей сестрой. Я простил вас, дорогая Беттина, и я хочу все забыть. Вот записка, которую Вы должны были бы быть рады видеть в ваших руках. Вы видите, что вы рисковали оставить её в сумочке на вашей кровати. Это возвращение должно убедить вас в моей дружбе.
Глава III
Беттина считает себя сумасшедшей. Отец Мансиа. Ветряная оспа. Мой отъезд из Падуи.
Беттина должна была быть в отчаянии, не зная, в чьи руки попала её записка, и я не мог бы дать ей большего заверения своей дружбы, чем избавив её от беспокойства, но моё великодушие, которое облегчило её горе, доставило ей другое, более сильное. Она увидела себя разоблаченной. Записка Кандиани показала, что она встречалась с ним каждую ночь: таким образом, басня, возможно, изобретенная, чтобы обмануть меня, становилась бесполезной. Я хотел её избавить от этого затруднения. Я пошел спать утром; и я дал ей прощение вместе со своим ответом.
Дух этой девушки завоевал мое уважение, я больше не мог презирать ее. Я смотрел на нее как на существо, соблазненное собственным темпераментом. Она любила человека и могла жаловаться только на сложившиеся обстоятельства. Желая увидеть вещи в истинном аспекте, я взглянул на свою роль — мальчика, размышляющего, но не влюбленного. Это ей надо было краснеть, а не мне. Мне оставалось только узнать, спали ли с ней также и оба Пельтрини. Это были два товарища Кандиани.
Беттина пребывала целый день в очень хорошем настроении. Вечером она оделась, чтобы пойти на бал, но внезапно недомогание, реальное или притворное, вынудило её лечь в постель. Весь дом был встревожен. Что касается меня, зная все, я ожидал новых сцен, все более грустных. Я одержал над ней верх, из-за чего её самолюбие не могло не страдать.
Несмотря на такую прекрасную школу, полученную мной еще до наступления юности, я продолжал бывать обманут женщинами, вплоть до шестидесяти лет. Двенадцать лет назад без помощи моего ангела-хранителя я бы женился в Вене на молодой ветренице, которая вскружила мне голову. Я думаю, что теперь я в безопасности от всех глупостей такого рода, но, увы! Это меня огорчает.
На следующий день весь дом был опечален, потому что демон, вселившийся в Беттину, опять завладел ею. Доктор сказал мне, что в её безумствах присутствовало богохульство, и поэтому она явно одержима, потому что не было впечатления, что под видом сумасшествия она просто поносит отца Просперо. Он решил обратиться к отцу Мансиа. То был известный экзорцист, якобит-доминиканец, у которого была репутация человека, никогда не терпевшего поражения при изгнании демонов.
Было воскресенье. Беттина хорошо пообедала и была не в себе весь день. К полуночи ее отец пришел домой, распевая Тассо, настолько пьяный, что не мог держаться на ногах. Он подходит к постели дочери и, нежно ее поцеловав, говорит ей, что она не сумасшедшая. Она отвечает, что он не пьян.
— Ты одержима, моя дорогая дочь.
— Да, мой отец, и вы единственный, кто может исцелить меня.
— Ну! Я готов.
Он говорит, как богослов, он рассуждает о силе веры и силе отцовского благословения, он бросает свое пальто, он берет распятие в руку, он кладет другую на голову своей дочери и начинает говорить о дьяволе такие вещи, что даже его жена, глупая, грустная и сварливая, громко хохочет. Единственные, кто не смеялся, были два действующих лица, и именно это делало сцену прелестной. Я любовался Беттиной, которая, будучи первостатейной хохотуньей, нашла в себе силы для поддержания полной серьезности. Доктор Гоцци тоже смеялся, желая однако, чтобы фарс закончился, потому что несуразности его отца оскверняли святость экзорцизма. Экзорцист, наконец, пошел спать, говоря, что он уверен, что демон оставит его дочь в покое на всю ночь.
На следующий день, только мы вышли из-за стола, как появился отец Мансиа. Доктор, в сопровождении всей семьи, проводил его к постели сестры. Захваченный желанием всё увидеть и понаблюдать за этим монахом, я, помимо воли, пошел за ними. Вот портрет монаха.
Его фигура была крупна и величественна, возраст — около тридцати, волосы светлые, глаза голубые. Черты лица напоминали Аполлона Бельведерского с той разницей, что они не выражали ни триумфа, ни воли. Ослепительно белокожий, он был и бледен, так что выделялся кармин его губ, позволявших видеть его прекрасные зубы. Он был ни худ, ни толст, и грусть, лежащая на его физиономии, добавляла ему мягкости. Его походка была медленной, вид — застенчивым, что заставляло предположить большую скромность его натуры.
Когда мы вошли, Беттина спала, или делала вид, что спит. Отец Мансиа начал с того, что взял кропильницу и стал обрызгивать её святой водой; она открыла глаза, посмотрела на монаха и через мгновение закрыла их, затем вновь их открыла, посмотрев на него немного внимательнее, повернулась на спину, опустила руки и, красиво склонив голову, погрузилась в сон, являя собой самую нежную картину. Экзорцист, стоя, вынул из кармана требник и епитрахиль, которую надел на шею, и ковчежец, который поставил на грудь спящей. Затем, с видом святого, он попросил всех нас встать на колени, чтобы молиться Богу, прося его дать знать, одержима ли пациентка или страдает от натуральной болезни. Он оставил нас в таком положении на полчаса, продолжая читать тихим голосом. Беттина не шевелилась.
Тогда, как мне кажется, чтобы продолжить играть свою роль, он попросил доктора выслушать его в отдалении. Они вошли в комнату, откуда вышли четверть часа спустя, хохоча над притворщицей, которая, увидев их, повернулась к ним спиной. Отец Мансиа улыбнулся, обмакнув кропило в кропильницу, окропил нас всех и ушел.
Доктор сказал нам, что экзорцист вернется на следующий день, и что он обещал освободить ее за три часа, если она одержима, но ничего не обещал, если она сумасшедшая. Мать сказала, что убеждена, что он освободит ее от бесов, и она благодарила Бога за то, что он явил ей благодать, чтобы увидеть святого, прежде чем ей умереть. Не было ничего забавней растерянности Беттины на другой день. Она стала держать самые безумные речи из тех, что мог придумать поэт, и она их не прерывала при появлении прекрасного экзорциста. Тот четверть часа разыгрывал представление, вооруженный всеми своими предметами, затем попросил нас выйти. Мы повиновались. Дверь осталась открытой, но это было неважно. Кто бы осмелился войти? Мы слышали в течение трех часов лишь глубокую тишину. В полдень он позвал и мы вошли. Беттина была там, грустная и очень спокойная, а монах складывал багаж. Он ушел, сказав, что он надеется на лучшее, попросив доктора сообщать ему новости. Беттина пообедала в своей постели, поужинала за столом, была разумна на следующий день, но вот что произошло, и это дало мне уверенность, что она не была ни безумна, ни одержима.
Это было за день до Сретения Богоматери. Доктор обычно водил нас к причастию в приходскую церковь; но тут он повел нас к исповеди в Сан-Августин, церковь, обслуживаемую падуанскими якобитами. Он сказал нам об этом за столом, где мы расположились на следующий день. Мать сказала: «Вы все должны были бы идти на исповедь к отцу Мансиа, чтобы получить отпущение грехов у такого святого человека. Я намерена тоже идти туда». Кандиани и Фельтрини согласились, я ничего не сказал. Этот проект мне не понравился, но я скрыл это, полный решимости не допустить его выполнение. Я верил в тайну исповеди, и я не был способен на ней солгать, но, зная, что я выбираю сам исповедника, я бы, безусловно, никогда не возымел глупость пойти к отцу Мансиа и рассказать, что случилось с девушкой; он бы сразу догадался, что это может быть только Беттина. Я был уверен, что Кандиани расскажет ему всё, и я был очень зол. Назавтра, рано утром, она подошла к моей кровати, принеся воротничок, и подсунула мне письмо. «Ненавидьте мою жизнь, но уважайте мою честь и мирскую темноту, в которой я живу. Никто из вас не должен идти завтра на исповедь к отцу Мансиа. Вы единственный, кто может сорвать этот план, и я вам предложу для этого средство. Я увижу, действительно ли вы питаете ко мне дружбу». Удивительно, как эта бедная девушка пробудила во мне сострадание этим письмом. Несмотря на это, я ответил ей так: «Я понимаю, что, несмотря на все нерушимые законы исповеди, проект вашей матери должен вас беспокоить, но я не понимаю, почему, для того, чтобы сорвать этот проект, вы собираетесь рассчитывать на меня скорее, чем на Кандиани, который заявил о своём одобрении. Все, что я могу вам обещать, что я не буду в этом участвовать, но я ничего не могу сделать с вашим любовником. Это вам надо поговорить с ним». Вот ответ, который она дала мне: «Я больше не разговаривала с Кандиани с роковой ночи, которая сделала меня несчастной; и я не буду говорить с ним больше, даже если, поговорив с ним, я смогу стать снова счастливой. Вы единственный, кому я хочу доверить свою жизнь и честь». Эта девушка казалась мне более удивительной, чем все те из романов, прочитанных мной, где изображались разные чудеса. Мне казалось, что она играет со мной с беспримерной наглостью. Я видел, что она желает вернуть меня в свои цепи; и хотя меня это не интересовало, я, тем не менее, был расположен сделать щедрый поступок, на который она считала способным единственно меня. Она была уверена в успехе, но в какой школе она научилась так хорошо понимать человеческое сердце? Возможно, чтение некоторых романов является причиной погибели многих девушек, но очевидно, что чтение хороших учит их приятному обхождению и упражняет в социальных добродетелях. Настроившись на то, чтобы проявить по отношению к этой девушке всю доброжелательность, на какую она сочла меня способным, я сказал доктору в момент, когда мы ложились спать, что моя совесть заставляет меня отказаться от того, чтобы идти на исповедь к отцу Мансиа, и что я не хотел бы отделяться при этом от своих товарищей. Он ответил, что проникся моими причинами, и что он поведет всех в Сент-Антуан. Я поцеловал ему руку. Это было проделано хорошо, и я увидел Беттину в полдень, пришедшую за стол с выражением удовлетворения на лице. Открытое обморожение заставило меня оставаться в постели, и доктор пошел в церковь со всеми моими товарищами; Беттина осталась дома одна, она пришла и присела на мою кровать. Я ждал. Я видел, что настало время для большого объяснения, которое, в глубине души, не было мне неприятно.
Она начала с того, что спросила меня, не сержусь ли я на то, что она выбрала такой момент, чтобы со мной говорить. Нет, ответил я ей, потому что вы выбрали его, чтобы сказать, что чувство, которое вы ко мне испытываете — только дружба, и вы должны быть уверены, что в будущем никогда не будет такого, чтобы я мог доставить вам беспокойство. Таким образом, вы можете делать, что хотите. Чтобы поступать иначе, я должен был бы быть влюблен в вас, а этого уже нет. Вы задушили росток страсти в одно мгновенье, когда вошли в мою комнату после пинка, который отвесил мне Кандиани. Я возненавидел вас, потом стал презирать, потом вы стали для меня безразличны, и, наконец, безразличие исчезло, когда я увидел, на что способен ваш ум. Я стал вашим другом. Я прощаю ваши слабости, и, привыкнув видеть вас такой, какая вы есть, я выработал для Вас самую высокую оценку, достойную вашего ума. Я был обманут, но это неважно: существует нечто божественное, которым я любуюсь, его люблю, и я думаю, что данью по отношению к нему было бы чувство самой чистой дружбы. Платите мне той же монетой — искренностью, а не маневрами. Прекращайте же все ваши нелепости, потому что вы уже получили от меня все, на что вы могли претендовать. Сама мысль о любви отталкивает меня, потому что я не могу любить иначе, чем будучи уверен, что любим. Вы властны отнести мою глупую деликатность на счет моего возраста, но дело не может обстоять иначе. Вы написали мне, что вы не разговариваете больше с Кандиани, и если я являюсь причиной этого разрыва, знайте, что я этим недоволен. Ваша честь требует стереть пятно, которое легло на вас, и я должен остеречься в будущем нанести ей малейшую тень. Вообразите, что вы влюбили кого-либо в себя и соблазняете его таким же образом, как вы делали со мной; вы вдвойне неправы, потому что может статься, что если он вас полюбит, вы сделаете его несчастным. Все, что вы сказали мне, ответила Беттина, основано на ошибке. Я не люблю Кандиани и никогда не была им любима. Я возненавидела Кандиани и ненавижу его, потому что он это заслужил, и я заверяю вас в этом, несмотря на то, что обстоятельства сложились против меня. Что касается соблазнения, я прошу избавить меня от этого гнусного упрека. Не кажется ли вам, что если бы вы прежде не соблазнили меня, я бы никогда не сделала того, в чем я раскаиваюсь по причинам, которыми вы пренебрегаете и которые я вам изложу. Ошибка, которую я допустила, велика лишь потому, что я не предугадала вреда, который она может мне нанести в неопытной голове такого неблагодарного, как вы, который может меня в этом обвинить.
Беттина плакала. То, что она мне сказала, было правдоподобно и лестно; но я слишком многое видел. Кроме того, она показала мне, что с помощью своего ума может заставить меня поверить во всё, что она мне предложит, и что ее рассуждение — только результат воздействия её самолюбия, которое заставило бы её переживать мир как мою победу, что слишком её унизит.
Неколебимый в своей мысли, я ей ответил, что верю всему, что она только что рассказала мне о состоянии своего сердца до того момента, когда заставила меня влюбиться в себя, так что я обещал, что сохраню ей в своей душе титул соблазнительницы. Но согласитесь, сказал я ей, что жар вашего огня был кратковременным, и достаточно было небольшого ветерка, чтобы его потушить. Ваша добродетель, которая отрешилась от своих обязанностей только на час, и которая возобладала вдруг над вашими чувствами, введенными в заблуждение, заслуживает некоторой похвалы. Вы, обожавшая меня, стали вдруг нечувствительны ко всем моим огорчениям, которые я сообщил вам. Мне еще надо понять, каким образом эта добродетель могла вам быть столь дорога, в то время как Кандиани не переставал сокрушать её каждую ночь в своих объятиях.
— Вот что я хотела бы, чтобы вы увидели. Вот что я не могла вам объяснить, и что я не смогла вам рассказать, потому что вы отказались от свидания, о котором я вас просила, и на котором сообщила бы вам правду.
Кандиани, — продолжала она, — признался мне в любви через восемь дней после того, как приехал к нам. Он просил моего согласия, чтобы его собственный отец сделал мне предложение от его имени, прежде, чем он завершит свою учебу. Я ответила ему, что я еще недостаточно хорошо его знаю, что у меня нет на это согласия, и попросила его не говорить мне больше об этом. Он сделал вид, что успокоился, но я догадалась вскоре, что это не так, так как не было дня, когда бы он не попросил, чтобы я пришла его причесать. Когда я ответила ему, что у меня нет на это времени, он сказал мне, что вы были счастливее, чем он. Я посмеялась над этим упреком и над его подозрениями, потому что весь дом знал, что я заботилась о вас. Это было через пятнадцать дней после того, как я отказала ему в удовольствии прийти его причесать, — он час провозился с вами в этом фарсе, о котором вы знаете, и из которого, конечно, родился огонь, породивший мысли, которых вы до того не имели. Что касается меня, я была очень довольна; я любила вас, и, отказавшись от естественных для моей страсти желаний, никакого раскаяния не испытывала. Мне не терпелось увидеться с вами на следующий день, но в тот же день после обеда пробил час моих несчастий. Кандиани сунул мне в руки записку и письмо, которое затем я спрятала, с намерением в дальнейшем показать его вам, в свое время и в своем месте.
С этими словами Беттина передала мне письмо и записку. Вот эта записка: «Либо встретьтесь со мной не позже, чем этой ночью в вашей комнате, оставив приоткрытой дверь, ведущую во двор, либо подумайте о ваших делах завтра, при встрече с доктором, которому я передам письмо, копию которого вы видите». Письмо содержало рассказ бессовестного и обозленного доносчика, которое, в действительности, могло иметь весьма скверные последствия. Он говорил доктору, что его сестра проводила со мной утренние часы, когда тот шел служить массу, в преступной связи, и он обещал дать ему затем такие объяснения, которые сняли бы всякие сомнения. После размышления, продолжила Беттина, я, по необходимости, была вынуждена выслушать это чудовище. Я оставила дверь приоткрытой, и я ждала его, положив в карман стилет моего отца. Я ждала его в дверях, чтобы он говорил со мной оттуда, поскольку моя комната отделена от комнаты, где спал мой отец, лишь перегородкой. Малейший шум мог его разбудить. На мой первый вопрос о клевете, содержащейся в письме, которое он грозился передать моему брату, он ответил, что это не клевета, потому что он сам видел все, происходившее между нами утром, через отверстие, которое он проделал в полу мансарды над вашей кроватью. Он решил, что раскроет всё моему брату и моей матери, если я буду упорствовать, отказывая ему в тех же снисхождениях, которые, он был уверен, я оказываю вам. Высказав ему в справедливом гневе самые ужасные обвинения и назвав его трусливым шпионом и клеветником, ибо он не мог видеть ничего, кроме детских шалостей, я кончила, поклявшись ему, что он напрасно обольщается надеждой меня сломить угрозами, касающимися ребячьих игр. Тогда он стал приносить тысячу извинений и доказывать мне, что я должна отнести на счет своей неуступчивости его поступок, который он может оправдать только страстью, что я его спровоцировала и что это сделало его несчастным. Он согласился с тем, что его письмо, может быть, клеветническое, и что он действовал предательски, и он заверил меня, что никогда не использует силу для достижения милостей, которые желает заслужить только постоянством своей любви. Я почувствовала себя обязанной сказать ему, что я могла бы полюбить его в дальнейшем, и обещала ему, что я не подойду больше к вашей кровати, когда доктора не будет; я отослала его счастливым, и он не осмелился попросить у меня даже одного поцелуя, когда я обещала, что мы могли бы поговорить как-нибудь в другой раз в том же месте. Я пошла спать в отчаянии, сознавая, что я не смогу ни видеть Вас, когда нет моего брата, ни дать вам объяснение о сложившихся обстоятельствах. Так прошло три недели, и я страдала невероятно, потому что вы не переставали меня звать, а я все время чувствовала себя обязанной уклоняться. Я боялась остаться наедине с вами, потому что была уверена, что не смогу помешать себе разъяснить вам причину изменения моего поведения. Прибавьте, что я видела себя обязанной по крайней мере раз в неделю выходить к входной двери, чтобы поговорить с мерзавцем и умерить словами его нетерпение. Я, наконец, решилась окончательно прекратить мое страдание, когда увидела, что угрожают и вам. Я предложила вам пойти на бал, одетым как девушка; я собиралась открыть вам всю интригу и предоставить вам возможность всё исправить. Эта бальная вечеринка была неприятна Кандиани, но мое решение было принято. Вы знаете, какого рода возникло препятствие. Отъезд моего брата с моим отцом вдохновил нас обоих на одну и ту же мысль. Я пообещала вам прийти прежде, чем получила записку от Кандиани, в которой он не просил меня о рандеву, но предупредил, что собирается прийти в мою комнату. У меня не было времени, ни для того, чтобы сказать ему, что я имею основания запретить ему приходить, ни для того, чтобы предупредить вас, что я приду к вам лишь после полуночи, как я и собиралась сделать, потому что была уверена, что после часа болтовни отправлю этого несчастного в его комнату; но проект, для которого нужно было связаться с вами, требовал гораздо более длительного времени. Оказалось, что невозможно заставить его уйти. Я вынуждена была слушать его и страдать всю ночь. Его жалобы и его сетования на свое несчастье длились бесконечно. Он жаловался, что я не хочу соглашаться на проект, который, если бы я любила его, я бы одобрила. Он заключался в том, чтобы бежать с ним на святой неделе в Феррару, где жил его дядя, который принял бы нас и легко нашел резоны, понятные его отцу, чтобы быть в дальнейшем счастливыми всю жизнь. Возражения с моей стороны, его ответы, детали, объяснения для устранения затруднений, заняли всю ночь. Мое сердце обливалось кровью при мысли о вас, но мне не в чем упрекнуть себя, и ничего не произошло такого, что сделало бы меня недостойной вашего уважения. Единственным основанием для этого стало бы то, что вы решили бы, что все, сказанное мной вам — сказка, но тогда вы были бы неправы и несправедливы. Если бы я смогла заставить себя пойти на жертву ради любви, я могла бы заставить этого предателя выйти из моей комнаты через час после того, как он туда вошел, но я бы предпочла смерть этому ужасному средству. Могла ли я предположить, что вы находитесь снаружи, на ветру и под снегом? Мы оба достойны жалости, но я более, чем вы. Все это было записано на небесах, чтобы лишить меня здоровья и стать причиной появления конвульсий, причем я даже не уверена, что припадки не возобновятся. Говорят, что я заколдована, и что мной овладели демоны. Я ничего не знаю об этом, но если это правда, я самая несчастная из всех девушек. Тут она замолчала, и у неё полились потоком слёзы и стоны.
История, которую она мне вручила, была возможна, но не внушала доверия, Force era vero, ma non, pero credibile A chi del senso suo fosse signore [21], и я положился на свой здравый смысл. То, что вызвало мое волнение, были её слезы, реальность которых не оставила у меня сомнения. Я их отнес на счет силы её самолюбия. Мне нужно было доказательство, чтобы уступить, и для его убедительности необходимо было не правдоподобие, но очевидность. Я не мог дать веры ни умеренности Кандиани, ни терпению Беттины, ни использованию семи часов лишь для одного разговора. Несмотря на это, я принял участие в своего рода развлечении, соглашаясь принять за чистую монету те фальшивые купюры, что она мне предлагала.
Вытерев слезы, она впилась своими красивыми глазами в мои, надеясь различить видимые следы своей победы, но я удивил её своим критическим отношением, которым, по своей артистичности, она в своей апологии пренебрегла. Риторика пользуется проявлениями природы только как художник, желающий их имитировать. Всё, что представляется чересчур красивым, ложно.
Тонкий ум этой девушки, не обработанный учебой, претендовал на преимущество казаться чистым и безыскусным, она это сознавала и пользовалась этим знанием, чтобы извлечь из этого выгоду, но этот ум внушил мне слишком высокое представление о своем мастерстве.
— И что теперь? — сказал я ей, — моя дорогая Беттина, весь ваш рассказ меня тронул, но как вы можете ожидать, что я сочту натуральными ваши конвульсии, заблуждением разума ваше красивое безумие и ваши симптомы одержимости, что вы демонстрировали слишком кстати во время сеансов экзорцизма, хотя, как вы очень разумно говорите, по поводу этого пункта у вас есть сомнения?
При этих словах она онемела на пять или шесть минут, уставившись на меня, а потом, опустив глаза, начала плакать, приговаривая только время от времени — «Бедная несчастная». Эта ситуация, в конце концов, стала для меня тягостной, я спросил, что я мог бы для нее сделать. Она ответила мне печальным тоном, что если мое сердце ничего мне не говорит, она не знает, чего могла бы требовать от меня. Я верила, — сказала она, — в возможность вернуть в вашем сердце права, которые потеряла. Но я вас больше не интересую. Продолжайте думать обо мне плохо и предпочитать выдумки реальному злу, которому вы причина и которое вы увеличиваете сейчас. Вы раскаетесь в этом позже и в вашем раскаянии вы не обретёте счастья. Она собралась уходить, но поскольку я считал её способной на всё, она внушила мне страх. Я воззвал к ней, что единственное средство, которым она могла бы вернуть мою любовь, состоит в том, чтобы в течение месяца обойтись без конвульсий и без того, чтобы заставлять нас идти искать прекрасного отца Мансиа. Все это, ответила она, не зависит от меня, но что вы имеете в виду под этим эпитетом «прекрасный», которым вы наделяете якобита? Неужели вы полагаете?.. — Пустяки, пустяки, я ничего не полагаю, потому что я должен был бы ревновать, что-то полагая, но я скажу вам, что предпочтение ваших чертей, отдаваемое экзорцизмам этого красивого монаха перед теми, что выдает мерзкий капуцин, — это сюжет комментариев, которые не делают вам чести. Поступайте, впрочем, как знаете.
Она ушла, и через четверть часа все вернулись. После обеда служанка сказала мне, хотя я её не спрашивал, что Беттина легла с сильным ознобом после того, как передвинула свою кровать в кухню, рядом со своей матерью. Эта лихорадка могла быть естественной, но я в этом сомневался. Я был уверен, что она никогда не даст основания думать, что хорошо себя чувствует, потому что этим дала бы мне слишком сильный аргумент для сомнений в заявляемой невинности своих отношений с Кандиани. Я рассматривал также как хитрость перестановку её кровати в кухню.
На следующий день врач Оливио, найдя у нее сильную лихорадку, сказал доктору, что она болтает всякую ерунду, но это происходит от лихорадки, а не от чертей. Беттина фактически бредила весь день, но доктор стал на точку зрения врача, предоставив матери болтать и не отправляя за якобитом. На третий день лихорадка стала еще сильнее, и пятна на коже заставили предположить ветряную оспу, которая и проявилась на четвертый. Прежде всего, отправили жить в другое место Кандиани и обоих Фельтрини, которые не болели ею, и, не имея основания опасаться заразы, я остался один. Бедная Беттина была настолько покрыта этой чумой, что на шестой день не видно стало её кожи по всему телу. Её глаза были закрыты, пришлось остричь ей все волосы, и отчаялись спасти её жизнь, когда увидели, что её рот и горло так опухли, что удалось ввести ей в пищевод лишь несколько капель меда. Не было заметно у неё никакого движения, кроме дыхания. Ее мать не отлучалась от её постели, и мне были признательны, когда я перенёс к этой постели свой стол со своими тетрадями. Девушка превратилась во что-то ужасное, её голова стала на треть больше, не стало видно носа и опасались за её глаза, которые исчезли. Что беспокоило меня чрезвычайно и от чего я постоянно мучился, был ее зловонный пот. На девятый день пришел священник дать ей отпущение грехов и помазание, а затем произнес, что оставляет её в руках божьих. В этой, столь грустной, сцене диалоги матери Беттины с доктором заставляли меня смеяться. Она хотела бы знать, если дьявол, которым Беттина одержима, мог заставлять её творить безумства, что дьявол станет делать, если она умрет, потому что она не верит, что он настолько глуп, чтобы оставаться в таком отвратительном теле. Она у него спрашивала, сможет ли дьявол овладеть душой бедной девочки. Бедный доктор теологии отвечал на все эти вопросы, которые не имели ни тени здравого смысла и с каждым днем всё больше смущали бедную женщину.
На десятый и одиннадцатый день опасались в любой момент её потерять. Все гнилостные бубоны стали источать черный гной, и заражали воздух: никто не мог противостоять ему, кроме меня, которого состояние этой несчастной приводило в отчаяние. Именно в этом ужасном состоянии она внушила мне всю нежность, которую я проявлял к ней после её выздоровления. На тринадцатый день, когда у нее не было больше лихорадки, она стала двигаться из-за невыносимого зуда, и никакое средство не могло бы её успокоить больше, чем эти могущественные слова, что я говорил ей каждый раз: помните, Беттина, вы выздоравливаете, но если вы посмеете чесаться, вы останетесь такой уродливой, что никто больше не будет вас любить. Можно бросить вызов всем физикам мира, найдется ли более мощный тормоз, чем этот, против зуда у девушки, которая знает, что была красива, и которая рискует стать уродливой по своей вине, если она почешется.
Она открыла, наконец, свои красивые глаза, ей поменяли постель и перенесли её в свою комнату. Абсцесс на шее удерживал её в постели вплоть до пасхи. Она заразила меня и у меня появилось восемь или десять бубонов, три из которых оставили неизгладимый след на лице: они составили мне честь в глазах Беттины, которая, наконец, признала, что только я заслужил её нежность. Её кожа осталась покрыта красными пятнами, которые исчезли только к концу года. Она любила меня в дальнейшем без какого-либо притворства, и я любил ее, никогда не пытаясь сорвать цветок, который судьба и предопределение хранили для Гименея. Но сколь жалок оказался этот Гименей! Это случилось через два года, когда она стала женой сапожника по имени Пигоццо, известного негодяя, который сделал её бедной и несчастной. Доктор, её брат, должен был заботиться о ней. Пятнадцать лет спустя он взял ее с собой в Сен-Жорж-де-ла-Валле, где он был избран архиереем. Заехав его повидать восемнадцать лет спустя, я нашел Беттину старой, больной и угасшей. Она умерла на моих глазах в 1776 году, через двадцать четыре часа после моего приезда. Я расскажу об этой смерти в свое время.
Моя мать приехала в это время из Петербурга, где императрица Анна Иоанновна не сочла итальянскую комедию достаточно забавной. Вся труппа вернулась в Италию, а моя мать гастролировала с Карленом Бертинацци, Арлекином, который умер в Париже в 1783 году. Едва прибыв в Падую, она послала уведомление о своем прибытии доктору Гоцци, который привез меня сначала в гостиницу, где она поселилась со своим спутником. Мы там пообедали, и перед отъездом она подарила ему меховую шубу и дала мне рысью шкуру, чтобы я сделал подарок Беттине. Шесть месяцев спустя она вызвала меня в Венецию, чтобы повидать снова, прежде чем уехать в Дрезден, где она получила пожизненный ангажемент на службе у курфюрста Саксонии Августа III, короля Польши. Она привела с собой моего брата Жана, которому было тогда восемь лет, и который при отъезде начал отчаянно плакать, что заставило меня предположить в его характере много глупости, потому что в этом отъезде не было ничего трагического. Он был единственным, кто все свое состояние получил от нашей матери, у которой, однако, он не был любимчиком. После этого я провел еще один год в Падуе, изучая право, доктором которого стал в возрасте шестнадцати лет, защитив по гражданскому праву тезисы «de testamentis»[22] и по каноническому праву-«utrum hebrei possint construere novas Sijnagogas»[23]. Моим призванием было изучение медицины, чтобы совершенствоваться в профессии, к которой я чувствовал склонность, но меня не слушали, хотели, чтобы я занялся изучением законов, к которым я чувствовал непобедимое отвращение. Утверждалось, что я мог бы добиться успеха, только став адвокатом, и, что еще хуже, церковным адвокатом, потому что считали, что у меня есть дар слова. Если бы решение было продуманным, меня осчастливили бы, сделав врачом, где шарлатанство практикуется еще более, чем в профессии адвоката. Но я не стал ни тем, ни другим, и не могло быть иначе. Возможно, именно по этой причине я никогда не хотел приглашать адвокатов, когда возникали правовые претензии ко мне в суде, ни звать врачей, когда я заболевал. Крючкотворство разорило много больше семей, чем поддержало, и тех, кто умер из-за врачей, гораздо больше, чем тех, кто из-за них выздоровел. Результат таков, что мир был бы гораздо менее несчастен без этих двух разновидностей отродий дьявола.
Обязанность поступить в Падуанский университет, называемый Бо, чтобы слушать лекции профессоров, поставила меня перед необходимостью ходить везде самостоятельно, и я был этому рад, потому что до того времени никогда не встречал свободного человека. Желая воспользоваться полной свободой, которую получил в свое распоряжение, я завёл все возможные дурные знакомства с известными студентами. Самые известные должны были быть самыми распутными, игроками, посетителями дурных мест, пьяницами, дебоширами, совратителями честных девушек, насильниками, лжецами и неспособными соответствовать малейшему чувству добродетели. Будучи в компании людей такого сорта, я начал познавать мир, изучая его по благородной книге опыта.
Теория нравов приносит такую же пользу в жизни человека, как та, что возникает, когда перед чтением книги просматривают её оглавление; когда её изучают, жизнь оказывается не столь бесформенной, как в природе. Такова школа морали, которую преподают нам поучения, наставления и истории, рассказываемые нам теми, кто нас воспитывает. Мы внимательно прислушиваемся ко всему, но когда дело доходит до того, чтобы использовать данные нам советы, мы просто хотим посмотреть, будет ли дело таким, как нам было предсказано; мы отдаемся ему, и часто бываем наказаны раскаянием. Нас немного утешает то, что благодаря таким моментам мы становимся учеными и получаем право поучать других. Те, кого мы наставляем, получают ни больше ни меньше, чем то, что мы уже делали, в результате чего мир существует прежним или становится всё хуже. — Etas parcntum. pejor avis, tulit nos nequiores mox daturos progeniem vitiosiorem, Horace «Поколение наших родителей еще хуже, чем наших предков, мы созданы более злополучными, и предназначены, чтобы в ближайшее время создать поколение, еще более порочное» Гораций.
Благодаря тому, что доктор Гоцци разрешил мне выходить самостоятельно, я познал многие истины, которые до этого времени не только мне не были известны, но я даже не предполагал их существование. При моем появлении наиболее опытные завладели мной и прощупали меня. Найдя меня новичком во всем, они вознамерились просветить меня, столкнув со всех опор. Они заставили меня играть, и после того, как я проиграл те немногие деньги, что у меня были, они заставили меня проигрывать на слово, и они научили меня творить плохие дела, чтобы расплатиться. Я начал учиться этим вещам и нажил неприятности. Я научился не доверять всем тем, кто лжет в лицо, и тем более не полагаться на любые предложения тех, кто льстит. Я научился жить с теми, кто ищет ссоры, узнал, когда нужно покинуть компанию, либо окажешься в любой момент на краю пропасти. Что касается продажных женщин, я не попал в их сети, потому что не видел среди них ни одной такой красивой, как Беттина, но не мог защититься от желания такого рода славы, происходящего от смелости, в сущности являющейся пренебрежением к жизни. Студенты Падуи пользовались в те времена большими привилегиями. Это были злоупотребления, которые для старших сословий считаются законными: таков примитивный характер почти всех привилегий. Они отличаются от прерогатив. Дело в том, что студенты, чтобы утвердить свои привилегии, шли на преступления. Виновные не подвергались строгому наказанию, потому что не в интересах государства было уменьшать суровостью наказания приток учеников, которые съезжались в этот известный университет со всей Европы. Правилом венецианского правительства было платить очень большое жалованье знаменитым учителям, и давать жить тем, кто приезжал, чтобы слушать их уроки в условиях наибольшей свободы. Студенты зависели только от своего начальника, называемого Синдик. Это был дворянин-иностранец, который должен был представлять государство и отвечать перед правительством за поведение учеников. Он должен был привлекать их к ответственности за нарушение законов, и студенты подчинялись его приговорам, потому что, когда они были, по-видимому, правы, он их защищал. Они не желали, например, терпеть, чтобы местные служащие заглядывали в их почту, и обычные сбиры не смели арестовывать студента; они носили любое оружие, которое им хотелось, запрещенное для других, они обманывали безнаказанно дочерей в семьях, которых их родственники не держали взаперти; они часто нарушали общественное спокойствие ночными безобразиями; это была необузданная молодежь, которая хотела только тешить свои капризы, веселиться и смеяться. В те дни случилось однажды, что сбир вошел в кафе, где находились два студента. Один из них велел ему выйти, сбир этим пренебрег, студент выстрелил в него из пистолета и промахнулся, но сбир дал отпор и ранил студента, а после убежал. Студенты собрались на Бо и направились, разделившись на несколько отрядов, разыскивать сбиров, чтобы отомстить за полученное оскорбление, растерзав их; но при столкновении два студента остались мертвыми. Вся толпа студентов объединилась, и они поклялись не складывать оружия, пока не останется больше сбиров в Падуе. Правительство вмешалось, и Синдика обязали заставить студентов сложить оружие, после получения ими удовлетворения, потому что сбиры были неправы. Сбир, который ранил студента, был повешен, и мир был заключен, но в течение восьми дней, пока не установили этот мир, все студенты из Падуи разделились на патрули, и я, не желая быть менее смелым, чем другие, поступил так же, как советовал мне доктор. Вооружившись пистолетами и карабином, я ходил каждый день с моими компаньонами искать врага. Я был весьма огорчен, что компания, в которую я входил, ни разу не встретила ни одного сбира. Доктор по окончании этой войны насмехался надо мной, но Беттина восхищалась моей смелостью.
На этом новом отрезке жизни, не желая казаться менее богатым, чем мои новые друзья, я позволил себе расходы, которые не мог поддерживать. Я продал или обменял все, что имел, и влез в долги, которые не мог оплатить. Это были мои первые огорчения, и самые мучительные, из тех, что мог бы перенести молодой человек. Я написал моей дорогой бабушке, прося ее о помощи, но вместо того, чтобы ее мне направить, она приехала сама в Падую, чтобы поблагодарить доктора Гоцци, и взяла Беттину и меня с собой в Венецию 1 октября 1739 года.
Доктор в момент моего отъезда подарил мне, роняя слезы, самое дорогое. Он надел мне на шею образок, я уже не помню какого, святого, который, возможно, до сих пор был бы со мной, если бы он не был из золота. Чудом, которое он сотворил, явилось то, что он послужил мне для удовлетворения одной из моих насущных потребностей. Всякий раз, когда я возвращался в Падую, чтобы завершить свою учебу по праву, я останавливался у него, но всегда с сожалением видел около Беттины этого мерзавца, который должен был на ней жениться, и который ее, как мне казалось, не был достоин. Я был огорчен, что не смог ее сберечь. Это было предубеждение, но мне не удалось его разрушить.
Глава IV
Патриарх Венеции дает мне мелкие заказы. Мое знакомство с сенатором Малипьеро, с Терезой Имер, с племянницей кюре, с мадам Орио, с Нанеттой и Мартон, с Кавамаччи, я становлюсь проповедником. Мое приключение в Пасеан с Люси. Рандеву втроем.
«Он приехал из Падуи, где обучался в университете», — заявляли обо мне обычно повсюду, и эта формула, будучи произнесенной, привлекала ко мне внимание равных мне по возрасту и положению, похвалы отцов семейства и ласки старых женщин, многие из которых, не будучи старыми, хотели сойти за таковых, чтобы иметь законное право меня целовать. Кюре прихода Сан-Самуэле по имени Тоселло, приписав меня к своей церкви, представил монсеньору Корреру, патриарху Венеции, который тонзуровал меня, а спустя четыре месяца, по особой милости, даровал мне сразу четыре младших ранга клира. Моя бабушка была утешена сверх меры. Прежде всего, мне нашли хороших учителей, чтобы продолжить учебу, и г-н Баффо выбрал аббата Чиаво, чтобы тот учил меня писать чисто на итальянском языке и, особенно, изучить язык поэзии, к которому решительно у меня имелись наклонности. Я нашел себе отличное жилье, вместе с братом Франсуа, который начал изучать театральную архитектуру. Моя сестра и мой младший брат, родившийся после смерти отца, жили с бабушкой в другом доме, принадлежавшем ей, и где она хотела умереть, потому что ее муж умер там же. Квартира, где я жил, была та самая, где я потерял моего отца, потому что моя мать продолжала платить за нее, квартира была большая и очень хорошо меблирована.
Хотя аббат де Гримани должен был быть моим главным покровителем, я видел его крайне редко. Я был отдан под покровительство г-на де Малипьеро, которому отец Тоселло меня представил. Это был сенатор, который, будучи в возрасте семидесяти лет и не желая более вмешиваться в государственные дела, вел счастливую жизнь в своем дворце, хорошо кушал и устраивал каждый вечер встречи в очень избранном кругу, с дамами свободных взглядов и мыслящими мужчинами, бывшими в курсе всего, что происходило нового в городе. Этот старый сеньор был холост и богат, но три или четыре раза в год испытывал весьма болезненные приступы подагры, после которых каждый раз оказывался хромым то на одну, то на другую конечность, так, что становился полным калекой. Только голова, легкие и желудок у него оставались в порядке. Он был красив, гурман, лакомка, у него был тонкий ум, большое знание света, красноречие венецианца и проницательность, оставшаяся у сенатора, ушедшего в отставку после сорока лет управления республикой, и он перестал добиваться внимания прекрасного пола лишь теперь, имея в прошлом двадцать любовниц и отвергнув претензии каждой из них на звание самой любимой. Этот человек, почти калека, не казался таким, когда сидел, когда говорил, и когда был за столом. Он ел только один раз в день и в одиночку, потому что, не имея зубов, тратил на еду двойное время, по сравнению с другим сотрапезником, и не хотел ни торопиться, из любезности по отношению к своим гостям, ни видеть их вынужденными ждать, как он прожует своими деснами то, что хотел проглотить. По одной этой причине он принужден был есть в одиночку, что очень огорчало его превосходного повара.
Первый раз, когда кюре оказал мне честь представить Его Превосходительству, я очень уважительно этому воспротивился, назвав причину, которую каждый нашел бы не стоящей внимания. Я сказал, что он должен приглашать к своему столу только тех, кто, по своей природе, ест за двоих.
— Как найти таких?
— Дело деликатное. Ваше Превосходительство должны испытать сотрапезников, и после того, как нашли их отвечающими вашим желаниям, суметь их сохранить, не сообщая им причины, потому что нет в мире ни одного воспитанного человека, который хотел бы, чтобы о нем говорили, что он имеет честь обедать с Вашим Превосходительством потому лишь, что ест в два раза больше других.
Уяснив всю силу моих слов, Его Превосходительство сказал священнику взять меня с собой к обеду на следующий день. Согласились, что если бы я дал хороший рецепт или привел пример еще лучший, он сделал бы меня своим ежедневным сотрапезником.
Этот сенатор, который отрекся от всего, кроме себя самого, питал, несмотря на свой возраст и свою подагру, любовную склонность. Он любил Терезу, дочь актера Имера, что жил в доме, соседнем со своим дворцом, откуда окна выходили на помещение, которое тот занимал. Эта девушка, тогда в возрасте семнадцати лет, красивая, забавная, кокетливая, которая училась музыке, чтобы выступать в театрах, держала постоянно открытыми свои окна, и ее прелести опьяняли старика, но она была к нему жестокой. Она приходила почти ежедневно отдавать ему визиты вежливости, но всегда в сопровождении своей матери, старой актрисы, которая вышла из театра, чтобы спасать свою душу, и, несомненно, лелеяла планы объединить Бога с дьяволом. Она водила дочь к мессе каждый день, она хотела, чтобы та ходила на исповедь каждое воскресенье, но днем она отводила ее к влюбленному старику, и меня ужасала ярость, в которую тот впадал, когда она отказывала ему в поцелуе, приводя тот довод, что, совершив свои молитвы утром, она не может согласиться согрешить перед этим Богом, которого она съела, и который может быть по-прежнему в ее желудке. Какая картина для меня, тогда пятнадцатилетнего, как старик соглашался быть всего лишь молчаливым свидетелем этих сцен. Коварная мать аплодировала сопротивлению своей дочери и осмеливалась проповедовать сладострастнику, который, в свою очередь, не смел опровергнуть ее максимы, слишком, или вообще не христианские, и который должен был устоять перед искушением бросить ей в лицо все, что окажется в руках. Он не находил, что ей сказать. Гнев занимал место вожделения, и после того как они уходили, он успокаивал себя со мной философскими размышлениями. Вынужденный ему отвечать и не зная, что сказать, я однажды предложил ему жениться. Он меня удивил, ответив, что она не хочет стать его женой.
Почему?
Потому, что она не хочет возбудить ненависть моей семьи.
Предложите ей большую сумму, состояние.
Она не хотела бы, как она говорит, совершить смертный грех, чтобы стать королевой мира.
Надо ее изнасиловать или прогнать, изгнать ее от вас.
Я не могу первого, и не могу заставить себя прибегнуть ко второму.
Убейте ее.
Это случится, если я не умру первый.
Ваше Превосходительство достойны сожаления.
Ты никогда не ходил к ней?
Нет, потому что я мог бы в нее влюбиться, и если бы она была по отношению ко мне такой же, какова она здесь, я бы стал несчастен.
Ты прав.
Став свидетелем этих сцен и удостоившись этих диалогов, я стал любимцем этого сеньора. Он допустил меня на вечернее собрание, состоящее, как я уже говорил, из женщин в возрасте и мужчин-остроумцев. Он сказал мне, что там я познаю науку гораздо более важную, чем философия Гассенди, которую я изучал тогда по его распоряжению, вместо перипатетиков, которых он высмеивал. Он дал мне наставления, соблюдения которых он от меня потребовал, чтобы я мог участвовать в его собраниях, где вызвало бы удивление появление мальчика моего возраста. Он приказал мне никогда не вступать в разговор, кроме как для того, чтобы ответить на вопросы о фактах, и особенно не высказывать никогда своего мнения по любому вопросу, потому что в пятнадцать лет я не смел его иметь. Строго соблюдая его приказы, я много выиграл в своем достоинстве, и вскоре стал домашним ребенком для всех дам, которые туда приходили. Видя во мне молодого аббата без прихода, они хотели, чтобы я их сопровождал, когда они шли проведать своих дочерей или племянниц в приемные монастырей, где те жили в пансионе, ходил к ним домой в любое время, никто меня не объявлял; меня ругали, когда я пропускал неделю, не повидавшись, и когда я входил в помещение девиц, я слышал, как они тревожно вскрикивали, но называли себя глупыми, когда видели, что это всего лишь я. Я находил их доверие очаровательным. Г-н де Малипьеро развлекался перед обедом, расспрашивая меня о преимуществах, которые доставлял мне прием, оказываемый респектабельными дамами, с которыми я знакомился у него, говоря мне, еще до того, как я ему отвечал, что они — сама мудрость и что все считали бы меня подлецом, если бы я сказал что-нибудь против их хорошей репутации, которой они пользуются в свете. Он этим дал мне мудрый намек о сдержанности. У него я познакомился с г-жой Манцони, женой государственного нотариуса, с которой у меня был случай поговорить. Эта достойная дама внушила мне самую большую привязанность. Она преподала мне уроки и очень мудрые советы, такие, что если бы я им следовал, моя жизнь не была бы бурной, и соответственно, со мной бы не случилось ничего, достойного сегодня быть описанным.
Большое количество прекрасных знакомств с женщинами, относящимися к кругу так называемых комильфо, внушило мне желание нравиться лицом и элегантностью манер, но мой кюре вознамерился унять это желание, в согласии с моей доброй бабушкой. Однажды, отозвав меня в сторону, он сказал мне медовым тоном, что в положении, которое я занимаю, я должен был бы думать о том, как угодить Богу своей душой, а не людям своим лицом: он осудил мою прическу, слишком сложную, и тонкий аромат моей помады: он сказал мне, что дьявол тащит меня за мои волосы, что я буду отлучен от церкви, если продолжу ухаживать за ними, процитировав слова экуменического совета: «Clericus qui nutrit comam anathema ail»[24].
Я ответил ему, сославшись на пример сотни аббатов, не выглядевших отлученными от церкви и казавшихся благополучными, которые пудрились в три раза чаще меня, которые душились амброй и пользовались помадой, которая убила бы беременную женщину, в то время как моя, пахнущая жасмином, вызвала комплименты во всех компаниях, где я бывал. Я, наконец, сказал ему, что если бы я захотел вонять, я стал бы капуцином, и что мне очень жаль, но я не подчинюсь ему. Через три или четыре дня он убедил бабушку позволить ему войти в мою комнату рано, так что я еще спал. Она клялась мне потом, что если бы она знала, что он хотел сделать, она не открыла бы ему дверь. Мой брат Франсуа, который был в другой комнате, увидел его и не помешал ему. Он даже радовался, потому что, пользуясь париком, завидовал красоте моих волос.
Он всю жизнь был завистником, сочетая, уж не знаю как, зависть с дружбой; этот его недостаток теперь должен был бы умереть от старости, как и все мои.
Я проснулся, когда дело было уже завершено. После сделанного, кюре удалился, как ни в чем не бывало. Мои руки открыли мне весь ужас этого невероятного наказания. Какой гнев! Какое возмущение! Какие планы мести, после того, как, с зеркалом в руке, я увидел, в какое состояние привел меня этот дерзкий священник! Моя бабушка прибежала на мои крики, мой брат смеялся. Старая женщина немного успокоила меня, согласившись, что кюре превысил допустимые пределы исправления. Решив отомстить, я оделся, вынашивая в душе сотню черных планов. Мне казалось, что по всем законам я имею право на месть. Когда театры открылись, я вышел в маске и пошел к адвокату Каррара, которого знал через г-на Мальтипьеро, чтобы спросить, могу ли я атаковать кюре с позиций закона. Он сказал мне, что некоторое время назад была разрушена семья, потому что глава ее отрезал усы у купца — славонца, что значительно меньше, чем вся шевелюра, и что, таким образом, стоит мне только приказать вызвать кюре в суд или затеять внесудебное разбирательство, чтобы заставить его дрожать от страха. Я приказал ему действовать и сказать вечером г-ну Малипьеро, почему он не увидит меня за ужином. Было очевидно, что я не могу выйти без маски, пока мои волосы не вернутся. Я пообедал с братом, весьма дурно. Эта беда ввергла меня в необходимость лишить себя тонкого стола, к которому меня приучил г-н Малипьеро, и эта проблема была не из наименьших, что я вынужден был вынести из-за поступка насильника кюре, моего крестного! Гнев, который меня охватывал, ввергал меня в слезы. Я был в отчаянии, что это оскорбление носило само по себе характер комический, который делал меня смешным, что я выглядел более опозоренным, чем жертвой преступления.
Я лег спать рано, и хороший десятичасовой сон остудил мой пыл, но не уменьшил решимость отомстить компетентным образом. Так что я оделся, чтобы идти готовить внесудебное постановление, к г-ну Каррара, когда увидел перед собой искусного парикмахера, которого знал через мадам Контарини. Он сказал мне, что г-н Малипьеро послал его мне, что он уберет мне волосы так, что я смогу выходить, потому что он хотел, чтобы я имел возможность прийти обедать к нему в тот же день. Рассмотрев нанесенный ущерб, он сказал со смехом, что я должен только предоставить ему возможность действовать, заверив, что он вернет мне возможность выходить, причесанным еще более элегантно, чем раньше. Этот умелый мальчик зачесал волосы спереди на место срезанных, сравняв их и пригладив щеткой так хорошо, что я был доволен, удовлетворен и отмщен. Я мгновенно забыл обиду; я пошел сказать адвокату, что больше не хочу мстить, и полетел к г-ну Малипьеро где случилось так, что я встретил кюре, которому, несмотря на мою радость, я послал взгляд, мечущий молнии. Никто не говорил об этом деле, г-н Малипьеро приглядывал за всем, и кюре ушел, безусловно, раскаиваясь в содеянном, потому что моя прическа была настолько популярна, что он счел за лучшее удалиться. После отъезда моего жестокого крестного, я не стал скрываться от г-на Малипьеро: я сказал ему прямо, что буду искать другую церковь, потому что абсолютно не желаю быть прихожанином той, где служит человек, способный на такие поступки. Мудрый старик мне сказал, что я прав. Это был способ поощрить меня сделать все так, как хотелось. Вечером весь народ, который уже знал историю, осыпал меня комплиментами, уверяя, что нет ничего более красивого, чем моя прическа. Я был счастливейшим из всех мальчиков, и еще больше рад тому, что прошло уже две недели после того, как это случилось, а г-н Малипьеро не заговаривал со мной о том, чтобы вернуться в церковь. Одна моя бабушка досаждала мне, постоянно твердя, что я должен туда возвратиться.
Но пока я думал, что этот сеньор больше не заговорит со мной на эту тему, я был очень удивлен, когда услышал от него, что представился случай вернуться в церковь, получив от самого кюре очень обильное возмещение. Как от президента братства Святого Причастия, продолжал он, от него зависит выбор оратора, который должен произнести панегирик в четвертое воскресенье этого месяца, что попадает как раз на следующий день после Рождества. Таким образом, — продолжил он, — я предложу ему именно тебя, и я уверен, что он не посмеет тебя отвергнуть. Что ты скажешь об этом триумфе? Не кажется ли тебе, что это прекрасно?
Я был в высшей степени удивлен таким предложением, потому что мне никогда в голову не приходило ни стать проповедником, ни быть в состоянии составить проповедь и с ней выступить. Я сказал ему, что я уверен, что он шутит, но он заверил меня, что говорит серьезно; понадобилась всего минута, чтобы убедить меня и внушить мне уверенность, что я родился, чтобы стать самым знаменитым проповедником века, еще прежде, чем стану толстым, так как в те дни я был очень худой. Я не сомневался ни в моем голосе, ни в моей жестикуляции, а в том, что касается композиции, я, безусловно, чувствовал себя достаточно сильным, чтобы произвести шедевр.
Я сказал ему, что готов, и что мне не терпится оказаться дома, чтобы начать писать панегирик. Хотя я не богослов, сказал я ему, я знаю материал. Я буду говорить удивительные вещи, и совершенно новые. На следующий день он сказал мне, что кюре был в восторге от его выбора и еще больше от моей готовности принять эту святую миссию, но он требует, чтобы я показал ему мою композицию до того, как ее завершу, потому что дело касается вопросов самой высокой теологии, и он может позволить мне подняться на кафедру, только будучи уверен, что я не произнесу ереси. Я с этим согласился, и в течение недели сочинил и переписал набело мой панегирик. Я его сохранил, и, более того, я нахожу его превосходным. Моя бедная бабушка просто плакала от умиления, видя, что ее внук стал апостолом. Она хотела, чтобы я его ей зачитал, она слушала его, молясь, и нашла его прекрасным. Г-н Малипьеро, который не слушал, так как читал молитвы, сказал мне, что кюре не понравится. Я выбрал темой Горация «Ploravere suis non respondere favorern speratum meritis»[25]. Я выразил сожаление по поводу злобы и неблагодарности рода человеческого, пренебрегающего замыслом, порожденным божественной мудростью, и направленным на то, чтобы его искупить. Г-н Малипьеро не хотел, чтобы я взял свою тему из этики, но был рад, что моя проповедь не была перегружена латинскими цитатами.
Я пошел к священнику, чтобы прочитать ее ему, но его не было и, ожидая его, я влюбился в его племянницу Анжелу, вышивавшую там на пяльцах, которая сказала, что она хотела со мной познакомиться, и заливалась смехом, упрашивая меня рассказать историю моей шевелюры, которую ее святой дядя мне отрезал. Эта любовь оказалась для меня роковой; она стала причиной двух других, которые явились причиной нескольких других причин, которые привели, наконец, к тому, чтобы заставить меня отказаться от духовного звания. Но будем двигаться постепенно. Прибывший священник, казалось, не рассердился, видя меня занятым его племянницей, которая была моего возраста. Прочитав мою проповедь, он сказал, что это вполне красивая академическая обличительная речь, но она не может быть оглашена с кафедры.
— Я вам дам одну из моих, которую никто не знает. Вы ее выучите наизусть, и я вам позволяю сказать, что она ваша.
— Я вам очень благодарен, преподобный, но я хотел бы читать свою или никакую.
— Но вы не произнесете это в моей церкви.
— Вы скажете это г-ну Малипьеро. А пока я отнесу мою композицию в цензуру, потом монсеньору патриарху, и если они ее не одобрят, я ее напечатаю.
— Идите, молодой человек. Патриарх согласится с моим мнением.
Вечером я рассказал при полной ассамблее у г-на Малипьеро о моем пререкании с кюре. Меня заставили прочитать мой панегирик, который получил всеобщее одобрение. Похвалили мою скромность в том, что я не цитировал никого из святых отцов, потому что, будучи молод, не мог их знать, и женщины нашли меня замечательным в том, что не было других латинских текстов, кроме Горация, который, хотя и большой вольнодумец, говорил, однако, очень толковые вещи. Племянница патриарха, которая была там, обещала, что предупредит своего дядю, к которому я решил апеллировать. Г-н Малипьеро сказал, чтобы я посоветовался с ним на следующее утро, прежде чем предпринять любой другой шаг. Я обещал, и он послал за кюре, который вскоре явился. Прежде, чем он заговорил, я опередил его, сказав, что, либо патриарх одобрит мою проповедь, и я прочитаю ее без всякого для него риска, либо не одобрит, и я покорюсь.
— Не ходите к нему, сказал он, я согласен: я только прошу вас изменить текст, так как Гораций был мерзавец.
— Почему вы цитируете Сенеку, Оригена, Тертуллиана, Боэция, которые, будучи все еретиками, должны вам казаться более мерзкими, чем Гораций, который, наконец, не мог быть христианином?
Но, в конце концов, я уступил, чтобы сделать приятное г-ну Малипьеро, и я выдал ему текст, который хотел кюре, хотя он и не согласился с моей проповедью. Я отдал ему ее, чтобы иметь повод, забирая ее на следующий день, поговорить с племянницей.
Но что меня развлекало, так это доктор Гоцци. Я послал ему свою проповедь из тщеславия. Он вернул ее мне, не одобрив и спрашивая, не сошел ли я с ума. Он сказал, что если мне разрешат читать ее с кафедры, я обесчещу себя вместе с ним, который меня воспитал.
Я прочел мою проповедь в церкви Сан-Самуэль перед очень изысканной аудиторией. После аплодисментов, мне предсказали большое будущее. Мне суждено было стать первым проповедником века, так как в возрасте пятнадцати лет никто еще не играл так хорошо эту роль. Опорожнив кружку для пожертвований, в которую принято класть милостыню для проповедника, служка нашел около пятидесяти цехинов и любовные письма, которые шокировали святош. Анонимная записка, внушившая мне желание узнать автора, призывала меня сделать неверный шаг, который, как я думаю, я должен был бы сделать, прочитав ее. Этот богатый урожай, при моей острой нужде в деньгах, заставил меня задуматься всерьез о том, чтобы стать проповедником, и я объяснил мое призвание кюре, попросив его о помощи. Благодаря этому я получил возможность каждый день бывать у него дома, где все больше влюблялся в Анжелу, которая хотела, чтобы я любил ее, но, проявляя стойкость дракона, не предоставляла мне ни малейших милостей. Она хотела заставить меня отказаться от священства и выйти за меня замуж. Я не мог на это решиться, но, надеясь заставить ее изменить свое решение, продолжал ее преследовать. Ее дядя дал мне поручение составить панегирик святому Иосифу, чтобы я прочел его 19 марта 1741 года. Я написал его, и даже кюре говорил о нем с восторгом, но было свыше решено, что я не должен проповедовать на земле более чем один единственный раз. Вот эта несчастная история, но справедливо то, что даже в варварстве есть нечто комическое. Я полагал, что не будет стоить мне больших хлопот выучить мою проповедь наизусть. Я был ее автор, я ее знал, и несчастье забыть ее не представлялось мне возможным. Я мог забыть фразу, но я должен был оставаться хозяином положения и заменить ее другой, и поскольку я никогда не был краток, когда говорил в компании порядочных людей, я не считал правдоподобным, что можно вдруг онеметь перед аудиторией, где я никого не знаю, кто мог бы заставить меня оробеть и потерять способность рассуждения. Я развлекался, по привычке перечитывая вечером и утром свою композицию, чтобы она хорошо отпечаталась в моей памяти, на которую у меня никогда не было причин жаловаться.
В день 19 марта, в который я должен был в четыре часа дня подняться на кафедру, чтобы читать мою проповедь, у меня не хватило духу отказать себе в удовольствии пообедать с графом де Мон-Реал, который жил около меня и который пригласил патриция Бароцци, того, что после Пасхи должен был жениться на его дочери графине Люсии. Я был еще за столом со всей прекрасной компанией, когда пришел клерк сказать мне, что меня ждут в ризнице. С полным желудком и смутной головой, я иду, я бегу в церковь, я всхожу на кафедру. Я очень хорошо говорю вступление и перевожу дух. Но как только произносится первая сотня слов повествования, я уже не знаю, что говорю и что я должен сказать, и, пытаясь продолжить, я мелю ерунду, и единственное, чего мне удается достичь, это глухой шум обеспокоенной аудитории, ясно видящей мое поражение. Я ищу выход из церкви, мне кажется, что я слышу смех, я теряю голову и надежду получить профессию. Могу заверить моего читателя, что у меня так и нет уверенности, притворился ли я, что упал в обморок, или сделал это всерьез. Все, что я знаю, это что я упал на пол кафедры, сильно стукнувшись головой о стену и мечтая разбить лоб. Два клирика подхватили меня и отвели в ризницу, где, не сказав никому ни слова, я взял пальто и шляпу и пошел домой. Закрывшись в своей комнате и притворившись, что меня нет, я облачился в короткое пальто, такое, что носят аббаты в провинции, и, положив в чемодан свой несессер, пошел к бабушке попросить денег, и я отправился в Падую сдавать мои терцины. В полночь я туда приехал, поспал сначала у моего доброго доктора Гоцци, которому не потрудился рассказать о своих бедствиях. Проделав все, что нужно для моей докторантуры на следующий год, я после Пасхи вернулся в Венецию, где нашел свое несчастье забытым, но вопрос о том, чтобы стать проповедником, уже не стоял. Меня это вполне утешило. Я полностью отказался от этого ремесла.
Накануне Вознесения муж мадам Мандзони представил меня молодой куртизанке, которая была тогда в Венеции на слуху. Ее звали Кавамакчи, что означает красильщица, потому что ее отец работал красильщиком. Она хотела, чтобы ее звали Преати, потому что это была ее фамилия, а друзья называли ее Джульеттой, — именем, данным ей при крещении, и она была довольно миловидной, чтобы иметь право попасть в историю. Известность этой девушки происходила от того, что маркиз Санвитали, из Пармы, заплатил сто тысяч экю в качестве платы за ее благосклонность. В Венеции только и говорили о ее красоте. Те, кто мог прийти к ней поговорить, полагали себя счастливыми, а те, кто был допущен в ее компанию — очень счастливыми. Поскольку я несколько раз упомяну о ней в этих воспоминаниях, читателю будет интересно узнать в двух словах ее историю.
В году 1735, четырнадцати лет, Джульетта носила крашенное платье, позаимствованное у знатного венецианца по имени Марко Муаццо. Этот нобль, найдя ее очаровательной, несмотря на ее бедные наряды, зашел как то к ее отцу с очень известным адвокатом по имени Бастьен Учелли. Этот Учелли, удивленный более романтической и игривой натурой девушки, чем даже ее красотой и прекрасной фигурой, поселил ее в хорошо обставленной квартире, дал ей учителя музыки и сделал своей любовницей. Во время праздника Фуар он взял ее с собой на променаду Листон, где она удивила всех любителей. За шесть месяцев она стала достаточно музыкальной, чтобы получить ангажемент, и антрепренера, который взял ее в Вену, играть роль Кастрата в опере Метастазио. Адвокат решил ее оставить, передав богатому еврею, который, одарив ее бриллиантами, оставил ее тоже. В Вене ее прелести принесли ей аплодисменты, которых она не могла бы получить лишь за свой талант, который был ниже, чем посредственным. Толпе обожателей, поклонявшихся идолу и обновлявшихся от недели к неделе, положила предел ее величество Мария-Терезия, уничтожившая этот новый культ. Она приказала новому божеству покинуть пределы столицы Австрии. Граф Бонифацио Спада сопроводил ее в Венецию, откуда она уехала петь в Парму. Там она влюбилась в графа Жака Санвитали, но без результата, так как маркиза, не собираясь терпеть насмешек, влепила ей пощечину в своей собственной ложе при некоторых обстоятельствах, в которых виртуозка показалась ей дерзкой. Эта обида отвратила Джульетту от театра до такой степени, что она заявила, что покидает театр навсегда. Она вернулась на родину. Имея устойчивую репутацию позорно изгнанной из Вены, она не могла рассчитывать сделать карьеру. Это было клеймо. Когда хотели сказать плохо о певице или танцовщице, говорили, что она побывала в Вене, где ее презирали до такой степени, что императрица не сочла нужным ее даже преследовать.
Г-н Стефано Кверини из Папозо стал ее первым официальным любовником, а через три месяца — альфонсом, потом, весной 1740 года, маркиз де Санвитале объявил себя ее любовником. Он начал с того, что дал ей сто тысяч текущих дукатов[26]. Чтобы помешать разговорам в свете о том, что такая непомерная сумма объясняется его слабостью, он сказал, что этого едва хватило, чтобы загладить обиду от пощечины, которую его жена влепила виртуозке. Джульетта, однако, никогда не признавала этого и была права; отдавая должное героизму маркиза, она была бы опозорена. Пощечина затмила бы обаяние ее победы над светом, выдав ее истинную стоимость.
В следующем 1741 году г-н Мандзони представил меня этой Фрине как молодого аббата, начинающего делать себе имя. Она жила в Сан-Патерниано рядом с мостом, в доме, принадлежащем г-ну Пьяи. Я ее увидел в обществе шести — семи постоянных поклонников. Она небрежно восседала на софе рядом с Кверини. Ее личность меня удивила, она сказала мне тоном принцессы, глядя на меня, как если бы меня ей продавали, что она не прочь со мной познакомиться. Прежде, чем она предложила мне сесть, я, в свою очередь, огляделся вокруг. Комната была небольшая, но освещена не менее чем двадцатью свечами. Джульетта была красавицей высокого роста, восемнадцати лет, ослепительной белизны, с алыми щеками, красными губами; черные, изогнутые и очень близко посаженные брови показались мне искусственными. Два ряда прекрасных зубов скрадывали впечатление, что ее рот слишком велик. К тому же она старалась всегда улыбаться. Ее шея являла собой красивый и полный постамент, на котором искусно покоилась шаль, создавая впечатление, что за ней скрываются желанные яства, но мне так не показалось. Несмотря на кольца и браслеты, я заметил, что ее руки были слишком большие и слишком мясистые, и, несмотря на искусство, с которым она старалась не показывать своих ног, домашние туфли, видневшиеся из-под платья, поведали мне, что ноги были такие же крупные, как она сама: пропорция, неприятная не только для китайцев и испанцев, но и для всех ценителей. Хотят, чтобы высокая женщина имела маленькие ножки: таков был вкус г-на Олоферна, который иначе бы не счел очаровательной мадам Юдифь. И Sandalia eius, говорит Святое Писание, rapuerunt oculos eius[27].
Вдумчиво рассматривая ее и сравнивая с сотней тысяч дукатов, что дал ей Пармезан, я сам удивился, что не дал бы и цехина, чтобы пройтись по всем ее другим красотам quas insternebat stola[28]. Через четверть часа после моего приезда журчание воды под веслами причалившей гондолы известило о прибытии расточительного маркиза. Мы встали и г-н Кверини, слегка покраснев, быстро покинул свое место. Приехавший г-н де Санвитали, скорее старый, чем молодой, занял место рядом с ней, но не на софе, что вынудило красавицу повернуться. Это привело к тому, что я смог увидеть ее анфас. Я нашел ее более красивой, чем в профиль. За те четыре или пять раз, что я наносил ей визиты, я нашел, и рассказал об этом на собраниях у г-на де Малипьеро, что она может понравиться только изощренным гурманам, потому что не обладает ни красотами простой природы, ни умом человека из общества, ни исключительным талантом, ни изящными манерами. Мое решение развлекло все собрание, но г-н Малипьеро шепнул мне на ухо, смеясь, что Джульетте, несомненно, будет сообщено о том, какой портрет я нарисовал, и она станет моим врагом. Он угадал.
Я находил в обращении этой знаменитой девицы нечто необычное, потому что она обращалась ко мне с разговором очень редко и смотрела на меня, только поднося к своим близоруким глазам вогнутую линзу или прищурившись, как если бы она не считала меня достойным ее глаз, чья красота была бесспорной. Они были голубые, прекрасного разреза, выпуклые, и несравненного сияния, которое природа придает порой молодости, и которое обычно исчезает после сорока лет, натворив чудес. У покойного короля Прусского оно сохранялось до самой смерти.
Джульетта узнала о портрете, который я нарисовал с нее у г-на Малипьеро. Болтливым оказался лизоблюд Ксавьер Кортантини. Она сказала в моем присутствии г-ну Мандзони, что большой знаток обнаружил у нее недостатки, делающие ее неприятной, но она не уточнила, какие. Я предполагал, что от нее последуют в мой адрес козни, и ожидал остракизма. Она заставила его ждать довольно долго. Он произошел во время беседы о концерте, который давал комедиант Имер, где блистала его дочь Тереза. Она внезапно спросила у меня, что г-н Малипьеро ей сделал хорошего; я ответил, что он дал ей образование.
— Возможно, ответила она, так как он очень умен, но я хотела бы знать, что делает он для вас.
— Все, что он может.
— Мне сказали, что он находит вас немного глупым.
Насмешники, разумеется, подхватили реплику. Не зная, что сказать, я не покраснел, но ушел через четверть часа, будучи уверен, что ноги моей больше у нее не будет. На другой день за обедом рассказ об этом разрыве весьма позабавил старого сенатора.
Я провел лето, плетя амуры с Анжелой в школе, где она училась вышивать. Ее скупость на милости злила меня, и моя любовь стала меня уже мучить. С моим сильным влечением, мне нужна была девушка в духе Беттины, которая утолила бы огонь любви, не гася его. Но я очень скоро отказался от этого легкомысленного вкуса. Будучи сам в некотором роде девственником, я питал самое высокое уважение к девичьей невинности. Я считал ее своего рода Палладиумом Кекропса. Я не желал замужних женщин. Какая глупость! Я был настолько глуп, что ревновал их к их мужьям. Анжела относилась к моим попыткам в высшей степени отрицательно, не будучи при этом кокеткой. Она меня засушивала, — я худел. Патетические и жалобные речи, приносимые мной к ее пяльцам, где она занималась вышивкой вместе с двумя своими подругами-сестрами, оказывали большее воздействие на них, чем на ее сердце, слишком рабски максималистское, и это отравляло меня. Если бы мои глаза были обращены не только на нее, я бы заметил, что эти две сестры обладали большей прелестью, чем она, но я был упорен… Она сказала, что готова стать моей женой, и она полагала, что я не мог желать большего. Она меня убивала, говоря, в знак величайшего расположения, что воздержание заставляет ее страдать больше, чем меня.
В начале осени пришло письмо от графини де Мон-Реаль, в котором она позвала меня с большой компанией во Фриули, в ее поместье, называемое Пасеан. Это должна была быть блестящая компания, с участием ее дочери, ставшей настоящей венецианской дамой, обладательницы ума, красоты и глаза, такого красивого, что он компенсировал наличие на другом ужасного бельма.
Погрузившись в Пасеан в веселье, я легко увеличил его, забыв на некоторое время жестокую Анжелу. Мне дали комнату на первом этаже, примыкающую к саду, я хорошо разместился и не беспокоился о том, с кем оказался соседом. На следующий день, проснувшись, я был приятно удивлен видом очаровательного объекта, который приблизился к моей кровати, чтобы предложить мне чашку кофе. Это была девочка, совсем молодая, но сформировавшаяся, как городские девушки в семнадцать лет: ей было только четырнадцать. С белой кожей, черными глазами и волосами, растрепанная и одетая только в рубашку и косо зашнурованную юбку, позволявшую видеть до половины голые ноги, она смотрела на меня с видом свободным и безмятежным, как будто я был ее старый знакомый. Она спросила, доволен ли я своей постелью.
— Да. Я уверен, что это вы мне постелили. Кто вы?
— Я Люси, дочь привратника, у меня нет ни брата, ни сестры, и мне четырнадцать лет. Я рада, что у вас нет слуги, потому что я сама буду прислуживать вам, и, я уверена, вы будете довольны. Очарованный этим началом, я сажусь, она протягивает мне мой халат, говоря сотни слов, которых я не понимаю. Я беру свой кофе несколько стесненно, пораженный ее красотой, к которой невозможно оставаться равнодушным, в то время как она держится непринужденно. Она сидела в ногах моей постели, оправдывая свою свободу поведения только смехом, который сказал все. Ее отец и мать вошли в комнату, когда я был еще с чашкой у рта. Люсия не двигается: она смотрит на них с важным видом, соответствующим занятой позиции. Они нежно ее бранят, прося ее извинить. Эти добрые люди говорят мне вежливые слова, и Люсия уходит по своим делам. Они нахваливают ее: это их единственное дитя, любимое, утешение их старости. Их Люсия послушна; она боится Бога, она здорова, как рыба; у нее только один недостаток.
— Что же это?
— Она слишком молода.
— Очаровательный недостаток.
Менее чем через час я убежден, что я разговариваю с самой порядочностью, правдивостью, с общественными добродетелями и подлинной честью. Но вот и Люси, которая идет, улыбающаяся, умытая, причесанная на свой манер, обутая, одетая, и, отвесив мне деревенский реверанс, целует свою мать, потом усаживается на колени к своему отцу; я предлагаю ей сесть на кровать, но она отвечает, что честь не позволяет ей этого, когда она одета.
Простой, невинный и очаровательный смысл этого ответа заставляет меня рассмеяться. Я спрашиваю себя, красивей ли она теперь или раньше, час назад, и решаю, что раньше. Я ставлю ее выше не только Анжелы, но и Беттины.
Является парикмахер, гордость семьи уходит, я одеваюсь, выхожу, и очень весело провожу день, как это бывает в деревне в избранной компании. На следующий день, едва рассвело, я звоню, и вот, Люси, которая снова появляется передо мной, такая же, как накануне, поразительная в своих рассуждениях и в своих манерах. Все в ней сияло под очаровательным покровом искренности и невинности. Я не мог понять, как, будучи скромной и честной, и вовсе не глупой, она не понимала, что она не может являться перед моими глазами в таком виде, не боясь разжечь во мне пламя. Должно быть, говорил я себе, она не придает значения некоторым вольностям, она не щепетильна. Придя к этой мысли, я решаюсь убедить ее, что буду поступать с ней по справедливости. Я не чувствую себя виноватым по отношению к ее родителям, потому что считаю их такими же беспечными, как она. Я тем более не боюсь первым смутить ее прекрасную невинность и заронить в ее душу мрачный свет зла. Не желая, наконец, ни стать жертвой чувств, ни поступать вопреки им, я хочу прояснить себе ситуацию. Я бесцеремонно тяну к ней дерзкую руку, и движением, показавшимся мне инстинктивным, она отодвигается, она краснеет, ее веселость исчезает, и она отворачивается, делая вид, что что-то ищет, сама не зная, что, пока не освобождается от своей обеспокоенности. Это происходит в одну минуту. Она придвигается снова, в ней остается только неловкость и страх, что мой поступок, который мог быть или был невинным или с добрыми намерениями, ею был неправильно истолкован. Она уже смеется. Я читаю в ее душе все то, что я только что написал, и спешу ее успокоить. Видя, что со своим поступком я слишком рискнул, я решаю для себя использовать утро, чтобы ее разговорить.
Выпив свой кофе, я прерываю заданный ею вопрос, говоря, что стало холодно, и что она может согреться, сев рядом со мной под одеяло.
— Я вам не помешаю?
— Нет, но я думаю, твоя мать может войти.
— Но она не подумает дурного.
— Но ты знаешь, чем мы рискуем.
— Конечно, ведь я не дура, но вы мудры и, более того, вы священник.
— Ну, садись, но прежде запри дверь.
— Нет, нет, потому что подумают, уж не знаю, что.
Она пересела на место, которое я ей освободил, рассказывая мне длинную историю, в которой я ничего не понял, потому что в этой позиции, не желая поддаваться зову природы, я оказался самым скованным из всех мужчин. Бесстрашие Люси, которое, конечно, не было притворным, привело к тому, что мне стало стыдно перед ней прояснять позицию. Наконец, она сказала, что уже пятнадцать часов [29] и пора звонить, и что если старый граф Антонио спустится вниз и увидит нас в таком положении, он станет говорить разные шутки, которые ей неприятны. Это человек, сказала она, при виде которого я убегаю. Я ухожу, потому что мне не хочется видеть вас выходящим из постели.
Я оставался на месте неподвижным более четверти часа, и был достоин жалости, потому что действительно находился в состоянии прострации. Размышления, которым я предавался назавтра, не приглашая ее в мою постель, окончательно убедили меня в том, что ее справедливо можно было бы назвать кумиром ее родителей, и что свобода ее духа и ее поведение без стеснительности происходят только от ее невинности и чистоты ее души. Ее наивность, ее живость, ее любопытство, то, как она часто краснеет, говоря мне вещи, заставляющие меня смеяться, и в которых она не видит подвоха, — все это заставило меня понять, что это сущий ангел, которому не избежать стать жертвой первого распутника, который на это решится. Я чувствовал совершенную уверенность, что это буду не я. Самая мысль об этом заставляла меня содрогнуться. Даже мое самолюбие гарантировало честь Люси ее почтенным родителям, которые оставляли ее мне, опираясь на свое доброе мнение о моей морали. Мне казалось, что я стал бы самым несчастным из людей, предав их доверие ко мне. Поэтому я выбрал участь страдать, и, будучи уверен, что всегда добьюсь победы, вознамерился бороться, счастливый уже тем, что само ее присутствие стало единственной наградой для моих желаний. Я еще не познал аксиому, что, пока борьба продолжается, победа не определена.
Я сказал ей, что она доставила бы мне удовольствие, придя пораньше и разбудив меня, даже если я сплю, потому что я лучше себя чувствую, когда меньше сплю. Таким образом, два часа беседы превратились в три, которые пролетели, как миг. Когда ее мать, которая ее искала, застала ее сидящей на моей постели, она ничего не сказала, любуясь добротой, с которой я ее терплю. Люси наградила ее сотней поцелуев. Эта слишком добрая женщина просила меня дать дочери уроки мудрости и развить ее ум. После ее ухода Люси не стала свободнее. Компания этого ангела заставляла меня испытывать муки ада. В постоянном искушении, переполнявшем меня, когда я целовал ее физиономию, пока она со смехом брала мою двумя пальцами, говоря мне, что хотела бы быть моей сестрой, я остерегался брать ее руки в свои: один лишь мой поцелуй взорвал бы все построение, потому что я чувствовал себя соломой, готовой воспламениться. Я удивлялся себе, одержав очередную победу, когда она выходила, но, не насытившись лаврами, мне не терпелось снова увидеть ее возвращение на следующий день, чтобы возобновить сладкую и опасную битву. Таковы были маленькие желаньица, которым предавался отважный молодой человек: его одолевали большие.
Через десять — двенадцать дней, сочтя, что необходимо это дело прекратить или стать злодеем, я решил прекратить, потому что неоткуда было ждать средств, необходимых для оплаты моего злодейства, при условии согласия объекта на то, чтобы я его совершил. Люсия становилась драконом, как только я ставил ее в положение, когда она должна была защищаться; при открытой двери комнаты я был бы выставлен на позор и печальное покаяние. Эта мысль меня пугала. Надо было кончать, и я не знал, как это сделать. Я не мог больше сопротивляться девушке, которая на рассвете, имея под рубахой только юбку, прибегала ко мне с радостью в душе, спрашивая меня, как я спал, и ловя слова с моих губ. Я убирал свою голову, а она, смеясь, упрекала меня за мой страх, поскольку своего у нее не было. Я отвечал ей, также смеясь, что она ошибается, если думает, что я боюсь ее, ту, которая не более чем ребенок. Она, смеясь, отвечала, что разница в два года ничего не значит.
Не имея возможности отважиться ни на что большее, и с каждым днем становясь все более влюбленным, в точности по способу школьников, благодаря которому, разряжаясь, моментально исчерпывают потенциал, но которым раздражают природу, возбуждая ее, и она мстит, удваивая усилия тирана, которого она укрощает, я провел всю ночь с призраком Люси, с печальными мыслями, с решением, что увижу ее утром в последний раз. Решение просить ее больше не приходить показалось мне превосходным, героическим, уникальным, безошибочным. Я думал, что Люси не только окажется готова к исполнению моего проекта, но что она сохранит обо мне глубочайшее уважение на всю оставшуюся жизнь. И вот, при первом свете дня, сияющая, лучезарная, смеющаяся, растрепанная, она входит ко мне с распростертыми объятиями, но вдруг становится грустной, потому что видит меня бледным, осунувшимся и удрученным.
— Что с вами? — говорит мне она.
— Я не мог спать.
— Почему?
— Потому что я решил сообщить вам проект, печальный для меня, но отвечающий всем вашим достоинствам.
— Если он согласуется с моими пожеланиями, он должен, наоборот, сделать вас веселым. Скажите мне, почему называя вчера меня на «ты», вы говорите со мной сегодня, как с барышней. Что я вам сделала? Господин аббат. Я сейчас принесу ваш кофе, и вы после этого скажете мне все. Мне не терпится вас услышать.
Она идет, она возвращается, я беру ее за руку, я серьезен, она говорит мне наивности, которые заставляют меня смеяться, она радуется; она все расставляет на свои места, она закрывает дверь, потому что дует, и, не желая пропустить ни слова из того, что я собираюсь ей сказать, она просит меня освободить ей немного места. Я делаю это без всякого опасения, потому что я чувствую себя как мертвец. Представив ей верный рассказ о том состоянии, в которое повергли меня ее прелести, и карах, которым я подвергся из-за того, что пытаюсь противостоять склонности представить ей ясные признаки моей нежности, я ей объясняю, что не могу больше терпеть муки, что причиняет ее присутствие моей влюбленной душе, и я вижу себя обязанным просить ее, чтобы она не появлялась больше мне на глаза. Вся правда о моей страсти, желание, чтобы она осознала, что выход, который я избрал, обусловлен самыми искренними усилиями истинной любви, придали мне возвышенное красноречие. Я нарисовал ей пагубные последствия, которые могут сделать нас несчастными, если мы будем действовать иначе, чем ее и моя добродетель заставили меня ей предложить. В конце моей проповеди, она вытерла мои слезы передом своей рубашки, не думая, что этим актом милосердия она выставила на показ перед моими глазами два утеса, сотворенных так, чтобы привести к кораблекрушению самого опытного кормчего. После минутной немой сцены, она говорит мне печальным тоном, что мои слезы ее удручают, и она никогда бы не решилась дать мне повод их проливать. Вся ваша речь, сказала она, показывает мне, что вы меня очень любите, но я не знаю, почему вы можете быть этим настолько встревожены, потому что ваша любовь доставляет мне бесконечное удовольствие. Вы изгоняете меня из вашего присутствия, потому что ваша любовь пугает вас. Что же вы сделаете, если вы возненавидите меня? Виновата ли я в том, что внушила вам любовь? Если это преступление, я вас уверяю, что не имела намерения его совершить, вы не можете, по совести, наказать меня за это. Тем не менее, правда, что я этому рада. Что же касается рисков, которые происходят из того, что мы любим друг друга, и которые я очень хорошо знаю, мы способны их избежать. Я удивлена, что хотя я невежественна, это не кажется мне трудным, а вы, кто, как все говорят, так умны, испытываете страх. Что меня удивляет, так это то, что любовь, а не болезнь, смогла сделать вас больным, в то время как на меня она действует совсем наоборот. Возможно ли, чтобы я была неправа, и то, что я чувствую к вам, — не любовь? Вы видели меня приходящей к вам такой веселой, потому что я мечтала о вас всю святую ночь, но это не помешало мне спать, за исключением того, что я просыпалась пять или шесть раз, чтобы понять, действительно ли вы были у меня в объятиях. Как только я видела, что этого не было, я снова засыпала, чтобы снова поймать свою мечту, и мне это удавалось. Не правда ли, что у меня была причина быть веселой этим утром? Мой дорогой аббат, если любовь для вас мучение, мне очень жаль. Возможно ли, чтобы вы были рождены не для любви? Я сделаю все, что вы мне прикажете, кроме одного, даже если от этого зависит ваше исцеление: я никогда не перестану любить вас. Если же, однако, чтобы излечиться, вам нужно не любить меня больше, в этом случае делайте все, что можете, потому что я люблю вас больше живого и не любящего, чем мертвого от любви. Посмотрите только, не можете ли вы найти другой выход, потому что тот, который вы предложили, заставит меня горевать. Подумайте. Может быть, этот выход не единственный, как вам это кажется. Предложите мне другой. Доверьтесь Люси.
Этот истинный дискурс, наивный, естественный, показал мне, насколько красноречие природы выше, чем доводы философского ума. Я в первый раз сжал в своих объятиях эту небесную деву, говоря ей: да, дорогая Люси, ты можешь пролить на пожирающее меня зло самый мощный успокаивающий бальзам; дай мне поцеловать тысячу раз твой язык, твой дивный рот, который говорит мне, что я счастлив.
Затем мы провели добрый час в наиболее красноречивом молчании, за исключением того, что Люси время от времени вскрикивала: — О, мой Бог! Правда ли, что это не сон? Я убеждал ее в обратном самым существенным образом, в особенности потому, что она не оказывала мне ни малейшего сопротивления. Это было мое грехопадение.
Я беспокоюсь, сказала она вдруг, мое сердце мне что-то говорит. Она вскакивает с постели, быстро приводит ее в порядок, и садится в ее ногах. Мгновение спустя входит ее мать и закрывает дверь, говоря, что я прав, потому что дует сильный ветер. Она похвалила меня за прекрасный цвет лица, сказав своей дочери пойти одеться, чтобы идти к мессе.
Она вернулась через час, чтобы сказать мне, что чудо, которое она сотворила, заставляет ее гордиться собой, потому что здоровье, которое, как видно, она мне вернула, в тысячу раз более подходит моей любви, чем жалкое состояние, в котором она нашла меня утром. Если твое полное счастье зависит только от меня, говорит она мне, пользуйся им. Я ни в чем тебе не откажу.
Потом она оставила меня, и, хотя мои чувства еще плавали в упоении, я не мог не подумать, что был на краю пропасти, и нужны большие усилия, чтобы помешать мне туда упасть.
Проведя весь сентябрь в этом имении, я одиннадцать ночей подряд провел в обладании Люси, держа ее в своих объятиях, поскольку она была уверена в добротном сне своей матери. Ненасытными нас сделало воздержание, по поводу которого она делала все, что могла, чтобы заставить меня от него отказаться. Она могла попробовать сладость запретного плода, лишь позволив мне его съесть. Она пыталась сто раз обмануть меня, говоря мне, что я его уже сорвал, но Беттина слишком хорошо меня научила, чтобы можно было это мне навязать. Я уехал из Пасеан в уверенности, что вернусь туда весной, но оставил ее в состоянии ума, которое должно было стать причиной несчастья. Несчастья, за которое я упрекал себя в Голландии, через двадцать лет, и буду упрекать себя, пока не умру.
Через три или четыре дня после возвращения в Венецию, я пересмотрел все свои привычки, снова став влюбленным в Анжелу и надеясь достичь с ней, по крайней мере, того же, чего я достиг с Люси. Опасение, что я не смогу найти теперь в своей натуре панического страха фатальных последствий для моей будущей жизни, мешало мне наслаждаться. Я не знаю, был ли я когда-либо совершенно честным человеком, но я знаю, что чувства, которые я испытывал в моей ранней юности, были гораздо более деликатны, чем те, к которым я привык, набравшись жизненного опыта. Злая философия слишком уменьшает количество того, что называется предрассудками.
Две сестры, которые работали на пяльцах вместе с Анжелой, были ее близкими подругами и делили с ней все секреты. После того, как я познакомился с ними, я узнал, что они осуждали чрезмерную суровость своей подруги. Будучи не настолько тщеславным, чтобы верить, что эти девушки, слушая мои жалобы, могли бы влюбиться в меня, я не только не опасался их, но доверил им мои горести, когда Анжелы не было. Я часто говорил с ними с жаром, намного превосходящим тот, что охватывал меня, когда я говорил с жестокой, которая его вызывала. Истинный влюбленный всегда боится, что объект его любви сочтет, что он любит преувеличивать, и страх сказать слишком много заставляет его говорить меньше, чем есть на самом деле.
Хозяйка этой школы, старая и благочестивая, которая сначала показала себя равнодушной к чувству дружбы, которое я демонстрировал по отношению к Анжеле, сочла, наконец, предосудительными мои частые посещения, и предупредила об этом кюре Тоселло, ее дядю, который однажды сказал мне тихо, что я должен немного сократить частоту визитов в этот дом, потому что мое присутствие может быть неправильно истолковано, и нанесет ущерб чести его племянницы. Для меня это была любовь с первого взгляда, но, рассмотрев хладнокровно его мнение, я сказал, что буду проводить иначе то время, что я проводил у вышивальщицы.
Через три или четыре дня я нанес ему визит вежливости, ни на минуту не останавливаясь у пялец, но, тем не менее, подсунув в руки старшей из двух сестер, по имени Нанетта, письмо для моей дорогой Анжелы, в котором объяснил причину, заставившую меня сократить мои посещения. Я просил ее подумать о средстве, которое могло бы предоставить мне возможность поддержать мою страсть. Я написал также Нанетте, что приду за ответом послезавтра, и она легко найдет способ его мне передать.
Эта девушка очень хорошо выполнила мое поручение, и через два дня передала мне ответ в тот момент, когда я выходил из комнаты, так, что никто не мог этого заметить.
Анжела в короткой записке, потому что она не любила писать, обещала мне вечное постоянство и просила попытаться сделать все, о чем я прочту в письме Нанетты.
Вот перевод письма Нанетты [30], которое я сохранил, как и все другие, что находятся в этих воспоминаниях.
«Нет ничего в мире, господин аббат, чего бы я не готова была сделать для моей дорогой подруги. Она приходит к нам на все дни праздников, она с нами ест и спит. Я предлагаю вам способ познакомиться с мадам Орио, нашей тетей; но если вам удастся войти к ней в доверие, предупреждаю вас не показывать вашего интереса к Анжеле, потому что наша тетя сочтет дурным, что вы пришли в ее дом для того, чтобы облегчить общение с кем-то, кто не принадлежит к этому дому. Вот средство, которое я вам предлагаю, и к которому я приложу руку, насколько смогу. Г-жа Орио, женщина небольшого достатка, хотела бы быть включена в список благородных вдов, которые пользуются милостями братства Святого Причастия, в котором г-н Малипьеро является президентом. В минувшее воскресенье Анжела сказала ей, что вы пользуетесь расположением этого сеньора, и что верное средство получить его поддержку — это склонить вас ее у него попросить. Она сказала ей опрометчиво, что вы влюблены в меня, что вы ходите к вышивальщице, только для того, чтобы иметь возможность со мной разговаривать, и поэтому я могла бы побудить вас проявить интерес к ней. Моя тетя ответила, что вас, как священника, не следует бояться, и что я могла бы пригласить вас прийти к ней, но я на это не согласилась. Прокурор Роза, который является душой тети, сказал, что я была права, и мне не годится вам писать, но что это она сама должна просить вас прийти к ней поговорить по некоему делу. Он сказал, что если это правда, что у вас есть склонность ко мне, вы не откажетесь прийти, и он убедил ее написать вам записку, которую вы получите. Если вы хотите встретиться у нас с Анжелой, отложите ваш визит до будущего воскресенья. Если вы сможете получить у г-на Малипьеро милость, которую желает моя тетя, вы станете другом дома. Вы простите меня, если вы истолкуете это плохо, но я сказала, что я вас не люблю. Будет хорошо, если вы будете говорить комплименты моей тете, этому ребенку шестидесяти лет. Г-н Роза не будет ревновать, и вы станете приятны всему дому. Я доставлю вам возможность говорить с Анжелой тет-а-тет. Я сделаю все, чтобы убедить вас в своей дружбе. До свидания».
Я нашел этот проект прекрасно задуманным. Я получил вечером записку м-м Орио, я пошел к ней, как научила меня Нанетт. Она просила меня заняться ее делом и дала мне все сертификаты, которые могли оказаться необходимы. Я обещал ей это. Я почти не говорил с Анжелой, я завлекал Нанетту, которая относилась ко мне очень плохо, и я получил дружбу старого прокурора Роза, который впоследствии оказался для меня полезен.
Думая о том, как получить от г-на Малипьеро эту милость, я видел, что должен обратиться к Терезе Имер, составлявшей предмет главной заботы старика, все еще влюбленного в нее. Поэтому я неожиданно посетил ее, войдя в ее комнату даже без доклада. Я застал ее наедине с врачом Доро, который прежде всего дал понять, что находится у нее единственно с профессиональным визитом. Потом он выписал рецепт, потрогал ее пульс и ушел.
Этот врач Доро, по слухам, был в нее влюблен, и г-н Малипьеро, который к нему ревновал, запретил ей с ним встречаться, и она ему обещала. Тереза знала, что я в курсе этого, и должна была быть недовольна тем, что я обнаружил, что она нарушает обещание, данное старику. Она должна была также опасаться моей нескромности. Это был как раз момент, когда я мог надеяться получить от нее все, чего хотел.
Я рассказал ей вкратце, что за дело привело меня к ней, и в то же время заверил ее, что она не должна считать меня способным на коварство. Тереза, заверив меня, прежде всего, в том, что она ничего лучшего не желает, как только воспользоваться этой возможностью, чтобы убедить меня в своем желании оказаться мне полезной, спросила у меня все сертификаты дамы, в интересах которой она должна действовать. В то же время она показала мне бумаги другой дамы, о которой она должна была похлопотать, но обещала мне принести ее в жертву, и она сдержала слово. Через день, не позже, я увидел указ, подписанный Его Превосходительством как Президентом Братства бедных. Г-жа Орио была внесена в список получателей милостей, раздаваемых дважды в год.
Нанетт и ее сестра Мартон были дочери-сироты сестры г-жи Орио, которая владела только домом, где жила и где занимала первый этаж, и пенсионом от своего брата, который был секретарем Совета Десяти. У нее не было никого, кроме двух очаровательных племянниц, одной из которых было шестнадцать лет, другой — пятнадцать. Вместо служанки у нее была разносчица воды, которая за четыре ливра в месяц каждый день обслуживала ее по дому. Единственным ее другом был прокурор Роза, который, как и она, был в возрасте шестидесяти лет, и который только и ждал смерти своей жены, чтобы жениться. Нанетт и Мартон спали вместе на третьем этаже в большой кровати, где спала также и Анжела с ними во все дни праздников. В рабочие дни они все ходили в школу вышивальщицы. Как только я увидел себя обладателем указа, которого добивалась г-жа Орио, я сделал краткий визит к вышивальщице, чтобы передать Нанетт записку, в которой сообщил ей прекрасную новость, что я получил милость, и что я отнесу указ ее тетке на следующий день, когда будет праздник. Я передал ей также мою самую настоятельную просьбу, чтобы она предоставила мне свидание тет-а-тет с Анжелой, как она обещала. Когда я пришел в их дом, Нанетт передала мне записку и на словах велела постараться прочесть ее до того, как выйти из дома. Я вхожу и вижу Анжелу с г-жой Орио, старого прокурора, и Мартон. Поскольку мне не терпится прочитать документ, я отказываюсь от стула и представляю вдове ее сертификаты и указ о предоставлении ей милостей; я не прошу у нее иного вознаграждения, чем честь поцеловать ей руку.
— Ах, аббат моего сердца, вы поцелуете меня, и никто не сможет нас упрекнуть, так как я тридцатью годами старше вас.
Она должна была бы сказать, сорока пятью. Я поцеловал ее дважды, и она велела мне поцеловать также и ее племянниц, которые подбежали в одно мгновенье. Одна Анжела осталась, не доверяя моей дерзости. Вдова попросила меня присесть.
— Мадам, я не могу.
— Почему? В чем дело?
— Мадам, я вернусь.
— Тем не менее.
— Мадам, у меня острая необходимость.
— Я поняла. Нанетт, поднимись туда с аббатом и покажи ему.
— Тетя, увольте меня.
— Ах, ханжа! Мартон, пойди ты.
— Тетя, заставьте Нанетт.
— Увы, мадам, эти дамы правы. Я пойду.
— Ничего подобного, мои племянницы четвероногие твари. Г-н Роза вас проводит.
Он берет меня за руку и ведет на третий этаж, куда надо, и оставляет меня там. Вот и записка Нанетт:
«Тетя пригласит вас пообедать, но вы уклонитесь. Вы уйдете, когда мы сядем за стол, и Мартон пойдет посветить вам к входной двери; она откроет ее, но вы не выйдете. Она захлопнет дверь и поднимется обратно. Все подумают, что вы ушли. Вы подниметесь по темной лестнице, потом еще по двум, на третий этаж. Лестницы хорошие. Вы подождете там нас троих. Мы придем после отъезда г-на Роза и после того, как уложим нашу тетю в постель. Таким образом, вы соединитесь с Анжелой, хоть на всю ночь, тет-а тет, как вы хотели, и я желаю вам счастья».
Какая радость! Какая благодарность случаю, который предоставил мне возможность читать эту записку именно там, где мне предстояло ждать в темноте предмет моей страсти! Где я окажусь без каких-либо трудностей и не ожидая никакой неудачи. Я спускаюсь к мадам Орио, полный счастья.
Глава V
Несчастная ночь. Я становлюсь возлюбленным двоих сестер. Я забываю Анжелу. Бал у меня. Джульетта унижена. Мое возвращение в Пасеан. Люсия несчастна. Благоприятная буря.
Мадам Орио, после произнесения многих слов благодарности, заявила мне, что отныне я должен пользоваться всеми правами друга семьи. Мы провели четыре часа, смеясь и подшучивая друг над другом. Я настолько убедительно извинился, что не могу остаться обедать, что она должна была согласиться. Мартон собралась было пойти посветить мне, но поскольку утверждалось, что Нанетт моя фаворитка, ее заставили пойти впереди меня со свечой в руке. Хитроумная плутовка быстро спустилась, открыла дверь, громко захлопнула ее, задула свечу и побежала обратно, оставив меня внизу и возвратившись к своей тете, которая сильно отругала ее за слишком скверное обращение со мной. Я поднялся ощупью, как договорились, и бросился на диван, как человек, который ждет момента своего счастья, в тайне от врагов. Проведя час в сладких мечтах, я слышу, как открывается входная дверь, затем закрывается на ключ на два оборота, и через десять минут я вижу двух сестер, следующих за Анжелой. Я обращаю внимание только на нее и целых два часа говорю только с ней. Звонит полночь; мне сочувствуют, что я не обедал, но тон сострадания шокирует меня: я отвечаю, что, испытывая счастье, не могу беспокоиться о какой-либо нужде. Мне говорят, что я в тюрьме, поскольку ключ от входной двери находится под подушкой у мадам, которая откроет ее на рассвете, чтобы идти к ранней обедне. Я удивлен, что полагают, что это может показаться печальной для меня новостью: я, наоборот, рад в течение пяти часов находиться здесь, и быть уверенным, что я их провожу с объектом моего обожания. Через час Нанетт прыскает от смеха. Анжела хочет знать, отчего та смеется; она отвечает ей на ухо; Мартон смеется тоже; я прошу их рассказать мне, над чем они смеются, и, наконец, с убитым видом Нанетт говорит, что у нее нет еще одной свечи, и когда окончится эта, мы останемся в темноте. Эта новость наполняет меня радостью, но я ее скрываю. Я говорю, что сочувствую им. Я предлагаю им ложиться спать, и спать спокойно, заверяя их в моем к ним уважении, но это предложение заставляет их смеяться.
— Что мы будем делать в темноте?
— Будем разговаривать.
Нас было четверо, мы болтали уже три часа, и я был героем пьесы. Любовь — это великий поэт: его сюжет можно продолжать бесконечно, но если цель, к которой он стремится, никогда не настигается, он спадает, как тесто у пекаря.
Моя дорогая Анжела слушала, и, не будучи большим другом слов, отвечала мало, она не была блестящего ума, но гордилась, однако, демонстрируя свой здравый смысл. Чтобы ослабить мои аргументы, она часто бросалась пословицами, как римляне бросались из катапульты. Она отступала или с самой обескураживающей нежностью отвергала мои бедные руки всякий раз, когда любовь призывала их на помощь. Несмотря на это, я продолжал говорить и жестикулировать, не теряя храбрости. Я был в отчаянии, когда понял, что мои доводы слишком тонки, вместо того, чтобы убедить, они сбивают ее с толку, и вместо того, чтобы смягчать ее сердце, они его потрясают. Я был удивлен, видя на лицах Нанетт и Мартон проявление результатов от стрел, которые я бросал по направлению к Анжеле. Эта метафизическая кривая казалась мне сверхъестественной; это должен был бы быть угол. К сожалению, я занимался изучением геометрии. Несмотря на сезон, я покрылся крупными каплями пота. Нанетт поднялась, чтобы вынести свечу, которая гасла, наполняя комнату смрадом.
Как только наступила темнота, мои руки, естественно, протянулись, чтобы ощутить объект, необходимый при настоящем состоянии моей души, и я рассмеялся над тем, как Анжела заблаговременно уловила момент, чтобы не быть схваченной. Я в течение часа излагал все, что может подсказать любовь из самого веселого, чтобы убедить ее вернуться на то же место. Мне казалось невозможным, что это всерьез. Эта шутка, сказал я в конце концов, слишком затянулась: это противно природе:
— Я не могу бегать за вами, и я удивлен, слыша, что вы смеетесь; в этих странных обстоятельствах кажется, что вы смеетесь надо мной. Садитесь, наконец. Когда я разговариваю с вами, не видя вас, по крайней мере, мои руки должны убедиться, что я говорю не в воздух. Если вы смеетесь надо мной, вы должны почувствовать, что вы оскорбляете меня, а любовь, я считаю, не должна пользоваться оскорблениями.
— Ладно! Успокойтесь. Я слушаю вас, не теряя ни одного слова, но и вы должны понять, что не могу же я, из чувства приличия, находиться в темноте рядом с вами?
— Так вы хотите держать меня в таком положении до рассвета?
— Ложитесь на кровать и засните.
— Я восхищаюсь, что вы находите это возможным и совместимым с моей страстью. Идет. Я хочу участвовать в этой игре в жмурки.
Я встаю и безуспешно ищу ее вдоль и поперек по всей комнате. Я время от времени натыкаюсь на кого-то, но это всегда Нанетта или Мартон, которые из чувства самолюбия тотчас называются. В тот же миг, глупый Дон Кихот, я считаю себя обязанным отпустить приз. Любовь и предрассудок мешают мне понять неуместность такого уважения. Я еще не читал анекдоты Людовика XIII, короля Франции, но я читал Боккаччо. Я продолжаю искать ее. Я упрекаю ее за жестокость, я ей доказываю, что она должна, в конце концов, дать себя найти, и она отвечает, что испытывает те же, что и я, трудности в поисках меня. Комната не велика, и я начинаю злиться, что никак не могу ее поймать. Скорее заскучав, чем устав, я сажусь и трачу час, рассказывая им историю Роже, в которой Анжелика[31] исчезла от него с помощью волшебного кольца, когда влюбленный рыцарь к ней устремился слишком простодушно.
Анжела не знала Ариосто, но Нанетта читала его несколько раз. Она начала оправдывать Анжелику и осуждать простодушие Роже, который, если бы был мудр, не должен был доверять кольцо кокетке. Нанетта очаровала меня, но я был слишком глуп, чтобы сделать для себя соответствующие выводы.
У меня оставался только один час, и не следовало дожидаться дня, поскольку мадам Орио предпочла бы умереть, чем согласиться пропустить мессу. Я провел этот последний час, разговаривая сам с собой, чтобы уговорить Анжелу, а затем убедить ее, что она должна прийти и сесть рядом со мной. Моя душа прошла через все муки дантова ада, которых читатель не сможет себе представить, по крайней мере, если не бывал в таком положении. Испробовав все немыслимые резоны, я использовал, наконец, молитвы, потом слезы. Но когда я осознал их бесполезность, чувство, что охватило меня, было праведным негодованием, которое облагораживает гнев. Я готов был побить жестокого монстра, который смог продержать меня целых пять часов в самом бедственном положении, если бы мне удалось найти его в темноте. Я высказал ей все обиды, которые отвергнутая любовь может предложить раздраженному воображению. Я швырнул ей фанатичные проклятия: я поклялся, что вся моя любовь превратилась в ненависть, закончив предупреждением остерегаться меня, потому что я, конечно, убью ее, если она появится перед моими глазами.
Мои инвективы окончились вместе с ночной тьмой. С первыми лучами рассвета и при шуме, производимом большим ключом и замком, когда г-жа Орио открыла дверь, чтобы выйти и успокоить свою душу в повседневных хлопотах, я собрался уходить, взяв свое пальто и шляпу. Но я не могу передать моему читателю растерянность моей души, когда подняв глаза на группу из трех девочек, я увидел их в слезах. Стыд и отчаяние охватили меня до такой степени, что захотелось себя убить, и я опять сел. Я подумал, что моя грубость довела до слез эти три прекрасные души. Я не мог говорить. Меня душили чувства, слезы пришли мне на помощь, и я предался им с облегчением. Нанетта меня подняла, говоря, что тетя не опаздывает. Я быстро вытираю глаза и, не глядя на них и не говоря ни слова, ухожу, прежде всего, чтобы броситься на кровать, где я не могу уснуть.
В полдень г-н Малипьеро, увидев меня очень изменившимся, спросил о причине, и, чувствуя потребность облегчить душу, я все ему рассказал. Мудрый старик не смеялся. Своими разумными рассуждениями он пролил бальзам на мою душу. Он видел себя на моем месте, по отношению к Терезе. Но он должен был рассмеяться, и я вместе с ним, когда он увидел, как я ем, с волчьим аппетитом. Я не ел супа, но он поздравил меня с моей счастливой конституцией. Будучи преисполнен решимости не ходить больше к мадам Орио, я в эти дни пришел к метафизическому заключению, согласно которому каждое существо, в котором содержится только одна абстрактная идея, может существовать только абстрактно. Я был прав, но мой тезис легко принять за безбожие и заставить от него отречься.
Я отправился в Падую, где мне назначили экзамен в докторантуру utroque-jure. По возвращении в Венецию, я получил записку от г-на Роза, который просил меня, от имени г-жи Орио, зайти к ней повидаться. Я пошел туда вечером, будучи уверен, что не найду там Анжелу, о которой я не хотел больше думать. Нанетт и Мартон своей веселостью рассеяли стыд, который я должен был бы испытывать, появившись перед ними после двух месяцев отсутствия, но мое заключение и моя докторантура придали весу моим извинениям, вместе с г-жой Орио, которая не сказала мне ничего, кроме сожаления, что я не захожу больше к ней. Нанетт перед моим уходом передала мне письмо, в котором было вложено другое, от Анжелы. «Если у вас хватит мужества, — сказано было в нем, — провести еще одну ночь со мной, у вас не будет оснований жаловаться, потому что я люблю вас. Я хочу слышать из ваших уст, по-прежнему ли вы любите меня, когда я чувствую себя достойной презрения». Вот письмо Нанетт, которая одна сохранила здравый смысл: «Поскольку г-жа Роза привержена идее вернуть вас к нам, я готовлю это письмо, чтобы сообщить вам, что Анжела, потеряв вас, в отчаянии. Ночь, которую вы провели с нами, была ужасна, я признаю, но, думаю, она не должна внушить вам мысль отказаться от посещения, по крайней мере, мадам Орио. Я вам советую, если вы еще любите Анжелу, рискнуть еще одной ночью. Она, может быть, это одобрит, И вы будете довольны. Приходите же. До свидания».
Эти два письма меня обрадовали. Я увидел возможность отомстить Анжеле самым подчеркнутым пренебрежением. Я пошел туда в первый день праздника с двумя бутылками кипрского вина и с копченым языком в кармане, и был удивлен, не увидев жестокую. Я терялся в предположениях относительно нее, но Нанетта передала, что Анжела сказала ей утром во время мессы, что сможет прийти только к ужину. Я в этом не сомневался и не согласился, когда мадам Орио предложила мне остаться. Незадолго до часа, я делаю вид, что ухожу, как и в первый раз, и действую, как договаривались. Мне не терпится сыграть чудесную роль, которую я спланировал. Я был уверен, что, когда Анжела решится изменить систему, она окажет мне лишь небольшие милости, и я не добьюсь ничего большего. Я чувствую, что во мне преобладает сильное желание мести. Три четверти часа спустя я слышу, как закрылась дверь с улицы, и через десять минут слышу шаги на лестнице и вижу перед собой Нанетт и Мартон.
— Где же Анжела? — спрашиваю я Нанетт.
— Она, должно быть, не смогла ни прийти, ни сказать нам об этом. Она, однако, должна быть уверена, что вы здесь.
— Она думает, что она меня изловила; в самом деле, я не ожидал такого; вы теперь ее понимаете — она смеется надо мной и торжествует. Она воспользовалась вами, чтобы заманить меня в сеть, и она выиграла, потому что, если бы она пришла, это я посмеялся бы над ней.
— О! В этом, извините, я сомневаюсь.
— Не сомневайтесь, дорогая Нанетт, и будьте уверены, что мы проведем прекрасную ночь без нее.
— То есть, как умный человек, вы сможете приспособиться к временным неудобствам, но вы будете спать здесь, а мы — на диване в другой комнате.
— Я вам не буду мешать, но вы нанесете мне кровную обиду, и к тому же я не буду спать.
— Что? У вас достанет сил провести семь часов с нами? Я уверена, что когда вы не найдете, о чем говорить, вы заснете.
— Посмотрим! Как говорится, вот язык, а там — Кипр[32]. Будете ли вы столь жестоки, чтобы оставить меня есть одного? У вас есть хлеб?
— Да, и мы не будем жестоки, мы будем ужинать второй раз.
— Это в вас я должен был влюбиться. Скажите, прекрасная Нанетт, сделали бы вы меня несчастным, как это сделала Анжела?
— Вам кажется, что вы можете задавать мне такие вопросы? Она тщеславна. Все, что я могу вам ответить, — что я не знаю.
Они быстро поставили три прибора и принесли хлеб, сыр пармезан, и воду, и, смеясь над ситуацией, ели и пили со мной кипрское вино, которое, хотя и некрепкое, все же ударило им в голову. Их веселье было восхитительно. Общаясь с ними, я был поражен, поскольку до этого времени не сознавал всех их достоинств.
После небольшого ужина, сидя между ними и целуя их руки, я спросил, настоящие ли они мне друзья, и могут ли они одобрить возмутительное отношение ко мне Анжелы. Они обе отвечали, что я заставил их проливать слезы. Не волнуйтесь, сказал я, я испытываю к вам истинно братскую нежность, и разделите ее со мной, как если бы вы были моими сестрами; дадим же друг другу залог невинности наших сердец, расцелуемся и поклянемся в вечной верности.
В первых моих поцелуях не было ни любовного желания, ни намерения их соблазнить, и, со своей стороны, как они поклялись мне несколько дней спустя, они возвращали мне поцелуи единственно с желанием убедить меня, что они разделяют мои честные братские чувства; но эти невинные поцелуи не замедлили превратиться в страстные, и породить во всех трех пожар, который должен был нас очень удивить, потому что, прервав их, мы обменялись удивленными и очень серьезными взглядами. Сестры отодвинулись под каким-то предлогом, и я оказался один, в раздумье. И это неудивительно, потому что огонь, который их поцелуи зажгли в моей душе, и который зазмеился по всем моим членам, в одно мгновенье заставил меня неудержимо влюбиться в этих двух девочек. Обе были красивее Анжелы, и Нанетт умом, а Мартон — своим характером, нежным и наивным, были бесконечно выше ее: я был удивлен тем, что не оценил их достоинств до этого момента; но эти девочки были благородны и очень честны, случай, который предоставил их в мои руки, не должен был оказаться для них роковым. Только тщеславие могло бы заставить меня думать, что они полюбили меня, но я мог себе представить, что поцелуи произвели на них тот же самый эффект, что и на меня. В этой ситуации я с очевидностью полагал, что, пользуясь хитростью и изворотливостью, возможностей которых они не могли сознавать, мне было бы не трудно, в течение долгой ночи, которую я должен был провести с ними, заставить их участвовать в удовольствиях, последствия которых могли бы стать очень значимыми. Эта мысль привела меня в ужас. Я придерживался строгих правил, и я никогда не сомневался в необходимости их соблюдать. Видя, как на их лицах снова появляется выражение спокойствия и удовлетворения, я в то же время сглаживаю на своем следы огня, зажженного поцелуями. Мы проводим час, разговаривая об Анжеле. Я сказал им, что полон решимости не видеть ее больше, потому что убежден, что она не любит меня. Она любит вас, говорит мне наивная Мартон, и я уверена в этом; но если вы не собираетесь на ней жениться, вы поступите правильно, полностью порвав с ней, потому что она полна решимости не дать вам ни одного поцелуя, пока вы только ее возлюбленный; поэтому вы должны оставить ее, или довольствоваться ничем.
— Вы рассуждаете, как ангел, но как можете вы быть уверены, что она меня любит?
— Очень уверена. При той братской дружбе, которая нас соединяет, я могу искренне вас уверить. Когда Анжела спит с нами, она называет меня своим дорогим аббатом, покрывая меня поцелуями.
Нанетт, засмеявшись, закрыла рукой ей рот, но эта наивность внушила мне такой огонь, что я лишь с большим усилием смог сохранить самообладание. Мартон говорит Нанетт, что невозможно, имея ум, не знать, что делают две девочки — хорошие подруги, когда они спят вместе.
— Без сомнения, добавил я, никто не обращает внимания на эти шалости, и я не думаю, дорогая Нанетт, что вы сочли эту дружескую доверчивость вашей сестры слишком нескромной.
— Так делается. Но мы об этом не говорим. Если бы Анжела знала…
— Она была бы в отчаянии, я понимаю; но Мартон дала мне такой знак дружбы, что я буду признателен ей до самой смерти. Это так. Я ненавижу Анжелу и не буду больше говорить о ней. Это испорченная душа; она хотела бы моей гибели.
— Но она не виновата, если она вас любит и хочет выйти за вас замуж.
— Согласен, но, используя это средство, она думает только о своих собственных интересах, и, зная, что я страдаю, она может продолжать так, только если не любит меня. Исходя из ложного чудовищного представления, она замещает свои грубые желания с этой очаровательной Мартон, которую хочет представить своим мужем.
Взрывы смеха Нанетт удвоились, но я не сменил своего серьезного вида и не изменил стиля общения с Мартон, выдавая самые напыщенные похвалы ее прекрасной искренности. Наибольшее удовольствие я получил, сказав Мартон, что Анжела в свою очередь должна была бы служить ей мужем, на что она, засмеявшись, сказала, что она может быть мужем только для Нанетты, и Нанетта должна была с этим согласиться. Но как называет она своего мужа, спросил я ее.
— Этого никто не узнает.
— Вы кого-то любите, — сказал я Нанетт.
— Это правда, но никто никогда не узнает мою тайну.
Я польщен тем, что Нанетта может быть тайной соперницей Анжелы. Но вместе с этими приятными предположениями я потерял желание провести ночь, ничего не делая, с этими двумя девушками, которые были созданы для любви. Я сказал им, что счастлив, что нас связывает только чувство дружбы, потому что без этого мне было бы неловко провести с ними ночь, не собираясь давать им знаки своей нежности и не получая их обратно, потому что, объяснил я им с очень холодным видом, вы, одна и другая, восхитительно красивы, и способны вскружить голову каждому мужчине, о чем вы, конечно, и сами отлично знаете. Сказав это, я притворился, что собираюсь заснуть сидя. Не делайте так, сказала Нанетт, ложитесь в кровать, мы пойдем спать в другую комнату на диван.
— Я думаю, что этим самым я поступлю, как самый трусливый из мужчин. Поболтаем: желание спать у меня прошло. Я только сердит на вас. Это вы должны спать в постели, а я пойду в другую комнату. Если вы меня опасаетесь, заприте меня; но вы были бы неправы, потому что я люблю вас только как брат.
— Мы никогда этого не сделаем, сказала Нанетт. Позвольте вас уговорить, ложитесь здесь.
— Я не могу спать одетым.
— Раздевайтесь. Мы на вас не смотрим.
— Я этого не боюсь; но я никогда не смог бы заснуть, видя, что вы должны бодрствовать из-за меня.
— Мы тоже будем спать, но не раздеваясь, говорит Мартон.
— Это недоверие, которое оскорбляет мою порядочность. Скажите, Нанетт, считаете ли вы меня честным человеком?
— Да, конечно.
— Хорошо. Тогда вы должны доверять мне. Вы должны лечь с обеих сторон со мной, совсем раздетые, и положиться на мое честное слово, что я вас не трону. Вас двое, а я один, чего вам опасаться? Разве вы не свободны уйти из постели, если я перестану быть разумным? Короче говоря, если вы не решитесь дать мне этот знак доверия, по крайней мере, когда увидите меня спящим, я не пойду спать.
После чего я перестал разговаривать, делая вид, что задремал, а они стали говорить тихо; потом Мартон сказала мне, чтобы я шел ложиться в постель, и они последуют этому примеру, когда увидят, что я заснул. Нанетт также обещала мне это; тогда я повернулся к ним спиной, и, раздевшись догола, лег на кровать и пожелал им спокойной ночи. Сначала я притворялся спящим, но четверть часа спустя заснул по-настоящему. Я проснулся, только когда они пришли в постель; но сначала я повернулся, чтобы снова заснуть, и начал двигаться, лишь когда убедился, что они заснули. Если они и не спали, очевидно, они создавали видимость этого. Они повернулись ко мне спиной, и мы остались в темноте. Я начал с той, к которой был повернут лицом, не зная, была ли это Нанетт или Мартон. Я нашел ее свернувшейся в клубок и завернувшейся в рубашку, но не стал торопиться, и, продвигаясь в своем предприятии лишь самыми маленькими шажками, привел ее к осознанию, что наилучшее, что она может делать — это притвориться спящей и предоставить мне возможность действовать. Мало-помалу я развернул ее, мало-помалу она сама развернулась, и мало-помалу, с помощью последовательных перемещений и очень медленно, но чудесным образом в согласии с природой, она оказалась в позиции, в которой не смогла бы предложить мне ничего более приятного, чем проявиться. Я начал дело, но чтобы делать его хорошо, мне нужно было, чтобы она согласилась, так, чтобы не иметь больше возможности уклоняться, и природа, наконец, заставила ее решиться на это. Я нашел первую из них свободной от сомнений, и, не имея оснований сомневаться не только в причиняемой боли, но и в том, что ее готовы были терпеть, был этим удивлен. Будучи обязанным свято уважать предрассудок, которому я был обязан наслаждением, сладость которого вкусил первый раз в жизни, я оставил жертву в покое, и повернулся в другую сторону, чтобы проделать то же самое с сестрой, которой приходилось полагаться всецело на мою признательность.
Я нашел ее лежащей неподвижно, в позе, которую принимают, когда глубоко спят без всяких опасений, лежа на спине. С величайшими предосторожностями, остерегаясь малейшей опасности ее разбудить, я начал угождать ее душе, будучи убежден, что это для нее совершенно внове, как и для ее сестры; и я продолжал пребывать в этом убеждении, пока не ощутил очень естественное движение, без которого мне было бы невозможно увенчать труд; она помогла мне торжествовать, но во время кризиса она оказалась не в силах продолжать притворство. Она выдала себя, сжав очень плотно меня в своих объятиях и впившись своим ртом в мой. После чего я сказал ей:
— Я уверен, что вы Нанетт.
— Да, и я полагаю себя счастливой, как и моя сестра, если только вы честны и постоянны.
— До самой смерти, мои ангелы; все, что мы сделали, это дела любви, и больше нет вопроса об Анжеле.
Затем я попросил их подняться, чтобы зажечь свечи, и Мартон сотворила эту любезность. Когда я увидел Нанетт в своих объятиях, воодушевленную огнем любви, и Мартон со свечой, смотрящую на нас и, казалось, обвиняющую нас в неблагодарности за то, что мы ничего ей не говорим, в то время как она была первой, ответившей на мои ласки и вдохновившей свою сестру проделать то же самое, я почувствовал все свое счастье.
— Поднимемся, сказал я им, чтобы поклясться в вечной дружбе, и чтобы нам освежиться.
Мы погрузились все трое в чан с водой — туалет моего изобретения, который заставил нас смеяться, и который возобновил все наши желания, а затем, в костюмах золотого века, мы доели остатки языка и опустошили другую бутылку. После того, как мы наговорили сотню слов, которые в опьянении наших чувств можно интерпретировать только как любовь, мы снова легли и провели в разнообразных дебатах весь остаток ночи. Нанетта положила этому конец. Когда мадам Орио ушла к мессе, я должен был их покинуть, во избежание пересудов. Убедив их, что я не думаю больше об Анжеле, я отправился к себе и погрузился в сон до самого обеда.
Г-жа де Малипьеро нашла у меня радостный вид и запавшие глаза; я предоставил ей возможность воображать все, что она хочет, но не сказал ей ничего. Послезавтра я явился к г-же Орио, и, поскольку Анжелы там не было, пообедал и ушел с г-ном Роза. Нанетт улучила момент, чтобы передать мне письмо и пакет. В пакете лежал кусок пасты с отпечатком ключа, а в письме было сказано заказать изготовление ключа и приходить ночевать с ними, когда бы я ни захотел. Кроме того, она дала мне понять, что Анжела была с ней на следующую ночь, и по привычкам, которые у них появились, она догадалась обо всем, что случилось, и что они повинились ей, упрекнув ее в том, что она была всему причиной. Она высказала им самые резкие упреки, и поклялась, что никогда больше не ступит к ним ногой. Их это не обеспокоило. Через несколько дней судьба избавила нас от Анжелы. Она переехала жить в Виченцу со своим отцом, который там поселился на два года, чтобы рисовать фрески в квартирах. Таким образом, я остался спокойным обладателем этих двух ангелов, с которыми проводил ночь по крайней мере дважды в неделю, и где меня всегда ожидали, с ключом, которым они смогли меня обеспечить.
К концу карнавала г-н Манзони сказал мне, что знаменитая Джульетта хотела бы поговорить со мной, и что она сожалеет, что меня больше не видно. Заинтересованный тем, что она имела мне сказать, я пошел с ним к ней. Довольно вежливо приняв меня, она сказала, что знает, что у меня дома есть красивая зала, и она бы хотела, чтобы я устроил там бал за ее счет. Я согласился. Она дала мне 24 цехина, и послала своих служащих украсить люстры в моей зале и в моих комнатах, и я должен был подумать только об оркестре, и ужине. Г-н де Сан-Витали к тому времени уехал, правительство Пармы назначило его управляющим. Я видел его, десять лет спустя, в Версале, увешанного орденами короля, в звании стольника старшей дочери Людовика XV герцогини Пармской, которая, как и все принцессы Франции, не переносила Италии.
Мой бал прошел в порядке. Был только кружок Джульетты, а в маленькой комнате — г-жа Орио, ее две племянницы и прокурор Роза, которых, в качестве людей незначительных, она позволила мне пригласить.
После ужина, в то время как гости танцевали менуэт, красотка отвела меня в сторону и сказала мне проводить ее скорей в мою комнату, потому что ей пришла в голову забавная идея, и мы сможем посмеяться. Моя комната была на третьем этаже, и мы туда направились. Я вижу, что она запирает дверь на замок, и не знаю, что думать. «Я хочу, — сказала она, — чтобы вы полностью одели меня, как священника, в одно из ваших платьев, а я одену вас как женщину, в мое платье. Мы спустимся, замаскированные, и будем танцевать контрдансы. Давайте быстрее, дорогой друг, начнем причесываться». Уверенный в удаче и очарованный редким приключением, я быстро уложил ее длинные волосы в кружок, а потом она приладила мне шиньон, который она отлично пронесла под своей собственной шляпой. Она наносит мне румяна и ставит мушек, что мне очень нравится, я выражаю удовольствие ее видом приличного мальчика, и она любезно награждает меня сладким поцелуем, при условии, что я не потребую большего; я отвечаю, что все зависит только от нее. Я уверяю ее, что, в ожидании дальнейшего, я ее обожаю. Я кладу на кровать рубашку, небольшой колет, трусы, черные чулки, и костюм. Сбросив юбку, она ловко надевает трусы и говорит, что они ей впору, но когда она хочет надеть мои бриджи, она находит их слишком узкими в талии и в бедрах. Это не исправить, нужно распороть их сзади, и, при необходимости, обрезать ткань. Я этим занимаюсь; я сажусь в ногах кровати, и она становится передо мной спиной ко мне, но ей кажется, что мне хочется слишком многое увидеть, что я плохо ее держу, что действую слишком медленно, и трогаю там, где не надо: она в нетерпении, она отходит от меня, она вырывается и сама приводит в порядок свои трусики. Я даю ей чулки, туфли, затем передаю рубашку, поправляю ей жабо и малый колет, она находит мои руки слишком любопытными, потому что ее грудь не затянута. Она поет мне о расходах: она называет меня нечестным, но я не возражаю; я не хочу, чтобы она меня сочла простофилей, и к тому же это была женщина, которой заплатили сто тысяч экю, и которая должна быть заинтересована в человеке ума.
Вот, наконец, она одета, и вот — моя очередь. Я быстро снимаю свои трусы, хотя она хочет, чтобы я их оставил; она сама должна надеть на меня свою рубашку, затем юбку; но вдруг, превратившись в кокетку, она сердится, что я не скрываю от нее слишком видимого эффекта от ее чар, и она прибегает к помощи разгрузки, которая в одно мгновение успокаивает меня. Я хочу дать ей поцелуй, но она не хочет; в свою очередь, я возбуждаюсь, и, вопреки ей, брызги моей невоздержанности появляются на рубашке. Она кидает мне оскорбления, я ей отвечаю, и я демонстрирую ей свою ошибку, но все бесполезно, она сердится; но она должна завершить свою работу, окончив меня одевать. Очевидно, что честная женщина, которая оказалась бы визави передо мной в таком приключении, возымела бы нежные намерения, и не противилась бы себе в момент, когда увидела, что я их разделяю; но женщины типа Джульетты подвержены воздействию проклятого духа, который делает их врагами самим себе. Джульетта сочла себя обманутой, когда увидела, что я не оробел. Моя легкость показалась ей неуважением. Она сочла меня вором, укравшим некоторые ее милости, которые она мне посулила, но не согласовала. Я слишком польстил ее тщеславию.
Замаскированные таким образом, мы спустились в залу, где всеобщее рукоплескание привело нас сначала в хорошее настроение. Все полагали, что меня настигла удача, которой, на самом деле, у меня не было; но я был рад предоставить всем так думать. Я пошел в контрдансе с моим аббатом, которого мне было очень трудно находить очаровательным. Джульетта в течение ночи вела себя со мной так хорошо, что, сочтя ее раскаявшейся в своем грубом поведении, я покаялся и в моем также, но это было проявление слабости, за которое небеса должны были меня наказать.
После контрданса весь мужской род почувствовал себя имеющим право на свободу с Жюльетт, ставшей аббатом, и, в свою очередь, я — более свободным с девицами, которые могли быть сочтены грубыми, если не отвечали моим маневрам. Г-н Кверини имел глупость спросить, есть ли у меня трусы, и я увидел, как он побледнел, когда я ответил ему, что был вынужден уступить их аббату. Он сел в углу залы и не захотел больше танцевать. Вся компания, заметив, наконец, что я в женской рубашке, не усомнилась в прекрасном завершении моего приключения, кроме Нанетт и Мартон, которые не могли счесть меня способным на неверность. Джульетта обнаружила, что поступила очень легкомысленно, но сделанного было уже не исправить. Как только мы вернулись в мою комнату, чтобы переодеться, я, сочтя ее раскаявшейся и испытывая к ней симпатию, решил, что могу ее поцеловать, и в то же время взял за руку, чтобы убедить ее, что я готов дать ей все удовлетворение, которого она заслуживает, но она влепила мне такой сильный удар, что я едва не вернул его ей. После чего я переоделся, не глядя на нее, и она сделала то же. Мы спустились вместе, но, несмотря на холодную воду, которой я вымыл лицо, вся компания могла видеть на моем лице след от крупной руки, которая его нанесла. Перед уходом она сказала мне тет-а-тет, самым твердым тоном, что я не должен приходить к ней, если не хочу быть выброшен в окно, и что она прикажет меня убить, если то, что произошло между нами, станет достоянием гласности. Я не дал ей никакого повода проделать со мной ни то, ни другое, но я не мог помешать пересказам истории о том, как мы поменялись рубашками. Никто больше не видел меня у нее, все решили, что она должна была дать это удовлетворение г-ну Кверини. Читатель увидит далее, какой замечательный случай должен был представиться этой знаменитой деве через шесть лет, чтобы все забыли эту историю.
Я счастливо провел пост с моими двумя ангелами, на ассамблее у господина де Малипьеро, а также изучая экспериментальную физику в монастыре Ла Салюте. После Пасхи, чтобы сдержать слово, данное графине де Мон-реаль, и стремясь увидеть мою дорогую Люси, я поехал в Пасеан. Я там нашел, что компания весьма отличается от той, что была прошлой осенью. Граф Даниэль, старший из семьи, женился на графине Гоцци, и богатый молодой фермер, который женился на крестнице старой графини, был принят вместе со своими женой и свояченицей.
Ужин мне показался очень долгим. Меня поместили в той же комнате, и мне не терпелось увидеть Люси, с которой я твердо решил больше не делать из себя ребенка… Не увидев ее перед сном, я жду ее наверняка утром, когда проснусь, но вместо нее вижу мерзкую горничную — крестьянку. Я спрашиваю ее о семейных новостях, и ничего не понимаю, потому что она говорит только на «фурлане». Это местный язык. Это меня беспокоит. Что же случилось с Люси? Открылось ли наше предприятие? Не больна ли она? Может, она умерла? Я молча одеваюсь. Если ей было запрещено меня видеть, я себя смогу защитить, потому что так или иначе найду способ ее увидеть, и из мести проделаю с ней то, что честь, вопреки любви, помешала мне сделать. Но вот консьерж, который входит с грустным лицом. Я спрашиваю его сначала, как его жена и дочь, и при имени последней он плачет.
— Она умерла?
— Дай бог, чтобы она умерла.
— Что она сделала?
— Она убежала с Эгле, рассыльным графа Даниеля, и мы не знаем, где она.
Пришла его жена, и от этого разговора ее страдание возобновилось и она упала в обморок. Консьерж, увидев мое сочувствие его скорби, сказал, что прошло только восемь дней, как случилось с ними это несчастье.
— Я знаю Эгле, — сказал я. — Это известный мошенник. Он сделал ей предложение?
— Нет, потому что он был уверен, что мы не дадим своего согласия.
— Люси меня удивила.
— Он ее соблазнил, и мы только после ее бегства поняли, откуда взялся ее большой живот.
— И давно они познакомились?
— Она узнала его через месяц после вашего отъезда. Он, должно быть, ее заколдовал, потому что это была голубка, и вы можете, я думаю, это засвидетельствовать.
— И никто не знает, где они?
— Никто. Бог знает, что этот несчастный с ней сделал.
Столь же огорченный, как эти честные люди, я пошел в лес, чтобы переварить мою печаль. Я провел два часа, размышляя о добрых и злых качествах, которые все начинаются с «Если». Если бы я попал туда, как я мог, восемь дней назад, любящая Люси доверила бы мне все, и я бы предотвратил это убийство. Если бы я вел себя с ней, как с Нанетт и Мартон, она бы не ощущала себя в положении изнасилованной, после того, как я ее покинул, и что должно было явиться главной причиной того, что она отдалась желаниям негодяя. Если бы она не узнала меня до курьера, ее еще чистая душа не услышала бы его. Я был в отчаянии, в связи с необходимостью признать себя агентом бесчестного соблазнителя, поработавшим для него:
El fior che sol potea pormi fra dei, Quel fior che iniatto io mi venia serbando Per non turbar, ohimé![33]
Очевидно, если бы я знал, где, возможно, она находится, я бы отправился туда в течение часа. До своего падения Люси казалась мне понятной, я был тщеславен и горд, что имел силу воли оставить ее нетронутой, а теперь раскаивался и стыдился своей глупой бережливости. Я пообещал себе вести себя в дальнейшем более умно в вопросах сбережения. Некоторое время меня мучила мысль, что Люси, находясь в нищете и, возможно, в бесчестии, должна, вспоминая меня, ненавидеть и проклинать меня, как первую причину своих несчастий. Это трагическое событие заставило меня придерживаться новой системы, с которой в дальнейшем я зашел слишком далеко.
Я присоединился к шумной компании в саду, которая меня так развлекла, что за столом я всех веселил. Моя печаль была так велика, что я должен был либо безумно веселиться, либо уехать. Что придало мне сильный толчок, было лицо, а еще более характер, совершенно для меня новый, новобрачной. Ее сестра была красивей ее, но девственницы начали меня тревожить. Я видел от них слишком много хлопот. Эта новобрачная, в возрасте девятнадцати — двадцати лет, привлекала к себе внимание всей компании из-за своих деланных манер. Болтливая, перегруженная максимами, которые она считала необходимым выставлять на парад, благочестивая и влюбленная в мужа, она не скрывала боли, которую он причинял ей, когда показывал себя очарованным ее сестрой, сидевшей за столом визави с ним, и служил ей. Этот муж, легкомысленный человек, который, возможно, очень любил свою жену; но считал правильным тоном показывать безразличие по отношению к ней и, из тщеславия, старался давать ей поводы для ревности. Она, в свою очередь, боясь показаться дурой, не реагировала на них. Добрая компания ее смущала как раз потому, что она хотела показать, что она этим пренебрегает. Когда я изрекал чушь, она слушала внимательно, и, чтобы не сойти за глупую, смеялась не впопад. Она показалась мне, наконец, такой забавной, что я решил взяться за нее.
Мое внимание, мои выходки, мои большие и малые усилия довели до сведения всех не позднее, чем на третий день, что я остановил свой выбор на ней. Муж, который был предупрежден публично, старался казаться бесстрашным, и не обращал внимания, когда ему говорили, что я опасен. Я притворялся скромным, и зачастую беззаботным. Что касается его, то, соответственно его роли, он побуждал меня ухаживать за его женой, которая, в свою очередь, играла, очень плохо, disinvolta[34].
На пятый или шестой день, гуляя со мной в саду, она была настолько глупа, что стала объяснять мне действительные причины своего беспокойства, и вред, который причиняет себе ее муж, давая ей поводы для него. Я ей ответил дружеским тоном, что единственным средством исправить его в короткий срок является притвориться, что она не видит, как он делает политесы ее сестре, и, в свою очередь, притвориться влюбленной в меня. Чтобы заставить принять эту игру, я сказал ей, что это трудно, и что надо обладать большим умом, чтобы играть такую сложную роль. Она заверила меня, что будет играть превосходно; но она играла так плохо, что компания поняла, что проект мой собственный. Когда я оказался с ней в аллеях сада, убедившись, что никто нас не видит, и стал объяснять ей, что хочу лишь получше ввести ее в роль, она стала серьезна, затем повелительна, и, наконец, использовала неосторожное средство отдалиться от меня — бегство, присоединившись к другим, которые затем посмеялись надо мной, называя меня плохим охотником. Я тщетно упрекал ее за эти действия нежданным триумфом, который она принесла своему мужу. Я похвалил ее ум и выразил сожаление по поводу ее воспитания. Я сказал, чтобы ее успокоить, что мои манеры с умной женщиной, вроде нее, были таковы, как это принято в хорошей компании.
Но через десять — двенадцать дней она отчаялась во мне, говоря, что я, будучи священником, должен знать, что в области любви малейшее прикосновение — это смертный грех, что Бог все видит, и что она не хочет ни погубить свою душу, ни подвергнуться стыду оттого, что придется сказать исповеднику, что она согрешила, творя безобразие со священником. Я сказал ей, что я не священник, но она, наконец, меня сразила, спросив, сознаю ли я, что то, что я хочу проделать с ней, является греховным. Не имея мужества это отрицать, я увидел, что должен прекратить игру.
Я стал холоден с ней, и старый граф сказал при всех, что моя холодность вызвана моей неудачей, на что я не преминул ответить в набожной манере, что ее поведение дает повод судить ложно о тех, кто познал мир, но это было уже бесполезно. Но вот забавный инцидент, который произошел при развитии пьесы.
На Вознесение мы все нанесли визит мадам Бергали, знаменитой на итальянском Парнасе. При возвращении в Пасеан красивая фермерша захотела перейти в четырехместный экипаж, где ее муж уже сел с ее сестрой, а я был один в двухколесной коляске. Я поднял шум, жалуясь на это недоверие, и компания заявила ей, что она не может нанести мне такое оскорбление. Тогда она пришла, и я сказал кучеру, что хотел бы ехать по самой короткой дороге; мы отделились от остальных экипажей, поехав дорогой через лес Цекини. Небо было прекрасное, но менее чем через полчаса поднялась буря, вроде тех, которые случаются в Италии, которые длятся полчаса и готовы, кажется, потрясти землю и все стихии, и кончаются ничем, возвращая спокойное небо, освежая воздух, так что обычно они приносят больше пользы, чем вреда.
— Ах! Боже мой! — сказала фермерша — Разразилась буря!
— Да, и, хотя коляска покрыта, дождь испортит вашу одежду, мне очень жаль.
— Я спокойна за платье, но я боюсь грома.
— Заткните уши.
— А молнии?
— Форейтор, укроемся где-нибудь.
— Дома есть в получасе езды отсюда, ответил он, но через полчаса буря прекратится.
Сказав это, он спокойно продолжает свой путь, и вот, вспышки продолжаются, гром грохочет, а бедная женщина дрожит. Начинается дождь. Я снимаю манто, чтобы прикрыть спереди нас обоих, и после большой вспышки, предвещающей молнию, мы видим разряд в ста шагах перед нами. Лошади рвутся, и моя бедная дама охвачена спазматическими конвульсиями. Она прыгает на меня, сжимая крепко меня в своих объятиях. Я наклоняюсь, чтобы подобрать манто, которое упало у наших ног, и, поднимая его, прихватываю с ним ее юбки. В момент, когда она хочет их опустить, новый всплеск молнии, и страх мешает ей двигаться. Желая положить манто на нее, я пододвигаюсь, и она положительно падает на меня, а я быстро занимаю позицию верхом. Ее позиция не может более быть удачной, я не теряю времени, я мгновенно прилаживаюсь, делая вид, что поправляю мои часы на поясе штанов. Понимая, что если она не помешает мне очень быстро, она не сможет больше защититься, она делает усилие, но я говорю ей, что если она не притворится потерявшей сознание, форейтор повернется, и увидит все. Говоря эти слова, я оставляю то, что она называет меня нечестивцем, на ее совести, я хватаю ее за зад, и я одерживаю наиболее полную победу, что когда-либо получал умный гладиатор.
Лил дождь и дул очень сильный ветер в лицо, она чувствовала себя униженной и серьезно говорила мне, что я уронил ее честь, так как кучер сидел таким образом, что мог все видеть.
— Я его вижу, сказал я, и он и не думает повернуться, и как бы то ни было, манто нас укрывает полностью обоих: Будьте благоразумны и держитесь, как будто вы в обмороке, потому что я вас не выдам.
Я ее убедил, и она спрашивает, как я мог вызвать молнии с таким коварством; я ей отвечаю, что молния была в сговоре со мной, и она готова поверить, что это правда; она уже почти не боится, и, увидев и почувствовав мой экстаз, спрашивает меня, закончил ли я. Я смеюсь, говоря ей, что нет, потому что хочу ее согласия вплоть до окончания бури. Соглашайтесь, или я сброшу манто.
— Вы ужасный человек, который сделает меня несчастной для конца моих дней. Наконец, вы довольны?
— Нет.
— Чего же вы хотите?
— Поток поцелуев.
— Как я несчастна! Ну ладно.
— Скажите, что простили меня. Согласитесь, что я доставил вам удовольствие.
— Да. Вы это видите. Я прощаю вас.
Затем я ее вытер; и, обратившись к ней с просьбой ответить мне той же любезностью, я увидел ее улыбающийся рот.
— Скажите мне, что вы меня любите, — сказал я.
— Нет, потому что вы атеист и вас ждет ад.
Затем мы вернулись на свое место, и погода успокоилась. Я ее уверил, что форейтор ни разу не обернулся. Смеясь над приключением и целуя ее руки, я сказал ей, что уверен, что исцелил ее от страха грома, но она не раскроет никогда секрета лечения. Она мне ответила, что, по крайней мере, она уверена, что ни одна женщина не была излечена таким лекарством.
— Это, говорю я ей, должно было происходить за тысячу лет миллион раз. Я даже скажу вам, что, садясь в экипаж, я делал на него расчет, потому что я не знал другого средства, чем это, чтобы вами овладеть. Утешьтесь. Знайте, что в мире нет ни одной боязливой женщины, которая в вашем случае смогла бы сопротивляться.
— Я верю этому, но на будущее я буду путешествовать только с мужем.
— Вы поступите дурно, потому что вашему мужу не достанет ума утешить вас так, как я.
— Это верно. Мы получили с вами уникальные знания; но будьте уверены, я больше не буду путешествовать с вами.
С такими красивыми диалогами мы достигли Пасеан раньше всех других. Едва выйдя из экипажа, она побежала и заперлась в своей комнате, пока я искал экю, чтобы дать его форейтору. Он засмеялся.
— Отчего ты смеешься?
— Вы отлично знаете.
— Держи. Это дукат. Но будь неболтлив.
Глава VI
Смерть моей бабушки и ее последствия. Я теряю расположение г-на де Малипьеро. Больше нет дома. Тинторетта. Меня помещают в семинарию. За мной охотятся. Меня запирают в форт.
За ужином говорили только о буре, и фермер, зная о болезни жены, сказал мне, что он уверен, что я никогда не поеду больше с ней. — И я с ним, — добавила она, — потому что этот нечестивый заклинал молнии своими выходками.
Эта женщина проявила настоящий талант, избегая меня, так что я более ни разу не оставался с ней наедине.
По возвращении из Венеции я был вынужден изменить своим привычкам из-за болезни моей доброй бабушки, которую не покидал до последнего ее вздоха. Она не могла ничего мне оставить, потому что отдала при жизни мне все, что имела. Эта смерть имела последствием то, что мне пришлось принимать новый образ жизни. Через месяц я получил письмо от матери, где говорилось, что, поскольку, по всей видимости, она не вернется больше в Венецию, она намерена отказаться от дома, который там содержала. Она сказала, что сообщила о своем намерении аббату Гримани, и я должен следовать его указаниям. Он должен будет, после продажи всей мебели, поместить меня, моих братьев и сестру в хороший пансион. Я отправился к г-ну Гримани заверить его, что он найдет меня всегда в своем распоряжении. Аренда дома была выплачена до конца года.
Когда я узнал, что к концу года у меня не будет больше дома, и что продается вся мебель, я больше не был стеснен в моих потребностях. Я также продал белье, гобелены, фарфор: это была моя часть от продажи зеркал и кроватей. Я знал, что это сочли бы неправильным, но это было наследство моего отца, на которое моя мать не могла претендовать; я рассматривал себя, как хозяина. Что касается моих братьев, то мы всегда могли найти способ договориться. Четыре месяца спустя я получил письмо от матери из Варшавы, в котором содержалось другое. Вот перевод письма моей матери: «Я знакома здесь, мой дорогой сын, с ученым монахом Миниме[35], калабрийцем, чьи выдающиеся качества заставили меня подумать о вас, когда он удостаивал меня своим визитом. Я сказала ему год назад, что у меня есть сын, избравший дорогу священника, что я не имею возможностей его содержать. Он ответил, что этот мальчик станет ему сыном, если я смогу получить от королевы назначение на епископство в его стране. Все будет в порядке, сказал он, если она окажет любезность рекомендовать его своей дочери — королеве Неаполя. Исполненная веры в Бога, я бросилась к ногам Ее Величества, и обрела ее милость. Она написала своей дочери, и та сделала так, что Господин наш папа избрал монаха епископом Мартурано. По его словам, он примет вас в середине следующего года, потому что прежде, чем ехать в Калабрию, он должен побывать в Венеции. Он вам напишет об этом сам, ответьте ему, пришлите мне свой ответ, и я ему его передам. Он вам укажет путь к самым высоким постам Церкви. Вообразите же мое утешение, когда я увижу вас в двадцать или тридцать лет по меньшей мере епископом. В ожидании его прибытия аббат Гримани будет заботиться о вас. Даю вам свое благословение и остаюсь и т. д…» Письмо от епископа, написанное по латыни, сказало мне о том же. Оно было полно слащавости.
Он предупреждал меня, что остановится в Венеции только на три дня. Я ответил соответственно. Оба эти письма превратили меня в фанатика. Прощай, Венеция! Полный уверенности, что я встаю на путь, ведущий к вершинам счастья, ждущим меня в конце карьеры, я в нетерпении хотел поскорее к этому приступить, и был полон радости, не чувствуя в своем сердце никакого сожаления обо всем том, что покидаю, удаляясь от родины. Суета кончена, говорил я себе, и меня ждет великое и прочное будущее.
Г-н Гримани, высказав наилучшие пожелания по поводу моей дальнейшей судьбы, заверил, что найдет для меня пансион, в котором я поселюсь до начала следующего года, в ожидании епископа.
Г-н Малипьеро, который в своем роде был мудрым человеком и наблюдал меня в Венеции погруженным в суетные удовольствия, был рад увидеть теперь идущим в направлении своего подлинного предназначения и видеть живую устремленность моей души, с которой я подчинился складывающимся обстоятельствам. Затем он преподал мне урок, который я никогда не забуду. Он сказал мне, что знаменитая заповедь стоиков Sequere Deum[36] означает ничто иное, как — «откажись от того, что предлагает тебе судьба, если ты не чувствуешь сильного нежелания это отдать». Это, сказал он мне, утверждает и демон Сократа: Expe revocans Raro impellens[37], и оттуда же идет: Le destin sait nous guider[38] тех же стоиков. Именно в том состояла наука г-на Малипьеро, ученого, не изучавшего ни одной книги, кроме книг о природе морали.
Но в рамках максим этой самой школы со мной случилось через месяц происшествие, которое навлекло на меня невзгоды, но ничему не научило.
Г-н Малипьеро полагал, что распознает по физиономии молодых людей признаки, которые свидетельствуют об абсолютной власти над ними Фортуны. Когда он видел такое, он старался наставлять их способствовать Фортуне мудрым поведением, потому что, как он разумно указывал, лекарство в глупых руках становится ядом, а яд в руках мудрых — лекарством. У него было три любимца, для которых он делал все, от него зависящее, в том, что касалось их воспитания. Это была Тереза Имер, превратности судьбы которой были неисчислимы, и часть из них мои читатели увидят в этих мемуарах. Я был вторым, о котором они будут судить, как захотят, а третья была дочь гондольера Гардела, которой было на три года меньше, чем мне, и которая, при красоте, имела в лице поразительные признаки судьбы. Чтобы наставить ее на путь истинный, старый спекулятор учил ее танцевать; потому что, как говорится, шар не попадет в лузу, если его не толкнуть. Гардела — это та, что под именем л'Агата блистала в Штутгарте. Она была первой официальной любовницей герцога Вюртембергского в 1757 году. Она была очаровательна. Я оставил ее в Венеции, где она умерла два или три года назад. Ее муж Мишель да л'Агата был отравлен некоторое время спустя.
Однажды, когда мы все трое ужинали с ним, он покинул нас, как всегда, удалившись на сиесту. Юной Гарделе надо было пойти делать свои уроки, и она оставила меня наедине с Терезой, которая, хотя я никогда не говорил ей комплиментов, не упустила случая меня завлечь. Сидя близко друг к другу, перед маленьким столиком, спиной к двери в спальню, где, как мы предполагали, спал наш патрон, мы почувствовали желание, в невинной веселости нашей природы, сравнить различия между нашими телосложениями. Мы были в самой интересной стадии изучения, когда сильный удар трости пришелся по моей шее, а затем другой, за которым последовали бы другие, если бы я очень быстро не спасся от этого града, прыгнув за дверь. Я пошел домой, без пальто и без шляпы. Через пятнадцать минут я расквитался за все, получив записку через старую гувернантку сенатора, в которой меня предупредили, чтобы я больше не смел ступить ногой во дворец Его Превосходительства. В минуту я ответил следующим образом:-«Вы побили меня, будучи в гневе, и по этой причине вы не можете похвастаться, что дали мне урок. Так что я ничему не научился. Я могу вас простить, только забыв, что вы мудрец, и я не забуду этого никогда». Этот сеньор, возможно, был прав, но со всем его благоразумием он поступил неблагоразумно, потому что все его слуги догадались, почему он меня изгнал, и, следовательно, весь город смеялся над этой историей. Он не осмелился сделать ни малейшего упрека Терезе, как она сказала мне некоторое время спустя, но, разумеется, она не посмела просить у меня прощения.
Приближалось время, когда наш дом должен был опустеть, В одно прекрасное утро я увидел перед собой мужчину около сорока лет в черном парике и алом плаще, загоревшего под южным солнцем, который передал мне записку от г-на Гримани, в которой тот приказал оставить ему всю мебель в доме, после чего она будет задержана, согласно предъявленному инвентарному списку, копия которого должна быть у меня. Получив, таким образом, мой экземпляр списка, я показал ему всю мебель, указанную в записке, говоря ему, если чего-то не хватало, что я знаю, где оно находится. Грубиян, принимая хозяйский тон, сказал мне, что он хочет знать, что я с этим сделал; тогда я ответил ему, что не обязан перед ним отчитываться, а когда он повысил голос, я посоветовал ему уйти, таким тоном, что он понял, что у себя дома я сильнее. Сочтя, что я обязан сообщить об этом факте г-ну Гримани, я пришел к нему, но нашел там этого человека, который уже информировал его обо всем. Я должен был выслушать резкий выговор. Он попросил меня счесть всю мебель, которая отсутствует. Я ответил ему, что я ее продал, чтобы не делать долгов. Заявив мне, что я мошенник, что я не хозяин этим вещам, что он знает, что творится, он приказал мне немедленно покинуть его дом. Вне себя от гнева, я послал за евреем, чтобы продать ему все, что осталось; но, направляясь домой, встретил у своей двери судебного пристава, который вручил мне судебное предписание. Я его прочел и увидел, что оно было составлено в ведомстве Антуана Раццетта. Это был человек с загорелым лицом. Все двери были опечатаны. Я не мог даже войти в мою комнату. Судебный пристав ушел и оставил охранника. Я ухожу, я иду к г-ну Роза, который, после прочтения ордера, говорит мне, что на следующее утро печать будет снята, и что до этого он вызовет Раццетту к Авогадору[39]. Этой ночью, сказал он, вы ложитесь спать у кого-нибудь из друзей. Это насилие, но он вам дорого заплатит.
— Это делается по приказу г-на Гримани.
— Это его дела.
Я пошел спать со своими ангелами. На следующее утро печать была снята, я вошел к себе в дом, и Раццетта больше не появлялся; Роза от моего имени вызвал его в уголовный суд, обязав явится на следующий день, под угрозой ареста. На третий день, очень рано, пришел лакей г-на Гримани, принеся мне его собственноручно написанное письмо, которым он велел мне прийти к нему домой, чтобы переговорить, и я явился. При моем появлении он спросил меня резким тоном, что я намерен делать.
— Найти убежище от насилия под покровительством законов, защищая себя от человека, с которым у меня нет никаких дел, и который заставил меня провести ночь в плохом месте.
— В плохом месте?
— Конечно. Почему мне помешали пойти к себе домой?
— Теперь вы там.
— Тогда объясните сначала вашему уполномоченному все обстоятельства дела.
— Раццетта все делает только по моему распоряжению… Может быть, вы хотите продать всю оставшуюся мебель. Вас избавят от нее. У вас есть комната в приходе Св. Иоанна Крестителя в доме, который принадлежит мне, где второй этаж занимает Тинторетта, наша прима-балерина. Распорядитесь отнести туда ваши пожитки и книги и приходите ко мне обедать каждый день. Я поместил вашего брата в хороший дом, и вашу сестру в другой, так что все кончено.
Г-н Роза, которому я сначала пошел дать отчет обо всем, посоветовал мне сделать то, что хотел аббат Гримани, и я последовал его совету. Я получил полное удовлетворение, и приглашение к его столу мне польстило. Помимо этого, я был заинтригован моим новым жилищем у Тинторетты, о которой много говорили из-за князя Вальдек, тратившего на нее большие деньги. Епископ должен был приехать летом, мне надо было еще шесть месяцев ждать в Венеции этого прелата, который, возможно, направит меня на путь к понтификату. Таковы были мои «замки в Испании».
Пообедав в тот же день у г-на Гримани, ни слова не сказав Раццетте, сидевшему рядом со мной, я пошел в последний раз в мой прекрасный дом в С.Самуил, откуда отправил в лодке в мой новый дом все, что считал принадлежащим мне.
Мадемуазель Тинторетта, с которой я не был знаком, но знал манеры и характер, танцовщица была посредственная, но девушка умная, не красавица и не уродка. Принц де Вальдек, который много на нее потратился, не помешал ей сохранить своего прежнего покровителя. Это был знатный венецианец из рода Линь, ныне угасшего, шестидесяти лет, который бывал у нее дома в любое время дня. Этот сеньор, который меня знал, пришел ко мне в комнату на первом этаже в начале ночи, чтобы поздравить меня от имени мадемуазель, и сказать, что она рада моему соседству, и я бы доставил ей истинное удовольствие, приняв участие в ее ассамблее. Я ответил г-ну Линь, что я не собирался быть у нее, что г-н Гримани не предупредил меня, что комната, которую я занял, принадлежит ей, что не будь этого, я отдал бы ей долг вежливости еще до того, как прибыл мой маленький экипаж. После этих извинений мы поднялись на второй этаж. Он представил меня, и знакомство состоялось. Она приняла меня как принцесса, сняв перчатку, чтобы дать мне поцеловать руку, и, назвав мое имя пяти или шести иностранцам, которые там были, назвала их мне по одному, потом указала мне сесть рядом с ней. Она была венецианка, и, найдя смешным, что она говорит со мной по-французски, на языке, которого я не понимаю, я попросил ее говорить на языке нашей страны. Весьма удивившись тому, что я не говорю по-французски, она сказала, понизив голос, что я произведу невыгодное впечатление в ее доме, где она принимает только иностранцев. Я обещал ей научиться.
Через час прибыл вельможа. Этот щедрый князь говорил со мной на очень хорошем итальянском, и был очень любезен со мной на протяжении всего карнавала. В конце он дал мне золотую табакерку в качестве награды за очень плохой сонет, который я напечатал в честь синьоры Маргариты Гризеллини по прозвищу ла Тинторетта. Ее назвали Тинторетта, потому что ее отец был красильщик. Тот Гризеллини, которого возвысил граф Жозеф Бриджидо, был ее брат. Если он еще жив, он живет счастливой старостью в прекрасной столице Ломбардии. Тинторетта обладала намного большими достоинствами, чем Джульетта, чтобы влюблять в себя разумных мужчин. Она любила поэзию, и я, ожидая приезда епископа, был влюблен в нее. Она была влюблена в молодого врача по имени Ригелини, полного достоинств, умершего в расцвете лет, о котором я до сих пор сожалею. Я расскажу о нем, говоря о событиях, случившихся через двенадцать лет после описываемых.
К концу карнавала мать написала аббату Гримани, что ему должно быть стыдно, что епископ найдет меня поселившимся у танцовщицы, и он решил разместить меня порядочно и достойно. Он советовался со священником Тоселло, и рассуждая с ним о месте, которое было бы для меня наиболее подходящим, они решили, что ничего нет прекрасней, чем поместить меня в семинарию. Они сделали все без моего ведома, и кюре было поручено сообщить мне новость и убедить меня перейти туда добровольно и с добрым сердцем. Я смеялся, когда услышал, какой стиль использовал священник, чтобы меня успокоить и чтобы подсластить пилюлю. Я сказал, что готов идти туда, куда им угодно будет меня направить. Их идея была безумной, потому что в возрасте семнадцати лет и таким, какой я был, никому бы не пришла в голову мысль поместить меня в семинарию; но мысля всегда сократически, я не чувствовал никакого отвращения и не только согласился, но это показалось мне забавным, и мне захотелось быть там. Я сказал г-ну Гримани, что готов ко всему, лишь бы не был в этом замешан Раццетта. Он это обещал, но не сдержал своего слова после семинарии; я никогда не мог решить, был ли аббат Гримани добр, потому что был глуп, или его глупость была присуща его доброте. Но все его братья были из того же теста. Худший вариант, который фортуна может разыграть с молодым человеком не без таланта, это поставить его в зависимость от дурака.
После того, как меня одели в платье семинариста, кюре проводил меня в Сан Чиприано де Мурано, чтобы представить ректору семинарии. Патриаршая церковь Сан-Чиприано обслуживается монахами — сомаскинцами. Это порядок, установленный блаженным Жеромом Миани, знатным венецианцем. Ректор принял меня с нежной приветливостью. Из его речи, полной елея, я понял, что он предполагает, что меня помещают в семинарию в качестве наказания, или, по крайней мере, чтобы помешать мне продолжать вести скандальную жизнь.
— Я не могу поверить, преподобный, что меня собираются наказать.
— Нет, нет, мой дорогой сын, я хотел сказать, что вы будете очень довольны у нас здесь.
Мне показали в трех комнатах по крайней мере сто пятьдесят семинаристов, от десяти до двенадцати классов, трапезную, дортуар, сады для прогулок во время перерывов, и они предсказали мне в этом узилище самую счастливую жизнь, о которой молодой человек может только мечтать, и по прибытии епископа я буду вспоминать о ней с сожалением. В то же время они старались ободрить меня, говоря, что я останусь здесь не больше, чем на пять-шесть месяцев. Их красноречие меня смешило. Я поступил туда в начале марта. Я провел ночь с моими двумя женщинами, которые, как и г-жа Орио и г-н Роза, не могли себе представить, чтобы мальчик моего склада был таким послушным. Они поливали нашу постель своими слезами, которые мешались с моими. Накануне я отнес к мадам Манцони все мои бумаги на хранение. Это был большой пакет, который я получил из рук этой порядочной женщины пятнадцать лет спустя. Она все еще жива и здорова, в возрасте девяноста лет. Смеясь от всего сердца, что я имел глупость поступить в коллегию, она утверждала, что я останусь там не более, чем на месяц:
— Вы ошибаетесь, мадам, я дождусь там епископа.
— Вы не знаете ни себя, ни епископа, с которым вы тем более не останетесь.
Кюре проводил меня в семинарию; но на полпути он остановил гондолу на острове Сан-Мишель из-за приключившегося у меня приступа рвоты, который, казалось, меня задушит. Брат аптекарь вернул мне здоровье водой с мелиссой. Это был эффект от любовных усилий, продолжавшихся всю ночь, которые я предпринял накануне с моими двумя ангелами, поскольку боялся, что держу их в своих объятиях последний раз. Не знаю, знакомо ли читателю чувство, которое испытывает любовник, прощаясь с предметом своей любви и опасаясь, что больше его не увидит. Он делает последний комплимент, но после этого он не хочет признать, что он был последним, и он повторяет его, пока не видит, что его душа растворилась в крови.
Кюре передал меня из рук в руки ректору. Уже передали мои чемодан и постель в дортуар, куда я вошел, чтобы оставить там свои пальто и шляпу. Меня не приняли в класс взрослых, поскольку, несмотря на мой рост, я еще был молод. Я по-прежнему из тщеславия сохранял свой пушок на лице: это был пушок, которым я дорожил, потому что он не оставлял сомнений в моей юности. Это было смешно, но каков тот возраст, в котором человек перестает быть смешным. Легче победить пороки. Я решил, что тирания не распространит свою власть на меня, пока не заставит меня побриться. До той поры я буду считать ее толерантной.
— В какую школу вы хотели бы поступить? — спросил меня ректор.
— На догматику, мой преподобный отец; я хочу изучать историю Церкви.
— Я вас отведу к отцу экзаменатору.
— Я доктор и не хочу держать экзамен.
— Надо, мой дорогой сын. Пойдемте.
Это показалось мне оскорбительным. Я пришел в ярость. Я тотчас же придумал своеобразную месть, идея которой наполнила меня радостью. Я так плохо ответил на все вопросы, которые экзаменатор задал мне на латинском языке, наделал столько солецизмов[40], что он был вынужден отправить меня в нижний класс грамматики, где, к моему большому удовлетворению, я увидел в качестве соучеников восемнадцать — двадцать мальчиков от девяти до десяти лет, которые, будучи уверены, что я доктор, могли только сказать: accipiamus pecuniam et mittamus asinum in patriam suant[41].
В свободное время мои товарищи по общежитию, которые все были, по крайней мере, в школе философии, глядели на меня с презрением, и поскольку они говорили между собой на свои возвышенные темы, они смеялись надо мной, потому что я делал вид, что внимательно прислушиваюсь к их диспутам, которые должны были быть для меня загадкой. Я был далек от мысли открыться, но через три дня неизбежное событие разоблачило меня. Отец Барбариго, монах — сомаск[42] монастыря Салюте в Венеции, у которого я был среди его учеников в области физики, придя с визитом к ректору, увидел меня выходящим с мессы, и сделал мне тысячу комплиментов. Первое, что он спросил у меня, — какой наукой я занимаюсь, и он думал, что я пошутил, когда я сказал ему, что я — в грамматике. Потом пришел ректор, и мы направились в наши классы. И через час — вот он, ректор, который вызывает меня из класса.
— Почему, спрашивает он, вы притворились неучем на экзамене?
— А почему вы несправедливо меня ему подвергли?
Тогда он отвел меня, немного смущенный, в школу догматики, где мои товарищи по дортуару были удивлены, увидев меня. После обеда, на перемене, все они стали моими друзьями, образовали кружок и привели меня в хорошее настроение. Красивый семинарист пятнадцати лет, который сегодня, если, конечно, он жив, является епископом, был одним из тех, чьи лицо и талант произвели на меня впечатление. Он внушил мне самое пылкое чувство дружбы и в часы рекреаций, вместо того, чтобы играть в шары, я прогуливался только с ним. Мы говорили о поэзии. Самые красивые оды Горация давали нам радость. Мы предпочитали Ариосто — Тассо, и Петрарка был объектом нашего восхищения, а Тассони и Муратори, критиковавшие его, вызывали наше презрение. За четыре дня мы стали такими нежными друзьями, что завидовали один другому. Мы сердились, когда один из нас покидал другого, чтобы прогуляться с третьим.
За нашим дортуаром приглядывал светский монах. Его задачей было наблюдать за порядком. Вся группа после ужина направлялась в дортуар, предшествуемая монахом, называемым префектом; каждый подходил к своей постели, и, после произнесения своей молитвы тихим голосом, раздевался и спокойно ложился. Когда надзиратель видел, что мы все легли, он ложился тоже. Большой фонарь освещал это помещение, которое представляло из себя прямоугольник восьмидесяти шагов длиной и десяти — шириной. Кровати были расположены на равных расстояниях. В изголовье каждой кровати была скамеечка для молитвы, сиденье и багаж семинариста.
В конце дортуара с одной стороны была умывальня, с другой — комната, называемая гардероб. На другом конце, рядом с дверью, стояла кровать префекта. Кровать моего друга стояла по другую сторону комнаты, напротив моей. Между нами был большой фонарь. Главным делом, возложенным на префекта, было строго следить, чтобы семинаристы не ложились в постель друг с другом. Совершенно не допускался такой невинный визит; это было тяжкое преступление, так как кровать семинариста предназначалась только для того, чтобы на ней спать, а не для того, чтобы беседовать с другом. Два товарища, следовательно, могли нарушать это правило лишь вопреки закону, предоставив впрочем начальникам возможность делать с законами самим все, что угодно; и тем хуже для них, если они неправильно их трактуют. Мужские монастыри в Германии, где управители принимают меры по предотвращению мастурбации, таковы, что там эти явления присутствуют повсеместно. Авторы этих правил — невежественные глупцы, которые не понимают ни природы, ни нравственности, потому что природа требует для самосохранения этого облегчения сохранности мужчины, который не пользуется помощью женщины, и мораль пребывает, атакуемая аксиомой Nitimur в vetitum Semper cupimusque Negal [43].
Отчасти верно, что когда молодой человек мастурбирует не по зову, а вопреки настоянию природы, это вредно, но такое никогда не случается со школьником, по крайней мере, если не направлено на самозащиту, потому что в этом случае он делает это ради радости неповиновения, природной радости для всех людей, начиная с Евы и Адама, и что мы предпринимаем всякий раз, когда появляется такая возможность. Начальства монастырей для девочек в этой области показывают намного больше мудрости, чем мужчины. Они знают по опыту, что нет девушки, которая не начинала бы мастурбировать в возрасте семи лет, но они не берут на себя обязательств защищать детей от этого ребячества, хотя оно может им тоже причинить вред, но в меньшей степени, из-за малости выделений.
Это было на восьмой или девятый день моего пребывания в семинарии, когда я почувствовал, что кто-то пришел и лег в постель со мной. Он пожимает мне сначала руку, называя свое имя, и вызывает у меня смех. Я не мог его видеть, потому что фонарь был потушен. Это был аббат, мой друг, который, увидев, что темно, возымел прихоть нанести мне визит. Отсмеявшись, я попросил его уйти, потому что префект, проснувшись и увидев темный дортуар, поднимется зажечь лампу, и мы оба будем обвинены в самом старейшем из всех преступлений, хотя многие претендуют на это звание. В тот момент, когда я дал ему этот хороший совет, мы слышим шаги, и аббат убегает, но через минуту я слышу сильный удар, за которым следует хриплый голос префекта, который говорит преступнику — завтра, завтра. Запалив фонарь, он возвращается к своей кровати. На другой день, до того, как звук колокола возвестил подъем, появляется ректор с префектом. «Слушайте меня все, — говорит ректор, — вы слышали про происшествие, случившееся этой ночью. Двое из вас виновны, и я хочу их простить и, чтобы спасти их честь, сделать так, чтобы они не стали известны. Вы должны все прийти ко мне исповедаться сегодня перед переменой». Он ушел. Мы оделись, и после обеда все пошли на исповедь к нему; мы собрались потом в саду, где аббат сказал мне, что, имея несчастье наткнуться на префекта, он подумал, что лучше свалить его на землю. Благодаря этому он успел лечь. А теперь, сказал я ему, вы уверены в своем прощении, потому что вы мудро признались ректору.
— Вы шутите. Я не сказал ему ничего, потому что невинный визит, который я вам нанес, может быть расценен как преступление.
— Таким образом, вы совершили ложную исповедь, Потому что вы были виновны в неповиновении.
— Это возможно, но всему свое место, потому что это он нас заставил.
— Мой дорогой друг, вы рассуждаете очень верно, и теперь преподобный должен узнать, что наша команда более сведуща в богословии, чем он.
Это дело не имело бы дальнейшего продолжения, если бы три или четыре ночи после этого мне не вздумалось нанести ответный визит моему другу. Через час после полуночи, заимев нужду сходить в гардероб, и слыша при моем возвращении храп префекта, я быстро придавил фитиль лампы и лег в постель к моему другу. Он узнал меня сразу, и мы засмеялись, но при этом внимательно прислушивались к храпу нашего охранителя. Сначала он перестает храпеть; видя опасность, я соскальзываю с постели друга, не теряя ни минуты, и моментально перехожу на свою. Но едва я оказываюсь в ней, как вот — два больших сюрприза. Первый — что рядом со мной кто-то есть, а второй — что я вижу надзирателя, на ногах, в одной рубашке, со свечой в руке, идущего медленно, оглядывая направо и налево кровати семинаристов. Я понял, что префект сам, должно быть, зажег свою свечу, но как понять, что я вижу? Семинарист, лежащий в моей кровати спиной ко мне, спит. Я, не раздумывая, принимаю решение притвориться тоже спящим. На второй или третий толчок префекта, я делаю вид, что проснулся, другой и вправду просыпается. С удивлением увидав себя в моей кровати, он извиняется.
— Я ошибся, придя в темноте из гардероба. Но кровать была пуста.
— Это может быть, — говорю я ему, — потому что я тоже ходил в гардероб.
— Однако, говорит префект, как вы могли лечь в постель, не говоря ни слова и найдя ваше место занятым? И, находясь в темноте, как вы смогли не заподозрить, что вы, по крайней мере, перепутали постель?
— Я не мог перепутать, потому что на ощупь я обнаружил, пьедестал распятия, тот, что сейчас здесь; а что касается лежащего школьника, я его не заметил.
— Это неправдоподобно.
В то же время он направляется к лампе и замечает, что фитиль придавлен: — наверняка, она не погасла. — Фитиль притоплен; и это может быть только один из вас двоих, кто нарочно притопил его, идя в гардероб. Рассмотрим это дело завтра.
Глупый парень пошел к своей кровати, стоящей на моей стороне, и префект, после того, как снова зажег лампу, вернулся к себе.
После этой сцены проснулась вся спальня; я проспал до появления ректора, который на рассвете вошел с суровым видом вместе с префектом. После изучения помещения и долгого допроса школьника, найденного в моей постели, который, естественно, должен рассматриваться как наиболее виновный, и меня, который не может быть обвинен в совершении преступления, он ушел, приказав всем нам одеться, чтобы идти к мессе. До того, как мы были готовы, он вернулся и, обращаясь к школьнику — моему соседу, и ко мне, сказал тихо:
— Вы оба осуждены за скандальный сговор, потому что вы не могли выключить лампу иначе, как в сговоре. Мне хотелось бы считать, что причина всего — это путаница, если и не невинная, то, по крайней мере, происходящая из-за легкомыслия, но школьники шокированы, дисциплина нарушена, и поведение в этом отделении нуждается в исправлении. Выйдите.
Мы повиновались, но едва мы прошли две двери дортуара, как четверо служителей схватили нас, связали нам руки сзади, отвели обратно в помещение и поставили на колени перед большим распятием. В присутствии всех наших товарищей ректор прочел нам небольшую проповедь, после которой сказал служителям, которые были сзади нас, выполнить его приказ. Затем я почувствовал обрушившиеся на спину семь-восемь ударов каната или палки, которые я принял, как и мой глупый напарник, не произнося ни слова жалобы. Как только я был освобожден, я спросил у ректора, могу ли я написать две строчки у подножия распятия. Он приказал принести мне перо и бумагу, и вот что я написал: — «Клянусь Богом, что я никогда не говорил с семинаристом, которого нашли в моей постели. Моя невиновность поэтому требует, чтобы я протестовал, и чтобы я обратился по поводу этого гнусного насилия к монсеньору Патриарху». Напарник по моему наказанию также подписал мой протест, и я спросил у собрания, был ли кто-нибудь, кто мог бы сказать противоположное тому, о чем я поклялся в письменной форме. Все семинаристы в один голос заявили, что никто никогда не видел, чтобы мы с ним разговаривали, и мы не могли знать, кто погасил лампу Ректор вышел, шипящий, свистящий, сбитый с толку, но он, по крайней мере, не отправил нас в тюрьму на пятом этаже монастыря, отдельно друг от друга. Час спустя собрали мою постель и всю мою одежду, и лишили меня обеда и ужина на все дни. На четвертый день я увидел перед собой кюре Тоселло с приказом отвезти меня в Венецию. Я спросил его, знает ли он о моем деле, и он ответил, что говорил с другим семинаристом, который знал все и который считал нас невиновными, но он не знает, что делать. Ректор, сказал он, не хочет быть неправым. Затем я сбросил свою одежду семинариста, оделся, как это принято в Венеции, и мы сели в гондолу г-на Гримани и направились в город, в то время, как моя постель и мои вещи были погружены на судно. Лодочнику кюре указал отвезти все во дворец Гримани. По дороге он рассказал мне, что г-н Гримани приказал ему доставить меня в Венецию, но предупредить, что если я осмелюсь прийти во дворец Гримани, слугам приказано меня прогнать. Он отвез меня к иезуитам, где я остановился, не имея ничего, кроме того, что было на мне.
Я пошел обедать к мадам Манцони, которая рассмеялась, видя свое пророчество исполненным. После обеда я отправился к г-ну Роза, чтобы начать юридическую кампанию против тирании. Он обещал принести мой внесудебный иск в дом мадам Орио, куда я первым делом направился, чтобы его дождаться, и чтобы приободриться, увидев изумление моих двух ангелов. Оно было необычайным. Случившееся со мной их поразило. Пришел г-н Роза и заставил меня прочитать записку, которую он не успел оформить в виде нотариального акта. Он заверил меня, что я получу его завтра. Я пошел ужинать с моим братом Франсуа, который жил в пансионе художника Гарди. Тирания его удручала, как и меня, но я уверил его, что я от нее отделаюсь.
Около полуночи я отправился к г-же Орио на третий этаж, где мои маленькие женщины, уверенные, что я их не забуду, ждали меня. Этой ночью, признаюсь со стыдом, несчастья причинили вред любви, несмотря на две недели, что я провел в воздержании. По такому случаю я счел необходимым поразмышлять, но поговорка: — C… non vuol pensieri[44] — оказалась бесспорно верной. Утром они в шутку пожаловались мне, но я обещал, что они найдут меня другим на следующую ночь.
Проведя все утро в библиотеке де Сан Марко, потому что не знал, куда идти и не имел ни су, я вышел оттуда в полдень, отправившись обедать у госпожи Манцони, когда подошел солдат и сказал мне подойти переговорить с неким человеком, который ждет меня в гондоле, и он показал мне в сторону набережной Малой площади. Я сказал, что человек, который хочет со мной только поговорить, может сам подойти, но он прошептал мне, что с ним есть спутник, и они могут силой заставить меня пойти; не колеблясь ни минуты, я пошел. Я ненавидел огласку и публичность. Я мог сопротивляться, и меня бы не смогли арестовать, потому что солдаты не были вооружены, и арестовывать таким образом кого-либо в Венеции не положено, но я об этом не думал. Здесь вмешалось «Sequere Deum»[45]. Я не чувствовал никакого нежелания туда идти. Кроме того, есть моменты, когда даже смелый человек или не таков, или не хочет быть таким. Я сажусь в гондолу; отдергивается занавеска и я вижу Раццетту с офицером. Двое солдат садятся на носу. Я узнаю гондолу г-на Гримани. Она отчаливает от берега, и направляется в сторону Лидо. Мне не говорят ни слова, и я тоже сохраняю молчание. Через полчаса гондола прибывает в маленькую гавань форта Сент-Андре который находится в устье Адриатического моря, где останавливается Буцентавр[46], когда дож в День Вознесения отправляется жениться на море[47]. Часовой вызывает капрала, который приглашает нас подняться на берег. Офицер, сопровождающий меня, представляет меня майору, передавая ему письмо. Прочитав его, тот приказывает г-ну Зен, своему адъютанту, доставить меня в кордегардию и оставить там. Через пятнадцать минут я вижу, как они входят, и вижу адьютанта Зен, который дает мне три с половиной ливра, говоря, что столько я должен получать каждые восемь дней. Это составляет десять су в день, то-есть, буквально, жалованье солдата. Я не чувствую никакого страха, только сильное негодование. К вечеру я велел купить чего-то поесть, чтобы не умереть от голода, потом, растянувшись на досках, провел бессонную ночь в компании нескольких солдат — склавонцев, которые ничего не делали, только пели песни, ели чеснок, курили табак, заражали воздух и пили вино, называемое есклавонским. Оно как чернила, только склавонцы могут его пить. На следующий день, очень рано, майор Пелодоро — таково было его имя — вызвал меня к себе, сказав, что заставить меня провести ночь в кордегардии он вынужден был, повинуясь приказу, который получил от военного министра, называемого в Венеции Savio alla Scritura [48]. В настоящее время, господин аббат, у меня приказ доставить вас в арестантский форт и отвечать за вашу персону. У вас есть хорошая комната, куда вчера доставили вашу постель и ваши вещи. Прогуливайтесь, где хотите, и помните, что если вы убежите, вы будете причиной моей погибели. Я сожалею, что мне было приказано дать вам только десять су в день, но если у вас есть друзья в Венеции, которые готовы дать вам деньги, напишите им и доверьтесь мне в отношении безопасности ваших писем. Идите спать, если вы в этом нуждаетесь.
Меня отвели в мою комнату, она была красива, во втором этаже, с двумя окнами, из которых открывался прекрасный вид. Там я нашел свою постель и свой багаж, запертый на замок, не взломанный, с моими ключами. Майор позаботился, чтобы у меня на столе было все, что нужно для письма. Солдат-склавонец пришел сказать, что он мне будет прислуживать, и я ему заплачу, когда смогу, потому что все знали, что у меня только десять су.
Поев хорошего супу, я был заперт, лег в кровать и проспал девять часов. После моего пробуждения, майор пригласил меня поужинать. Я увидел, что все не так уж плохо. Я зашел к этому честному человеку, у которого застал большую компанию. Представив сначала меня своей жене, он назвал мне всех остальных, кто там был. Это были, в основном, военные офицеры, за исключением двух, из которых один был капелланом форта, другой — музыкант церкви Сан-Марко по имени Паоло Вида, жена которого была сестрой майора, еще молодая, которую муж заставил жить в крепости, потому что был ревнивец, а в Венеции все ревнивцы делают вид, что в городе плохо с жильем. Другие женщины, бывшие там, были ни красивы, ни уродливы, ни молоды, ни стары, но выражение доброты на их лицах сделало их всех приятными для меня.
Поскольку я был по характеру человек веселый, эта добрая застольная компания приняла меня с легким настроением. Все проявили интерес к истории, которая заставила г-на Гримани поместить меня в это место, поэтому я сделал подробный и точный рассказ обо всем, что произошло после смерти моей доброй бабушки. Это повествование заставило меня говорить в течение трех часов без горечи, а зачастую с шутками по поводу некоторых обстоятельств, которые в противном случае вызвали бы неудовольствие, так что вся компания отправилась спать, уверяя меня в своей самой нежной дружбе и предлагая мне свои услуги. Мне всегда сопутствовало это счастье, вплоть до пятидесятилетнего возраста, если я оказывался в стесненных обстоятельствах. Сначала я встречал честных людей, заинтересовавшихся историей обрушившегося на меня несчастья, и когда я рассказывал ее, я всегда возбуждал в них чувство дружбы, которая была мне необходима, чтобы сделать их более благосклонными и полезными. Хитрость, которую я использую для этого, состоит в том, чтобы излагать дело правдиво, не опуская определенных обстоятельств, рассказ о которых требует некоторого мужества. Уникальный секрет, который никто из людей не умеет использовать, так как большая часть человечества состоит из малодушных; я знаю по опыту, что истина — это талисман, обаяние которого неотвратимо при условии, что мы не тратим его на жуликов. Я думаю, что виновного, который осмеливается сказать об этом честному судье, бывает оправдать легче, чем невиновного, который выкручивается. Конечно, рассказчик должен быть молодым, или, по крайней мере, не старым, потому что человек старый имеет против себя всю природу.
Майор много шутил по поводу визита, сделанного и отданного в постель семинаристами, но капеллан и женщины его бранили. Он посоветовал мне описать всю свою историю «Знатоку письма»[49], взяв на себя обязательство доставить записку ему, и уверяя, что тот станет моим защитником. Все женщины призвали меня последовать совету майора.
Глава VII
Мое короткое пребывание в форту Сент-Андре. Мое первое любовное раскаяние. Удовольствие от мести и прекрасное доказательство алиби. Арест графа Бонафеде. Мое освобождение Прибытие епископа. Я покидаю Венецию.
В этом форту, где Республика обычно держала только гарнизон из ста эсклавонцев — инвалидов, тогда содержались две тысячи албанцев. Их называли симариоты. Военный министр, которого звали в Венеции «Знаток письма» (Sage à l'écriture), привез их из Леванта по случаю присвоения им воинского звания. Хотели, чтобы офицеры ощущали, что их заслуги оценены, и чувствовали себя вознагражденными. Все они были выходцами из той части Эпира, которая называется Албания, и которая принадлежит Республике. Тогда исполнилось двадцать пять лет с того времени, когда они проявили себя в последней войне, что Республика вела против турок. Для меня это был спектакль, новый и удивительный — видеть восемнадцать — двадцать офицеров, все старые, все здоровые, покрытые шрамами по лицу и груди и осыпанные роскошью. У их подполковника отсутствовало по меньшей мере до четверти головы. У него не видно было уха, глаза и челюсти. Однако он разговаривал и очень хорошо ел; он был очень веселый, и с ним была вся его семья из двух красивых девушек, которых их костюмы делали еще интереснее, и семи мальчиков, все солдаты. Этот человек был красавец ростом шести футов, но его лицо было настолько обезображено из-за ужасного шрама, что становилось страшно. Несмотря на это я его сразу полюбил, и я помногу бы с ним разговаривал, если бы он смог воздержаться от поедания чеснока в таких количествах, что я вынужден был заедать беседу хлебом. Он всегда носил по меньшей мере двадцать долек чеснока в кармане, как кто-нибудь из нас носит драже. Можно ли сомневаться в том, что чеснок яд? Только в медицинских количествах он придает аппетит невкусному мясу. Этот человек не умел писать, но не стыдился этого, потому что, за исключением священника и хирурга, никто в полку не обладал этим талантом. Все, офицеры и солдаты, имели кошельки, полные золота, и, по крайней мере, половина из них были женаты. Таким образом, я увидел пятьсот — шестьсот женщин и большое количество детей. Этот спектакль, увиденный впервые в жизни, меня занял и заинтересовал. Счастливая юность! Я не жалею о ней, потому что она дала мне много нового; по той же причине я ненавижу свою старость, когда я могу встретить новое только в газете, которую в те дни презирал, получая удовольствие от повседневного существования, и грядущие ужасные события, которые поневоле предвижу.
Первое, что я сделал, было выкинуть из моего багажа все, что у меня было из церковной одежды. Я безжалостно продал все еврею. Моя вторая операция состояла в том, чтобы отправить г-ну Роза все залоговые расписки, которые у меня были, и я приказал ему реализовать все и прислать мне остаток денег. С помощью этих двух операций я оказался в состоянии отдавать моему солдату те пресловутые десять су в день, что мне давали. Другой солдат, который был парикмахером, заботился о моих волосах, чем дисциплина семинарии заставляла меня пренебрегать. Я прогуливался по казармам в поисках развлечения. Дом майора — для чувства и казарма изрубленного подполковника — для толики любви по-албански были моими единственными развлечениями. Будучи уверен, что его полковник будет назначен бригадиром, он просил себе полк, в предпочтение перед конкурентом, внушавшим ему страх неудачи. Я написал ему краткое прошение, но такое энергичное, что «Знаток», спросив сначала, кто был автором, обещал ему то, что он просил. Он вернулся в форт таким счастливым, что, прижав меня к груди, сказал, что он мне всем обязан. Дав мне семейный обед, на котором его пища с чесноком сожгла мне душу, он подарил мне двенадцать бутаргов[50], и два фунта изысканного табаку с имбирем.
Эффект от успеха моего прошения заставил всех других офицеров поверить, что они ничего не добьются без помощи моего пера, и я не отказывал никому, что вовлекло меня в ссоры, потому что я служил одновременно сопернику того, которому я послужил ранее, и который мне заплатил. Став хозяином тридцати — сорока цехинов, я не боялся больше нищеты. Но вот прискорбный несчастный случай, который заставил меня провести шесть недель в большой печали.
2 апреля, в роковой день моего прихода в этот мир, сходя с кровати, я вижу перед собой прекрасную гречанку, которая говорит мне, что ее муж, прапорщик, имеет все основания, чтобы стать лейтенантом, и что это стало бы возможно, если бы его капитан не объявил себя его врагом, потому что она не хотела проявить к нему некоторое снисхождение, которое ее честь не позволяет ей проявлять ни к кому, кроме своего мужа. Она передает мне сертификаты и просит написать прошение, которое сама пойдет представить «Знатоку», и говорит в заключение, что, будучи бедой, она может вознаградить меня за старания только своим сердцем. Ответив, что ее сердца достаточно, чтобы вознаградить за труды, я веду себя с ней как человек, который стремится быть вознагражденным авансом, и встречаю то сопротивление, которое красивая женщина оказывает только для виду. После чего говорю ей прийти за запиской после полудня, и она довольна. Она не считает дурным оплатить мне секундным делом за один раз, а к вечеру, под предлогом некоторых корректировок, приходит вознаградить меня еще. Но через день после подвига, вместо того, чтобы ощущать себя вознагражденным, я оказался наказан и принужден был применить лечебное снадобье, которое лишь за шесть недель вернуло меня в полное здравие. Эта женщина, когда я был столь глуп, что упрекнул ее за подлое деяние, ответила со смехом, что она дала мне только то, что имела, и это для меня наука, чтобы быть настороже. Но мой читатель не может представить себе ни того горя, ни того стыда, что причинило мне это несчастье. Я смотрел на себя как на человека опозоренного. На примере этого события любопытные могут получить представление о моем легкомыслии. Г-жа Вида, сестра майора, чей муж был ревнивец, поведала мне однажды прекрасным утром, лежа со мной лицом к лицу, что он мучил ее душу не только своей ревностью, но и жестокостью, допуская ее спать в одиночестве в течение четырех лет, хотя она в расцвете лет. Бог не допустит, чтобы он узнал, что вы провели час со мной, добавила она, потому что он приводит меня в отчаяние. Доверие за доверие, — сказал я ей, проникнутый сочувствием, — если бы гречанка не ввела меня в позорное состояние, я счел бы, что судьба сделала меня счастливым, выбрав в качестве инструмента ее мести. При этих словах, которые я изрек со всей искренностью и, может быть, даже как комплимент, она встала, и горя гневом, высказала мне все, что оскорбленная женщина могла бы выложить забывшемуся смельчаку. Очень удивленный, хорошо понимая, что я мог бы этим пренебречь, я вернул ей реверанс. Она велела мне больше к ней не приходить, говоря, что я дурак, недостойный говорить с приличной женщиной. Я сказал ей, что приличная женщина должна быть более сдержанной в таких обстоятельствах. Я также добавил, что в дальнейшем она не будет столь сердита, и если я буду себя хорошо чувствовать, я смогу доставить ей большее удовлетворение.
Еще одним ударом, заставившим меня от души проклинать гречанку, явился для меня визит моих ангелов с их теткой и г-ном Роза в праздник Вознесения, когда форт стал местом проведения красивых представлений.
Я дал им обед и общался с ними весь день. В пустом каземате девушки прыгнули мне на шею, думая, что я сейчас выдам им хорошее свидетельство моего постоянства, но, увы! Я только надавал им в изобилии поцелуев, делая вид, что опасаюсь, что кто-то войдет.
Я написал своей матери, в каком месте держали меня до прибытия епископа, и она ответила, что написала г-ну Гримани и выразила уверенность, что я буду освобожден в самом скором времени, а что касается мебели, которую продал Раццетта, она сказала, что г-н Гримани обязался оставить наследство после смерти моему брату. На самом деле, это оказался обман. Это наследство было передано лишь тринадцать лет спустя, и то в виде стеллионата[51]. Я расскажу в свое время об этом несчастном брате, который умер в нищете в Риме двадцать лет назад.
В середине июня симариоты были отправлены в Левант, в форте остался гарнизон из ста инвалидов, и я, скучая в печали, пылал от гнева. Стояла сильная жара, и я написал г-ну Гримани, чтобы отправили мне два комплекта летней одежды, сказав ему, где они должны находиться, если только Раццетта их не продал. Я был удивлен, увидев через восемь дней этого человека входящим в комнату майора, в компании другого, которого он представил как господина Петрилло, знаменитого фаворита царицы всей России, только что прибывшего из Петербурга. Я знал его по имени, но вместо «знаменитый» он должен был о нем сказать «бесславный», и вместо «фаворит» он должен был назваться «клоун». Майор пригласил их садиться, и Раццетта, приняв из рук гондольера г-на Гримани пакет, передал его мне, говоря, — «Вот тряпки, что я принес тебе». «Придет день, — ответил я, — когда я принесу тебе Ригано». Так называлось платье осужденных на галеры. При этих словах наглец посмел поднять палку, но майор заставил его окаменеть, спросив, не хочет ли он провести ночь в кордегардии. Петрилло, который не произнес при этом ни слова, сказал затем мне, что сожалеет, не найдя меня в Венеции, потому что я бы отвел его в бордель. «Мы бы нашли там твою жену» — ответил я ему. «Я запомнил твою физиономию, — ответил он, — ты будешь повешен». Затем майор встал, говоря, что у него есть дела, и они ушли. Он заверил меня, что на следующий день принесет свои жалобы «Знатоку письменности». Но после этой сцены я стал серьезно думать о разработке проекта мести.
Форт Сант-Андре был окружен водой, и ни один часовой не мог видеть мои окна. Лодка могла подойти под мое окно, так чтобы я из него спустился, меня бы высадили в Венеции в ночное время и отвезли обратно в форт, прежде чем наступит день, и после того, как я сделаю свой ход. Нужно было найти лодочника, который, чтобы заработать денег, нашел в себе мужества, рискуя попасть на галеры. Среди нескольких, привозивших в форт провизию, один, которого звали Блез, привлек мое внимание. Когда я сделал ему свое предложение, посулив цехин, он обещал ответить в течение следующего дня.
Затем он сказал, что готов. Он узнал, не являюсь ли я важным заключенным. Жена майора ему сказала, что я заключен под стражу из-за шалости.
Мы договорились, что он будет в начале ночи под моим окном на своей лодке, с длинным шестом, таким, что я смогу его схватить и по нему выскользнуть наружу.
Он был точен. Когда мы с ним поплыли, ночь была темная, море высокое и ветер дул навстречу.
Я высадился на набережной Эсклавонцев у Гроба Господня, приказав ему меня ждать. Я завернулся в матросский плащ и пошел прямо в Сант-Августин на улицу Бернард, приказав мальчику из кафе отвести меня к двери дома, где жил Раццетта. Будучи уверен, что не найду его дома в этот час, я позвонил и услышал голос моей сестры, которая сказала, что если я хочу его найти, я должен прийти утром. Затем я пошел и сел у подножия моста, чтобы увидеть, с какой стороны он выйдет на улицу. Я увидел его без четверти в полночь, выходящим со стороны площади Св. Павла. Что ж, я узнал достаточно. Я вернулся в свою лодку и возвратился в форт, войдя через то же окно без малейших затруднений. В пять часов утра все видели меня прогуливающимся по форту. Таковы те меры предосторожности, которые я принял, чтобы утолить мою ненависть к мучителю, и быть уверенным в возможности доказать алиби, если придется его убить, как я предполагал. В день, предшествующий ночи, обговоренной с Блезом, я прогуливался с молодым Алвисом Зен, сыном прапорщика, которому было всего двенадцать лет, но который очень забавлял меня своими тонкими проделками. В дальнейшем он прославился до такой степени, что правительство направило его жить на Корфу, двадцать лет тому назад. Я буду говорить о нем в 1771 году. Прогуливаясь с этим мальчиком, я притворился, что подвернул ногу, прыгая с бастиона. Меня отнесли в мою комнату двое солдат, хирург форта заподозрил вывих и приговорил меня к постели, приложив к лодыжке салфетки, пропитанные камфарной водой. Все приходили меня проведать, и я попросил, чтобы мой солдат меня охранял, улегшись в моей комнате. Этому человеку было достаточно стакана водки, чтобы опьянеть и заснуть, как сурок. До того, как он заснул, я отправил домой хирурга и священника, который жил в комнате над моей. За полтора часа до полуночи я спустился в лодку. Вскоре после прибытия в Венецию я потратил су на хорошую палку и уселся на пороге предпоследней двери улицы со стороны площади Сен-Поль. Маленький узкий канал у входа в улицу как будто нарочно был приспособлен, чтобы сбросить в него моего врага. Этот канал сегодня уже не виден. Там его найдут через несколько лет. За четверть часа до полуночи я вижу его, идущего медленным и спокойным шагом. Я быстро выскакиваю с улицы, держась у стены, чтобы заставить его посторониться, и наношу ему первый удар в голову, второй — по руке, и третий, более размашистый, по телу, сбрасывающий его, громко кричащего и поминающего меня, в канал. В это время фурланец[52] выходит из дома с левой стороны, держа в руке фонарь, я наношу ему удар по руке, держащей фонарь, он роняет его и убегает по улице; бросив свою палку, я перелетаю площадь как птица и перехожу мост, в то время как народ ходит в двух шагах от места, где все произошло. Я миную канал в Сан-Тома, и через несколько минут я уже в моей лодке. Ветер очень сильный, но попутный, мы ставим парус и выходим в море. В тот момент, когда я влезаю в свою комнату через окно, звонит полночь. Я моментально раздеваюсь, пронзительным криком бужу моего солдата и приказываю ему идти к хирургу, потому что мне кажется, что я умираю от колик. Капеллан, разбуженный моими криками, спускается вниз и находит меня в конвульсиях. Уверенный, что диаскордиум мне поможет, он отправляется за ним, приносит, но вместо того, чтобы его принять, я его прячу, пока он ходит за водой. Через полчаса гримас я говорю, что чувствую себя хорошо, благодарю всех, и они уходят, пожелав мне хорошего сна. После отличного сна я остался в постели из-за моего предполагаемого вывиха. Майор перед отъездом в Венецию зашел меня повидать и сказал, что мои колики произошли от дыни, которую я съел.
В час пополудни я увидел опять этого майора. «У меня для вас хорошая новость — сказал он, улыбаясь — Раццетта прошлой ночью был избит палкой и сброшен в канал».
— Он не убит?
— Нет, но тем лучше для вас, потому что ваше дело было бы гораздо хуже, все уверены, что вы причастны к этому преступлению.
— Я очень рад, что в это верят, потому что отчасти я отмщен, но это будет трудно доказать.
— Вы правы. Раццетта, однако, сказал, что он узнал вас, и фурлан Патисси, которому сломали руку, в которой он держал фонарь, тоже. У Раццетты сломан нос, выбиты по меньшей мере три зуба и ушибы правой руки. Он вызвал вас к Авогадору. Как только г-н Гримани узнал о произошедшем, он написал «Знатоку письменности», жалуясь, что тот освободил вас, не предупредив его, и я приехал в военное ведомство как раз в тот момент, когда тот читал письмо. Я заверил Его Превосходительство, что это ложное подозрение, потому что я только что оставил вас в постели, неспособного перемещаться из-за вывиха, кроме того, я сказал ему, что в полночь вы чувствовали себя умирающим от колик.
— Он был избит в полночь?
— Так говорится в донесении. «Знаток» написал сначала г-ну Гримани, что он констатирует, что вы не выходили из крепости, но что пострадавшая сторона может отправить комиссаров для проверки факта. Ожидайте в течение трех — четырех дней допроса.
— Я отвечу, что сожалею о своей невиновности.
Через три дня приехал комиссар с писарем из адвокатуры и процесс завершился. Все прекрасно знали о моем вывихе, и капеллан, хирург, солдат, и многие другие, которые ничего об этом не знали, засвидетельствовали, что в полночь я умирал от колик. Как только мое алиби было найдено бесспорным, авогадор в суде приговорил Раццетту и грузчика к оплате издержек, без ущерба для моих прав. Тогда я, по совету майора, представил «Знатоку» ходатайство, в котором просил своего освобождения, и предупредил о моем демарше г-на Гримани. Восемь дней спустя майор мне сказал, что я свободен, и что он сам заступился за меня перед г-ном Гримани. Он сообщил мне эту новость за столом, в обстановке всеобщей радости. Я не поверил и, делая вид, что поверил, ответил, что мне нравится больше его дом, чем город Венеция, и, чтобы убедить его, я останусь в форте еще восемь дней, если он хочет пострадать. Он взял с меня слово, под крики радости. Когда через два часа он подтвердил мне новость, и что я больше не могу в этом сомневаться, я пожалел о своей глупости, представив себе восемь дней, что я ему обещал, но у меня не хватило смелости от этого отречься. Демонстрации удовлетворения от партии его жены были таковы, что мой отказ от своих слов сделал бы меня достойным презрения.
Эта бравая женщина понимала, что я должен был ей все, но боялась, что я так не думаю. Но вот последнее событие, которое случилось со мной в этом форте, и которое я не могу обойти молчанием. Офицер в военной форме вошел в комнату майора, следуя за человеком примерно шестидесяти лет, при шпаге. Офицер передал майору запечатанное письмо из военного управления; тот его прочел, тут же дал ответ, и офицер вышел один. Затем майор сказал, обращаясь к монсеньору, именуя его графом, что он арестует его по высшему приказанию, и что его тюрьмой является весь форт. Человек собрался отдать ему свою шпагу, но майор благородно отказался и приказал отвести его в отведенную ему комнату. Через час пришел слуга в ливрее, принеся заключенному его постель и вещи, и на следующее утро тот же слуга явился пригласить меня от имени своего хозяина позавтракать с ним. Я согласился, и вот что он мне сказал прежде всего:
— Господин аббат, в Венеции столько говорят о мужестве, с которым вы доказали действительность вашего невероятного алиби, что вы не должны удивляться моему желанию с вами познакомиться.
— Поскольку алиби реальное, господин граф, не нужно мужества, чтобы его доказать. Те, кто в нем сомневается, позвольте мне вам сказать, делают мне плохой комплимент, потому что …
— Не будем больше об этом, и простите меня. Но поскольку мы стали товарищами, я надеюсь, что вы подарите мне вашу дружбу. Позавтракаем.
После завтрака, и узнав из моих уст, кто я такой, он решил, что обязан мне той же любезностью.
— Я, — сказал он, — граф де Бонафеде. В молодости я служил под началом принца Евгения. Потом я оставил военную карьеру, чтобы служить по гражданской части в Австрии, затем в Баварии, из-за дуэли. Это было в Мюнхене, я похитил девушку высокого положения. Я привез ее сюда и женился на ней. Я здесь уже двадцать лет, у меня шестеро детей и весь город меня знает. Восемь дней назад я отправил своего лакея на Фландрскую почту, чтобы забрать мои письма, но ему их не отдали, потому что у него не хватило денег, чтобы оплатить таможню. Я явился туда лично и тщетно пытался объяснить, что заплачу обычным порядком в следующий раз. Мне в этом отказали. Я поднимаюсь к барону де Таксис, являющемуся президентом этой почты, чтобы пожаловаться на оскорбление; но он грубо ответил, что его служащие действуют только согласно его приказу и что когда я оплачу таможню, я получу свои письма. Находясь у него, я сдержался и вышел, но через четверть часа я написал ему записку, в которой обвинил его в нанесении оскорбления и потребовал сатисфакции, известив его, что я хожу со своей шпагой и получу удовлетворение там, где его встречу. Я его ни разу не встретил, но вчера секретарь государственных инквизиторов мне сказал с глазу на глаз, что я должен забыть невежливость барона и отправиться с офицером, дожидающимся снаружи, в заключение в этот форт, заверив меня, что меня задержат не более чем на восемь дней. Я нахожу истинное удовольствие провести их с вами.
Я ответил ему, что в течение двадцати четырех часов буду свободен, но, в знак благодарности за оказанное доверие, сочту за честь составить ему компанию. Будучи уже связанным словом, данным майору, я счел указанием свыше, что вежливость меня поддержала.
После обеда, поднявшись с ним в донжон форта, я указал ему на двухвесельную гондолу, причалившую к малой двери. Посмотрев в подзорную трубу, он сказал, что это его жена пришла повидать его вместе с дочерью. Мы пошли им навстречу. Я увидел женщину, которая могла бы заслуженно занимать высокое положение, и крупную девочку четырнадцати-шестнадцати лет, как мне показалось, необычной красоты. Светлая блондинка, с большими голубыми глазами, орлиным носом и прекрасным ртом, растянутым в улыбке, что позволяло рассмотреть два ряда превосходных зубов, белых, как и ее лицо, белизну которого не мог скрыть алый румянец. Ее талия, казавшаяся обманчиво тонкой, и ее шея, очень полная, позволяли любоваться сверху роскошным постаментом, на котором виднелись только два разделенных маленьких розовых бутона. Это был новый жанр красоты, подчеркнутый ее худобой. Восхищенные созерцанием этой очаровательной, полностью открытой, груди, мои ненасытные глаза не могли от нее оторваться. Моя душа в одно мгновение отдала бы ей все, чего бы она ни пожелала. Я поднял глаза на лицо девушки, которое своей улыбкой, казалось, говорило мне: вы увидите здесь, через год или два, все, о чем вы мечтаете. Она была элегантно одета по моде того времени, с большими фижмами, в костюме благородных девиц, которые еще не достигли зрелости, но молодая графиня по виду была уже взрослой. Я никогда не видел груди девицы благородного звания с меньшим убранством: мне казалось, что показано больше, чем позволено смотреть, в месте, где не было ничего, и это притягивало взгляд. Беседа по-немецки между мадам и месье кончилась, настал мой черед. Меня представили самыми лестными словами, и мне сказали все, что можно сказать самого изящного. Майор счел своей обязанностью проводить графиню осмотреть форт, что я нашел не соответствующим моему низкому статусу. Я предложил руку мадемуазель, майор с матерью нам предводительствовали. Граф остался в своей комнате. Будучи обученной обхождению с дамами лишь по старой венецианской моде, мадемуазель пропустила меня слева. Я постарался прислуживать ей самым благородным образом, положив руку ей подмышку. Она отодвинулась, громко смеясь. Мать повернулась, чтобы узнать, над чем она смеется, и я встал, осужденный, слыша ее ответ, что я щекотал подмышкой.
«Вот, — сказала она, — каким образом воспитанный господин подает руку».
Сказав это, она проводит свою руку под моей правой рукой, которую я по-прежнему держу не согнутой в локте, делая все возможное, чтобы вернуть себе самообладание. Молодая графиня, между тем, составила проект развлечься за мой счет, сделав из меня дурачка, как это делают из всех новичков, обратив меня в прах. Она начала мое обучение, стараясь округлить мне руку, в то время как я выпрямился, выпав таким образом из предписанного ею рисунка. Я признался, что не умею рисовать, и спросил ее, умеет ли она. Она сказала, что училась, и что она покажет мне, когда я пойду посмотреть на «Адама и Еву» шевалье Либери, которых она скопировала, и которых учителя находят прекрасными, хотя и не знают, что это ее рисунок.
— Почему вы скрыли?
— Потому что эти две фигуры слишком обнаженные.
— Мне не интересен ваш Адам, но очень — ваша Ева. Она меня заинтересует, и я сохраню ваш секрет.
Ее мать снова повернулась, заинтересованная ее смехом, и я снова проявил неловкость.
В тот момент, когда она захотела научить меня подавать руку, я увидел, что смогу сыграть в этом проекте большую партию. Найдя меня таким новичком, она решила, что может сказать мне, что ее Адам был гораздо красивее, чем ее Ева, потому что у него она не допустила никакой мускулатуры, как ее не видно у женщины. Это, по ее словам, фигура, у которой не видно ничего.
— Но это, положительно, то «ничего», что меня интересует.
— Поверьте мне, что такой Адам вам понравится больше.
Это предположение показалось мне столь неправдоподобным, что я почувствовал себя неприлично, и не в состоянии был это скрыть, потому что из-за сильной жары мои штаны были из тонкого полотна. Я боялся рассмешить мадам и майора, которые шли в десяти шагах перед нами и могли повернуться и меня увидеть. Когда у нее спустился с пятки задник одной из туфель, она поступила легкомысленно, протянув мне ногу и попросив меня поправить задник. Я принялся за дело, встав перед ней на колени. У нее были большие фижмы и совсем не было юбки, и, не помня об этом, она приподняла немного платье, но этого было достаточно, чтобы ничто не могло помешать мне видеть то, что чуть не заставило меня упасть замертво. Когда я поднялся, она спросила, не плохо ли мне. При выходе из каземата ее прическа сбилась, она попросила меня ее поправить и наклонила при этом голову. Мне оказалось невозможно скрыть свои обстоятельства, так что, когда она спросила, не является ли шнур от моих часов подарком какой-то красавицы; я ей ответил, заикаясь, что это моя сестра дала мне его, и тогда, окончательно демонстрируя свою невинность, она спросила, не разрешу ли я рассмотреть его ближе. Я ответил, что он зашит в кармане, что было правдой. Не поверив, она захотела вытащить его наружу, но не выдержав больше, я положил мою руку на ее таким образом, что она сочла необходимым перестать настаивать, и отступила. Она вынуждена была так поступить, потому что, проявив свои обстоятельства, я нарушил границы сдержанности. Она стала серьезной и, не осмеливаясь больше ни смеяться, ни разговаривать, мы пошли в сторожевую башню, где майор демонстрировал ее матери хранилище тела маршала Шулембурга, которое находилось там, пока ему не соорудили мавзолей. Но то, что со мной произошло, повергло меня в такое состояние стыда, что я ненавидел себя, и не сомневался не только в ее ненависти, но и в глубоком презрении. Мне казалось, что я первый, кто встревожил ее целомудрие, и что я готов на все, если мне будет дан способ заслужить ее извинение. Такова была моя деликатность в том возрасте, зависящая, однако, от моего мнения, сложившегося о персоне, которую я, быть может, обидел, мнения, в котором я могу ошибаться. Эта моя деликатность постепенно уменьшалась с течением времени до такой степени, что сегодня у меня от нее осталась только тень. Несмотря на это, я не думаю, что я более злой, чем другие, равные мне по возрасту и опыту. Мы вернемся, однако, к графу и перейдем к окончанию грустного дня. С наступлением ночи дамы отъехали. Мне пришлось обещать графине — матери нанести ей визит на мосту Барбе Фруттарол, где, по ее словам, она обитала. Мадемуазель, которую, как я считал, я оскорбил, произвела на меня столь сильное впечатление, что я провел семь дней в самом сильном нетерпении. Мне хотелось ее увидеть, чтобы получить прощение после моего покаяния.
На другой день я увидел у графа его старшего сына. Он был некрасив, но показался мне человеком благородного вида и скромного нрава. Двадцать пять лет спустя, я встретил его в Мадриде, адьютантом королевской гвардии. Он служил двадцать лет простым гвардейцем, чтобы достичь этого звания. Будучи там, я поговорил с ним. Он меня уверил, что мы не были с ним знакомы, и что он меня никогда не видел. Его стыд нуждался в такой лжи; мне его было жаль.
Граф покинул форт на утро восьмого дня, а я вышел вечером, назначив рандеву майору в кафе на площади Сан-Марко, откуда мы должны были идти вместе к г-ну Гримани.
Едва прибыв в Венецию, я отправился на ужин к мадам Орио, и провел ночь со своими ангелами, которые надеялись, что мой епископ умрет во время путешествия.
Когда я получил отставку от жены майора, женщины значительной, память о которой мне дорога до сих пор, она поблагодарила меня за все, что я сделал, чтобы доказать свое алиби, — «но оцените и меня, — сказала она, — что я проявила талант вас распознать. Мой муж узнал обо всем только впоследствии».
На следующий день в полдень я пошел к аббату Гримани вместе с майором. Он принял меня с виноватым видом. Меня поразила его глупость, когда он сказал, что я должен простить Раццетту и Патисси, к которым все относятся с презрением. Он сказал мне, что до будущего прибытия епископа он распорядился дать мне комнату, и что я могу есть за его столом. После этого я отправился с майором с визитом вежливости к г-ну Валарессо, ученому человеку, который, по окончании своего семестра, не занимал больше поста «Знатока» [53]. Когда майор ушел, он попросил меня признаться, что это я избил Раццетту; я без уверток с этим согласился и развеселил его, рассказав всю историю. Он заключил, что, поскольку эти дураки не могли быть избиты в полночь, они оказались неправы в своих обвинениях, но для меня, для доказательства алиби, в этом не было необходимости, потому что моего вывиха, произошедшего, по-видимому, реально, было вполне достаточно.
Но вот, наконец, настал момент, когда я смогу увидеть богиню моих мыслей, у которой я действительно хотел бы получить помилование или умереть у ее ног. Я без труда нашел ее дом; графа не было. Мадам приняла меня, говоря весьма любезные слова, но ее персона так меня удивила, что я не знал, что ей ответить. Направляясь повидать ангела, я полагал очутиться в райском уголке, но увидел салон, где было всего три или четыре изношенных деревянных кресла и старый грязный стол. Было ничего не видно, так как ставни были закрыты. Могло показаться, что это сделано для защиты от жары, но причина была в другом: это сделали для того, чтобы не видно было, что в окнах отсутствуют стекла. Между тем, я увидел, что дама, принимавшая меня, облачена в заштопанное платье, а ее рубашка грязна. Увидев мою растерянность, она меня покинула, сказав, что пришлет свою дочь. Минуту спустя та предстала в благородном облике, легко говоря, что она ждала меня с нетерпением, но не в это время, в которое она не привыкла принимать посетителей. Я не знал, что ей ответить, потому что она показалась мне другой. Ее разоблаченная нищета превратила ее для меня почти в уродку, я вдруг понял, что больше не считаю себя ни в чем виноватым. Я удивился впечатлению, какое она произвела на меня в форту, и она мне показалась почти обрадованной тем, что я, в результате сюрприза, в свою очередь, оказался скорее неприятно поражен, чем обрадован. Видя на моей физиономии отражение всех движений моей души, она продемонстрировала на своей не досаду, но униженность, которая внушила мне жалость. Если бы она смогла или осмелилась философствовать, она имела бы право презирать меня как человека, которого она заинтересовала только своим нарядом, или из-за произведенного впечатления своей знатности или своего богатства. Она между тем пыталась ободрить меня, разговаривая со мной искренне. Если бы она могла использовать сантименты, она могла бы обезопасить себя, сделав их своим адвокатом.
— «Я вас удивила, монсеньор аббат, и я нахожу для этого основания. Вы ожидали увидеть великолепие, а нашли печальные проявления нищеты, у вас опустились руки. Правительство выдает моему отцу очень маленькое содержание, а нас девятеро. Будучи обязаны ходить в церковь по праздникам, и иметь представительный вид, которого требует наше положение, мы часто вынуждены обходиться без еды, чтобы выкупать одежду и украшения, которые нужда заставила нас сдать в заклад. На следующий день мы сдаем их обратно. Если кюре не увидит нас на мессе, он вычеркнет наши имена из списка лиц, получающих милостыню Братства бедных. Эта милостыня нас поддерживает».
Какой рассказ! Она догадалась. Чувство охватило меня, но скорее это был стыд, чем волнение. Не будучи богатым и не чувствуя себя более влюбленным, я сделал глубокий вздох, и затем стал холоднее, чем лед. Я, однако, ответил ей честно, мягким и сочувственным тоном. Я сказал, что если бы я был богат, я бы легко убедил ее в том, что она поведала о своих несчастьях не бесчувственному человеку, и моим неизбежным отъездом я продемонстрирую ей бесполезность моей дружбы. Я закончил глупым общим местом, из тех, что используются для утешения любой обремененной нуждой девицы, даже честной. Я предсказал ей немыслимое счастье, вытекающее из необоримых сил ее очарования. Это, ответила она задумчивым тоном, может произойти лишь при условии, что человек, который найдет их необоримыми, будет сознавать, что они неотделимы от моих чувств, и сообразуясь с ними, он воздаст мне должное. Я стремлюсь лишь к законным узам, не претендуя ни на знатность, ни на богатство; я разочаровалась в одном, и могу обходиться без другого, потому что давно привыкла к бедности, и даже могу обойтись без необходимого, чего вам не понять. Однако, пойдем, посмотрим мои рисунки.
— Вы очень добры, мадемуазель.
Увы! Я уже о них не помнил, и ее Ева меня больше не интересовала. Я последовал за ней. Я вхожу в комнату, где вижу стол, стул, маленькое зеркало и не застеленную кровать, с голым тюфяком. Хотелось бы здесь вообразить, что существуют и простыни; но то, что нанесло мне последний удар, была застарелая вонь, и вот, я уничтожен. Никогда еще влюбленный не бывал исцелен быстрее. Я ощутил единственно желание уйти, чтобы никогда не возвращаться, злой, что не могу оставить на столе горсть цехинов, чтобы почувствовать себя свободным от долга и оставить цену своего выкупа. Она показала мне свои рисунки, я указал ей на те, что понравились, не останавливаясь на ее Еве и не подшучивая над ее Адамом, поскольку ощущал себя не в своей тарелке. Я спросил ее для проформы, почему, обладая таким талантом, она не занимается этим всерьез, научившись рисовать в технике пастели. Я бы очень хотела, — ответила она, — но одна коробка красок стоит два цехина.
— Извините ли вы меня, если я дам вам шесть?
— Увы! Я их принимаю; я вам благодарна и чувствую себя счастливой, что наш разговор с вами завершился таким образом.
Не сумев сдержать слезы, она отвернулась, чтобы помешать мне их увидеть. Я быстро положил на стол сумму и, из вежливости, а также чтобы избавить ее от унижения, поместил поцелуй на ее губах, который только от нее зависело посчитать нежным. Мне бы хотелось, чтобы она восприняла мою сдержанность как уважение. Прощаясь с ней, я обещал вернуться в другой день, чтобы отдать дань уважения ее отцу, но я не сдержал слово.
Читатель увидит в свое время, в какой ситуации я увидел ее снова десять лет спустя. Что за размышления по выходе из этого дома! Что за школа! Размышляя о реальности и воображении, я отдал предпочтение последнему, поскольку первая зависит от него. В основе любви, как я узнал позже, лежит любопытство в соединении с предрасположением, которое природа должна была нам дать для самосохранения, и это все. Женщина, как книга, которую, хороша она или плоха, следовало бы начинать изучать с фронтисписа; если не интересно, желание ее читать не приходит, и это желание соответствует интересу, который она вызывает. Фронтиспис женщины также просматривается сверху вниз, как и у книги, и женские ноги, которые интересуют стольких мужчин, подобных мне, вызывают такой же интерес, как у книголюба — особенности издания книги. Большинство мужчин не сосредотачивает свое внимание на красивых ногах женщины, и большинство читателей не заботится о полиграфических особенностях. Таким образом, женщины правы, что так тщательно следят за своим лицом и одеждой, поскольку именно за счет этого они могут вызвать интерес к их прочтению у тех, кого с самого их рождения природа не объявила заслуживающими родиться слепыми. Но так же, как те, кто прочитал много книг, весьма заинтересованы читать новые, даже если они плохи, бывает, что человек, который любил многих красивых женщин, приходит, наконец, к тому, что интересуется некрасивыми, просто потому, что находит их новыми. Он видит накрашенную женщину. Краска бросается в глаза, но это его не отталкивает. Его страсть становится пороком, предлагая ему аргумент в пользу какого-то ложного фронтисписа. Может быть, думает он, книга не так уж плоха, и может быть, она не нуждается в этой странной маскировке.
Он пытается отойти от нее, он хочет ее пролистать, но не тут-то было, живая книга сопротивляется; она хочет, чтобы ее читали по порядку, и книгоман становится жертвой кокетства, монстра — преследователя всех, кто следует делам любви. Умный, который читал эти последние двадцать строк, что Аполлон вывел из-под моего пера, позволь сказать тебе, что если они оказались неспособны тебя разочаровать, ты человек потерянный, иными словами, ты будешь жертвой прекрасного пола до последней минуты своей жизни. Если это тебе не неприятно, прими мои поздравления.
К вечеру я сделал визит г-же Орио, чтобы предупредить моих женщин о том, что, поселившись у г-на Гримани, я не могу начинать с того, чтобы не приходить ночевать. Старая Роза сказала мне, что только и говорили о смелости моего алиби, и что эта слава может проистекать только из уверенности, что оно было фальшивым, и я должен опасаться мести в том же роде от Раццетты. Поэтому в своих передвижениях я должен соблюдать осторожность, особенно ночью. Были все основания не пренебрегать мнением мудрой старухи. Я передвигался только в компании или в гондоле. Мадам Манзони меня похвалила за это. Юстиция, по ее словам, должна была меня оправдать, но общественное мнение знало, чьих рук это дело, и Раццетта не мог меня простить.
Через три или четыре дня г-н Гримани сообщил мне о прибытии епископа. Тот остановился в своем монастыре минимистов в Сан-Франциско де Паоло. Гримани проводил меня к этому прелату, как драгоценность, которой он дорожит, и только он может ее показать. Я увидел красивого монаха с епископским крестом на груди, который показался бы мне отцом Мансиа, если бы не выглядел более крепким и менее сдержанным. Он был в возрасте тридцати четырех лет, и он был епископ милостью Божией, Святого Престола и моей матери.
Дав мне свое благословение, которое я принял, встав на колени и поцеловав ему руку, он прижал меня к своей груди, назвав по латыни своим дорогим сыном, и в дальнейшем говоря только на этом языке. Я чуть не подумал, что он стыдится говорить по-итальянски, будучи калабрийцем, но он меня разубедил, разговаривая с г-ном Гримани. Он сказал мне, что не может взять меня с собой, что примет меня в Риме, тот же г-н Гримани позаботится отправить меня туда, и что в городе Анкона монах — минимист, его друг, по имени Лазари, даст его адрес, а также средства для этой поездки. После Рима мы больше не расстанемся и отправимся в Мартурано через Неаполь. Он просил меня прийти к нему повидаться на следующий день, очень рано утром, и, после того, как он отслужит мессу, мы позавтракаем вместе. Он сказал, что отправляется в путь послезавтра.
Г-н Гримани снова отвел меня к себе домой, держа по дороге душеспасительную речь, способную меня только рассмешить. Он, между прочим, предупредил меня, что я не должен слишком много заниматься, потому что в густом воздухе Калабрии у меня от этого может приключиться пневмония.
На другой день я явился к епископу на рассвете. После мессы и шоколада он наставлял меня в течение трех часов. Я ясно увидел, что я ему не понравился, но, что касается меня, я был очень доволен им, он мне показался очень вежливым человеком и тем, кто может вывести меня на широкую дорогу церкви, что не могло не доставить мне удовлетворения, потому что в те дни, будучи настроен, с одной стороны, очень предвзято в свою пользу, я совершенно не был в себе уверен.
После ухода этого доброго епископа г-н Гримани дал мне письмо, которое тот ему оставил, и которое я должен был передать отцу Лазари в монастыре минимов в городе Анкона. Как я понял, это был тот монах, который должен был отправить меня в Рим. Г-н Гримани сказал, что отправит меня в Анкону с венецианским послом, который собирался в дорогу, поэтому я должен был быть готов к отъезду. Это было прекрасно. Мне не терпелось вырваться, наконец, из его рук.
Как только я узнал время отправления в дорогу двора г-на Ч. да Лецце, посла Республики, я распрощался со всеми моими знакомствами. Я оставил моего брата Франсуа в школе г-на Жоли, известного художника в области театральной архитектуры. Пеота [54], на которой я отплывал в Кьоджу, должна была отчалить от берега на рассвете, и я отправился провести короткую ночь в объятиях двух моих ангелов, которые уж не надеялись увидеть меня снова. Со своей стороны, я не мог что-нибудь предсказать, потому что, предаваясь судьбе, полагал, что гадать о будущем совершенно бесполезно. Мы провели ночь между радостью и печалью, между смехом и слезами. Я оставил им ключ. Это была моя первая любовь, она меня почти ничему не научила с точки зрения познания мира, потому что она была совершенно счастливой, никогда не нарушалась какими-либо невзгодами, не была запятнана ни малейшей выгодой. Мы все трое очень часто устремляли наши души к вечному провидению с благодарностью за постоянную защиту, с которой оно оберегало нас от любого потрясения, которое могло потревожить сладкий мир, в котором мы пребывали.
Я оставил мадам Манцони все свои бумаги и все запрещенные книги, что у меня были. Эта дама, которая была на двадцать лет старше меня, и, веря в судьбу, забавлялась, перелистывая ее большую книгу, сказала мне, смеясь, что уверена, что вернет мне все, что я ей дал, не позднее следующего года. Ее предсказания удивили меня и доставили мне радость; относясь к ней с большим уважением, я счел своим долгом помочь их проверить. То, что позволяло ей видеть будущее, не было ни суеверием, ни пустым предчувствием, лишенным разума, но знанием мира и характера человека, который был ей интересен. Она смеялась, говоря, что никогда не ошибается.
Я отправился грузиться на судно с малой площади Сан-Марко. За день до этого г-н Гримани дал мне десять цехинов, которых, по его словам, мне было более чем достаточно, чтобы жить все то время, в которое я должен был оставаться в лазарете Анконы для прохождения карантина. Невозможно было предсказать, сколько мне может понадобиться денег после выхода из лазарета. Поскольку он в этом не сомневался, моим долгом было также быть уверенным, но я так не думал. Я утешал себя тем, что в моем кошельке, в тайне от всех, лежали сорок прекрасных цехинов, которые очень поддерживали мою молодую храбрость. Я уезжал с радостью в душе и без всякого сожаления.
Глава VIII
Мои несчастья в Кьодже. Францисканец отец Стефано. Лазарет Анконы. Греческий раб. Мое паломничество в Нотр-Дам де Лорето. Я иду в Рим и Неаполь пешком, чтобы найти епископа, но не нахожу его. Фортуна предлагает мне средства отправиться в Мартурано, откуда я очень быстро уезжаю обратно в Неаполь.
Этот посольский двор, который именовался великим, не содержал, на мой взгляд, в себе ничего великого. Он состоял из главы — миланца по имени Карничелли, аббата, который служил ему в качестве секретаря, поскольку сам он не владел письмом, старой женщины, которую все называли ключницей, повара и его очень некрасивой жены, и восьми — десяти лакеев. Прибыв к полудню в Кьоджу, я вежливо спросил у г-на Карничелли, где мне поместиться.
— Где захотите. Сделайте только так, чтобы этот человек знал, где вы находитесь, чтобы он смог вас известить, когда тартана (барка) подойдет к Анконе. Моя обязанность поместить вас в лазарет Анконы бесплатно до момента, пока мы не уедем. А до той поры развлекайтесь.
Этот «человек» был хозяин тартаны. Я спросил его, где я могу расположиться.
— У меня, если вы согласитесь спать в постели с г-ном поваром, чья жена будет спать на борту моей тартаны.
Я согласен, и матрос идет со мной, неся мой багаж, который он помещает под кровать, потому что кровать занимает всю комнату. Посмеявшись над этим, потому что ничего другого мне не оставалось, я пошел пообедать в гостинице, а затем отправился осматривать Кьоджу.
Это почти остров, морской порт Венеции, населением в десять тысяч душ, моряков, рыбаков, торговцев, судейских и чиновников налоговой службы и финансов республики. Завидев кафе, я туда вошел. Молодой доктор права, который был моим одноклассником в Падуе, расцеловал меня и познакомил с аптекарем, лавка которого находилась рядом с кафе, где, по его словам, собирались все пишущие люди. Спустя четверть часа входит большой одноглазый монах — якобинец из Модены, по имени Корсини, которого я знал по Венеции, видит меня и раскланивается. Он говорит, что я приехал как раз вовремя, чтобы участвовать в пикнике, который члены макаронической (шуточной) академии устраивают на следующий день, после заседания академии, где каждый ее член читает свою композицию в честь и во славу макаронизма . Он уговаривает меня оказать честь академии и прочитать свой отрывок, и быть на пикнике, и я соглашаюсь. Я сочинил десять стансов и был принят в академию при всеобщем одобрении. Я проявил себя еще лучше за столом, поедая макароны, так что сочли меня достойным, чтобы объявить принцем. Молодой доктор, тоже академик, представил меня своей семье. Его родственники, во многом, благодаря его поддержке, воздали мне почести. Это были очень любезная сестра, и вторая, набожная, давшая обет, которая показалась мне чудом.
Я мог бы приятно провести время в этом обществе до своего отъезда; но было начертано свыше, что в Кьодже я должен был испытать лишь горести. Молодой доктор дал мне также другой знак дружбы: он предупредил меня, что отец Корсини человек дурной компании, что его невозможно вытерпеть, и что я должен его избегать. Я поблагодарил доктора за этот совет, но не счел необходимым ему последовать, потому что полагал, что его дурная репутация вытекает только из его распущенности. Будучи терпимым по своей природе и достаточно легкомысленным, чтобы не опасаться ловушек, я думал, что этот монах может, наоборот, доставить мне много приятностей. На третий день этот роковой монах познакомил меня с местом, куда я мог отправиться в одиночку, и где, чтобы представиться смелым, я отдался несчастной уродливой шлюхе. Выйдя оттуда, он отвел меня в гостиницу на ужин с четырьмя капуцинами, его друзьями, где один из них после обеда организовал банчок в фараон.
Потеряв четыре цехина, я хотел уйти, но мой добрый друг Корсини уговорил меня рискнуть еще четырьмя напополам с ним. Он пошел ва-банк, и проиграл. Я не хотел больше играть, но Корсини, представляясь огорченным, что явился причиной моего проигрыша, посоветовал мне поставить в банк двадцатку, и мой банк лопнул. Не имея сил смириться с таким большим проигрышем, я мог только молиться. Надежда вернуть мои деньги привела к тому, что я проиграл остальное. Я отправился спать с поваром, который, проснувшись, сказал мне, что я распутник. Я ответил ему, что это правда.
Моя натура, пораженная этим большим несчастьем, ощутила потребность оказаться бесчувственной, погруженной в некое подобие смерти. Чертов мучитель якобинец разбудил меня в полдень, чтобы сказать мне с торжествующим видом, что богатый молодой человек пригласил нас на обед, его нельзя терять, и поэтому надо прийти в себя.
— Я потерял все свои деньги. Одолжите мне двадцать цехинов.
— Когда даешь взаймы, наверняка потеряешь: это, конечно, суеверие, но я многократно это проверял. Попытайтесь найти их в другом месте и приходите. Прощайте.
Испытывая стыд оттого, что пришлось признаться моему мудрому другу, я разузнал у первого встречного, где найти честного заимодавца под залог. Я отправился старику, которого привел к себе, и который опустошил мой багаж. После проведения инвентаризации всего моего имущества, он дал мне тридцать цехинов, при условии, что если я не верну ему всю сумму не позднее, чем через три дня, все достанется ему. Никаких процентов. Прекрасный малый! Я написал ему расписку, и он унес все, дав мне тридцать новеньких цехинов. Он заставил меня взять три рубашки, носки и носовые платки, я не хотел брать ничего. У меня было твердое предчувствие, что вечером я верну все деньги. Спустя несколько лет я отомстил себе, написав диатрибу (обличительную речь) против предчувствий. Я думаю, что единственное предчувствие, на которое мудрый человек может обращать внимание, это то, которое предрекает ему несчастье; оно подсказывается разумом. Предсказание счастья исходит от сердца, а твое сердце — глупец, полагающийся на сумасшедшую фортуну. Я не ощущал ничего более насущного, чем присоединиться к честной компании, которая, в свою очередь, ничего другого не желала, как только моего прихода.
За ужином об игре не говорили. Они высказывали самые помпезные суждения о моих выдающихся качествах, и восхваляли высокую судьбу, которая ждет меня в Риме. Я сам, после обеда, видя, что не говорят об игре, настойчиво попросил дать мне реванш. Мне предложили держать банк, и все остальные будут понтировать. Я так и сделал, и, потеряв все, просил выигравшего расплатиться с хозяином, и он сказал, что ответит за меня. Ложась спать в отчаянии, я увидел, в довершение неприятностей, признаки той же болезни, от которой, не прошло еще и двух месяцев, как я вылечился. Я уснул, ошеломленный.
Я проснулся после одиннадцати часов, но в оцепенении ума продолжал лежать в полудреме. Я ненавидел мысль и свет, которых сам себе казался недостоин. Я боялся окончательно проснуться и столкнуться с жестокой необходимостью принимать решение. Мне ни на минуту не приходила в голову мысль о возвращении в Венецию, что, однако, я должен был бы сделать; я скорее желал умереть, чем поведать молодому доктору свою ситуацию. Моя жизнь стала мне в тягость, я предпочитал умереть от голода, не беспокоя его. Наверняка, я не решился бы вставать, если бы старина Альбан, хозяин тартаны, не пришел растолкать меня, приглашая подняться на борт, потому что ветер благоприятный, и он хочет отплыть.
Смертный, избавляясь от растерянности, независимо от найденного средства, чувствует облегчение. Мне казалось, что капитан Альбан пришел сказать мне, что я должен сделать в моем крайнем положении. Быстро одевшись, я положил свои рубашки в носовой платок и взошел на тартану. Через час тартана подняла якорь и утром бросила его уже в порту Истрии, называемом Орсара. Мы все сошли на берег, чтобы отправиться на прогулку в этом городе, который не заслуживает названия. Он принадлежит папе, венецианцы передали его ему, чтобы отдать дань престолу Святого Петра. Поскольку капитан Альбан был паломником святого Франциска Ассизского, его тартана была ошвартована бесплатно; молодой монах францисканец по имени фра Стефано из Белуна подошел ко мне и спросил, не болен ли я.
— Отец мой, я в горе.
— Вы развеете свое горе, пойдя со мной позавтракать к одной из наших прихожанок.
Прошло тридцать шесть часов после того, как последняя пища попадала в мой желудок, и бурное море заставило меня отдать все, что могло еще там оставаться. Кроме того, моя секретная болезнь беспокоила меня до крайности, не говоря уже об унижении, которое угнетало мою душу, поскольку я остался без гроша. Мое состояние было настолько грустно, что у меня не было сил чего-либо желать. Я последовал за монахом в состоянии полнейшей апатии.
Он представил меня своей прихожанке, говоря, что проводит меня в Рим, где я поклонюсь святому Франциску. В любой другой ситуации я бы не допустил такой лжи, но в то время этот обман показался мне забавным. Добрая женщина подала нам хорошей рыбы, сдобренной маслом, которое в этих краях превосходно, и налила рефоско (вино), которое я нашел отменным. Священник, зашедший туда случайно, посоветовал мне не проводить ночь на тартане, а занять койку у него в доме, и даже пообедать на следующий день, если ветер не позволит нам отплыть. Я согласился без колебаний. Поблагодарив прихожанку, я отправился на прогулку со священником; он накормил меня хорошим обедом, приготовленным его экономкой, которая сидела с нами за столом, и которая мне понравилась. Его рефоско, еще лучше, чем у прихожанки, заставило меня забыть свои несчастья; я болтал с этим священником довольно весело. Он хотел прочитать мне свою небольшую поэму, но, не имея больше сил держать свои глаза открытыми, я сказал ему, что охотно услышал бы ее на другой день. Я лег в постель, позаботившись, чтобы моя чума не попала на простыни.
Десять часов спустя экономка, которая поджидала, когда я проснусь, принесла мне кофе, потом оставила меня, чтобы я мог спокойно одеться. Эта экономка, молодая и хорошо сложенная, показалась мне заслуживающей внимания. Я был смертельно огорчен, что мое состояние помешало мне убедить ее, что я отдаю ей должное.
Я не мог мучиться душой по поводу происшедшего, из-за своей холодности или грубости. Будучи преисполнен решимости отплатить моему доброму хозяину, внимательно выслушав его поэму, я послал к черту грусть. Я сделал о его стихах замечания, которые его очаровали, так что, найдя меня более умным, чем он полагал, он захотел прочитать мне свои идиллии, и я продолжал страдать. Я провел с ним весь день. Удвоенное внимание ко мне экономки показывало, что я ей понравился и, по совпадению, она понравилась мне. День у священника пролетел, как мгновенье, благодаря красотам, которые я находил в тех вещах, впрочем, весьма плохих, что он мне читал; но время стало тянуться для меня долго из-за этой экономки, которая должна была отвести меня в постель. Таков я, и не знаю, должно ли мне быть стыдно, или надо меня поздравить. В моем самом плачевном состоянии, как физически, так и морально, душа моя посмела предаваться радости, забывая все действительные причины грусти, которые должны были бы сокрушить любого другого здравомыслящего человека.
Момент настал. После нескольких предварительных маневров, я нашел ее благосклонной, до определенного момента, и склонной к отказу, когда я сделал вид, что хочу отдать ей полную справедливость. Довольный тем, что получил, и еще более тем, что она ни слова не сказала о главнейшем, я спал прекрасно. На следующий день, при утреннем кофе, ее вид сказал мне, что она в восторге от интимного взаимопонимания, которое мы проявили. Я предпринял некие шаги, чтобы убедить ее, что моя нежность не вызвана влиянием рефоско, и она не повторила упреков; она скрасила свой отказ соглашением, которое меня устроило. Она сказала, что лучше отложить все на вечер, потому что, на удивление, юго-восточный ветер стал сильнее, чем был накануне. Это было формальное обещание. Я решил следовать правилу: servatis servandis[55].
На следующий день священник был таким же, как и накануне. Когда настало время идти в постель, экономка шепнула мне, уходя, что вернется. Обследовав себя, я счел, что, с некоторыми мерами предосторожности, я мог бы сделать дело, не рискуя заслужить упрек в непростительной несправедливости. Мне казалось, что, воздерживаясь и объяснив ей причину, я покрою себя позором и сгорю от стыда. Если бы я был благоразумен, я не должен был и начинать; мне казалось невозможным больше уклоняться. Она пришла. Я принял ее в соответствии с ее ожиданиями, и, проведя с удовольствием пару часов, она вернулась в свою комнату. Два часа спустя явился капитан Альбан, чтобы сказать мне поторопиться, потому что он отплывает от Истрии, чтобы быть к вечеру в Поле. Я вернулся на тартану.
Францисканец фра Сефано забавлял меня весь день сотней предложений, в которых я видел невежество, смешанное с обманом за завесой простоты. Он показал мне всю милостыню которую собрал в Орсаре, хлеб, вино, сыр, колбасы, конфитюры и шоколад. Все большие карманы его святой одежды были полны провизией.
— Есть ли у вас также и деньги?
— Упаси меня боже. Во-первых, наша славная организация запрещает мне их касаться, а во-вторых, если, собирая пожертвования, я бы принимал деньги, то это были бы одно-два су, а то, что подают мне в виде продуктов, стоит в десять раз больше. Святой Франциск, поверьте мне, был очень умен.
Я размышлял о том, что этот монах извлекает богатство именно там, где я прихожу к нищете. Он сделал меня своим сотрапезником, и был горд, что я охотно оказывал ему эту честь.
Мы спустились в порт Полы, называемый Веруда. После пятнадцатиминутного подъема по дороге, мы вошли в город, где я провел два часа, изучая римские древности, поскольку этот город был столицей империи; но я не нашел других признаков величия, кроме развалин арены. Мы вернулись в Веруду, откуда, подняв паруса, на следующий день мы оказались перед Анконой, но мы лавировали в течение ночи, чтобы войти туда на следующий день. Этот порт, хотя он и считается знаменитым, благодаря монументу Траяна, был бы очень плох без дамбы, сделанной с большими затратами, которая делает его довольно удобным. Любопытно то, что в Адриатическом море с северной стороны много удобных портов, в то время, как с противоположной стороны имеются лишь один или два. Очевидно, что море отступает на восток, и что через три или четыре века Венеция будет присоединена к материку.
Мы причалили в Анконе к старой карантинной станции, где нам надо было проходить карантин в течение двадцати восьми дней, потому что Венеция приняла, после трех месяцев карантина, экипажи двух судов из Мессины, где недавно была чума. Я попросил комнату для меня и фра Стефано, который был мне бесконечно благодарен, и арендовал у евреев кровать, стол и несколько стульев, за которые должен был выплатить арендную плату по окончании карантина; монах захотел только соломенный тюфяк. Если бы он мог догадаться, что без него я бы, наверно, умер от голода, он не был бы так горд, поселившись со мной. Матрос, который надеялся найти меня щедрым, спросил, где моя поклажа, и я ответил, что ничего об этом не знаю; он предпринял большие усилия, чтобы найти ее с капитаном Альбан, который меня рассмешил, когда принес тысячу извинений за то, что потерял ее, обещая, что за три недели найдет багаж. Монах, который должен был прожить со мной четыре недели, рассчитывал жить за мой счет, в то время, как это его мне послало провидение, чтобы меня поддержать. Провизии имелось на восемь дней.
После обеда я в патетическом тоне поведал ему о печальном состоянии моих дел и о том, что я нуждаюсь во всем до момента прибытия в Рим, где поступлю на службу к послу в качестве (соврал я) секретаря по меморандумам. Я был немало удивлен, когда увидел, что фра Стефано развеселился, слушая грустную историю моего невезения.
— Я возьму на себя заботу о вас до самого Рима, — заявил он. Скажите только, умеете ли вы писать.
— Вы насмехаетесь?
— Какое счастье! Я, например, могу написать только свое имя: правда, я могу его писать также и левой рукой, но что бы мне дало умение писать?
— Я немного удивлен, потому что думал, что вы священник.
— Я не священник, я — монах, я могу отслужить мессу, и, соответственно, должен уметь читать. Святой Франциск, недостойным сыном которого я являюсь, видите ли, не умел писать; говорят даже, что он не умел читать и что именно по этой причине он никогда не произносил мессу. Итак. поскольку вы умеете писать, вы напишете завтра от моего имени всем людям, которых я вам назову, и я обещаю вам, что нас снабдят едой в избытке вплоть до окончания карантина.
Он заставил меня провести весь следующий день за написанием восьми писем, потому что, согласно существующей устной традиции его ордена, каждый брат уверен, что, постучавшись в семь дверей, где ему откажут в милостыни, он найдет ее в изобилии в восьмой. Проделав неоднократно путь в Рим, он знал все лучшие дома Анконы, преданные Св. Франциску, и все начальство богатых монастырей. Я должен был написать всем, кого он мне назвал, все те нелепости, что он хотел. Он заставил меня подписать его имя, ссылаясь на то, что если бы он подписался сам, стало бы понятно по разнице почерков, что это не он писал письма, что нанесло бы ему ущерб, потому что в этом поврежденном веке ценятся только ученые. Он заставил меня заполнить письма латинскими пассажами, даже такими, где говорится о женщинах, и мои протесты были бесполезны. Я сопротивлялся, но он угрожал не давать мне больше еды. Я решил делать все, что он хочет. В некоторых из этих писем были выдумки, противоречившие другим. Он заставил меня говорить, что начальство иезуитов не жалует капуцинов, потому что те, якобы, атеисты, из-за чего святой Франциск их не выносил. Я счел необходимым заметить, что во времена св. Франциска не было ни капуцинов, ни францисканцев, но он назвал меня невеждой.
Я подумал, что нас сочтут сумасшедшими, и никто ничего нам не даст. Я был неправ. Меня поразило большое количество провизии, приносимой на второй и третий день. Нам присылали вино во все время карантина, трех или четырех сортов. Это было «вареное» вино, от которого мне было плохо; я также пил лечебную воду, потому что хотел поскорее выздороветь. Что касается еды, у нас ее было каждый день столько, что хватило бы на пять — шесть персон. Мы дарили ее нашему стражнику, который был беден и был отцом многочисленного семейства. За все это мой монах испытывал благодарность только Св. Франциску, а не добрым душам, которые оказывали ему милость. Он не решился отдать постирать мои невозможно грязные рубашки нашему стражнику, объяснив мне, что не будет рисковать, поскольку все знают, что францисканцы не носят рубашек. Он не знал, что в мире существует болезнь вроде моей. Поскольку я проводил целый день в постели, я уклонялся от обязанности видеть тех, кто, получив его письмо, полагали своим долгом его посетить. Те, кто не приходил, отвечали письмами, полными мелко написанной ерунды, на которые я не собирался обращать его внимание. Я постарался ему объяснить, что эти письма не требует ответа.
За пятнадцать дней режима мое недомогание смягчилось, я стал по утрам выходить на прогулку во двор, но прибыл турецкий купец из Салоник, поступил со всей своей свитой в карантин и расположился в первом этаже и на дворе, так что я был вынужден прекратить свои прогулки. Единственным удовольствием мне оставалось проводить часы на моем балконе в том же дворе, где прогуливался турок. Меня заинтересовала греческая рабыня необычайной красоты. Она проводила почти весь день, сидя в дверях своей комнаты и занимаясь в тени вязанием или чтением. Стояла сильная жара. Когда, подняв свои красивые глаза, она видела меня, она отводила их в сторону, и зачастую, имитируя удивление, вставала и медленно возвращалась в свою комнату, как будто хотела сказать: я не замечала, что за мной наблюдают. Она была высокого роста и выглядела совсем юной. У нее была белая кожа и черные глаза, волосы и брови. Ее одежда была греческой и, соответственно, очень соблазнительной. Пребывая в праздности в карантинной станции, при моем характере и привычках, мог ли я созерцать такой объект по четыре-пять часов каждый день, не сходя с ума? Я слышал, как она говорила на лингва-франка со своим хозяином, старым красивым мужчиной, скучавшим, как и она, и появлявшимся ненадолго со своей трубкой в зубах, чтобы снова войти обратно. Я бы сказал несколько слов этой девочке, если бы не боялся ее спугнуть и никогда больше не увидеть. Я решился, наконец, написать ей, не задумываясь о том, как ей сообщить о моем письме; в конце концов, я мог бы бросить его ей под ноги. Будучи, однако, не уверен, что она поднимет его, я решил не рисковать, делая неверный шаг.
Выждав момент, когда она была одна, я бросил бумажку, сложенную, как письмо, где я ничего не написал, держа свое настоящее письмо в руке. Когда я увидел, что она наклонилась, чтобы поднять ложное письмо, я бросил ей и другое, после чего она взяла оба и положила их в свой карман, а затем исчезла. В моем письме было сказано: «Обожаемый ангел Востока. Я пробуду всю ночь на этом балконе, мечтая, что вы придете всего на четверть часа, чтобы услышать мой голос через отверстие, которое у меня под ногами. Мы тихо поговорим, а чтобы меня слышать, вы сможете подняться на тюк, который лежит под таким же отверстием». Я попросил моего стражника не запирать меня, как он делал каждую ночь, и он легко согласился, при условии, однако, что он за мной проследит, поскольку, если я решу спрыгнуть вниз, у него будут неприятности. Он мне обещал, однако, не подниматься на балкон. Таким образом, ожидая на месте, я увидел ее, когда уже наступила полночь, и я начал уже отчаиваться. Я лежал на животе, сунув голову в отверстие в форме неровного квадрата, пять на шесть дюймов. Я увидел, что она взобралась на тюк, встав на который, она головой лишь на шаг не доставала до пола балкона. Она была вынуждена опираться рукой о стену, потому что занимала очень шаткое положение. В этом положении мы говорили о любви, желаниях, препятствиях, о невозможности и об уловках. Когда я рассказал ей про причины, которые помешали мне спрыгнуть вниз, она сказала, что даже если бы мы решились, мне оказалось бы невозможно подняться обратно. Кроме того, бог знает, что бы сделал турок с ней и со мной, если бы захватил нас врасплох. После того, как она пообещала приходить поговорить со мной каждую ночь, она протянула свою руку в отверстие. Увы! Я не мог насытиться, целуя ее. Мне казалось, что я никогда не касался руки более мягкой и нежной. Но какое наслаждение, когда она попросила у меня мою! Я быстро вложил в отверстие всю свою руку, так что она прижалась губами к складке локтя; она извинила мою хищную руку за все те кражи, которые та смогла проделать на ее греческом горле, и в которых я был гораздо более ненасытен, чем в поцелуях, что я запечатлел на ее руке. После нашего расставания, я посмотрел с удовольствием на охранника, который крепко спал в углу комнаты.
Очень довольный, что получил все, что в этом неудобном положении мог получить, я с нетерпением ждал следующей ночи, перебирая в голове запутанные варианты, пытаясь найти способ добиться больших услад; но гречанка, лелея в голове те же мысли, заставила меня признать ее ум более плодовитым, чем мой. После обеда она появилась со своим хозяином во дворе и говорила ему что-то, что он одобрил. Затем я увидел турецкого слугу и помогавшего ему стражника, тащивших большую корзину с товарами, которую они поставили под балконом, в то время как она поставила еще один тюк поверх двух других, вроде бы освобождая больше места для корзины. Проникнув в ее замысел, я затрясся от восторга. Я увидел, что таким образом она обеспечивает средство подняться ночью на два фута выше. Но что с того? Она окажется в самой неудобной позиции: наклонившись, она не сможет удержаться. Отверстие недостаточно большое для того, чтобы она смогла самостоятельно просунуть в него всю голову. В ярости оттого, что я не мог надеяться расширить эту дыру, я вытягивался, я ее изучал, и я не видел другого способа, чем разломать весь старый настил между двух балок снизу. Я иду в комнату; стражника там нет. Я выбираю самые мощные из всех клещей, что там вижу; я принимаюсь за работу, и после нескольких попыток, все время боясь быть захваченным врасплох, я вытягиваю четыре больших гвоздя, что удерживают настил на двух балках, и вот — я вижу себя мастером подъемных работ. Я оставляю настил на месте и с нетерпением жду ночи. Немного поев, я отправляюсь на балкон.
Объект моих желаний появился в полночь. Наблюдая с волнением, сколько ловкости ей понадобилось, чтобы взобраться на новый тюк, я между тем поднимаю свой настил, откладываю его в сторону, и, вытянувшись, предлагаю ей руку во всю длину, она хватается за нее, поднимается, и — она удивлена, выпрямившись и увидев себя на моем балконе до половины живота. Она протянула туда полностью свои голые руки без каких-либо затруднений.
Три или четыре минуты мы потратили на восхваления тому обстоятельству, что, не сговариваясь, оба действовали в одном направлении. Если в предыдущую ночь я был более ее хозяином, чем она моей хозяйкой, в эту ночь она полностью владела мной. Увы! Вытянувшись, насколько возможно, я не мог протянуть свои руки дальше, чем до ее середины. Я был в отчаянии; но она, охватывая всего меня своими руками, была опечалена тем, что могла удовлетворить только свой рот. Она изливала по-гречески тысячи проклятий тому, кто не сделал тюк больше, по крайней мере на полфута. Мы еще не были счастливы, но моя рука могла отчасти смягчить ярость гречанки. Наши удовольствия, хотя и стерильные, занимали нас до рассвета. Она удалилась без малейшего шума, и после того, как я положил на место настил, я пошел спать, нуждаясь в наибольшей степени в восстановлении сил.
Она сказала мне, что начинается малый Байрам, который продлится три дня, и она сможет прийти только на четвертый день. Это Пасха турок. Малый Байрам длится дольше, чем большой. Я провел эти три дня, наблюдая их обряды и непрерывные передвижения. В первую ночь после Байрама она сказала мне, держа меня в своих любящих руках, что она может быть счастлива, только принадлежа мне, и, будучи христианином, я мог бы купить ее, дождавшись в Анконе окончания их карантина. Я должен был ей признаться, что я беден, на что она вздохнула. На следующую ночь она сказала мне, что ее хозяин будет продавать ее за две тысячи пиастров, что она может дать их мне, что она девственница, и что я мог бы в этом убедиться, если бы тюк был побольше. Она сказала, что даст мне коробку с бриллиантами, из которых только один стоит две тысячи пиастров, и, продав остальные, мы могли бы жить спокойно, не опасаясь нищеты. Она сказала мне, что ее хозяин заметит пропажу коробки только после окончания карантина, и что он заподозрит любого, кроме нее. Я был влюблен в это создание, ее предложение меня беспокоило, но, проснувшись на следующий день, я больше не колебался. Она пришла на следующую ночь с коробкой, и когда я сказал ей, что не могу заставить себя стать соучастником воровства, она ответила, плача, что я не люблю ее так, как она любит меня, но что я истинный христианин. Это была последняя ночь. На следующий день, в полдень, начальник карантина должен был прийти и освободить нас. Прекрасная гречанка, полностью под влиянием своих чувств, и уже не в силах сопротивляться огню, сжигавшему ее душу, сказала мне, чтобы я встал, нагнулся, подхватил ее подмышки и вытянул ее всю на балкон. Что это за влюбленный, который смог бы противостоять такому приглашению. Голый, как гладиатор, я поднимаюсь, я наклоняюсь, я подхватываю ее подмышки, и, не прилагая усилий Милона из Кротона[56], вытаскиваю ее наверх; когда я хватаю ее за плечи, я слышу голос стражника, который говорит мне, — «Что вы делаете?». Я отпускаю ее, она убегает, и я падаю на живот. У меня нет сил подняться, и я позволяю стражнику мне помочь. Он думает, что усилие меня убьет, но я хуже чем мертв. Я не поднимаюсь, потому что могу его задушить. Наконец, я иду спать, ничего ему не говоря, и даже не вернув на место настил. Приор пришел утром, объявив нас свободными. Уходя оттуда с сокрушенным сердцем, я увидел гречанку, утирающую слезы.
Я нанес визит на биржу вместе с фра Стеффано, где он оставил меня с евреем, которому я должен был выплатить арендную плату за сданную мне мебель. Я отвел его к францисканцам, где отец Лазари дал мне десять цехинов и адрес епископа, который, после карантина на границе Тосканы, будет в Риме, где я должен его разыскать. После расплаты с евреем и плохого обеда в гостинице, я направился на биржу, чтобы увидеть фра Стеффано. По пути я имел несчастье встретить капитана Альбана, который осыпал меня оскорблениями из-за моего багажа, который я якобы забыл у него. После того, как я успокоил его, рассказав всю, достойную сожаления, историю, я дал ему расписку, в которой подтвердил, что я не имею к нему претензий. Я купил себе туфли и синий редингот.
На бирже я сказал фра Стеффано, что хотел бы отправиться в Санта-Каса Нотр-Дам-де-Лоретто, что я буду его ждать три дня, а оттуда мы могли бы отправиться в Рим вместе пешком. Он ответил, что не собирался идти в Лоретто, и что я раскаюсь в том, что презрел покровительство святого Франциска. На следующий день я отправился в Лоретто, чувствуя себя очень хорошо. Я пришел в этот святой город без сил. Первый раз в жизни я сделал пятнадцать миль пешком, утоляя жажду только водой, потому что вареное вино сожгло мне желудок. Несмотря на свою бедность, я не выглядел как нищий. Жара была необычайная. При входе в город я встретил аббата, выглядевшего респектабельно, преклонного возраста. Видя, что он внимательно меня рассматривает, я снял шляпу и спросил его, где есть приличное общежитие. Он ответил: «Видя, что кто-то вроде вас идет пешком, я полагаю, что вы приехали по обету, чтобы посетить это святое место. Ella venga meco[57]». Он сворачивает и приводит меня к красивому дому. Переговорив на отдалении с хозяином, он приблизился, говоря с благородным видом: ella sarà ben servita[58]. Я подумал, что они приняли меня за другого, но решил покориться обстоятельствам. Меня провели в апартаменты из трех комнат, где спальня была увешана дамасским полотном, стояла кровать под балдахином и открытый секретер со всем необходимым для письма. Слуга дал мне легкий домашний халат, а затем вышел и вернулся с другим слугой, несущим за два ушка большой бак, полный воды. Его поставили передо мной, меня разули вымыли мне ноги.
Вошла очень хорошо одетая женщина в сопровождении слуги, несущего простыни, и, сделав скромный реверанс, приготовила постель.
После умывания прозвенел колокол, они стали на колени, и я сделал то же. Это был «Анжелюс». Поставили прибор на маленький столик и спросили меня, какое я пью вино; я ответил Кьянти. Принесли газету и два серебряных подсвечника, а затем вышли. Через час был подан постный обед, очень вкусный, и, прежде чем я отправился спать, меня спросили, свой шоколад я хочу пить перед или после мессы. Я ответил, что перед, гадая про себя о смысле этого вопроса. Я ложусь, мне приносят ночник с отражателем и выходят. Я лежу в постели, подобную которой видел только во Франции. Все было предусмотрено на случай бессонницы, но я не испытывал в этом нужды. Я проспал около десяти часов. Ощущая на себе такую заботу, я уверился, что нахожусь не в общежитии, но смел ли предположить, что нахожусь в приюте? На следующее утро, после шоколада, — манерный парикмахер, который говорит, не дожидаясь вопросов. Полагая, что я не желаю оставлять бороду, он предлагает подправить мой пушок кончиками ножниц, после чего, по его словам, я стану выглядеть еще моложе.
— Кто вам сказал, что я хочу скрыть свой возраст?
— Это очень просто, потому что, если бы монсиньор не думал об этом, он бы не брился еще долгое время. Здесь графиня Марколини. Монсиньор ее знает? Я должен пойти ее причесать в полдень.
Видя, что я не заинтересовался графиней, болтун продолжил:
— Монсеньор в первый раз поселился здесь? Во всех странах нашего Господа нет более прекрасного приюта.
— Я тоже так полагаю и я воздам о нем хвалы Его Святейшеству.
— О! Он это прекрасно знает! Он сам здесь бывал до возведения на престол. Если монсеньор Караффа с вами незнаком, он вам не представится.
Вот почему парикмахеры полезны иностранцам по всей Европе; но не следует их расспрашивать, ибо тогда они смешивают истину с ложью, и вместо того, чтобы рассказывать, сами выспрашивают. Полагая себя обязанным сделать визит монсеньору Караффа, я попросил себя к нему проводить. Он принял меня очень хорошо, и после того, как показал мне свою библиотеку, дал мне в качестве чичероне одного из своих аббатов, который был моего возраста, и которого я нашел исполненным разума. Он мне все показал. Этот аббат, если он еще жив, в настоящее время каноник Св. Иоанна Латеранского. Спустя двадцать восемь лет он оказался мне полезен в Риме.
На следующий день я причастился в памятном месте, где Дева Мария родила нашего Создателя. [59].
Я посвятил третий день тому, чтобы повидать все сокровища этого замечательного святилища. На следующий день рано утром я ушел, потратив только три паоли [60] в парикмахерской.
На полпути к Мачеррато я догнал фра Стеффано, шедшего очень медленно. Обрадовавшись мне, он рассказал, что оставил Анкону через два часа после меня, делал всего по три мили в день, и очень рад провести два месяца в этом путешествии, которое можно было бы проделать пешком за восемь дней. Я хочу, сказал он, прибыть в Рим свежим и здоровым, ничто меня не тревожит, и если вы в настроении так путешествовать, пойдемте со мной. Для святого Франциска не будет обременительно содержать нас обоих.
Этот лентяй был человек лет тридцати, рыжеволосый, комплекции очень мощной, настоящий крестьянин, который стал монахом, чтобы жить, не утомляя своего тела. Я ответил ему, что тороплюсь и не могу быть его компаньоном. Он сказал, что шагал бы в этот день вдвое быстрее, если бы я согласился взять его плащ, который очень тяжел. Я захотел попробовать, и он взял мой редингот. Мы стали как два комических персонажа, вызывавших смех у всех прохожих. Его плащ действительно весил как поклажа мула. В нем было двенадцать карманов, все полные, кроме того, большой задний карман, который он называл batticulo [61], в котором одном содержалось вдвое больше того, что могло поместиться во всех остальных: хлеб, вино, мясо, приготовленное, сырое и соленое, куры, яйца, сыры, ветчина, колбасы; этого было достаточно, чтобы кормить нас в течение двух недель. Я рассказал ему, как обо мне заботились в Лоретто, и он ответил, что если бы я у попросил монсиньора Караффа записку во все приюты в Риме, я бы нашел почти везде такой же прием. Во всех этих приютах, по его словам, относятся с предубеждением к святому Франциску, они не принимают нищенствующих монахов, но нам это безразлично, потому что приюты слишком далеко находятся друг от друга. Мы предпочитаем дома преданных ордену, которые можно найти на протяжении часа пути.
— Почему бы вам не останавливаться в ваших монастырях?
— Я не дурак. Во-первых, у меня как у беглого нет свидетельства в письменной форме, которое они всегда спрашивают; меня бы даже могли посадить в тюрьму, как проклятого жулика. Во-вторых, в наших монастырях не так хорошо, как у наших благодетелей.
— Как и почему вы беглец?
На этот вопрос он выдал мне историю своего тюремного заключения и побега, полную абсурда и измышлений. Он был дурак, в котором жил дух Арлекина, и который полагал своих слушателей еще большими дураками. В своей глупости, однако, он был тонок. Его религия была особой. Не желая быть святошей, он был скандалистом; чтобы развлечь компанию, он говорил возмутительные сальности. Он не имел ни малейшей склонности к женщинам или к любому другому виду безнравственности, и утверждал, что мы должны принимать это за добродетель, в то время, как это всего лишь недостаток темперамента. Все из этой области представлялось ему материалом для высмеивания, а когда он был немного навеселе, он задавал сотрапезникам, мужьям, женам, сыновьям и дочерям вопросы столь непристойные, что заставлял их краснеть. Грубиян над этим только смеялся.
Когда мы оказались в сотне шагов от дома жертвователя, он снова забрал свое пальто. Входя, он дал свое благословение всем, и вся семья вышла, чтобы поцеловать ему руку. Хозяйка дома обратилась к нему с просьбой отслужить мессу, он очень любезно попросил отвести его в ризницу церкви, что была в двадцати шагах оттуда.
— Разве вы забыли, сказал я ему на ухо, что мы завтракали?
— Это не ваше дело.
Я не посмел ответить, но, слушая его мессу, очень удивился, что он не знает регламента. Я нахожу это забавным, но самое смешное случается, когда после мессы он приступает к исповеди, и, после принятия исповеди от всего дома, решает отказать в отпущении грехов дочери хозяйки, юного создания двенадцати — тринадцати лет, очаровательной и очень красивой. Этот отказ делается публично, он ее ругает и грозит ей адом. Бедная девушка, опозоренная, вышла из церкви в слезах; поскольку я был глубоко тронут и заинтересовался ею, я сказал громко фра Стефано, что он сошел с ума, и побежал за ней, чтобы утешить ее, но она исчезла, наотрез отказавшись спуститься к столу. Эта выходка так меня разозлила, что мне захотелось его поколотить. Назвав его в присутствии всей семьи самозванцем и бесчестным палачом чести этой девушки, я спросил его, почему он отказал ей в отпущении грехов, и он заткнул мне рот, хладнокровно ответив, что он не может выдать тайну исповеди. Я не стал есть, решив отделаться от этого животного. Я должен был по выходе из этого дома получить один паоло за проклятую мессу, которой отметился этот негодяй. Я должен был сыграть роль его кассира.
Прежде, чем мы вышли на большую дорогу, я сказал ему, что покидаю его из-за риска быть осужденным на галеры вместе с ним. Среди упреков, что я ему сделал, я назвал его невежественным подлецом и, услышав в ответ, что я нищий, не мог удержаться, чтобы не отвесить ему удар, на который он хотел ответить ударом своей палки, но был мгновенно схвачен за руки. Затем, оставив его, я устремил свои шаги к Мачеррато. Через пятнадцать минут возчик, который возвращался пустым в Толентино, предложил подвезти меня за два паоли, и я согласился. Оттуда я мог бы за шесть паоли проехать в Фолиньо, но проклятая необходимость экономии помешала мне; чувствуя себя хорошо, я решил, что в состоянии пройти в Валсимаре пешком, куда и прибыл, будучи не в силах больше идти, после пяти часов марша. Пять часов способны довести до полного изнеможения молодого человека, пусть сильного и здорового, но не привыкшего к ходьбе. Я рухнул в кровать.
На следующий день, собираясь заплатить хозяину медной монетой, что лежала в кармане, я не могу найти в кармане брюк свой кошелек. У меня должно было быть там семь цехинов. Какое горе! Вспоминаю, что я забыл его на столе хозяина в Толентино, когда разменивал цехин, чтобы ему заплатить. Какое несчастье! Я отбросил с презрением мысль о пешем возвращении, с целью вернуть этот кошелек, который содержал все мое имущество. Мне казалось невозможным, чтобы тот, кто его взял, вернул бы мне, я не мог заставить себя пойти на определенные потери, основываясь на неопределенной надежде.
Я заплатил, и с горем в душе ступил на дорогу в Саравал, но за час до прихода туда, пройдя пешком пять часов и позавтракав в Муссии, я допустил оплошность, прыгнув через канаву, и так сильно подвернул ногу, что не мог ходить. Я сижу на краю канавы, не имея другого ресурса, кроме обычного, который религия предоставляет несчастным, находящимся в бедственном положении. Я прошу у Бога милости сделать так, чтобы мимо прошел кто-нибудь, кто может мне помочь. Полчаса спустя мимо прошел крестьянин за своим жеребенком, и за паоло перевез меня, располагающего состоянием в одиннадцать паоло медной монетой, в Саравал; для экономии я остановился у человека со злой физиономией, который за два паоло авансом пустил меня переночевать. Я спрашиваю хирурга, но он не может появиться раньше, чем назавтра. Я ложусь спать после безобразного ужина в отвратительную кровать, где я надеюсь, однако, поспать; но именно там меня поджидает мой злой гений, чтобы обрушить на меня адовы страдания. Пришли трое мужчин, вооруженных карабинами, строя страшные рожи, говоря друг с другом на жаргоне, которого я не понимаю, с руганью, с проклятиями, не обращая никакого внимания на меня. Выпивая и распевая песни до полуночи, они улеглись спать на охапки соломы, но, к моему удивлению, мой хозяин, пьяный и голый, явился и улегся рядом со мной, заявляя, что он рассмеется, если я скажу, что никогда не терпел подобного. Он говорит, богохульствуя, что весь ад не может помешать ему спать в своей постели. Я должен был уступить ему место, восклицая, — где я? На это восклицание он отвечал, что я нахожусь у самого честного сбира Церковного Государства. Мог ли я подумать, что нахожусь в компании проклятых врагов рода человеческого? Но это еще не все. Грубая свинья, едва улегшись, своими действиями и словами заявил мне свое позорное предложение таким образом, что заставил меня оттолкнуть его ударом в грудь, от которого он свалился с кровати. Он ругается, он поднимается и бросается снова в атаку, не слушая возражений. Я решил переместиться оттуда и устроиться на стуле, и, слава Богу, он этому не противится, потому что, прежде всего, хочет спать. Я провел самые печальные четыре часа. На рассвете этот палач, разбуженный своими товарищами, поднялся. Они выпили и, взяв свои карабины, ушли. В этом жалком состоянии я провел еще час, призывая кого-нибудь в помощь. Наконец, мальчик за байокко[62] пошел для меня за хирургом. Этот человек, посетив меня и уверив, что за три или четыре дня отдыха я вылечусь, посоветовал мне перебраться в гостиницу. Я последовал его совету и лег там в постель, после чего он полечил меня. Я отдал постирать мои рубашки, и обо мне позаботились. Я пришел к мнению, что надо обойтись без лечения, потому что наступал момент, когда, для того, чтобы уплатить хозяину, я должен буду продать свой редингот. Мне было стыдно. Очевидно, если бы я не обеспокоился из-за девочки, которой фра Стеффано отказал в отпущении грехов, я бы не оказался в нищете. Приходилось признать, что мое рвение было ошибкой. Если бы я мог помучиться с францисканцем, «если бы», «если бы», «если бы», и все эти проклятые «если бы», терзающие душу мыслящего несчастного, который, после долгих размышлений, оказывается еще более несчастным. Правда, однако, он при этом учится жить. Человек, который отгораживается от мыслей, никогда ничему не научится.
На утро четвертого дня, оказавшись в состоянии ходить, как и предсказал хирург, я решился провести продажу редингота, — прискорбная необходимость, поскольку начались дожди. Я был должен пятнадцать паоли хозяину и четыре хирургу. В момент, когда я уже собрался заняться этой болезненной продажей, вдруг — фра Стеффано, который входит, смеясь, как сумасшедший, и спрашивая меня, забыл ли я удар палкой, которым он меня наградил. Я прошу хирурга оставить меня с этим монахом. Я спрашиваю читателя, можно ли наблюдать такое и сохранить ум свободным от суеверий? Удивительно то, что это было делом одной минуты, потому что монах появился в последний момент, и что удивило меня еще больше, это сила Провидения, фортуны, столь необходимой комбинации, которая направляет, повелевает, заставляет меня надеяться только на этого рокового монаха, ставшего моим гением — спасителем, начиная с кризиса моих несчастий в Кьодже. Но каков гений! Я вынужден признать эту силу скорее наказанием, чем милостью. Я должен был утешиться, видя появление этого дурака, мошенника, невежественного негодяя, потому что, я не сомневался ни минуты, он не смутится. Было ли это послание небес или преисподней, я видел, что обязан положиться на него. Это он должен был отвести меня в Рим. Это был перст судьбы.
Первое, что фра Стеффано мне сказал, была поговорка: «Кто идет медленно, идет спокойно». Он потратил пять дней на путь, который я проделал за один; но он чувствовал себя хорошо и не испытывал неприятностей. Он сказал мне, что шел своей дорогой, когда ему сказали, что аббат — секретарь по памятным записям венецианского посла болен и находится в гостинице, после того, как его обокрали в Вальсимаре. Я иду вас повидать, говорит он, и нахожу вас в добром здравии. Забудем все и быстренько отправимся в Рим. Для того, чтобы доставить вам удовольствие, я буду идти шесть миль в день.
— Я не могу. Я потерял свой кошелек и я должен двадцать паоли.
— Я поищу их с помощью святого Франциска.
Он приходит через час с проклятым сбиром, пьяницей и содомитом, который говорит мне, что если бы я поведал ему о своем положении, он бы отнесся ко мне с уважением. Я дам тебе, сказал он, сорок паоли, если ты обязуешься обеспечить мне протекцию твоего посла в Риме, но ты их мне вернешь, если тебе это не удастся. Ты дашь мне расписку.
— Очень хорошо.
Все было сделано в четверть часа, я получил сорок паоли, я заплатил свои долги, и отправился в путь с монахом.
Через час после полудня он сказал мне, что до Колейорито еще далеко, и мы могли бы остановиться на ночь в доме, который он показал мне, в двухстах шагах от дороги. Это была хижина, и я сказал ему, что там нам будет плохо; но мои протесты были бесполезны, я должен был подчиниться его воле. Мы пошли туда и увидели только дряхлого старика, лежащего и кашляющего, двух уродливых женщин тридцати или сорока лет, и троих детей, совсем голых, корову в углу и противную тявкающую собаку. Нищета была очевидна, но ужасный монстр, вместо того, чтобы подать им милостыню и уйти, попросился к ним на ужин от имени святого Франциска.
Нужно, — сказал старый умирающий своим женщинам, — приготовить курицу, и вытащить бутылку, что я храню в течение двадцати лет.
Кашель сотряс его так сильно, что я решил, что он умирает. Монах ему пообещал, что святой Франциск его омолодит. Я хотел пойти в Коллефиорито в одиночку и там его ждать, но женщины этому воспротивились, и собака взяла меня за одежду зубами, что меня напугало. Мне пришлось остаться.
После четырех часов курица была по-прежнему жесткой; я откупорил бутылку и обнаружил уксус. Потеряв терпение, я вытащил вкусной еды из заплечного кармана монаха, и увидел, как все эти женщины обрадовались такому количеству хороших вещей. После того, как мы все неплохо поели, нам предложили две большие постели из довольно хорошей соломы, и мы легли в темноте, поскольку не было свечи или масляного светильника. Пять минут спустя, в тот самый момент, когда монах сказал мне, что с ним легла женщина, я чувствую около себя другую. Ее бесстыдство меня заводит, и дело идет, хотя я абсолютно не готов делить ее раж. Возня, которую производит монах, пытаясь защититься от своей, делает сцену такой смешной, что я не могу заставить себя рассердиться. Монах громко зовет на помощь святого Франциска, не рассчитывая на мою. Я был в еще большем затруднении, чем он, потому что, когда я захотел подняться, собака напугала меня, бросившись мне на шею. Эта же собака перешла от меня к монаху, а от монаха — обратно ко мне, казалось, сговорившись со шлюхами, чтобы помешать нам защититься от них. Мы громко кричим — Убивают! — но напрасно, потому что дом стоит отдельно. Дети спят, старик кашляет. Нет возможности спастись. Надеясь, что она уйдет, если я буду немного снисходительней, я решаю позволить ей делать, что хочет. Я нашел, что тот, что сказал: sublata lucerna nullum discrimen inter mulieres [63], говорил истинно, но без любви это великое дело — мерзость.
Фра Стеффано действует иначе. Защищенный своей грубой одеждой, он ускользает от собаки, встает и находит свою палку. Затем он выбегает наружу, раздавая удары вслепую направо и налево. Я услышал голос женщины вскричавшей: — Ах! Боже мой! И монах говорит: Я его убил. Я решил, что он убил собаку, потому что я ее больше не слышал, и подумал, что он убил также старика, не слыша больше его кашля. Он пришел и лег со мной, держа в руках большую палку, и мы проспали до утра. Я быстро оделся, удивившись, что не вижу больше двух женщин, и с удивлением вижу старика, не подающего малейших признаков жизни. Я показываю фра Стеффано синяк на лбу покойного; он говорит, что в любом случае не убивал его сознательно. Но я увидел его гнев, когда он обнаружил, что его заплечный карман пуст. Я был в восторге. Не видя больше двух потаскух, я подумал, что они пошли искать защиты, и что у нас будут очень серьезные неприятности, но когда увидел опустошенный карман монаха, понял, что они убежали, чтобы избежать ответа за кражу. Я спросил его, однако, не лучше ли для нас уехать. Найдя возчика, который направлялся в Фолиньо, я уговорил монаха воспользоваться этой возможностью, чтобы убраться отсюда, и, съев там наскоро кусок, мы пересели к другому, который взял нас в Пичиньяно, где благотворитель нас очень хорошо принял и где я, наконец, хорошо выспался, избавившись от страха быть арестованным.
На следующий день мы прибыли рано в Сполето, где, найдя двух благотворителей, он захотел оказать честь обоим. Пообедав у первого, который относился к нам, как к принцам, он захотел пойти ужинать и ночевать у другого. Это был богатый торговец вином, многочисленная семья которого держала себя очень любезно. Все бы прошло хорошо, если бы роковой монах, который слишком много выпил у первого благотворителя, не напился окончательно у второго. Негодяй, стремясь угодить этому славному человеку и его жене, говоря плохо о человеке, у которого мы обедали, наплел такого, что у меня не было сил терпеть. Когда он осмелился сказать, что тот говорил про нашего хозяина, что все его вина поддельные, и что он вор, я дал ему форменный отпор, заявив, что он лжет. Хозяин и хозяйка успокоили меня, говоря, что они знают людей, о которых идет речь; он бросил мне в нос салфетку, когда я назвал его клеветником, но хозяин ласково взял его, проводил в комнату и там запер. Меня он проводил в другую.
На следующее утро я был готов идти в одиночку, когда монах, переваривший свое вино, пришел сказать, что нам необходимо в будущем жить вместе как хорошие друзья. Оплакивая свою судьбу, я отправился с ним в Сому, где хозяйка гостиницы, женщина редкой красоты, накормила нас обедом. Она подала нам кипрского вина, что ей приносили курьеры из Венеции за отличные трюфели, которые она им давала, и которые они на обратном пути отвозили в Венецию. Уходя, я оставил этой прекрасной женщине кусочек своего сердца; но что со мной сталось, когда в одной или двух милях от Тернии монстр показал мне мешочек с трюфелями, которые он у нее украл. Это была кража по меньшей мере двух цехинов. Очень раздосадованный, я взял мешок, говоря, что решительно хочу вернуть его обратно прекрасной и добродетельной женщине, и в дальнейшем следует прекратить насильственные действия. Мы подрались, и, когда он схватил свою палку, я бросил его в канаву и оставил там.
Придя в Терни, я вернул хозяйке ее мешок вместе с письмом, в котором просил у нее прощения. Я отправился в Отриколи пешком, чтобы посмотреть на красивый старый мост; оттуда возчик за четыре паоли доставил меня в Шатонеф, откуда я отправился в полночь пешком и добрался до Рима за три часа до полудня, первого сентября. Но вот каковы обстоятельства, которые, быть может, развлекут некоторых читателей. Через час после выхода из Шатонеф, направляясь в Рим, в безветрие и при ясном небе, я наблюдал в десяти шагах от себя, с правой стороны, сопровождающее меня пирамидальное пламя высотой в локоть, в четырех или пяти футах над землей. Оно останавливалось, когда я останавливался, и когда с краю дороги росли деревья, я его больше не видел, но видел снова, когда проходил дальше. Несколько раз я подходил поближе, но, насколько я подходил, настолько оно удалялось. Я пытался возвращаться на пройденный путь, и тогда я его больше не видел, но стоило продолжить мою дорогу, как я видел его снова на том же месте. Оно исчезло только при свете дня. Какое удачное чудо для суеверного невежества, когда можно воспринять этот факт как свидетельство великой судьбы, ожидающей меня по прибытии в Рим! История полна ерунды подобного рода, и мир полон голов, которые из этого делают большое дело, несмотря на так называемое просвещение, которое науки поставляют человеческому уму. Должен, однако, сказать правду, что, несмотря на мои знания по физике, наблюдение этого небольшого явления не дало мне оснований для особых идей. Я счел благоразумным никому об этом не говорить.
Я прибыл в Рим с семью паоли в кармане. Ничто меня не остановило, ни прекрасный вход на площадь Тополиных ворот, которые невежество зовет дель Пополо, ни порталы церквей, ни все то, что есть величественного при первом взгляде на этот превосходный город. Я направился в Монте Магнанаполи, где, согласно адресу, я должен был отыскать моего епископа. Мне сказали, что уже десять дней как он уехал, оставив распоряжение, согласно которому меня должны были отправить за его счет в Неаполь, по указанному для меня адресу. Повозка отправлялась на следующий день. Я не собираюсь осматривать Рим, ложусь в постель и остаюсь там до самого отъезда.
Я прибыл в Неаполь шестого сентября. В дороге я ел, пил и спал с тремя крестьянами, моими товарищами, не перемолвившись с ними ни словом.
Сойдя с повозки, я прошу отвести меня по означенному адресу, но епископа там нет. Я иду к францисканцам, и мне говорят, что он уехал в Марторано, и все мои старания бесполезны. Он не оставил относительно меня никаких распоряжений. Итак, я в большом Неаполе, с восемью карлино[64] в кармане, не зная, где преклонить голову. Несмотря на это, моя судьба зовет меня в Марторано, и я хочу туда идти. Расстояние всего-то двести миль. Я нашел возчиков, которые отправляются в Козенца, но когда они узнают, что у меня нет поклажи, они не хотят меня брать, если я не заплачу авансом. Я нахожу, что они правы, но мне нужно в Марторано. Я решил, что идти пешком, нагло испрашивая пропитания повсюду, как фра Стеффано, я не сумею. Я потрачу два карлино на еду и у меня еще останется шесть. Определившись, что мне надо двигаться по дороге на Салерно, я через полтора часа добираюсь до Портичи. Ноги несут меня в трактир, я занимаю комнату и заказываю ужин. Обслуживание прекрасное, я ем и ложусь спать, и сплю очень хорошо. На следующий день я встаю и иду осматривать королевский дворец, сказав хозяину, что буду обедать. Войдя в королевский дворец, я вижу человека с приятным лицом, одетого по-восточному, который говорит мне, что если я хочу увидеть дворец, он мне все покажет, и таким образом я сэкономлю свои деньги. Я соглашаюсь, сердечно его поблагодарив, и он ведет меня. Сказав ему, что я венецианец, слышу в ответ, что он ксантиот[65] и, стало быть, мой подчиненный. Я принимаю комплимент, отвечая ему некоторым реверансом.
— У меня есть, сказал он, отличные мускатные вина из Леванта, которые я могу продать вам дешево.
— Я мог бы их купить, но надо подумать.
— Какой сорт вы предпочитаете?
— Сериго.
— Вы правы. У меня есть отличное, и мы попробуем его за обедом, если вы хотите, чтобы мы вместе пообедали.
— Что ж, с удовольствием.
— Я бываю на Самосе и Кефалонии. У меня есть много минералов, купорос, киноварь, сурьма и сто кинталов ртути.
— Все это здесь?
— Нет, в Неаполе. Здесь только мускат и ртуть.
— Я куплю также ртуть.
Как это бывает в природе вещей — без всякого намерения обмануть молодой человек, которому внове нужда, который ее стыдится, разговаривает с богатым человеком, не знающим его, и говорит о том, чтобы что-то купить. Я вспоминаю, что при амальгамировании ртути со свинцом и висмутом ртуть вырастает в объеме на четверть. Я ничего не говорю, но думаю, что если грек не знает этой алхимии, я мог бы на нем заработать денег. Я чувствовал, что надо исхитриться. Я видел, что если я буду предлагать ему продать мой секрет с налету, он им пренебрежет; я должен сначала показать ему чудо увеличения, со смехом, и подвести его самого к этой мысли. Обман это порок, но честная уловка — это разумная осторожность. Это порядочно. Это похоже, действительно, на мошенничество, но это необходимый шаг. Тот, кто не умеет этим пользоваться, — дурак. Такая осмотрительность по-гречески называется cerda-leophron: Cerda значит Лиса (хитрость).
Осмотрев дворец, мы направились в трактир. Грек ведет меня к себе в комнату, где заказывает хозяину подготовить стол на двоих. В соседней комнате стоят большие бутыли с мускатом и четыре, заполненные ртутью, в каждой из которых — по десять фунтов. Держа в голове свой замысел, я спрашиваю его о цене одного флакона ртути, и отношу его к себе в комнату. Он выходит по своим делам, говоря, что мы встретимся за обедом. Я также выхожу и иду купить два с половиной фунта свинца и столько же висмута. У аптекаря больше не нашлось. Я возвращаюсь к себе в комнату, прошу у хозяина большие пустые бутыли и делаю свою амальгамацию.
Мы весело обедаем, и грек рад видеть, что я нахожу его мускат «Сериго» изысканным. Он спрашивает меня, смеясь, для чего я купил флакон ртути, и я отвечаю, что он может видеть его в моей комнате. Он приходит и видит ртуть, разлитую в две бутыли, я прошу замшевую салфетку, я протираю ею бутыль, наполняю его бутыль и наблюдаю его удивление, когда он видит четверть бутыли хорошей ртути, остающейся у меня, кроме такого же количества незнакомого ему металлического порошка, который на самом деле был висмутом. Я встречаю его удивление взрывом смеха. Я вызываю гостиничного слугу и посылаю его с моей оставшейся ртутью к аптекарю, чтобы ее продать. Он возвращается и дает мне пятнадцать карлино. Грек, ошеломленный, просит отдать ему его флакон, который, абсолютно полный, стоимостью шестьдесят карлино, я и вернул ему с улыбкой, благодаря за то, что дал мне заработать пятнадцать карлино. Одновременно я сказал ему, что на следующее утро должен отправиться в Салерно. Так что мы еще поужинаем вместе сегодня вечером, сказал он. Мы провели весь остаток дня на Везувии, и мы не говорили о ртути, но я видел, что он задумчив. Во время нашего обеда он сказал со смехом, что я мог бы остаться еще на следующий день, чтобы заработать еще сорок пять карлино на трех оставшихся флаконах ртути. Я ответил ему с достойным и серьезным видом, что это мне не нужно, и я увеличил один только для того, чтобы развлечь его приятным сюрпризом.
— Но, сказал он, вы должны быть богаты.
— Нет, потому что я на пути к увеличению золота, и это стоит нам дорого.
— Вас, стало быть, несколько!
— Мой дядя и я.
— Какая вам нужда увеличивать золото? Вам должно быть достаточно увеличения ртути. Скажите мне, пожалуйста, то, что вы увеличиваете, способно к такому же увеличению?
— Нет, если бы такое было возможно, это был бы большой питомник богатства.
— Эта ваша искренность меня радует.
После ужина я заплатил хозяину, попросив его заказать на утро повозку с двумя лошадьми до Салерно. Поблагодарив грека за отличный мускат, я спросил его адрес в Неаполе, говоря, что он увидит меня через две недели, потому что я твердо решил купить бочонок его «Сериго». Сердечно его обняв, я отправился спать, весьма довольный, что провел с прибылью свой день, и удивленный тем, что грек не сделал мне предложение продать ему мою тайну. Я был уверен, что он будет думать всю ночь, и я его увижу на рассвете. Во всяком случае, у меня было достаточно денег, чтобы добраться до Торре дель Греко, а там Провидение позаботится обо мне. Мне казалось, невозможным идти в Марторано, прося милостыню, потому что такой, каков я был, я не возбуждал жалости. В отличие от настоящего нищего, я не выглядел человеком, испытывающим нужду.
Грек, как я и надеялся, вошел в мою комнату на рассвете.
— Выпьем вместе кофе, — сказал я ему.
— Скажите, господин аббат, не продадите ли вы мне ваш секрет?
— Почему бы и нет? Когда мы снова встретимся в Неаполе.
— Почему не сегодня?
— Меня ждут в Салерно; и к тому же секрет стоит очень дорого, и я вас не знаю.
— Вы неправы, потому что я достаточно хорошо известен здесь, чтобы заплатить наличными. Сколько бы вы хотели?
— Две тысячи онсио[66].
— Я дам их вам, при условии, что я сам проделаю увеличение тридцати фунтов, которые есть у меня здесь, и с веществом, которое вы мне укажете, а я пойду и куплю себе сам.
— Это невозможно, потому что этого вещества здесь нет, но оно есть в Неаполе, сколько вы хотите.
— Если это металл, мы найдем его в Торре дель Греко. Мы можем туда поехать вместе. Можете ли вы сказать мне, сколько стоит это увеличение?
— Один с половиной к сотне; но пользуетесь ли вы кредитом также и в Торе дель Греко? Потому что мне жаль тратить свое время.
— Ваша недоверчивость меня огорчает.
Затем он берет перо, пишет записку и дает ее мне: «Авизо. Выплатите предъявителю сего пятьдесят унций золота с моего счета. — Панайотти — Родостемо. Синьору Дженнаро ди Карло».
Он говорит, что живет в двухстах шагах от трактира, и предлагает мне пройти туда лично. Я иду туда без церемоний, получаю пятьдесят унций и, возвратившись в свою комнату, где он меня ждет, кладу их перед ним на стол. Затем я предлагаю ему поехать со мной в Торре дель Греко, где мы завершим дело, после того, как обменяемся взаимными расписками.
Имея собственный экипаж и лошадей, он велит их запрячь, благородно предлагая мне забрать пятьдесят унций. В Торре дель Греко он дает мне расписку, в которой обещает заплатить мне две тысячи унций, как только я укажу ему, какими материалами и как он сможет увеличить количество ртути на четверть без ухудшения ее качества, подобно той, что я продал в Портичи в его присутствии. С этой целью он дает мне вексель со сроком на восемь дней с авизо на синьора Дженнаро ди Карло. Тогда я назвал ему свинец, который по своей природе амальгамирует с ртутью, и висмут, который служит только для повышения текучести, необходимой, чтобы процеживать через замшу. Грек отправился проделывать эту операцию, уж не знаю, к кому. Я пообедал в одиночестве, а вечером увидел его, имеющего очень печальный вид. Я ждал.
— Операция проделана, сказал он, но ртуть не совершенна.
— Она такая же, как та, что я продал в Портичи. Ваша расписка говорит об этом ясно.
— Но она также говорит — без ухудшения качества. Согласитесь, что качество ухудшилось. Верно также, что дальнейшее увеличение количества также невозможно.
— Я полагаю, надо согласиться на ничью. Мы будем судиться, и вы проиграете. Я претерплю ущерб, если этот секрет станет известен всем. Радуйтесь, что вы, тем не менее, выиграли, вы сможете обратить мой секрет в ничто, Но я не думаю, что вы способны, господин Панайотти, так меня наказать.
— Я не способен, господин аббат, никого наказать.
— Знаете ли вы секрет, или нет? Вы можете сказать, что то, что мы сделали, невозможно продать. Но над этим будет смеяться весь Неаполь, и адвокаты заработают денег.
— Этот случай очень меня беспокоит.
— Между тем, вот ваши пятьдесят унций.
Пока я вытаскиваю их из кармана, с великим страхом, что он возьмет, он выходит, говоря мне, что он их не хочет.
Мы ужинали вдвоем, в нашей комнате, разделенные друг с другом в открытой войне, но я знал, что у нас будет мир. Он пришел утром поговорить со мной, когда я готовился уйти, и повозка была готова. Когда я сказал, чтобы он взял свои пятьдесят унций, он ответил, что я должен согласиться еще на пятьдесят, и вернуть ему вексель на две тысячи. После этого мы стали разговаривать разумно, и после двух часов я сдался. Он дал мне еще пятьдесят унций, мы обедали вместе, потом мы обнялись, и он мне сделал еще подарок, вручив записку на его магазин в Неаполе на получение бочонка муската, и превосходный футляр, содержащий двенадцать бритв с серебряными ручками известной фабрики в Торре дель Греко. Мы расстались добрыми друзьями.
Я остановился на два дня в Салерно, чтобы купить несколько рубашек, носки, носовые платки, и все, что мне было нужно. Хозяин сотни цехинов, я чувствовал себя прекрасно и был горд своим подвигом, в котором, как казалось, мне не в чем было себя упрекнуть. Умелое и разумное поведение, когда я продавал свой секрет, может быть осуждено лишь с точки зрения гражданской морали, которой нет места в деловой жизни. Видя себя свободным, богатым и уверенным, чтобы предстать перед моим епископом, как приличный молодой человек, а не как нищий, я снова вернул себе всю свою веселость, поздравляя себя за то, что смог своими силами защититься от отцов Корсини, игроков-шулеров и продажных женщин.
Я отправился в путь с двумя священниками, которые торопились в Козенца. Мы сделали сто сорок миль за двадцать два часа. На следующий день после приезда в эту столицу Калабрии, я взял небольшую повозку и отправился в Марторано. В этом путешествии мои глаза задерживались на известном месте Маре Авзониум, я наслаждался, ощущая себя в центре Великой Греции, где жил Пифагор, что сделало ее знаменитой последние двадцать четыре столетия. Я с удивлением наблюдал страну, славную своим плодородием, в которой, несмотря на расточительность природы, видел только страдания и нехватку всего того замечательного изобилия, которое одно может придать ценность жизни, и ту разновидность человечества, которая заставляет меня стыдиться своей принадлежности к нему. Эти пахотные земли, где ненавидим тяжелый труд, где все дешево, где жители сбрасывают с себя бремя труда, если находят людей, любезных настолько, чтобы принимать приносимые им в подарок разные плоды. Я нашел, что римляне не ошибались, называя их «скоты» (brutes) вместо «Брутиенцы — Brutiens».
Священники, мои компаньоны, смеялись, когда я им рассказывал о страхе, который я испытываю к тарантулам и к «Керсидрам»-мифическим змеям. Болезни, вызываемые ими, казались мне страшнее, чем венерические. Эти священники уверяли меня, что это басни, издевались над Георгиками Вергилия, и стихами, которые я им цитировал, чтобы оправдать мой страх.
Я нашел епископа Бернарда де Бернардис, пишущего, притулившись к убогому столу. Он поднялся на ноги, чтобы меня поднять, и, вместо того, чтобы благословить, крепко прижал к груди. Я нашел его искренне огорченным, когда рассказал ему, что в Неаполе не нашел никаких объяснений по поводу его отсутствия, и сам решил пойти и броситься ему в ноги, и я увидел, что он успокоился, когда я сказал, что никому не должен и чувствую себя хорошо. Он вздохнул, говоря о своем сочувствии и сострадании, и приказал слуге поставить на стол третий куверт. Кроме этого слуги у него была самая каноническая из всех служанок [67] и священник, из нескольких слов которого, сказанных им за столом, он показался мне большим невеждой. Дом его был довольно большой, но неудобный и ветхий. В нем настолько отсутствовала мебель, что, чтобы выделить мне неудобную постель в комнате рядом со своей, он должен был дать мне один из своих жестких матрасов. Его жалкий обед меня напугал. Его преданность правилам своего ордена сделала его худым, и масло было плохое. Он был, впрочем, умным и, что более важно, порядочным человеком. Он сказал мне, и я был этим очень удивлен, что его епархия, которая, однако, не была бедной, выдает ему только пятьсот королевских дукатов платы в год, и он был должен шестьсот. Он мне сказал за ужином, что его единственной мечтой было вырваться из когтей монахов, преследования которых в течение пятнадцати лет составляли его подлинное чистилище. Эти замечания удручали меня, потому что они давали мне представление о трудностях, которые предстояло испытать моей персоне. Я видел, что он догадывается о печальной участи, которую мне готовит. Мне показалось, однако, что следует его пожалеть. Он улыбнулся, когда я спросил его, нет ли у него хороших книг, компании образованных людей, благородного кружка, чтобы приятно провести час или два. Он поведал мне, что во всей его епархии положительно нет человека, который мог бы похвастаться хорошим умением писать, а тем более такого, у кого был бы вкус и представление о хорошей литературе, ни настоящего книготорговца, ни любителя, интересующегося газетами. Круг знакомств, соперничество, литературные связи — та ли это страна, где я должен был бы осесть в возрасте восемнадцати лет? Увидев меня задумавшимся, убитым печальными сторонами жизни, ожидавшей меня около него, он хотел подбодрить меня, уверяя, что он сделает все, зависящее от него, чтобы сделать меня счастливым. Когда на следующий день я должен был быть официально возведен в сан священника, я увидел весь его клир, а также женщин и мужчин, заполнивших собор. В этот момент я принял решение, счастливый, что в состоянии его принять. Я видел кругом только животных, которые, казалось, были положительно потрясены моей несолидностью. Какое уродство женщин! Я ясно сказал монсеньору, что не чувствую призвания умереть в течение нескольких месяцев мучений в этом городе. Дайте мне ваше епископское благословение на мою отставку, сказал я, или уезжайте вместе со мной, и я заверяю вас, что судьба нам будет благоприятствовать. Уступите вашу епархию тем, кто сделал вам такой плохой подарок.
Это предложение заставило его смеяться весь остаток дня, но если бы он его принял, он бы не умер через два года, в расцвете лет. Этот достойный человек был вынужден, сочувствуя мне, просить у меня прощения за ошибку, которую сделал, пригласив меня сюда. Понимая свой долг вернуть меня в Венецию, не имея денег и не зная, что они есть у меня, он сказал, что отправит меня обратно в Неаполь, где буржуа, которому он меня рекомендует, даст мне шестьдесят королевских дукатов, с которыми я смогу вернуться на родину. Я тотчас же принял его предложение с благодарностью, быстро сходив к своему чемодану и достав из него красивый футляр с бритвами, что дал мне Панайотти. У меня были все основания заставить его принять подарок, потому что бритвы стоили шестьдесят дукатов, которые он мне давал. Он принял его, только когда я пригрозил там остаться, если он попытается отказаться. Он дал мне письмо к архиепископу Козенцы, в котором хвалил меня и просил отправить в Неаполь за его счет. Так и получилось, что я оставил Марторано через шестьдесят часов после прибытия туда, выразив епископу сожаление, что покидаю его, а он пролил слезу и дал мне от всего сердце сотню благословений.
Епископ Козенцы, человек умный и богатый, захотел устроить меня у себя. За столом я от всего сердца излил похвалы епископу Марторано, но безжалостно высмеял его епархию, а затем и всю Калабрию столь острым стилем, что монсеньор рассмеялся вместе со всей компанией, в том числе с двумя дамами, его родственницами, воздавшими мне почести. Только самая молодая сочла дурной сатиру, которой я подверг ее страну. Она объявила мне войну, но я успокоил ее, сказав, что Калабрия будет обожаемой страной, если хотя бы на четверть будет напоминать ее. Это было сказано, пожалуй, чтобы доказать обратное тому, что я сказал на следующий день, когда она давала большой ужин. Козенца — это город, где человек комильфо может развлечься, потому что там есть богатое дворянство, красивые женщины и светски образованные люди.
Я выехал на третий день с письмом от архиепископа к знаменитому Женовези. Со мной были пятеро спутников, которые, как я полагал, были корсарами или профессиональными ворами, так что я всегда был настороже, чтобы не показывать им свой толстый кошелек. Я всегда спал в штанах, не только из опасения за свои деньги, но и ради предосторожности, необходимой в стране, где противоестественный вкус является распространенным явлением.
Я приехал в Неаполь 16 сентября и первым делом пошел отнести письмо епископа Марторано по указанному адресу. Это был г-н Дженнаро Пало в квартале Санта-Анна. Этот человек, чьей задачей было просто дать мне шестьдесят дукатов, прочитав письмо, предложил, чтобы я остановился у него, потому что он хотел бы познакомить меня со своим сыном, тоже поэтом. Епископ ему говорил, что я человек тонкого склада. После обычных церемоний я согласился отнести к нему свой маленький чемодан. Он пригласил меня снова в свою комнату.
Мое недолгое, но счастливое пребывание в Неаполе.
Дон Антонио Казанова. Я отправляюсь в Рим в очаровательной компании и поступаю там на службу к кардиналу Аквавива.
Барбарукка. Тестаччио. Фраскали.
Я не чувствовал себя смущенным, отвечая на все те вопросы, что он мне задавал, но находил очень необычными и странными постоянные взрывы смеха, исходящие из его груди при каждом моем ответе на вопросы. Описание жалкого состояния Калабрии и плачевного положения епископа Марторано, сделанные так, чтобы вызвать слезы, породили у него такой приступ смеха, что я опасался, что он станет фатальным.
Он был человек большой, толстый и румяный. Посчитав, что он издевается надо мной, я хотел рассердиться, но когда, наконец, стало тихо, он сказал мне с чувством, что я должен простить его смех, который происходит из-за семейного заболевания, от которого один из его дядей даже умер.
— Умер от смеха?
— Да. Это заболевание, неизвестное Гиппократу, называется «li flati».
— Как это? Ипохондрические проявления, которые делают печальными всех, кто ими страдает, вас веселят?
— Но мои «flati», вместо того, чтобы воздействовать на подреберье, влияют на селезенку, которую мой врач считает органом смеха. Это его открытие.
— Не совсем. Это мнение очень старо.
— Вот видите. Мы поговорим об этом за ужином, потому что я надеюсь, что вы проведете здесь несколько недель.
— Я не могу. Не позже, чем послезавтра я должен уехать.
— Так у вас есть деньги?
— Я рассчитываю на шестьдесят дукатов, которые вы, по своей доброте, мне дадите.
Его смех возобновился, и он его оправдал тем, что нашел забавной идею заставить меня остаться с ним, как он хочет. Затем он попросил меня встретиться с его сыном, который, в возрасте четырнадцати лет, был уже большой поэт. Слуга проводил меня в комнату сына, и я был рад найти в этом юном мальчике хорошие задатки и манеры, заставляющие ожидать еще большего в ближайшем будущем. Встретив меня очень вежливо, он попросил прощения за то, что совершенно не может заниматься со мной, будучи полностью занят песней, с которой должен выступить на следующий день; это был повод выступить перед родственницей герцогини дель Бовино в Сент-Клер. Найдя его извинение весьма уважительным, я предложил свою помощь. Затем он прочитал свою песню, и, найдя ее полной чувства и сложенной в манере Гвиди, я предложил название оды. Высоко оценив ее, как она того заслуживала, я осмелился внести исправления в тех местах, где нашел это необходимым, заменив некоторые стихи, которые счел слабыми. Он поблагодарил меня, обращаясь ко мне, как если бы я был Аполлон, и начал переписывать стихотворение, чтобы отправить в сборник. Пока он копировал, я сочинил сонет на ту же тему. Паоло, восхищенный, заставил меня поставить на нем свою подпись и отправить в сборник вместе со своей одой. Я его переписал, чтобы исправить несколько орфографических ошибок, а он отправился к отцу рассказать, каков я есть, что заставило того смеяться до тех пор, пока мы не пошли к столу. Мне приготовили кровать в одной комнате с этим мальчиком, что доставило мне много удовольствия.
Семейство дона Дженнаро состояло из этого сына, некрасивой дочери, жены и двух старших сестер, очень набожных. За ужином присутствовали образованные люди. Я узнал среди них маркиза Галиани, который комментировал Витрувия, брата аббата, с которым я познакомился в Париже двадцать лет спустя, секретаря посольства графа де Кантильяна. На следующий день за ужином я познакомился со знаменитым Женовези, который уже получил письмо, написаное ему архиепископом Козенцы. Он мне много говорил об Апостоло Дзено и аббате Конти. Во время ужина он сказал, что отслужить две мессы в один день, чтобы заработать еще два карлино — это наименьший смертный грех, что может совершить священник, в то время как светский человек, совершив тот же грех, заслуживает огня.
На следующий день одна из набожных постригалась в монахини, и на церемонии мы — Паоло и я — блеснули своими композициями. Один неаполитанец по фамилии Казанова, предполагая, что я иностранец, полюбопытствовал со мной познакомиться. Узнав, что я живу у дона Дженнаро, он пришел поздравить его по случаю праздника его имени [68], который мы отмечали на другой день после церемонии пострижения в монахини, происходившей в Сент-Клер. Дон Антонио Казанова, сказав мне свое имя, спросил, происходила ли моя семья из Венеции. Я ответил со скромным видом, что я праправнук несчастного Марк-Антонио Казанова, который был секретарем кардинала Помпея Колонна и умер от чумы в Риме в 1528 году, при понтификате папы Клемента VII. При этом объяснении он обнял меня, называя своим кузеном. В этот момент все общество сочло, что дон Дженнаро сейчас умрет со смеху, потому что не представлялось возможным, что можно так смеяться и остаться в живых. Его жена с сердитым видом сказала дону Антонио, что болезнь ее мужа ему известна, и он мог бы избавить его от этой сцены, на что тот ответил, что не мог догадаться, что это будет смешно; я ничего не сказал, потому что, в сущности, нашел это узнавание очень комичным. Когда дон Дженнаро успокоился, дон Антонио, не меняя своего серьезного тона, пригласил меня на ужин вместе с молодым Паоло, который стал моим неразлучным другом. Первым делом, по приезде к нему, мой достойный двоюродный брат показал мне свое генеалогическое дерево, которое начиналось с дона Франциско, брата дона Жуана. В моем, которое я знал наизусть, дон Жуан, от которого я происходил по прямой линии, был посмертным ребенком. Вполне возможно, что существовал брат Марка Антонио; но когда он узнал, что мой происходит от дона Франциско арагонского, который жил в конце четырнадцатого века, и что, следовательно, вся родословная знаменитого дома Казанова сарагосских совпадает с его линией, он был так обрадован, что не знал, что нужно еще сделать, чтобы убедить меня, что кровь, текущая в его жилах, была и моей.
Видя, что ему любопытно узнать, в результате каких приключений я оказался в Неаполе, я сказал, что, вступив на церковную стезю после смерти моего отца, я отправился искать счастья в Риме. Когда он представил меня своей семье, мне показалось, что я не очень хорошо воспринят его женой, но его красивая дочь и еще более красивая племянница заставили меня легко поверить в невероятную силу крови. После обеда он сказал, что герцогиня дель Бовино, заинтересовавшись, кто такой этот аббат Казанова, оказала нам честь, пожелав, чтобы я, как его родственник, был представлен ей в ее салоне. Когда мы остались тет-а-тет, я попросил его извинить меня, потому что я экипирован только для поездки. Я сказал, что должен беречь свой кошелек, чтобы не прибыть в Рим без денег. Обрадованный этими доводами и убежденный в их справедливости, он сказал мне, что богат, и я без малейшего смущения должен позволить ему отвести меня к портному. Он заверил меня, что никто ничего не узнает, и что он будет смертельно огорчен, если я лишу его удовольствия, которого он желает. На это я пожал ему руку, сказав, что готов сделать все, что он хочет. Тогда он отвел меня к портному, который снял с меня все нужные размеры и принес на следующий день к дону Дженнаро все необходимое для появления аббата в самом благородном обществе. Потом пришел дон Антонио, остался обедать у дона Дженнаро, а затем взял меня с молодым Паоло к герцогине. Очаровывая меня по-неаполитански, та сразу стала обращаться со мной на ты. С ней была ее дочь, десяти — двенадцати лет, очень хорошенькая, которая через несколько лет стала герцогиней де Маталона. Она подарила мне светлую черепаховую табакерку, покрытую арабесками, инкрустированными золотом. Она пригласила нас к обеду на следующий день, говоря, что затем мы поедем в Сент-Клер, чтобы посетить новопостриженную.
Выйдя из дома Бовино, я пошел один в магазин Панайотти, чтобы забрать бочонок муската. Приказчик магазина оказал мне любезность, разделив бочонок на два небольших, чтобы я мог отнести один к дону Дженнаро, а другой — к дону Антонио. Выйдя из магазина, я встретил бравого грека, который, увидев меня, был рад встрече. Должен ли я был покраснеть при появлении этого человека, которого я обманул? Отнюдь нет, потому что он посчитал, что я, наоборот, поступил с ним как очень учтивый человек. За ужином дон Дженнаро, без смеха, поблагодарил меня за отличный подарок. На следующий день дон Антонио в обмен на хороший мускат, что я прислал, подарил мне трость, стоившую по меньшей мере двадцать унций, а его портной принес мне дорожный костюм и синий редингот с золотыми петлицами, все из лучших тканей. Я не мог быть экипирован лучше. Я познакомился у герцогини дель Бовино с умнейшим из неаполитанцев, знаменитым доном Лелио Караффа, из графов Маталоне, которого король дон Карлос особенно любил и удостоил чести назвать своим другом.
В приемной обители Сент-Клер я провел яркие два часа, выстояв и удовлетворив своими ответами любопытство всех монахинь, собравшихся у решетки. Если бы моя судьба заставила меня остаться в Неаполе, я бы сделал карьеру, но мне казалось, что я должен идти в Рим, хотя у меня не было никакой идеи. Я постоянно отказывал настоятельным просьбам дона Антонио, который предлагал мне самые почетные должности в нескольких крупных домах, куда меня приглашали руководить обучением первых отпрысков семей.
Обед у дона Антонио был великолепный, но я был мечтателем и находился в плохом настроении, потому что его жена на меня косо посматривала. Я неоднократно замечал, что, поглядев на мое платье, она что-то говорила на ухо своему соседу. Есть ситуации в жизни, к которым я никогда не мог приспособиться. Так, в самой блестящей компании может встретиться один человек, который разглядывает и разбирает меня; мое настроение при этом портится, и я глупею. Это мой недостаток. Дон Лелио Караффа мне предлагал большое жалование, если бы я захотел остаться с его племянником герцогом Маталоне, которому было тогда десять лет, чтобы направить его обучение. Я поблагодарил его, прося быть моим истинным благодетелем и дать мне рекомендательное письмо для Рима. Этот сеньор послал мне на следующий день два, одно из которых было на имя кардинала Аквавива, другое — отцу Горди, очень влиятельному падре.
Вскоре я решил уехать, увидев, что обязательно хотят предоставить мне честь поцеловать руку королевы. Было очевидно, что, отвечая на ее вопросы, я должен был бы рассказать, что я только что покинул Марторано, и рассказать о несчастном епископате, который получился в результате ее вмешательства в судьбу этого доброго францисканца. Кроме того, эта принцесса знала мою мать, и нет причин, что помешали бы ей сказать, что она в Дрездене, и дон Антонио был бы скандализован, а моя родословная стала бы смешной. Я понимал неизбежные и неприятные последствия общих предрассудков, я бы полностью оскандалился; поэтому я счел момент подходящим, чтобы откланяться.
Дон Антонио подарил мне часы в черепаховом футляре, инкрустированные золотом, и дал мне письмо к дону Гаспаро Вивальди, которого назвал своим лучшим другом. Дон Дженнаро дал мне шестьдесят дукатов, а его сын просил меня писать ему и поклялся в вечной дружбе. Они провожали меня до экипажа, в котором я занял последнее место; все плакали, как и я.
Судьба, начиная с моей высадки в Кьодже и до Неаполя, меня преследовала с позором. Только в Неаполе я начал дышать, и Неаполь всегда был для меня благоприятен, как будет видно далее в этих мемуарах. Я оказался в Портичи в ужасном положении, когда мой ум стал обесцениваться и от этого не находилось никакого лечения. Невозможно было его восстановить. Это было разочарование, которое не оставляло шансов. Епископ Марторано со своим письмом к дону Дженнаро мне компенсировал все то зло, которое он мне причинил. Я написал ему уже из Рима.
Захваченный красотой улицы Толедо, осушив слезы, я посматривал на лица моих трех спутников по выезде из ворот большого города. У мужчины лет сорока — пятидесяти, сидящего рядом со мной, было приятное и озабоченное лицо. Две женщины, расположившиеся на задних сидениях, были молоды и красивы, их одежда была очень чиста, вид простой и в то же время благородный. Мы в полном молчании прибыли в Аверсу, когда возчик сообщил нам, что он остановится только, чтобы напоить своих мулов, и что мы не сходим. К вечеру мы остановились в Капуе.
Невероятно! Я за весь день ни разу не открыл рта, слушая с удовольствием жаргон мужчины, который был неаполитанец, и прекрасный язык двух сестер, которые были римлянками. Первый раз в жизни мне пришлось провести пять часов в молчании, находясь напротив двух очаровательных девушек или женщин. В Капуе, не спрашивая нас, нам предоставили комнату с двумя кроватями. Мой сосед сказал, глядя на меня:
— Я буду иметь честь спать с господином аббатом.
— Я оставляю вам право, монсиньор, располагаться по-другому, — ответил я ему холодным тоном. Этот ответ вызвал улыбку у той, которую я находил более красивой. Это было добрым предзнаменованием. За ужином мы были впятером, потому что обычно, когда возчик, по соглашению, кормит своих пассажиров, он ест вместе с ними. В нейтральных застольных разговорах я проявил благопристойность и знание света. Это вызвало интерес ко мне. После ужина я спустился, чтобы выяснить у возчика, кто эти три персоны. Мужчина, по его словам, был адвокат, а одна из двух сестер его жена, но он не знал, которая.
Я проявил вежливость и предоставил дамам возможность ложиться первыми, а сам поднялся и вышел. Я вернулся, когда меня позвали выпить кофе. Я поблагодарил, и самая любезная предложила мне этот прекрасный ежедневный подарок. Пришел брадобрей и, побрив адвоката, предложил также и мне, с видом, который мне не понравился, ту же услугу. Я ответил, что не нуждаюсь в нем, а он сказал, что борода — это неряшество, и ушел. Прежде, чем мы сели в экипаж, адвокат сказал, что почти все брадобреи наглецы.
— Надо, однако, понять, — сказала красавица, — действительно ли борода неряшество.
— Это так, ответил адвокат, потому что она — выделение организма.
— Это может быть, сказал я, но это не выглядит как таковое; называть волосы выделениями организма, который, наоборот, их питает, и в которых мы восхищаемся их красотой и длиной?
— Таким образом, продолжила дама, брадобрей — дурак.
— Но все-таки, есть у меня борода?
— Я думаю, да.
— Тогда я начну в Риме бриться. Это первый раз я получаю такой ответ.
— Моя дорогая жена, — сказал адвокат, — ты должна была промолчать, потому что, возможно, аббат направляется в Рим, чтобы стать капуцином.
Эта мысль меня рассмешила, но я не захотел смолчать. Я сказал ему, что он угадал, но что намерение сделаться капуцином у меня прошло, когда я увидел мадам. Также рассмеявшись, он ответил, что его жена души не чает в капуцинах, и поэтому я не должен отказываться от своего призвания. Это шутливое предложение вовлекло нас в несколько других, и мы провели приятно день, вплоть до Гариллана, где веселые разговоры скрасили нам плохой ужин. Моя зарождающаяся склонность укреплялась, находя ответное стремление. На следующий день, перед тем, как сесть в экипаж, прекрасная дама спросила меня, намереваюсь ли я, прежде чем отправиться в Венецию, провести несколько дней в Риме. Я ответил, что, не зная никого в Риме, боюсь кому-то досаждать. Она сказала, что там любят приезжих, и что она уверена, что мне там понравится.
— Могла бы я надеяться, что вы позволите пригласить вас к нам?
— Вы оказали бы нам честь, — сказал адвокат.
Красавица краснеет, я притворяюсь, что не вижу, и в очаровательных разговорах мы проводим день так же приятно, как и предыдущий. Мы остановились в Террачина, где нам дали комнату с тремя кроватями, две узких и широкая между ними. Это было вполне естественно, что две сестры легли вместе на широкой кровати, пока я разговаривал за столом с адвокатом, и обернулись к нам спиной. Адвокат пошел спать в кровать, в которой увидел свой ночной колпак, а я в другую, расположенную не далее шага от большой, в которой лежала, с моей стороны, его жена. Не будучи тщеславным, я, тем не менее, не мог заставить себя поверить, что это расположение зависело только от случайности. Я пылал уже от нее. Я раздеваюсь, тушу свечу и ложусь в постель, вынашивая очень беспокойный проект, потому что не смею ни обнять ее, ни отказаться от идеи. Я не мог заснуть. Очень слабый свет, позволяющий мне видеть кровать, где лежит эта очаровательная женщина, заставил меня держать глаза открытыми. Бог знает, на что бы я решился в конце концов, потому что я боролся уже час, когда увидел ее сидящей, затем встающей с кровати, обходящей очень медленно кругом, и ложащейся в постель к мужу. После этого я не слышал никакого шума. Это происшествие мне в высшей степени не понравилось, раздосадовало и отвратило до такой степени, что я повернулся в другую сторону и заснул, проснувшись только на рассвете, и увидел даму в ее постели. Я одеваюсь в очень плохом настроении и выхожу, оставив всех еще спящими. Я отправляюсь прогуляться и возвращаюсь в гостиницу, когда экипаж готов к отправлению, и дамы и адвокат меня ждут. Красавица с любезным и нежным видом выражает сожаление, что я не захотел ее кофе. Я приношу извинения, что должен был прогуляться. Я все утро не только не говорю ни слова, но и не смотрю, пожаловавшись на сильную зубную боль. В Пиперно, где мы обедали, она сказала, что моя болезнь от нервов. Это замечание меня обрадовало, так как позволило перейти к объяснению.
После обеда я играл ту же роль, вплоть до Сермонеты, где мы должны были ночевать и куда приехали очень рано. День был прекрасный, дама сказала, что она с радостью бы прогулялась, спросив меня со скромным видом, не предложу ли я ей руку, на что я согласился. Вежливость не позволяла мне поступить иначе. У меня было тяжело на сердце, но должно было последовать объяснение, уж не знаю, каким образом. Как только я увидел, что мы удалились от мужа, который подал руку ее сестре, я спросил, откуда она могла знать, что моя зубная боль из-за нервов.
— Я откровенна. В отличие от вашего слишком подчеркнутого поведения, когда вы заботливо воздерживались от взглядов на меня в течение всего дня. Зубная боль не может помешать вам быть вежливым, я в этом уверена. Кроме того, я знаю, что ни один из нас не мог дать оснований для изменения вашего настроения.
— Должна быть, однако, некая причина. Вы, сударыня, искренни лишь наполовину.
— Вы ошибаетесь, сударь. Я говорю вполне искренне, и если я дала вам причину, я этого не заметила, или надо этим пренебречь. Пожалуйста, скажите мне, в чем я перед вами провинилась.
— Пустое, потому что я не имею права ни на какие претензии.
— Неправда, у вас есть права. Такие же, как и у меня, и которые приличное общество предоставляет всем своим членам. Говорите. Будьте так же искренни, как и я.
— Вы должны игнорировать причину; точнее, сделать вид, что игнорируете; это правда. Согласитесь также, что мой долг — не говорить вам об этом.
— В добрый час. Теперь все сказано; но если ваша обязанность не раскрывать мне причину вашей смены настроения, такая же обязанность требует от вас не афишировать это изменение. Деликатность иногда требует от человека воспитанного скрывать определенные чувства, которые могут кого-то скомпрометировать. Это смущение ума, я это знаю; но оно не заслуживает упреков, когда тот, кто его испытывает, делается более любезным.
Столь тонко сплетенное рассуждение заставило меня краснеть от стыда. Я приклеился губами к ее руке, говоря, что признаю свои ошибки, и что она увидела бы меня у своих ног, просящего прощения, если бы мы не были на улице. Не будем больше об этом, — сказала она, и, проникнувшись моим скорейшим обращением, посмотрела на меня с видом, сулившим настолько полное прощение, что я не ощутил своей вины, отрывая губы от ее руки и перемещая их на ее прекрасный улыбающийся рот. Пьяный от счастья, я перешел от печали к радости так быстро, что адвокат во время ужина изрек сотню шуток по поводу моей зубной боли и прогулки, которая меня излечила.
На следующий день мы обедали в Веллетри, а оттуда переехали на ночлег в Мариино, где, несмотря на обилие войск, нам достались две маленькие спальни и неплохой ужин. Мне не оставалось желать ничего лучшего с этой очаровательной римлянкой. Я получил от нее только обещание, но это было обещание самой полной любви, которое уверило меня, что она будет вся моя в Риме. В экипаже мы говорили коленями более, чем глазами, и, таким образом, мы были уверены, что наш язык не мог быть никем услышан.
Адвокат рассказал мне, что едет в Рим, чтобы завершить церковное дело, и что остановится в приходе Минервы у своей тещи. Он соскучился по своей жене, после двух лет разлуки, а ее сестра надеялась остаться в Риме, выйдя замуж за служащего банка Святого Духа. Приглашенный бывать у них, я это обещал, как только позволят мои дела. Мы приступили к десерту, когда моя прекрасная, любуясь красотой моей табакерки, сказала мужу, что хотела бы иметь подобную этой. Он ей обещал. Купите эту, сказал я ему, я отдам ее за двадцать унций. Вы заплатите подателю записки, которую вы мне напишете. Это будет англичанин, которому я должен эту сумму, и я с радостью воспользуюсь такой возможностью с ним расплатиться.
— Табакерка, говорит адвокат, стоит двадцати унций, и я был бы рад подарить ее моей жене, которая, благодаря этому, будет вспоминать с удовольствием о вас, но я предпочитаю заплатить вам наличными. Видя, что я не соглашаюсь, жена говорит ему, что для него безразлично, как оплатить, а билет на предъявителя мне удобнее. Тогда, смеясь, он говорит, что надо меня опасаться, потому что, с моей стороны, это жульничество. Ты не видишь разве, что этот англичанин выдуманный? Он никогда не появится, и табакерка нам достанется даром. Этот аббат, моя дорогая жена, большой мошенник.
Я не думаю, ответила она, глядя на меня, что в мире много жуликов такого рода. Я сказал ему, что, к сожалению, недостаточно богат, чтобы практиковать подобные мошенничества.
Но вот что наполнило меня радостью. В комнате, где мы ужинали, была одна кровать, а другая — в соседнем кабинете, где не было дверей, и куда пройти можно было только через комнату. Две сестры, разумеется, предпочли кабинет. После того, как они легли, адвокат тоже лег, и я ложился последним; перед тем, как погасить свечи, я заглядываю в кабинет, чтобы пожелать им хорошего сна. Это делается, чтобы выяснить, с какой стороны невеста. У меня был готов проект, как все исполнить. Но какие я исторгаю проклятия в адрес своей кровати, когда слышу страшный шум, раздающийся, когда я на нее ложусь! Будучи уверен в благосклонности дамы, хотя она мне ничего не обещала, я слышу, что адвокат храпит, и хочу встать и пойти к ней, но когда я собираюсь встать, кровать скрипит, и проснувшийся адвокат протягивает руку. Он чувствует, что я здесь, и снова засыпает. Через полчаса я снова пытаюсь проделать то же самое, но кровать повторяет свою шутку и адвокат — вслед за ней — свою. Убедившись, что я здесь, он засыпает снова, но проклятая нескромность кровати заставляет меня принять решение отказаться от своего проекта. Но тут вдруг раздается выстрел. Слышен по всему дому громкий шум людей, бегающих вверх и вниз, выходящих и входящих. Мы слышим ружейные выстрелы, барабаны, сигнал тревоги, призывы. Крик, стук в нашу дверь, адвокат спрашивает меня, что происходит, я отвечаю, что не знаю и прошу позволить мне спать. Сестры в ужасе, во имя Бога просят у нас света. Адвокат встает в рубашке, чтобы пойти за светом, и я тоже встаю.
Я хочу снова закрыть дверь, и закрываю ее, но собачка замка захлопывается таким образом, что теперь нельзя ее открыть без ключа, которого у меня нет. Я иду в постель к двум сестрам, чтобы их ободрить в этой путанице, причины которой я не знаю. Рассказывая им, что адвокат сейчас вернется со светом, я получаю важное преимущество. Слабое сопротивление добавляет мне отваги. Боясь потерять драгоценное время, я наклоняюсь, и, желая сжать любимый объект в своих объятиях, падаю на него. Планки, поддерживающие матрас, ломаются, и кровать обрушивается. Адвокат стучит, сестра поднимается, моя богиня просит оставить ее, я вынужден уступить ее молениям, я ощупью пробираюсь к двери, говоря адвокату, что замок захлопнулся, и я не могу его открыть. Он снова спускается, чтобы найти ключ. Обе сестры в рубашках держатся позади меня. Надеясь, что есть время закончить дело, я протягиваю руки, но, почувствовав, что они грубо отброшены, понимаю, что это, должно быть, ее сестра. Я хватаю другую. Адвокат возится в дверях с ключами, она просит во имя Бога, чтобы я лег в постель, потому что ее муж, увидев меня в неописуемом состоянии, в котором я, должно быть, нахожусь, все поймет. Чувствуя себя взмыленным, я очень хорошо осознаю, что она хочет мне сказать, и быстро направляюсь в свою постель. Сестры также возвращаются в свою, и входит адвокат. Он идет сначала в кабинет, чтобы их успокоить, но разражается хохотом, когда видит их погруженными в рухнувшую кровать. Он зовет меня посмотреть на них, и, разумеется, я разделяю его веселье.
Он нам рассказал, что сигнал тревоги был дан немецким отрядом, потревоженным испанскими войсками, которые там были и из-за этого отступили. В течение часа никто больше не появлялся, и над всем беспорядком воцарилась тишина. Похвалив меня за то, что я не двинулся с кровати, он пошел обратно в постель.
Не сомкнув глаз, я дождался рассвета, чтобы спуститься вниз, помыться и поменять свою рубашку. Когда я увидел, в каком состоянии я находился, я восхитился присутствием духа моей любимой. Адвокат бы обо всем догадался. Не только моя рубашка и мои руки были грязные, но, я не знаю, как, мое лицо — тоже. Увы! Я бы чувствовал себя виноватым, и я действительно в какой-то мере был виноват. Эта «камисада» (ночная стычка) стала достоянием истории, но ее описание в исторических трудах не совпадает с моим. Я смеюсь каждый раз, когда читаю об этом у элегантного де Амичи [69], который пишет лучше, чем Саллюстий.
Сестра моей богини дуется над кофе, но на лице моего любимого ангела я вижу любовь, дружбу и удовлетворение. Это огромное удовольствие — ощущать себя счастливым! Можно ли жить без этого ощущения? Теологи говорят, что да. Их надо отправить щипать травку. Я видел, что обладатель донны Лукреции, как ее зовут, не проявлял от этого обстоятельства никакой радости. Ни его глаза и никакие его жесты ничего мне не говорили.
Наш смешной эпизод был спровоцирован тревогой испанцев, но сам по себе инцидент остался тогда нам неизвестен. Мы прибыли в Рим очень рано. В гостинице Башни, где мы ели омлет, я оказывал адвокату самые нежные знаки внимания, я называл его папой, я раздавал ему сотни поцелуев, и я предсказал ему рождение мальчика, заставляя его жену поклясться, что она его ему подарит. После этого я сказал так много хороших вещей сестре моей обожаемой, что она должна была меня простить за обрушение кровати. Покидая их, я обещал посетить их завтра. Меня доставили к гостинице вблизи площади Испании, откуда возчик отвез их в дом в приходе Минервы.
Итак, я в Риме, прекрасно экипированный, вполне при деньгах, при побрякушках, набравшийся опыта, с хорошими рекомендательными письмами, совершенно свободный, и в возрасте, когда человек может рассчитывать на удачу, если у него есть немного мужества, и внешность, располагающая в его пользу тех, к которым он обращается. Это не красота, а что-то, что лучше. Я чувствовал себя готовым ко всему. Я знал, что Рим уникальный город, где человек, начиная с нуля, часто поднимается очень высоко, и не удивительно, что я ощущал в себе все необходимые качества; моим капиталом было неистовое самолюбие, опасаться которого мне помешала моя неопытность. Человек состоявшийся, чтобы сделать карьеру в этой древней столице Италии, должен быть хамелеоном, восприимчивым ко всем цветам, отражающим свет его атмосферы. Он должен быть гибким, вкрадчивым, большим мастером маскировки, непроницаемым, услужливым, часто низким, притворно искренним, всегда делающим вид, что знает меньше того, что он знает на самом деле, имеющим голос только одного тона, восприимчивым, владеющим своей физиономией, холодным, как лед, при обстоятельствах, когда другой бы на его месте загорелся, и если он имеет несчастье не иметь религии в своем сердце, он должен иметь ее в голове, страдая в глубине души, если он честный человек, от подавленного сознания, что он лицемер. Если он ненавидит такое состояние, он должен покинуть Рим и искать счастья в Англии. Из всех этих необходимых качеств, не знаю, хвастаюсь ли я, или признаюсь, но я обладал только любезностью, качеством, которое, будучи изолированным, является дефектом. Я был легкомысленным искателем фортуны, довольно красивой лошадкой хороших кровей, необученной, или плохо обученной, что еще хуже.
Сперва я отнес письмо дона Лелио отцу Жеоржи. Этот ученый монах снискал себе уважение всего города. Папа питал к нему большое доверие, потому что, не являясь другом иезуитов, тот и не скрывал этого. Иезуиты, впрочем, полагали, что они достаточно сильны, чтобы им пренебрегать. Внимательно прочитав письмо, он сказал мне, что готов быть моим советчиком, и что, в частности, только от меня зависит, чтобы ничего не случилось со мной плохого, потому что при хорошем поведении человек не боится беды. Он спросил меня, что бы я хотел делать в Риме, и я ответил, что жду от него ответа на этот вопрос.
— Это возможно. Приходите ко мне домой почаще, и ничего от меня не скрывайте — ничего, ничего, что касается вас, и что происходит с вами.
Дон Лелио также дал мне письмо для кардинала Аквавива.
— Я вас поздравляю, потому что этот человек может в Риме больше, чем папа.
— Следует ли мне сразу занести ему это письмо?
— Нет. Я предупрежу его этим вечером, приходите сюда завтра утром. Я вам скажу, где и когда вам следует передать его. У вас есть деньги?
— Достаточно, чтобы мне хватило хотя бы на год.
— Отлично. Есть ли у вас знакомства?
— Никаких.
— Не делайте их, не посоветовавшись со мной, и особенно не ходите в кафе и к табльдотам, а если вы надумаете туда пойти, слушайте, но не говорите. Берегитесь расспросов, и если вежливость заставляет вас ответить, избегайте ответов, которые могут привести к определенным последствиям. Вы говорите по-французски?
— Ни слова.
— Тем хуже. Вы должны учить язык. Вы учились вообще?
— Плохо. Но я получил поверхностное образование, так что могу поддержать разговор.
— Это хорошо, но будьте осмотрительны, потому что Рим — это город поверхностно образованных людей, которые охотно разоблачают друг друга и постоянно ведут между собой войну. Я надеюсь, вы понесете свое письмо одетым, как подобает скромному аббату, а не в этот галантный наряд, который не годится для того, кто ищет карьеры. И прощайте до завтра.
Очень довольный этим монахом, я пошел в Кампо ди Фиоре, чтобы отнести письмо моего кузена дона Антонио дону Гаспаро Вивальди. Этот бравый мужчина принял меня в библиотеке, где беседовал с двумя респектабельными аббатами. Проявив себя сначала гостеприимным хозяином, дон Гаспаро спросил у меня также мой адрес и пригласил к обеду на завтра. Он дал самую высокую оценку отцу Жеоржи, и, провожая меня до лестницы, сказал, что отдаст сумму, которую поручил выплатить мне дон Антонио, на следующий день. Вот еще деньги, которые мой щедрый кузен дал мне, и от которых я не мог отказаться. Не трудно давать, но надо знать, как дать.
Возвращаясь домой, я встретил отца Стеффано, который, всегда дитя, осыпал меня ласками. Я должен был бы испытывать некоторое уважение к этому ничтожному оригиналу, которого Провидение использовало, чтобы оградить меня от пропасти. Брат Стеффано, объявив мне, что получил от папы все, чего хотел, предупредил меня, что я должен избегать встречи со сбиром, который дал мне два цехина, потому что, считая себя обманутым, он хочет отомстить. Мошенник был прав. Я сказал фра Стеффано, что делать, если сбир предъявит мою расписку торговцу; если я узнаю, где она, я заберу ее обратно. Обстоятельства сложились таким образом, что я заплатил два цехина и это неприятное дело закончилось.
Я поужинал за табльдотом с римлянами и иностранцами, точно следуя советам отца Жеоржи. Говорили много дурного о папе и о кардинале — министре, который был причиной того, что церковное государство было наводнено восемьюдесятью тысячами мужчин — немцев и испанцев. Меня удивило употребление скоромной пищи, хотя дело было в субботу; но в Риме удивительные вещи случаются ежедневно. Не существует города в христианском католическом мире, где человек был бы менее озабочен религиозными проблемами, чем Рим. Римляне — как работники табачной фермы, которым разрешено курить безвозмездно, сколько они хотят. Они живут в наибольшей свободе, за исключением того, что «ordini santissimi»[70] вызывают повсюду озабоченность, как было с «les lettres de cachet»[71] в Париже перед ужасной революцией.
На другой день, 1-го октября 1743 года, я, наконец, принял решение побриться. Мой пушок становился бородой. Мне показалось, что необходимо расстаться с некоторыми привилегиями подросткового возраста. Я был одет вполне как римлянин, как этого хотел портной дона Антонио. Отец Жеоржи казался вполне довольным, видя меня одетым таким образом. Пригласив меня на чашку шоколада, он сказал, что кардинал был предупрежден письмом от того же дона Лелио, и что Его Превосходительство примет меня в полдень на вилле Негрони, где он будет гулять. Я сказал ему, что должен обедать у г-на Вивальди, и он посоветовал мне посещать его чаще.
На вилле Негрони, увидев меня, кардинал остановился, чтобы взять письмо, и отошел от сопровождавших его двоих людей. Он положил его в карман, не читая. После двух минут тишины, которые он использовал, чтобы разглядеть меня, он спросил, не чувствую ли я вкус к политическим делам. Я ответил, что до сих пор обнаружил в себе только легкомысленные вкусы, и поэтому смею сказать, что с наибольшим рвением буду выполнять все, что Его Превосходительство мне поручит, если он сочтет меня достойным поступить к нему на службу. Он сказал мне, чтобы я на следующий день пришел к нему в отель, переговорить с аббатом Гама, которому он сообщит свои намерения. По его словам, я должен скорее начать изучать французский язык. Это необходимо. Затем, спросив, как чувствует себя дон Лелио, он оставил меня, дав мне руку для поцелуя.
Оттуда я отправился в Кампо ди Фиоре, где дон Гаспаро ждал меня к обеду в избранном обществе. Он был холост и не имел другой страсти, кроме литературы. Он любил латинскую поэзию даже больше, чем итальянскую, и его любимцем был Гораций, которого я знал наизусть. После обеда он дал мне сто римских экю от имени дона Антонио Казанова. Прощаясь, он сказал мне, что я доставлю ему истинное удовольствие каждый раз, когда буду приходить утром в его библиотеку, чтобы выпить с ним шоколаду.
Выйдя из его дома, я отправился в квартал Минервы. Мне не терпелось увидеть удивление донны Лукреции и Анжелики, ее сестры. Чтобы отыскать их дом, я спросил, где живет донна Сесилия Монти. Это была их мать. Я увидел молодую вдову, которая казалась сестрой своих дочерей. Она не нуждалась в моем представлении, потому что ждала меня. Пришли ее дочери и развлекли меня, но лишь на минуту, потому что показались мне другими. Донна Лукреция познакомила меня со своей младшей сестрой, которой было одиннадцать лет, и своим братом аббатом, пятнадцати лет, очень красивым. Я вел себя сдержано, в угоду матери: скромность, уважение и демонстрация наибольшего интереса ко всему, что я видел перед собой, что должно было меня вдохновлять.
Приехал адвокат и был удивлен, видя меня обновленным, он был польщен, когда я ему напомнил, что предрек ему стать отцом. Он начал вспоминать поводы для смеха, и я последовал за ним, но далеко не достигая того веселья, которое заставило нас обоих смеяться в экипаже. Он сказал мне, что, отпустив бороду, я стал бы выглядеть значительней. Донна Лукреция не знала, что думать об изменении моего настроения.
Под вечер пришли женщины, ни красивые, ни уродливые, и пять или шесть аббатов, по виду студентов. Все эти господа слушали с большим вниманием все, что я говорил, и я оставил их строить свои гипотезы. Донна Сесилия сказала адвокату, что он хороший художник, но его портреты не похожи, он ей ответил, что она меня видит в маске, и я сделал вид, что соглашаюсь с его унизительным доводом. Донна Лукреция сказала, что находит меня абсолютно таким же, а донна Анжелика утверждала, что воздух Рима придает иностранцам совсем другой вид. Все аплодировали ей за ее высказывание, и она покраснела от удовольствия. После четырех я убежал, но адвокат выбежал за мной, чтобы сказать, что донна Сесилия желает, чтобы я стал другом дома и заходил в любое время без церемоний. Я вернулся в свою гостиницу, довольный, потому что компания меня очаровала.
На следующий день я представился аббату Гама. Это был португалец, выглядящий на сорок лет, с красивым лицом, выражающим искренность, веселость и ум. Его приветливость внушала доверие. Его язык и манеры были таковы, что он мог бы сойти за римлянина. Он сказал мне в сладких выражениях, что его превосходительство сам отдал распоряжение дворецкому, чтобы тот приискал мне квартиру во дворце. Он сказал мне, что я буду обедать и ужинать с ним за столом секретариата, и что в ожидании, пока я не выучу французский, я буду заниматься, без особого напряжения, выписками из писем, которые он мне будет давать. Он даст мне также адрес учителя языка, с которым он уже договорился. Это римский адвокат по имени Далака, который живет практически напротив дворца Испании. После этого краткого инструктажа и заявления, что я могу рассчитывать на его дружбу, он отвел меня к дворецкому, который, записав мое имя внизу листа большой книги, заполненной другими именами, дал мне, как аванс содержания за три месяца, шестьдесят римских экю в банкнотах. Затем он поднялся со мной на третий этаж, следуя за гвардейцем, чтобы отвести меня в мою квартиру. Она состояла из прихожей и комнаты с альковом, смежной с кабинетом, все прилично меблированное. После этого мы вышли, и слуга дал мне ключ, сказав, что он будет прислуживать мне каждое утро. Он отвел меня к дверям, чтобы представить швейцару. Не теряя времени, я пошел в свою гостиницу, чтобы распорядиться перенести во дворец Испании весь мой маленький багаж.
Вот и вся история моего внезапного водворения в дом, где я должен был сделать большую карьеру, при условии поведения, которое я, такой, как я есть, обеспечить не мог. Volentem ducit nolentem trahit [72]. Я, прежде всего, отправился к моему ментору, отцу Жеоржи, чтобы отчитаться ему во всем. Он сказал мне, что я могу считать начало моей дороги положенным, и, поскольку я в высшей степени хорошо устроен, мое счастье отныне зависит исключительно от моего поведения. Запомните, сказал мне этот мудрый человек, что, чтобы сделать его безупречным, вы должны сдерживать себя, и все, что может случиться с вами пагубного, не может считаться ни как внешнее зло, ни как рок; эти имена не имеют смысла, все это — ваши ошибки.
— Мне очень жаль, преподобный отец, что моя молодость и неопытность часто заставляют вас беспокоить. Я буду вам в тягость, но вы найдете меня покорным и послушным.
— Вы найдете меня порой слишком суровым; но я предвижу, что вы не всегда будете мне рассказывать все.
— Все, абсолютно все.
— Позвольте мне засмеяться. Вы не сказали мне, где вы провели вчера четыре часа.
— Это не имеет никакого значения. Я познакомился с ними во время путешествия. Я думаю, это приличный дом, где я смогу часто бывать, по крайней мере, если вы не скажете мне обратного.
— Боже сохрани. Это очень порядочный дом, посещаемый людьми хорошего круга. Вас можно поздравить с таким знакомством. Вы понравились всей компании, и они надеются вас к себе привязать. Я обо всем узнал нынче утром. Но вы не должны часто посещать этот дом.
— Я должен сразу их покинуть?
— Нет. Это было бы нечестно с вашей стороны. Ходите туда один или два раза в неделю. Никакого постоянства. Вы вздыхаете, дитя мое.
— Нет, правда. Я вас послушаюсь.
— Я хочу, чтобы это не было послушанием; и чтобы ваше сердце из-за этого не страдало; но в любом случае, это надо преодолеть. Помните, что у разума нет большего врага, чем сердце.
— Но, однако, их можно согласовать.
— Вы себе льстите. Доверьтесь «Animum» вашего любимого Горация. Вы знаете, что нет середины, nisi paret imperat. [73]
— Я это знаю. Compesce catenas [74], говорит он, и он прав; но в доме донны Сесилии мое сердце не находится в опасности.
— Тем лучше для вас. Вы не расстроитесь от потери, просто, не следует посещать их часто. Помните, что моя обязанность — вам верить.
— А моя — следовать вашим советам. Я зайду к донне Сесилии еще несколько раз.
С отчаянием в душе я взял его руку, чтобы поцеловать; он ее забрал, прижал меня крепко к груди и отвернулся, не давая мне увидеть его слезы.
Я обедал в отеле Испании, рядом с аббатом Гама, за столом, где сидели десять — двенадцать аббатов, потому что в Риме все являются, или хотят быть, аббатами. Никому не запрещено носить платье аббата, все, кто хочет быть уважаемым, его носят, кроме дворян, не делающих церковной карьеры. За этим столом, где я никогда не говорил о своем наболевшем, приписали мое молчание моей проницательности. Аббат Гама пригласил меня провести с ним день, но я уклонился, чтобы пойти писать письма. Я провел семь часов за написанием писем дону Лелио, дону Антонио, моему юному другу Паоло и епископу Марторано, которые доброжелательно ответили, что хотели бы быть на моем месте.
Влюбленному в донну Лукрецию и счастливому в любви, покинуть ее мне казалось самой черной изменой. Для предполагаемого счастья моей будущей жизни, я начал с того, что стал палачом настоящей, и врагом своего сердца: я мог признать эту правду, только став низким объектом презрения на суде моего разума. Я полагал, что отец Жоржи, запрещая для меня этот дом, не должен был говорить, что он порядочный, тогда бы моя боль была меньше.
На утро следующего дня аббат Гама принес мне большую книгу, заполненную министерскими письмами, которые, для развлечения, я должен был переписывать. Выйдя, я отправился на свой первый урок французского языка, собираясь затем идти на прогулку; пересекая Страда Кондотта, я услышал, как меня зовут из кафе. Это был аббат Гама. Я сказал ему на ухо, что Минерва запретила мне посещать римские кафе. Минерва, ответил он, мне велит вас наставлять. Садитесь рядом со мной.
Я слышу молодого аббата, который громко излагает истинные или вымышленные факты, который напрямую, но без досады, критикует правосудие Святого Отца. Все смеются и повторяют его слова. Другой, когда его спросили, почему он ушел со службы кардинала В. отвечает, что потому, что его преосвященство думает, что не обязан ему платить, кроме как за некоторые чрезвычайные услуги, которые выполняются в ночном колпаке. Всеобщий смех. Другой говорит аббату Гама, что если он хочет провести вечер на вилле Медичи, он найдет его с «di due romanelle» [75], которые удовольствуются одним Quatrino [76]. Третий читает зажигательный сонет против правительства, и многие просят копию. Еще один читает свой сонет, в котором поносит честь семьи. Я вижу аббата примечательной внешности. Его бедра и зад заставляют меня предположить, что это переодетая девушка; я говорю об этом аббату Гама, который отвечает, что это Беппино делла Мамана, известный кастрат. Аббат его подзывает и говорит со смехом, что я принял его за девушку. Бесстыдник смотрит на меня и говорит, что если бы я захотел провести с ним ночь, он бы мог послужить мне либо мальчиком, либо девочкой. За обедом все сотрапезники говорили со мной, и мне показалось, что я был удачен в своих ответах. Аббат Гама, угощая меня кофе в своей комнате, сказал, что все те, с кем я обедал, были порядочные люди, и спросил меня: полагаю ли я, что понравился им.
— Осмелюсь предположить, что да.
— Не предполагайте. Вы уклонялись от вопросов настолько явно, что весь стол понял вашу скрытность. В дальнейшем вас не будут выспрашивать.
— Мне очень жаль. Надо ли обнародовать мои поступки?
— Нет, но есть всегда промежуточный путь.
— Это как у Горация. Это часто бывает очень трудно.
— Надо любить и оценивать одновременно.
— Я именно это и имел в виду.
— Ради бога! Вам сейчас есть, над чем думать, помимо любви. Это прекрасно; но вам придется бороться с завистью и ее дочерью — клеветой, и если эти два монстра не смогут вам повредить, вы победите. За столом вы сокрушили Салицетти, физика, и к тому же корсиканца. Он должен на вас взъесться.
— Должен ли я объяснять ему, что желания беременных женщин не могут иметь никакого влияния на кожу плода? Мне известны обратные случаи. Вы согласны со мной?
— Я не на вашей стороне, ни на его, потому что я видел детей с отметинами, называемыми желанными, но я не могу поклясться, что эти пятна приходят от желаний их матерей.
— Но я могу в этом поклясться.
— Тем лучше для вас, если вы знаете это с такой уверенностью, и тем хуже для Салицетти, если он отрицает возможность этого. Оставьте его в его ошибке. Это лучше, чем убеждать его, и сделать врагом.
Вечером я был у донны Лукреции. Там уже все знали и поздравляли меня. Она сказала мне, что я показался ей грустным, на что я ответил, что я хороню свое время, которому я уже не хозяин. Ее муж сказал ей, что я влюблен в нее, а ее свекровь посоветовала ей не быть такой бесстрашной. Проведя там час, я вернулся в отель, воспламеняя воздух своими влюбленными вздохами. Я провел ночь, сочиняя оду, которую на другой день послал адвокату, будучи уверен, что тот даст ее жене, любящей стихи, не зная, что это она — моя страсть. Я провел три дня, не видя ее. Я учил французский и переписывал письма министра.
В то время, как у Его Превосходительства каждый вечер собирался цвет римской знати, мужчин и женщин, я туда не ходил. Гама сказал, что я должен туда ходить без церемоний, как он. Я так и сделал. Никто не заговорил со мной, но мое никому неизвестное лицо вызвало вопросы, кто я такой. Я задал Гаме вопрос, кто эта дама, которая показалась мне более любезной и на которую я ему указал, но тут же в этом раскаялся, когда увидел придворного, который начал ему что-то говорить. Я увидел, что он меня лорнировал, затем улыбнулся. Эта дама была маркиза Г., чьим поклонником был кардинал С.К.
Утром в день, когда я решил провести вечер у донны Лукреции, в моей комнате появился ее муж, который сказал, что я занимаюсь самообманом, если пытаюсь показать, что не влюблен в его жену, и стараюсь не видеть ее часто, и он приглашает меня развлечься в первый четверг в Тестаччио со всей семьей. Он сказал, что я увижу в Тестаччио единственную пирамиду, находящуюся в Риме [77]. Он сказал также, что его жена знает мою оду наизусть, и она высказала очень высокое мнение обо мне своей сестре донне Анжелике, которая тоже не чужда поэзии и будет также на прогулке в Тестаччио. Я пообещал явиться в назначенный час к ним в двухместном экипаже.
Октябрьские четверги были в те дни в Риме днями веселья. Вечером в доме донны Сесилии мы говорили только об этой прогулке, и мне казалось, что донна Лукреция ожидает от нее столько же, сколько и я. Уж не знаю как, но поглощенные любовью, мы полагались на ее защиту. Мы любили, и мы томились, не имея возможности дать друг другу доказательства.
Я не захотел допустить, чтобы мой добрый отец Жеоржи узнал от других, кроме меня, об этом развлечении. Я решил пойти спросить у него разрешения. Выказывая безразличие, он не нашел доводов против. Он сказал, что я, безусловно, должен там быть, потому что это прекрасная семейная прогулка, и к тому же ничто не мешает мне знакомиться с Римом, и пристойно развлекаться.
Я прибыл к донне Сесилии в назначенный час, в двухместном экипаже, что арендовал у одного авиньонца по имени Ролан. Знакомство с этим человеком имело важные последствия, которые заставят меня говорить о нем через восемнадцать лет после описываемых событий. Очаровательная донна Сесилия представила мне дона Франческо, ее будущего зятя, как большого друга литераторов, украсившего себя литературой редкого качества. Принимая это как анонс на будущее, я отметил у него сонный вид и все другие характерные особенности, присущие кавалеру, который собирается жениться на очень красивой девушке, какой была Анжелика. Это был, тем не менее, честный и богатый человек, что гораздо важнее, чем галантный вид и эрудиция.
Когда мы собрались садиться в экипажи, адвокат сказал, что он составит мне компанию в моем, и что три женщины поедут с доном Франческо. Я на это ответил, чтобы он сам ехал с доном Франческо, потому что донна Сесилия должна стать моим призом, в противном случае на меня падет бесчестье, и, говоря так, я подал руку красивой вдове, которая нашла мое размещение сообразным правилам благородного и честного общества. Я видел одобрение в глазах донны Лукреции, но удивление адвоката, потому что он не мог игнорировать тот факт, что уступает мне женщину своего семейства. Может быть, он стал ревновать? — сказал я себе. Это прибавило мне настроения, но я надеялся вернуть свой долг в Тестаччио.
Прогулка и полдник за счет адвоката постепенно вели нас к окончанию дня, но мне было радостно. Мои шутливые любезности с донной Лукрецией не доходили до публики, мои особые знаки внимания были адресованы только донне Сесилии. Я кинул мимоходом только несколько слов донне Лукреции и ни одного — адвокату. Мне казалось, что это единственный способ дать ему понять, что он ошибается на мой счет. Когда мы вернулись к нашим экипажам, адвокат отобрал у меня донну Сесилию и сел с ней в четырехместный экипаж где сидели донна Анжелика с доном Франческо, и с радостью, почти заставившей меня потерять голову, я предложил руку донне Лукреции, говоря ей комплимент, не имеющий общепонятного смысла, хотя адвокат, рассмеявшись, поаплодировал мне, давая понять, что понял.
Как много вещей мы бы сказали друг другу, прежде чем обратиться к нашей любви, если бы время не было драгоценным! Но, слишком хорошо зная, что у нас только полчаса, мы стали единым существом в одну минуту. На вершине счастья и в изнеможении удовлетворенности, я удивлен, услышав из уст донны Лукреции слова:
— Ах, боже мой! Как мы несчастны!
Она отталкивает меня, она оправляется, кучер останавливается, и лакей открывает дверь.
— Что произошло, говорю я, приводя себя в приличное состояние.
— Мы дома.
Всякий раз, когда я вспоминаю это происшествие, оно мне кажется выдуманным или сверхъестественным. Это невозможно — сократить время до нуля, потому что все длилось мгновение, а лошади, между тем, были клячи. Нам дважды повезло. Во-первых, ночь была темная, во-вторых — мой ангел была на месте, с которого должна была спускаться первой. Адвокат оказался у двери в тот же момент, как лакей открыл ее. Ничто не восстанавливается так быстро, как женщина, но мужчина! Если бы я находился с другой стороны, мои дела были бы плохи. Она спустилась медленно, и все прошло отлично. Я остался у донны Сесилии до полуночи. Я лег в постель; но как уснуть? У меня в душе полыхало все то пламя, которое слишком малое расстояние от Тестаччио до Рима помешало мне вернуть Солнцу, от которого оно исходило. Оно пожирало мне внутренности. Несчастны те, кто полагает, что наслаждения Венеры — это что-то другое, что не исходит от двух сердец, любящих друг друга, и находящихся в самом полном согласии.
Я поднялся, когда настало время идти на урок. У моего преподавателя иностранного языка была хорошенькая дочь по имени Барбара, которая первые дни, когда я приходил на урок, всегда присутствовала, и несколько раз даже давала мне его сама, еще более правильно, чем отец. Красивый мальчик, который также приходил на урок, был ее любовником, и мне не составило труда это заметить. Этот мальчик часто заходил ко мне и был мне симпатичен своей скромностью. Десятки раз я говорил с ним о Барбарукке, и подтверждая, что он любит ее, он всякий раз менял предмет разговора. Я больше с ним об этом не говорил, но, не видя несколько дней этого мальчика ни у себя, ни у учителя, и не видя также Барбарукки, мне стало любопытно узнать, что случилось, хотя это интересовало меня весьма умеренно. Наконец, выходя как-то с мессы в San Carlo al Corto, я вижу молодого человека. Я подхожу к нему, упрекая в том, что его больше не видно. Он отвечает, что от горя, которое грызет его душу, он потерял голову, что он на краю пропасти, что он в отчаянии. Я вижу его глаза, полные слез, он хочет оставить меня, я его удерживаю, я говорю ему, что он больше не может считать меня среди своих друзей, если не поверит мне свои огорчения. Он останавливается. Он ведет меня внутрь монастыря и там говорит:
— Вот уже шесть месяцев, как я люблю Барбарукку, и три, как я уверен, что любим. Пять дней назад ее отец застал нас в пять часов утра в ситуации, не оставляющей сомнения, что мы состоим в любовной связи. Этот человек вышел, сдержав себя, и в момент, когда я хотел броситься ему в ноги, он проводил меня к двери своего дома, запретив в будущем там появляться. Чудовище, которое нас выдало, была служанка. Я не могу жениться, потому что у меня женатый брат, а мой отец не богат. Я не имею состояния, и у Барбарукки ничего нет. Увы! Вот, я вам доверил все, можете себе представить, в каком она состоянии? Ее отчаяние, должно быть, такое же, как мое, потому что не может быть большего. Нет возможности послать ей письмо, потому что она не выходит даже к мессе. Я несчастный! Что мне делать? Мне остается только плакать, потому что, как человек чести, я не могу быть замешан в этом деле.
Я сказал ему, что в течение пяти дней ее не видел, и, не зная, что сказать, я дал совет, который в таких случаях дают все глупцы: я посоветовал забыть ее. Мы были на набережной Рипетта, и дикие глаза, которыми он уставился на воды Тибра, заставили меня опасаться некоторых роковых последствий его отчаяния, я обещал ему, что поговорю о Барбарукке с его отцом, и что я буду передавать ему новости. Он просил меня не забывать о нем.
Уже четыре дня я не видел донну Лукрецию, несмотря на огонь, который зажгла прогулка в Тестаччио в моей душе. Я опасался доброты отца Жеоржи, и еще больше того, что он решит не давать мне больше советов. Я пошел повидать ее после урока, и нашел одну в ее комнате. Она сказала грустным и нежным голосом, что невозможно, чтобы я за это время не смог с ней повидаться.
— Ах, мой милый друг! Это не недостаток времени мне мешает. Я переживаю за свою любовь до такой степени, что хотел бы умереть, лишь бы не допустить, чтобы о ней узнали. Я подумал пригласить вас всех на обед во Фраскати. Я пошлю за вами фаэтон. Надеюсь, что там мы сможем уединиться.
— Сделайте, сделайте так, я уверена, что они не откажутся.
Через пятнадцать минут пришли все, и я предложил провести вечеринку, все за мой счет, в ближайшее воскресенье — в день святой Урсулы — имя младшей сестры моего ангела. Я пригласил также донну Сесилию и ее сына. Они согласились. Я сказал, что фаэтон будет у их дверей точно в семь часов, и также я в двухместном экипаже.
На следующий день, после занятий у г-на Далакка, спускаясь по лестнице к выходу, я вижу Барбарукку, которая, проходя из одной комнаты в другую, роняет письмо, глядя на меня. Я вынужден забрать его, потому что поднимающаяся служанка смогла бы его увидеть. В этом письме, в которое было вложено другое, говорилось: — «Если Вы полагаете, что это ошибка — передавать это письмо своему другу, сожгите его. Пожалейте несчастную и будьте осторожны». Вот содержание вложенного и не заклеенного послания: «Если ваша любовь равна моей, вы не можете надеяться жить счастливо без меня. Мы не можем говорить или писать друг другу иным способом, чем тот, что я осмеливаюсь использовать. Я готова сделать абсолютно все, что может объединить наши судьбы до самой смерти. Подумайте и решите». Я чувствовал себя в высшей степени тронутым жестокой ситуацией этой девушки, но я, не колеблясь, решился отдать ей ее письмо на следующий день, в сопровождении моего, в котором я приносил бы извинения, что не могу оказать ей эту услугу. Я написал его вечером и положил себе в карман. На следующий день я пошел, чтобы отдать ей письмо, но, сменив костюм, я его не нашел, потому что оставил дома, и мне пришлось отложить все на завтра. Впрочем, я не видел и девушку. Но в тот же день появляется бедный несчастный любовник, входит в мою комнату, когда я иду обедать. Он бросается на диван, описывая свое отчаяние такими живыми красками, что, наконец, опасаясь всего, я не могу помешать себе успокоить его боль, отдав ему письмо Барбарукки. Он говорит о том, что убьет себя, потому что у него внутреннее ощущение, что Барбарукка решила больше не думать о нем. У меня не было другого способа убедить его, что его мнение ошибочное, как дать ему письмо. Это моя первая роковая ошибка в этом фатальном деле, совершенная по слабости сердца. Он его читал, перечитывал, он его целовал, он плакал, он бросался мне на шею, благодаря за жизнь, что я ему дал, и закончил, сказав, что он принесет мне, прежде чем я пойду спать, свой ответ, потому что его любовница нуждается в таком же утешении, как и он. Он ушел, заверив меня, что его письмо меня нисколько не скомпрометирует, А впрочем, я могу его прочесть. Действительно, его письмо, хотя и очень длинное, не содержало ничего, кроме уверений в вечном постоянстве, и химерических надежд, но, несмотря на все, я не должен был делать из себя Меркурия. Чтобы не ввязываться в это дело, я должен был подумать, что отец Жеоржи, безусловно, никогда не дал бы мне своего согласия на такую мою услугу. Найдя на следующий день отца Барбарукки больным, я имел счастье видеть его дочь сидящей у изголовья его постели. Я рассудил из этого, что она, возможно, прощена. Она, не отходя от постели отца, провела мой урок. Я отдал ей письмо ее любовника, которое она положила в карман, зардевшись, как огонь. Я предупредил, что завтра они меня не увидят. Это был день Св. Урсулы, одной из тысячи мучениц, девственниц и принцесс.
Вечером на ассамблее у Его Высокопреосвященства, куда я стал ходить регулярно, хотя он обращался ко мне очень редко, но некоторые видные лица обращались ко мне с речами, кардинал сделал знак мне приблизиться. Он разговаривал с этой прекрасной маркизой Г., о которой Гама заметил, что я нашел ее выше всех прочих.
— Мадам, — сказал кардинал, — хотела бы узнать, делаете ли вы успехи во французском языке, на котором она говорит превосходно.
Я ответил по-итальянски, что я многому научился, но еще не решаюсь говорить.
— Надо осмеливаться, сказала маркиза, но без претензий. Надо поставить себя вне всякой критики.
Я не упустил возможности придать слову «осмеливаться» смысл, о котором маркиза, разумеется, не думала, так что я покраснел. Заметив это, они с кардиналом перешли к другой теме, и я спасся бегством.
На следующее утро в семь часов я отправился к донне Сесилии. Мой фаэтон уже стоял у ее дверей. Мы отправились в заранее обдуманном порядке. Мы прибыли во Фраскати в два часа. Мой экипаж в этот раз был элегантный «визави», приятный и с такой хорошей подвеской, что донна Сесилия его похвалила. Я, в свою очередь, поеду в нем на обратном пути, заявила донна Лукреция. Я сделал ей реверанс, как бы поймав на слове. Таким образом, чтобы развеять подозрение, она бросила ему вызов. Наслаждаясь в полной мере, я в конце дня предался вовсю моей природной веселости. Щедро распорядившись насчет обеда, я позволил себя отвести на виллу Людовичи. Поскольку могло случиться, что мы потеряемся, мы назначили рандеву на час в гостинице. Скромная донна Сесилия взяла руку своего зятя, донна Анжелика — своего жениха, а донна Лукреция осталась со мной. Урсула пошла бегать со своим братом. Менее чем через четверть часа мы остались без свидетелей.
— Ты слышал, — начала она разговор со мной, — как безукоризненно я все устроила, чтобы провести два часа наедине с тобой? Опять это «визави». Как умна любовь!
— Да, мой ангел, любовь делает наши умы единым умом. Я обожаю тебя, и дня не проходит, чтобы я не обратился мыслями к тебе, чтобы убедиться в спокойном обладании тобой.
— Я не думала, что такое возможно. Это ты все сделал. Ты прекрасно во всем разбираешься, для своего возраста.
— Всего месяц назад, сердце мое, я был невеждой. Ты первая женщина, которая посвятила меня в тайны любви. Ты — тот человек, отъезд которого сделает меня несчастным, потому что в Италии может быть только одна Лукреция.
— Как! Я твоя первая любовь! Ах! Несчастный! Ты никогда меня в этом не убедишь! Что я для тебя? Ты тоже первая любовь моей души; и ты, конечно, будешь последней. Я счастлива, что ты будешь любить после меня. Я к этому не ревную, мне только жаль, что у нее не будет такого сердца, как мое.
Донна Лукреция, видя мои слезы, пролила свои. Мы оказались брошены на газон, мы склеились нашими губами, и даже наши слезы смешались и мы насладились их вкусом. Древние философы были правы: они сладкие, я могу в этом поклясться; современные ученые просто болтуны. Поглотив их, мы уверились, что, смешавшись, они обратились в нектар, как и наши поцелуи, исторгнутые из наших влюбленных душ. Мы были единым целым, когда я сказал ей, что мы можем быть застигнуты врасплох.
— Не бойся этого. Наши Гении нас охраняют.
Мы оставались спокойные после первой короткой схватки, глядя друг на друга, не произнося ни слова и не думая об изменении позиции, когда божественная Лукреция, посмотрела направо:
— Ну, — сказала она, — разве не сказала я тебе, что наши Гении нас охраняют. Ах! Как он нас высматривает! Он хочет удостовериться. Полюбуйся на этого маленького чертенка. Это все, что есть в природе сокровенного. Полюбуйся им. Это, конечно, твой Гений, или мой.
Я решил, что она бредит.
— Что ты говоришь, мой ангел? Я тебя не понимаю. Чем я должен любоваться?
— Разве ты не видишь эту красивую змею с пламенной кожей, которая, подняв голову, кажется, любуется нами?
Я смотрю туда, куда она устремила взгляд, и вижу змею с переливающейся расцветкой, с метр длиной, которая действительно смотрит на нас. Этот вид меня не забавляет, но я не хочу показаться менее неустрашимым, чем она.
— Возможно ли, мой обожаемый друг, — сказал я, — что его появление тебя не пугает?
— Его появление меня радует, я тебе говорю. Я уверена, что этот кумир только кажется змеей.
— А если он подползет и будет шипеть около тебя?
— Прижму тебя еще крепче к моей груди, и не поверю, что он сделает мне плохо.
— Лукреция, в твоих объятиях невозможно никакое зло.
— Постой! Он уходит. Быстро, быстро. Он хочет нам сказать, удаляясь, что приближаются непосвященные, и мы должны пойти поискать другой газон, чтобы возобновить там наши удовольствия. Поднимемся. Оправься.
Едва поднявшись, мы медленно идем и видим выходящих из смежной аллеи донну Сесилию и адвоката. Не избегая их и не спеша, как будто было очень естественно встретиться, я спрашиваю донну Сесилию, боится ли ее дочь змей.
— Несмотря на весь свой ум, она боится грома, вплоть до того, что способна убежать, и она спасается, испуская крики, когда видит змею. Здесь они есть, но не ядовитые.
Мои волосы поднялись, потому что ее слова уверили меня, что я видел чудо любовной природы. Подошли дети, и мы без церемоний снова разделились.
— Но скажи мне, — говорю я ей удивленно, — что бы ты делала, если бы твой муж с твоей матерью захватили нас во время дебатов?
— Ничего. Разве ты не знаешь, что в эти божественные моменты не существует никого, кроме влюбленных? Можешь ли ты представить себе, что ты не владеешь мной целиком?
Эта молодая женщина не сочиняла оду, когда говорила мне такое.
— Как ты думаешь, спросил я у нее, — нас никто не подозревает?
— Мой муж либо не считает нас влюбленными, либо не делает проблемы из-за некоторых шалостей, которые обычно позволяют себе молодые люди. Моя мать умна и догадывается, может быть, обо всем; но она знает, что это не ее дело. Анжелика, моя дорогая сестра, знает все, потому что не сможет никогда забыть разваленную кровать; но она благоразумна, и, кроме того, она мне сочувствует. Она не понимает природы моего огня. Без тебя, мой дорогой друг, я, может быть, до смерти бы не узнала любви, потому что для моего мужа я всего лишь одно из удобств, которые он должен иметь.
— Твой муж пользуется божественной привилегией, к которой я не могу не ревновать. Он сжимает руками все твои прелести, когда хочет. Ничто не мешает его чувствам, его глазам, его душе ими наслаждаться.
— Где ты, моя дорогая змея? Охраняй меня, и я буду сейчас ублажать моего любовника.
Мы провели так все утро, говоря о нашей любви, и доказывая это там, где полагали себя защищенными от каких-либо неожиданностей.
Во время заказанного мной тонкого и изысканного обеда мое основное внимание было обращено на донну Сесилию. Поскольку мой табак из Испании был превосходен, моя красивая табакерка часто обходила стол.
Когда она была в руках донны Лукреции, сидевшей слева от меня, ее муж сказал ей, что она может отдать мне за нее свое кольцо.
— Договорились, — сказал я, полагая, что кольцо стоит меньше, чем табакерка, хотя для меня оно стоило, на самом деле, больше. Донна Лукреция не захотела прислушиваться к доводам разума. Она положила табакерку в карман, и отдала мне кольцо, которое я положил в свой, потому что оно было мне слишком узко. Но тут вдруг все призывают нас к молчанию. Жених Анжелики достает из кармана сонет, плод его гения, который он сочинил в мою честь и славу, и хочет его прочесть. Все аплодируют, я должен поблагодарить его, принять сонет, и предложить ему уместный и своевременный ответ. Предполагается, что я должен попросить времени, чтобы написать ответ, и что мне надо провести с проклятым Аполлоном три часа, которые, на самом деле, были предназначены для любви. После кофе и рассчитавшись с хозяином, все отправились расслабиться на виллу, если не ошибаюсь, Альдобрандини.
— Скажи-ка мне, обратился я к моей Лукреции, — объясни со всей метафизикой твоей любви, почему мне кажется, что мы с тобой сейчас пойдем и как будто впервые погрузимся в прелести любви. Пойдем поскорее в убежище, где найдем алтарь Венеры, и будем приносить ей жертвы до самой смерти, даже если не увидим змей; и если придет папа со всем своим Священным Синклитом, не двинемся с места. Его Святейшество даст нам свое благословение.
Мы нашли, после нескольких обходов, крытую аллею, довольно длинную, в середине которой имелось помещение, заполненное различными садовыми сиденьями. Одно из них было удивительное. Оно было в форме кровати, но на месте обычного изголовья у него имелось другое, изогнутое углом и продолговатое, но на три четверти ниже, параллельно основному ложу. Мы разглядывали его, смеясь. Это была красноречивая кровать. Сначала мы расположились на ней, проверяя ее возможности. С этой кровати мы наслаждались зрелищем обширной и изолированной площадки, по которой даже кролик не смог бы подкрасться к нам незаметно. Сзади кровати аллея была недоступна, и мы могли видеть оба ее конца направо и налево на равное расстояние. Никто, войдя в аллею, не смог бы добраться до нас, если не бежать, менее чем за четверть часа. Здесь [78], в саду Дукс, я увидел место в таком же стиле, но немецкий садовник не думал о постели. В этом счастливом месте нам не было нужды объяснять свои мысли. Стоя друг против друга, серьезные, не отводя глаз от глаз, мы расшнуровывались, мы расстегивались, наши сердца трепетали, и наши быстрые руки спешили успокоить свое нетерпение. Ни один не медлил, наши объятия раскрылись, чтобы крепче сжать то, чем руки стремились овладеть. Наша первая схватка заставила смеяться прекрасную Лукрецию, которая заверила, что гений, имеющий право сверкать повсюду, никуда не исчез. Мы оба воздали хвалу счастливому свойству малого изголовья. Мы варьировали наши возможности, и они все были счастливые и, несмотря на это, кончались, чтобы уступить место другим. Через два часа, очарованные друг другом, мы оба сказали, нежно переглядываясь, эти слова: Амур, я благодарю тебя. Донна Лукреция, скользнув благодарными глазами по безошибочному признаку моего поражения, смеясь, подарила мне долгий поцелуй; но когда увидела, что она возвращает мне жизнь, воскликнула: — Но довольно, но довольно, — готовая снова торжествовать, — оденемся. Затем мы поспешили прочь, но вместо того, чтобы смотреть друг на друга, мы устремляли глаза на то, что непроницаемые одежды скрывали от нашей ненасытной жадности. Полностью одевшись, мы согласились сделать жертвенное возлияние Амуру, чтобы поблагодарить его за то, что он удалил от нас всех возмутителей его оргии. Нами была выбрана длинная и узкая скамейка, без спинки, подобная спине мула, на которую мы уселись верхом. Борьба началась, и набирала мощный ход; но, предвидя слишком долгий исход и сомнительное возлияние, мы перешли к положению «визави», под сенью ночи, под звуки топота четверки лошадей.
Мы направились, наконец, медленным шагом, в сторону наших экипажей, ведя доверительные беседы насытившихся любовников. Она сказала мне, что ее будущий шурин богат и имеет дом в Тиволи, куда он пригласит нас провести ночь. Она хотела посоветоваться с Амуром, как бы нам провести ее вместе. Наконец она сказала мне, что, к сожалению, церковное дело, которым занимался ее муж, продвигается так удачно, что, она опасается, решение будет получено слишком скоро.
Мы провели два часа, играя фарс, который не смогли завершить. Подойдя к дому, мы вынуждены были спустить паруса. Я бы кончил, если бы не возымел каприз разделить спектакль на два акта. Я вернулся слегка усталый, но прекрасный сон меня полностью восстановил. На завтра я отправился на урок в обычный час.
Бенедикт XIV. Пикник в Тиволи.
Отъезд донны Лукреции. Маркиза Г.
Барбара Далакка. Мое несчастье и отъезд из Рима.
Урок провела Барбарукка, потому что ее отец был очень болен. При моем уходе она положила мне в карман письмо и сразу убежала, чтобы не дать мне времени для отказа. Она была права, потому что я бы так и сделал. Письмо было адресовано мне и полно самых живых изъявлений благодарности. Она просила меня дать знать ее любовнику, что ее отец с ней говорил, и она надеется, что к моменту своего выздоровления он наймет другую прислугу. Она закончила, заверив меня и мне пообещав, что никогда меня не скомпрометирует.
Болезнь, которая вынудила ее отца оставаться в постели в течение двенадцати дней, привела к тому, что именно она давала мне уроки. Она заинтересовала меня, заставив по-новому взглянуть на красивую девушку. Это было чистое чувство жалости, и я был польщен, ясно видя, что она высоко его оценила. Никогда ее глаза не останавливались на моих; никогда ее рука не встречалась с моей, я никогда не видел в ее наряде ни малейшего признака старания сделать мой визит приятным. Она была красива, и я знал, что она чувствительна, но эти знания отнюдь не снижали значения того, что я считал долгом чести и добросовестности, и я был рад, что она не считает меня способным воспользоваться своей осведомленностью о проявленной ею слабости. Ее отец, еще до своего выздоровления, прогнал свою служанку и нанял другую. Она попросила меня передать эту новость ее возлюбленному и сказать ему, что она надеется использовать эту новую служанку в их интересах, по крайней мере, ради возможности взаимной переписки. Когда я обещал передать ему эту новость, она взяла мою руку и поцеловала ее. Сказав о желании передать ему поцелуй, она покраснела и отвернулась. Мне это понравилось. Я передал новость ее любовнику, он нашел способ поговорить с новой служанкой, он сумел использовать ее в своих интересах, и я перестал участвовать в этой интриге, которая, как мне казалось, сулила очень дурные последствия, но зло уже было налицо.
Я редко заходил к дону Гаспару, потому что изучение французского языка мне мешало, но я ходил каждый вечер к отцу Жоржи; хотя, как мне казалось, он и не считал меня вполне монахом, но это создавало мне определенную репутацию. Я никогда с ним не болтал по пустякам, но не докучал ему. Мы критиковали без злословия, говорили о политике и литературе, я многому учился. Оставив обитель мудрого монаха, я шел в большую ассамблею кардинала, моего учителя, потому что был обязан это делать.
Почти на каждой ассамблее маркиза Г., увидев меня вблизи стола, за которым она играла, говорила мне пару слов по-французски, на что я отвечал по-итальянски, потому что, как мне казалось, не стоило смешить публику. Я оставляю за читателем возможность понимания моего странного чувства. Я находил ее очаровательной, и я ее избегал, не из страха влюбился в нее, потому что мне, влюбленному в донну Лукрецию, это казалось невозможным, но из-за боязни, что она может влюбиться в меня или заинтересоваться мной. Было ли это скромностью или тщеславием? Пороком или добродетелью? Solvat Apollo.[79]
Она обратилась ко мне через аббата Гама, стоявшего рядом моего учителя, и кардинала C.К. Я представился, и она захватила меня врасплох вопросами по-итальянски, чего я никак не ожидал.
— Во Фраскати, — спросила она, — вам очень понравилось?
— Весьма, мадам. Я в жизни не видел ничего столь красивого.
— Но компания, с которой вы были, была еще более красивая, и очень галантной была ваша визави.
Я ответил только поклоном. Спустя минуту кардинал Аквавива мне ласково заметил:
— Вас удивляет, что об этом знают?
— Нет, монсеньор, но я удивлен, что об этом говорят. Я не думал, что Рим настолько мал.
— И чем дольше вы здесь остаетесь, — сказал С.К., — тем больше будете убеждаться, насколько он мал. Вы еще не ходили поцеловать подножие Святого Петра?
— Нет еще, монсеньор.
— Вы должны пойти, — сказал кардинал Аквавива.
Я ответил поклоном.
Аббат Гама сказал мне, выходя с ассамблеи, что я должен пойти, не откладывая, завтра.
— Вы приглянулись маркизе Г., я не сомневаюсь в этом, — сказал он.
— Сомневаюсь, потому что я никогда у нее не был.
— Вы меня удивляете. Она подзывает вас, она говорит с вами!
— Я пойду к ней вместе с вами.
— Я туда никогда не хожу.
— Но она с вами тоже говорила.
— Да, но… Вы не знаете Рим. Идите туда один. Вы должны туда пойти.
— Но она меня примет?
— Думаю, вы шутите. Речь не идет о том, чтобы о вас объявили. Вы войдете к ней, когда обе створки двери ее комнаты будут распахнуты. Вы увидите там всех тех, кто отдает ей честь.
— Она меня заметит?
— Не сомневайтесь в этом.
Назавтра я отправился в Монте Кавалло, и, прежде чем мне сказали, что я могу войти, пошел прямо в комнату, где находился папа, и он был один. Я целую святой крест на пресвятой туфле, он спрашивает меня, кто я такой, я говорю, он отвечает, что знает меня, и хвалит за то, что я имею счастье принадлежать свите столь важного кардинала.
Он спрашивает меня, как я добился того, чтобы войти в его свиту, и я рассказываю ему с наибольшей искренностью обо всем, начиная с моего приезда в Марторано. Посмеявшись над тем, что я рассказал ему об епископе, он сказал, чтобы я не старался разговаривать с ним по-тоскански и говорил на венецианском диалекте, а он отвечал бы мне так, как говорят в Болонье. Я наговорил ему так много разного, что он сказал, что я доставлю ему удовольствие всякий раз, как буду к нему приходить. Я попросил разрешения читать все запрещенные книги, и он дал мне на это благословение, говоря, что пошлет его мне в письменной форме; но он об этом забыл. Бенедикт XIV был ученый, добросердечный и очень любезный человек. Второй раз я говорил с ним на вилле Медичи. Он подозвал меня к себе и, прогуливаясь, говорил о пустяках. Его сопровождали кардинал Аннибал Альбани и венецианский посол.
Приблизился скромного вида человек, понтифик спросил его, что он хочет, человек тихо ответил, и папа, выслушав, сказал, вы правы, ступайте с Богом. Он дал ему свое благословение, человек печально отошел, и папа продолжил свою прогулку. Этот человек, — говорю я Святому Отцу, — не был доволен ответом Вашего Святейшества.
— Почему?
— Потому что, видимо, он уже обращался к Богу, прежде чем говорить с вами, и вы, как было слышно, направили его туда снова, он чувствует себя отправленным, как говорит пословица, от Ирода к Пилату.
Папа усмехнулся, и двое, находившихся с ним, — тоже, и я остался один серьезным.
— Я не могу, — говорит папа, — ничего сделать без помощи бога.
— Это правда, но этот человек знает, что Ваше Святейшество его премьер-министр; так что вы можете себе представить смущение, в котором он в пребывает в настоящее время, будучи отправлен обратно к хозяину. У него не остается другого ресурса, как подавать деньги римским нищим. За тот грош, что он им даст, они все будут просить за него бога. Они увеличат его кредит. Я полагаюсь только на Ваше Святейшество, поэтому прошу вас облегчить мне эту жару, опаляющую мне глаза, и мешающую мне есть постное.
— Ешьте скоромное.
— Пресвятой отец. Ваше благословение.
Он мне дает его, говоря, что он не освобождает меня от постов. В тот же вечер я услышал на ассамблее кардинала изложение всего диалога между папой и мной. После этого все захотели со мной разговаривать. Я был польщен тем, что кардиналу Аквавива это было приятно, и он тщетно это скрывал.
Я не пренебрег мнением аббата Гама. Я отправился к г-же Г. в общее для всех время. Я увидел ее, я увидел ее кардинала и много других аббатов; но я думал, что остался незамеченным, потому что мадам не удостоила меня взглядом, и никто не сказал мне ни слова. Через полчаса я ушел. Через пять-шесть дней после этого она сказала мне в благородной и изящной манере, что видела меня в своей приемной.
— Я не знал, что имел счастье быть замеченным мадам.
— О! Я замечаю все. Мне сказали, что вы умны.
— Если те, кто это сказал вам, мадам, в этом понимают, вы сообщаете мне хорошую новость.
— Да, они в этом разбираются.
— Но если они никогда со мной не говорили, они не могли этого заметить.
— Это так. Приходите ко мне.
У нас составится кружок. Кардинал С.К. сказал мне, что когда мадам говорила со мной по-французски, хорошо или плохо, но я должен был ответить на том же языке. Политик Гэна сказал мне, между прочим, что мой стиль слишком резок, и при длинных фразах я утомляю.
Выучившись в достаточной мере французскому, я больше не брал уроков. Только упражнение должно было дать мне знание языка. Я заходил к донне Лукреции несколько раз по утрам и ходил вечером к отцу Жоржи. Он знал о моей поездке в Фраскати и не находил оснований для нарекания.
Через два дня после своего рода приказа посещать ее, отданного мне маркизой, я вошел в ее зал. Заметив сразу меня, она послала мне улыбку, которую я счел долгом вернуть вместе с реверансом, но это все. Через четверть часа она села играть, и я пошел обедать. Она была хороша и влиятельна в Риме, но я не мог заставить себя перед ней пресмыкаться.
К концу ноября жених донны Анжелики пришел ко мне вместе с адвокатом, чтобы пригласить провести день и ночь у него в доме в Тиволи, в той же компании, которую я принимал во Фраскати, и я с удовольствием согласился, потому что со дня святой Урсулы ни разу не улучил момента побыть наедине с донной Лукрецией. Я обещал быть у донны Сесилии в своем экипаже на рассвете указанного дня. Надо было выехать очень рано, потому что Тиволи находится в шестнадцати милях от Рима, и потому, что для осмотра большого количества тамошних достопримечательностей требовалось много времени. Чтобы остаться на ночь, я попросил разрешения у самого кардинала, который, выслушав, с кем я еду, ответил, что я прекрасно делаю, воспользовавшись возможностью осмотреть чудеса этого известного места в прекрасной компании.
В назначенный час я оказался у дверей донны Сесилии, в том же «визави», запряженном четверкой лошадей, и, как всегда, он оказался в моем распоряжении. Эта любезная вдова, несмотря на чистоту своих нравов, оказалась очень полезна для моих любовных отношений с ее дочерью. Вся семья расположилась в шестиместном фаэтоне, нанятом доном Франческо. В половине восьмого мы сделали остановку в маленьком доме, где дон Франческо организовал элегантный завтрак, который должен был возместить нам отсутствие обеда. В Тиволи мы прибывали только к ужину. Таким образом, после плотного завтрака, мы вернулись к нашим экипажам, и прибыли к его дому только в десять часов. У меня на пальце было кольцо, данное мне донной Лукрецией, увеличенное под размер моего пальца. Я отдал переделать лицевую сторону кольца, где виднелось лишь эмалевое поле с кадуцеем, обвитым одной змеей. Он виднелся между двумя греческими буквами Альфа и Омега. Это кольцо служило предметом обсуждения во время завтрака, пока не заметили, что на реверсе были те же камни, что составляли кольцо донны Лукреции. Адвокат и дон Франческо старались объяснить иероглиф, что очень развлекало донну Лукрецию, знавшую все. Проведя полчаса в осмотре дома дона Франческо, который был настоящей жемчужиной, мы отправились все вместе, чтобы провести шесть часов в экскурсии по древностям Тиволи.
Пока Донна Лукреция что-то говорила дону Франческо, я шепнул донне Анжелике, что, когда она будет хозяйкой этого дома, я буду приезжать в сезон, чтобы провести несколько дней вместе с ней.
— Во-первых, сударь, когда я буду здесь хозяйкой, первым человеком, перед которым я закрою дверь, будете вы.
— Благодарю вас, мадемуазель, что вы меня предупредили.
Забавно, что я принял эту выходку за очень красивое и очень ясное объяснение в любви. Я застыл как камень. Донна Лукреция, встряхнув меня, спросила, что мне сказала ее сестра. Когда она это услышала, она сказала мне серьезно, что после ее отъезда, я должен сделать все, чтобы заставить ее загладить свою ошибку. Она мне жаловалась, сказала она, что должна тебе отомстить.
Дон Франческо, указав мне на небольшую комнату с видом на оранжерею, сказал, что я там буду спать. Донна Лукреция притворилась, что этого не слышит. Принужденные вместе со всеми отправиться рассматривать красоты Тиволи, мы не могли надеяться найти днем возможность остаться наедине. Мы провели вместе шесть часов, любуясь и восхищаясь, но я почти ничего не видел. Если читателю любопытно узнать что-то о Тиволи, не побывав там, он может почитать Кампаньяни. Я узнал Тиволи только двадцать восемь лет спустя. К вечеру мы вернулись в дом, усталые и умирающие от голода. Час отдыха перед тем, как сесть за стол, два часа за столом, изысканная кухня и отличное вино Тиволи восстановили нас так, что нам потребовались только кровати для сна, либо для праздника любви. Никто не хотел спать в одиночестве. Лукреция говорит, что она будет спать с Анжеликой в комнате, выходящей на оранжерею, в которой ее муж будет спать с аббатом, а ее младшая сестра со своей матерью. Такой план всех устроил. Дон Франческо взял свечу, отвел меня в кабинет, где я расположился, показал мне, как я мог бы запереться, а затем пожелал спокойной ночи. Этот кабинет был смежным с комнатой, где должны были спать две сестры. Анжелика не обратила внимания на тот факт, что я был ее соседом. Пять минут спустя я увидел их, через замочную скважину, входящими в сопровождении дона Франческо, который зажег им ночную лампу и оставил их. Запершись, они присели на канапэ, и я увидел, что они раздеваются. Лукреция, зная, что я ее слышу, сказала сестре, чтобы та легла в постель со стороны окна. Вот дева, не зная, что ее видят, снимает свою рубашку и проходит этакой импозантной фигурой на другую сторону комнаты. Лукреция, прикрутив ночник, гасит свечи и тоже ложится. Счастливые моменты, которые я не надеюсь больше пережить, но дорогое воспоминание о которых может заставить меня потерять только смерть. Думаю, что никогда я не раздевался быстрее. Я открываю дверь и падаю в объятия Лукреции, которая говорит своей сестре: — Это мой ангел, заткнись и спи. Она ничего больше не могла сказать, потому что наши склеившиеся рты больше не были ни органами речи, ни каналами дыхания. Став единым существом в одно мгновение, мы были не в силах сдерживать ни на минуту наше первое желание; оно достигло своего предела без всякого шума поцелуев и без каких-либо движений с нашей стороны. Жестокий огонь, охвативший нас, вдохновил нас; он бы нас сжег, если бы мы попытались ему воспротивиться. После небольшой передышки, молчаливые, серьезные и спокойные, гениальные министры нашей любви, дорожа огнем, который зажегся в наших жилах, мы осушаем наши поля, залитые слишком обильным наводнением, произошедшим в первое извержение. Мы расплачиваемся за это священное служение тонким бельем, взаимно, благоговейно и соблюдая религиозное молчание. После этого очищения, мы отдаем дань нашими поцелуями всем частям тела, подвергнувшимся наводнению. Затем дело стало за мной, чтобы пригласить мою прекрасную воительницу начать конфликт, тактику которого может знать только амур, сражение, которое, очаровывая все наши чувства, не может иметь иного греха, кроме слишком раннего окончания, но Я преуспел в искусстве затягивания. В конце Морфей, овладев нашими чувствами, погружает нас в нежную смерть, до того момента, когда свет зари являет в наших едва открытых глазах неиссякаемый источник новых желаний. Мы отдаемся им, но чтобы их разрушить. Прекрасное разрушение, которому мы можем предаться, лишь снова их убивая.
— Берегись своей сестры, — говорю я ей, — она может повернуться и нас увидеть.
— Нет, моя сестра очаровательна, она меня любит и меня жалеет. Не правда ли, дорогая Анжелика? Повернись, поцелуй свою сестру, которой владеет Венера. Повернись и смотри на то, что тебя ждет, когда любовь сделает тебя своей рабыней.
Анжелика, девушка семнадцати лет, которая вынуждена была провести адскую ночь, не находит ничего лучше, чем повернуться и подать своей сестре знак, что она простила ее. Осыпав ее поцелуями, она призналась, что совсем не спала.
— Прости, — говорит Лукреция, — вот тот, кто любит меня и кого люблю я: вот, смотри на него и смотри на меня. Мы таковы, какими мы были уже семь часов. Сила любви!
— Анжелика меня возненавидит, — говорю я, — я не смею…
— Нет, — говорит Анжелика, — я вас не ненавижу.
Лукреция, упрашивет меня поцеловать сестру, затем прыгает от меня и наслаждается, видя свою сестру в моих объятиях, томную, не подающую никаких знаков сопротивления. Но чувство, большее, чем любовь, не позволяет мне отказать Лукреции в знаках моей признательности. Я хватаю ее с яростью, наслаждаясь видом экстаза, в котором вижу Анжелику, в первый раз присутствующую при такой прекрасной борьбе. Умирающая Лукреция умоляет меня кончить; но я неумолим, я бросаюсь на ее сестру, которая не только не отталкивает меня, но прижимает к своей груди так, что оказывается осчастливленной даже прежде, чем я даю свое согласие. Это было так, как во время пребывания богов на земле, сладострастная Анаидия[80], влюбленная в сладкое и приятное дыхание Западного ветра, в один прекрасный день открыла ему объятия и стала плодоносной. Это был божественный Зефир. Огонь природы сделал Анжелику нечувствительной к боли, она почувствовала только радость от удовлетворенного желания. Лукреция, удивленная и восхищенная нашей радостью, засыпала нас поцелуями, очарованная видом умирающей от чувств сестры, и меня, продолжающего свое преследование. Она вытирала капли пота с моего лба. Анжелика в конце истекла в третий раз так нежно, что вынула из меня душу.
Лучи солнца, проникающие сквозь жалюзи наших окон, прогнали меня от них. Заперев дверь, я лег в постель, но через несколько минут услышал голос адвоката, который упрекал свою жену и свояченицу в лени. После этого, постучав в мою дверь, и увидев меня в одной рубашке, он пригрозил мне привести моих соседок. Он вышел, чтобы привести ко мне парикмахера. Я снова закрылся, умыл лицо холодной водой, и вышел с обычным видом. Через час я вошел в общую залу и там ничего не произошло. Я обрадованно увидел лица моих прекрасных возлюбленных, свежие и цветущие. Донна Лукреция ведет себя свободно, Анжелика веселее, чем обычно, и ярче, но вертится направо и налево, тревожная и беспокойная, я вижу ее только в профиль. Увидев ее смеющейся оттого, что я напрасно ищу ее глаза, которые она намеренно прячет, я говорю донне Сесилии, что ее дочь опасается, что неправильно набелилась. Обманутая моей клеветой, она заставляет меня накинуть ей на лицо платок, и смотрит на меня. Я отрекаюсь от сказанного, прося у нее прощения, и дон Франческо рад, что белила его невесты служат предметом обсуждения.
Откушав шоколаду, мы пошли осматривать прекрасный сад хозяина, и я, оказавшись с донной Лукрецией, упрекнул ее за коварство. Глядя на меня, как богиня, она упрекает меня за неблагодарность.
— Я просветила разум моей сестры, — говорит она. — Вместо того, чтобы жалеть о происшедшем, она должна меня одобрить, она должна любить тебя, и после моего отъезда я оставляю ее тебе.
— Но как же я смогу полюбить ее?
— Разве она не очаровательна?
— Это правда, но очарованный тобой, я закрыт для любого другого очарования, да и дон Франческо теперь должен занимать ее целиком, и я должен остерегаться тревожить мир в их отношениях.
— Еще я могу тебе сказать, что характер твоей сестры отличен от твоего. Этой ночью и твоя сестра, и я стали жертвами наших чувств. Это так, и мне кажется, ты не должна об этом забывать. Но Анжелика, ты видишь? Анжелика должна уже раскаиваться в том, что была соблазнена природой.
— Все это, может быть, правда, но печалит меня то, что мы уезжаем в последних числах этого месяца. Мой муж уверен, что получит судебное решение на этой неделе. Вот и заканчиваются наши радости.
Эта новость меня опечалила. За столом я был занят только щедрым доном Франческо, которому обещал эпиталаму на день свадьбы, которая должна была состояться в январе. Мы вернулись в Рим, и донна Лукреция все три часа, что мы провели один напротив другого в моем «визави», не могла убедить меня, что я влюблен в нее меньше, чем до того, как она ввела меня во владение всеми своими богатствами. Мы остановились в маленьком домике, где мы завтракали накануне, чтобы поесть мороженого, заказанного для нас доном Франческо. Мы прибыли в Рим в восемь часов. Имея большую потребность в отдыхе, я прежде всего направился в отель Испании.
Три или четыре дня спустя адвокат пришел ко мне, чтобы откланяться, с очень любезными словами. Он возвращался в Неаполь, выиграв свой процесс. Поскольку он уезжал послезавтра, я провел у донны Сесилии последние два вечера их пребывания в Риме. Зная время, когда он должен был отъезжать, я отправился двумя часами ранее, чтобы остановиться там, где, как я думал, он должен был ночевать, чтобы иметь удовольствие поужинать с ним в последний раз; но помеха, заставившая его отложить отъезд на четыре часа, привела к тому, что этим удовольствием стал для нас обед.
После отъезда этой редкой женщины, я погрузился в скуку, которая овладевает молодым человеком, чье сердце пусто. Я проводил весь день в моей комнате, делая краткие обзоры французских писем самого кардинала, который был так добр, что сказал мне, что находит мои выписки очень разумными, но что я, на самом деле, должен работать поменьше. Мадам Г. присутствовала при этом весьма лестном комплименте. Во второй раз, что я был у нее с визитом, она меня не замечала. Она на меня дулась. Услышав упрек кардинала на то, что я чрезмерно много работаю, она сказала ему, что я должен был работать, чтобы развеять мою тоску после отъезда донны Лукреции.
— Вы правы, мадам, я это весьма прочувствовал. Она была добра, и прощала меня, если я не мог часто заходить к ней. Впрочем, моя дружба в этом была не виновата.
— Я в этом не сомневаюсь, хотя кое-кто видит в вашей оде поэта влюбленного.
— Так не бывает, — сказал мой обожаемый кардинал, — что поэт пишет, не создавая впечатления влюбленности.
— Но если он именно таков, — ответила маркиза, — то нет нужды создавать впечатление.
С этими словами она вынимает из кармана мою оду и отдает ее С.Г., говоря, что она делает мне честь, что это маленький шедевр, признанный всеми умами Рима, и что донна Лукреция знает ее наизусть. Кардинал с улыбкой возвращает ей, говоря, что не питает склонности к итальянской поэзии, и что если она находит оду красивой, она могла бы доставить ему удовольствие и перевести ее на французский. Она ответила, что пишет по-французски только в прозе, и что любой перевод стихотворного произведения в прозе должен быть плох. Однако мне случается, — добавила она, глядя на меня, — сделать что-нибудь итальянскими стихами, без претензий.
— Я почел бы себя счастливым, мадам, если бы имел удовольствие полюбоваться какими-то из них.
— Вот, — говорит мне кардинал, — сонет мадам.
Я почтительно беру его, приготовившись читать, когда мадам велит мне положить его в карман, и вернуть ей на следующий день у Его Высокопреосвященства, хотя ее сонет и не стоит внимания.
— Если вы выходите утром, — говорит кардинал С.Г., — вы могли бы вернуть его мне, придя отобедать у меня.
— В таком случае, — замечает кардинал Аквавива, — он выйдет пораньше.
После глубокого реверанса, сказавшего все, я медленно удаляюсь и иду к себе в комнату, горя нетерпением прочесть сонет. Но прежде чем читать, я оглянулся на себя, на мое нынешнее положение, и тот большой путь, который, как мне казалось, я проделал на ассамблее этим вечером. Маркиза Г., которая делает мне самое ясное заявление, что интересуется мной, с ее величавым видом, не боится скомпрометировать себя, публично делая мне авансы. И кто осмелился бы порицать? Молодой аббат, такой, как я, очень незначительный, может рассчитывать только на ее протекцию, и она была заявлена, в принципе, тем, кто, не показывая этого, считает себя достойными иметь такие претензии. Моя скромность в этом предложении была очевидна для всех. Маркиза оскорбила бы меня, если бы сочла способным вообразить, будто она почувствовала склонность ко мне. Конечно, нет. Такое самомнение не в моей натуре. Это правда, что ее кардинал даже пригласил меня на обед. Сделал бы он это, если бы мог решить, что я нравлюсь его маркизе? Наоборот. Он пригласил меня пообедать с ним лишь после того, как осознал слова самой маркизы, что я тот человек, с которым стоит потратить несколько часов без всякого риска, но ничего, ничего особенного не представляющий. Не более того.
Зачем мне маскироваться от моего дорогого читателя? Он меня считает фатом, и я его извиняю. Я был уверен, что понравился маркизе; я поздравил себя с тем, что она сделала этот ужасный первый шаг, без которого я бы никогда не осмелился не только атаковать ее соответствующими средствами, но и вообще остановить на ней свой выбор. Я, наконец, не считал ее способной внушить мне любовь и стать в этот вечер достойной преемницей донны Лукреции. Она была красива, молода, исполнена ума, высоко образованна, начитана, и обладала влиянием в Риме. Я решил сделать вид, что не замечаю ее склонности, и начать на следующий день давать ей основания полагать, что я люблю ее, не смея надеяться. Я был уверен, что достигну всего. Это было предприятие, которому бы поаплодировал даже сам отец Жоржи. Я с удовольствием заметил, что кардинал Аквавива был весьма доволен тем, что кардинал С.К. пригласил меня, в то время как сам он никогда не оказывал мне такой чести.
Я прочел ее сонет, я нашел его хорошим, легким, простым, написанным превосходным языком. Маркиза написала похвальное слово прусскому королю, который в это время вступил во владение Силезией, по мановению руки. Мне пришло на ум спародировать его, сделав так, будто сама Силезия отвечает на сонет и жалуется, что Амур, автор этого сонета, осмеливается аплодировать тому, кто ее завоевал, хотя это был король, объявивший себя врагом любви. Невозможно человеку, пишущему стихи, отказаться от красивой мысли, пришедшей ему на ум. Моя мысль мне показалась превосходной, это главное. Я ответил, в тех же рифмах, на сонет маркизы и пошел спать. Утром я его подшлифовал, переписал набело и положил в карман.
Аббат Гама вышел к завтраку вместе со мной, сделав мне комплимент по поводу чести, оказанной мне С.К., но предупредив, чтобы я был настороже, потому что Его Высокопреосвященство очень ревнив. Я заверил его, поблагодарив, что мне нечего опасаться с этой стороны, потому что я не чувствую никакой склонности к маркизе. Кардинал С.К. принял меня с видом доброты, смешанной с достоинством, чтобы дать мне почувствовать милость, что он мне оказал:
— Каким вы нашли, — спросил он меня сначала, — сонет маркизы?
— Очаровательным, монсеньор, — вот он.
— Она очень талантлива. Я хочу вам показать десять ее стансов, в ее манере; но это под большим секретом.
— Ваше высокопреосвященство может быть в этом уверен.
Он открывает секретер и дает мне читать десять стансов, посвященных ему. Я не вижу в них огня; но образы хорошо набросаны и в страстном стиле. Это была любовь в чистом виде. Кардинал при этом проявил большое любопытство. Я спросил его, ответил ли он; он сказал, что нет, и спросил, смеясь, не мог бы я одолжить ему мое перо, но непременно под строжайшим секретом.
— За секрет, монсеньор, я отвечаю своей головой, но мадам заметит различие в стилях.
— У нее нет ничего от меня; а впрочем, я не думаю, что она считает меня хорошим поэтом. По этой причине ваши строфы должны быть сделаны так, чтобы она не смогла счесть их выше моих способностей.
— Я напишу их, монсеньор, и Ваше Высокопреосвященство будут судьей в этом вопросе. Если вы сочтете, что не в состоянии сотворить что-либо подобное, Ваше Высокопреосвященство их ей не передаст.
— Хорошо сказано. Не могли бы вы сделать это сразу?
— Сразу? Это не проза, монсеньор.
— Попробуйте дать их мне завтра.
Мы обедали в два часа, тет-а-тет, и мой аппетит был ему приятен. Он поздравил меня с тем, что я ел столько же, сколько и он. Я ему ответил, что он мне льстит, и я уступаю ему первенство. Я смеялся про себя над этим оригинальным характером, предвидя пользу, которую я мог бы извлечь, но тут появилась маркиза, которая, конечно, вошла без объявления. В первый момент она показалась мне совершенной красавицей. При ее появлении кардинал смеется, поднимаясь, чтобы сесть рядом с ней, но она не дает ему времени встать. Я остался стоять, что было в порядке вещей. Она говорит с умом о разных вещах; приносят кофе, и она, наконец, говорит мне, чтобы я сел, но так, как будто подает мне милостыню.
— Кстати, аббат. Читали ли вы мой сонет?
— Я даже вернул его монсеньору. Я им восхищался, мадам. Я нашел его столь удачным, что, я уверен, вы потратили на него много времени.
— Времени? — сказал кардинал, — вы ее не знаете.
— Без обиды, монсеньор, но оно того не стоит. Поэтому я не осмелился передать Вашему Высокопреосвященству ответ, который накатал за полчаса.
— Посмотрим, посмотрим, — говорит маркиза. Я хочу его прочитать.
«Ответ Силезии Амуру».
Это заглавие заставляет ее покраснеть. Она становится серьезной. Кардинал говорит, что речь не идет об Амуре.
— Подождите, — говорит мадам. — Следует уважать мысль поэта.
Она читает его очень хорошо. Она перечитывает. Она находит справедливыми упреки, сделанные Силезией в ее адрес, и объясняет кардиналу причину, почему Силезия должна быть недовольна королем Пруссии, который осуществил это завоевание.
— Ах! Да, да, — говорит кардинал, — потому что Силезия — это женщина… потому что король Пруссии, который… О! Действительно, мысль божественная.
Пришлось ждать некоторое время, пока иссяк смех Его Высокопреосвященства.
— Я непременно хочу скопировать этот сонет, — говорит он.
— Аббат, — говорит маркиза, улыбаясь, — избавит вас от заботы.
— Я ему буду диктовать. Что я вижу! Он сделал это вашими рифмами. Вы обратили на это внимание, маркиза?
Взгляд, который она мне подарила, окончательно влюбил меня в нее. Я увидел, что она хотела, чтобы я узнал кардинала так, как она его знала, и что я наполовину уже принадлежу ей. Я почувствовал, что готов. Окончив переписывать сонет, я их оставил. Кардинал сказал, что ждет меня к обеду на завтра.
Я пошел и заперся в своей комнате, потому что десять строф, которые я должен был написать, были совершенно особого рода. Мне нужно было тащить мою лошадь из канавы с чрезвычайным мастерством, потому что в то же самое время, что маркиза должна была делать вид, что полагает автором строф кардинала, она должна была быть уверена, что они были мои, и она должна была знать, что я знаю, что она это знает. Я должен был распорядиться своей славой так, чтобы в моих стихах она увидела огонь, который может исходить только от моей собственной любви, а не из поэтического воображения. Я должен был также подумать о моем благе по отношению к кардиналу, который, найдя мои стихи красивыми, захотел бы их присвоить. Речь идет о ясности, и это то, что есть самого трудного в поэзии. Затемненный стиль, который есть самое простое в поэзии, должен был казаться величественным этому человеку, от которого я ожидал больших выгод. Если маркиза в своих десяти строфах описывала прекрасные качества кардинала, физические и моральные, я должен был ответить ей взаимностью. Так что я описал их, со всеми их характерами. Я обрисовал их видимые красоты, и уклонился от изображения тайных, закончив последний станс двумя красивыми стихами Ариосто:
«Le angeliche bellezze nate in cielo Non si ponno celar solto alcun vélo»[81],извинившись, что это не я написал.
Я раздеваюсь, ложусь спать, и через полчаса аббат Гама стучит в мою дверь; я тяну за шнур. Он входит, говоря мне, что монсеньор желает, чтобы я спустился.
— Маркиза Г. и кардинал С.К. спрашивают вас.
— Мне очень жаль. Пойдите и скажите им правду. Скажите также, если хотите, что я болен.
Не успев повернуться, я увидел, что он отправился выполнять свою комиссию. На следующее утро я получил записку от кардинала С.К., в которой он пишет, что ожидает меня на обед, что у него было кровотечение, что ему нужно поговорить со мной, и чтобы я пришел пораньше, даже если болен. Это было срочно. Я не мог ни о чем догадаться, но не ожидал ничего неприятного. Едва одевшись, я спускаюсь и иду прослушать мессу, где, я уверен, монсеньор меня видит. После мессы, он спрашивает меня мимоходом, был ли я на самом деле болен.
— Нет, монсеньор. Я просто хотел спать.
— Вы напрасно так поступили, потому что вас любят. У кардинала С.К. открылось кровотечение.
— Я это знаю. Он мне написал в этом в записке, в которой пригласил посетить его, если Ваше Высокопреосвященство разрешит.
— Отлично. Но это забавно. Я не думаю, что ему нужен третий.
— Будет кто-то третий?
— Я об этом ничего не знаю. Я не любопытен.
Все думали, что кардинал говорил со мной о государственных делах.
Я отправился к С.К., который был в постели.
— Будучи вынужден соблюдать диету, — говорит он, — я буду обедать в одиночку; но вы ничего не потеряете, потому что повар не предупрежден. Хочу вам сказать, что я боюсь, что ваши стихи будут слишком хороши, потому что маркиза в этом разбирается. Если вы их мне прочтете так, как она их читает, я не смогу к этому приспособиться.
— Она, однако, считает, что они Вашего Преосвященства.
— Она не сомневается, но что мне делать, если она решит просить меня сочинить новые стихи?
— Располагайте мной, монсеньор, днем и ночью, и будьте уверены, что я предпочту лучше умереть, чем предать вашу тайну.
— Я вас прошу принять этот маленький подарок. Это «Негрилло» из Гаваны, что дал мне кардинал Аквавива.
Табак был хорош, но аксессуар был лучше. Табакерка была из золота с эмалью. Если Его Преосвященство не умел писать стихи, он умел, по крайней мере, дарить, и это знание в господине гораздо прекрасней, чем первое.
Я был удивлен, увидев в полдень маркизу в самом галантном дезабилье.
— Если бы я знала, — сказала она, — что вы пребываете в доброй компании, я бы не пришла.
— Я уверен, — ответил он, — что вы не сочтете лишним нашего аббата.
— Нет, потому что я считаю его порядочным человеком.
Я стоял, ничего не говоря, но ощущая себя готовым уйти с моей прекрасной табакеркой при первой же насмешке, которую она бы позволила себе отпустить. Он спросил, обедала ли она, в то же время сказав, что распорядился приготовить диету.
— Я обедала, но плохо, потому что не люблю есть в одиночестве.
— Аббат, если вы хотите оказать ей эту честь, вы можете составить компанию.
Она ответила только милостивым взглядом. Это была первая великосветская дама, с которой я столкнулся. Я не мог привыкнуть к ее проклятому покровительственному тону, который не может иметь ничего общего с любовью; но я видел, что в присутствии своего кардинала она должна была так поступать. Я знал, что она должна понимать, что поддержание такого вида сбивает с толку.
Поставили стол около кровати Его Высокопреосвященства. Маркиза почти ничего не ела, помогая аплодисментами моему счастливому аппетиту.
— Я вам говорил, что аббат мне не уступит.
— Я думаю, — ответила она, — что не намного; но вы больший лакомка.
Я прошу ее сказать, на каком основании она считает меня гурманом:
— Я люблю, мадам, только тонкие кусочки, и все изысканное.
— Надо объяснить, что есть «все», — говорит кардинал.
Позволив себе засмеяться, я начал без подготовки говорить стихами обо всем, что было достойно называться избранными кусочками. Маркиза мне зааплодировала, сказав, что она восхищается моей смелостью.
— Моя смелость, мадам, это ваша заслуга, потому что я робок, как кролик, когда меня не ободряют. Это вы автор моего экспромта, cum dico quse placent dictât auditor.[82]
— Я восхищаюсь вами. Что до меня, то даже когда меня ободряет сам Аполлон, я не смогла бы произнести четыре стиха без того, чтобы их не записать.
— Осмельтесь, мадам, отрешиться от вашего Гения, и вы произнесете божественные вещи.
— Я тоже так думаю, говорит кардинал. Разрешите, я покажу аббату ваши десять стансов.
— Они сделаны небрежно; но я хотела бы быть уверена, что это останется между нами.
Кардинал передал мне десять стансов маркизы, которые я прочел, придавая им весь смысл, который может придать правильное чтение хорошему стихотворению.
— Как вы это прочитали! — говорит маркиза. — Лучше, чем это сделал бы автор. Я вас благодарю. Но будьте также любезны прочесть в том же тоне десять стихов Его Высокопреосвященства, написанных в ответ на мои. Они намного превосходят эти.
— Не верьте этому, сказал он; но вот они. Попытайтесь ничего из них не потерять при чтении.
Кардиналу не нужно было обращаться ко мне с этой просьбой, поскольку стихи были моими; я не мастер читать плохо, тем более, что Бахус прибавил огня, который маркиза, находясь перед моими глазами, зажгла в моей душе. Я прочел так, что кардинал был доволен, а маркиза вынуждена была краснеть в тех местах, где я описал некоторые красоты, которые поэзии позволено хвалить, но которые я не мог видеть. Она вырвала из моих рук стансы с раздосадованным видом, говоря, что я исказил стихи. Это было правдой, но я притворился, что с этим не согласен.
Я был весь в огне, и она была не менее разгоряченной. Кардинал заснул, и она встала, чтобы выйти на бельведер, и я вышел вслед за ней. Она присела на баллюстраде, я стал перед ней. Ее колено оказалось вблизи моего кармана с часами. Взяв почтительно и мягко ее руку, я попросил ее обнять меня.
— Я обожаю вас, мадам, и если вы не позволите мне надеяться на взаимность, я решил избегать встречи с вами. Произнесите ваш приговор.
— Я считаю вас распущенным и непостоянным.
— Я ни тот и ни другой.
Говоря это, я прижал ее к своей груди, запечатлев на ее губах поцелуй любви, который она приняла без отвращения и не подвергаясь с моей стороны ни малейшему насилию. Мои голодные руки попытались открыть путь ко всему, но она быстро изменила позу, умоляя уважать ее, так нежно, что я почувствовал себя обязанным повиноваться и не только обуздать свои порывы, но и попросить прощения. Она заговорила о донне Лукреции, и должна была испытывать восхищение, найдя меня монстром сдержанности. Потом она заговорила со мной о кардинале; она хотела, чтобы я считал его только ее хорошим другом. Затем мы декламировали прекрасные поэтические отрывки, она сидела, позволяя мне любоваться половиной точеной ножки, и я стоял и притворялся, что ее не вижу, решив не добиваться в этот день большего, чем уже получил. Кардинал явился в ночном колпаке, удивился, увидев нас, и испрашивал прощения за то, что заставил нас ждать. Я оставил их только в сумерках, очень довольный своей участью, и полный решимости держать мою зарождающуюся любовь в узде, пока не представится счастливый случай, при котором я буду уверен, что увенчаю его победой.
С того дня очаровательная маркиза не переставала подавать мне знаки особого уважения, не касаясь никаких тайн. Мне казалось, что можно рассчитывать на следующий карнавал, будучи уверен, что, чем больше я проявлю деликатности, тем больше она будет сама стараться предоставить мне случай, при котором она полностью вознаградит мою любовь, мою верность и мое постоянство. Но фортуна обернулась по-другому, когда я меньше всего этого ожидал, и когда кардинал Аквавива и даже сам папа мыслили сделать ее прочной.
Этот выдающийся понтифик сделал мне очень лестные комплименты относительно красивой табакерки, что подарил мне кардинал С.К., больше не говоривший со мной о маркизе Г.; кардинал Аквавива не скрывал удовольствия, видя красивую табакерку, в которой его щедрый собрат подарил мне его «negrillos». Аббат Гама, видя меня на столь прекрасной стезе, поздравлял меня и не смел давать мне советов, отец Жоржи, который догадывался обо всем, сказал, что я должен был ценить милость маркизы Г. и стараться не потерять ее расположения для приобретения чего-либо другого. Таково было мое положение.
Это было на Рождество. Любовник Барбарукки вошел в мою комнату, закрыл дверь и бросился на канапэ, говоря, что я вижу его в последний раз.
— Я пришел, чтобы попросить у вас доброго совета.
— Какой совет я могу вам дать?
— Возьмите. Читайте. Вы знаете все.
Это было письмо от Барбарукки. Вот оно:
«Я беременна, мой дорогой друг, и я больше не могу в этом сомневаться. Предупреждаю вас, что я решилась покинуть Рим в одиночку, и умереть, когда бог даст, если я вам больше не нужна. Я скорее выстрадаю все, чем открою моему отцу несчастное состояние, в котором мы оказались».
— Будучи порядочным человеком, — говорю я ему, — вы не можете ее покинуть. Женитесь на ней, несмотря на своего отца, и Вечное Провидение о вас позаботится.
Он думает, он кажется мне более спокойным, и он уходит. В начале января он появляется у меня и кажется очень довольным.
— Я снял, — говорит он, — верхний этаж дома, соседнего с домом Барбарукки. Она знает об этом, и этой ночью я выйду через световой люк чердака своего дома и влезу через люк в ее доме. Я договорюсь с ней о времени, когда я поднимусь. Мое дело сделано. Я решил сопроводить ее в Неаполь, и, поскольку ее служанка, которая спит на чердаке, не смогла бы проигнорировать ее побег, я увезу ее с нами.
— Бог благословит вас.
Восемь дней спустя, я вижу его в моей комнате за час до полуночи, в сопровождении аббата.
— Чего вы хотите от меня в этот час?
— Я представляю вам этого прекрасного священника.
Я узнаю Барбарукку, и я встревожен.
— Вас видели входящими?
— Нет. Но в любом случае, я аббат. Мы проводим вместе каждую ночь.
— Я поздравляю вас.
— Горничная согласна; она поедет с нами. Мы скоро отправляемся, и мы будем в Неаполе через двадцать четыре часа. У нас будет экипаж, который доставит нас до первого поста, где, я уверена, нам дадут лошадей.
— Прощайте. Желаю вам счастья. Я прошу вас уйти.
— Прощайте.
Несколько дней спустя, прогуливаясь на вилле Медичи с аббатом Гама, я услышал от него, что ночью будет полицейская операция на площади Испании.
— В чем будет состоять эта экзекуция?
— Барджелло[83] или его лейтенант исполнит некий святейший приговор, или посетит подозрительный дом, или заберет кое-кого, кто этого не ожидает.
— Откуда это известно?
— Его Высокопреосвященство должен об этом знать, потому что папа не осмелится вторгнуться на его юрисдикцию, не спрашивая его разрешения.
— И он его спросил?
— Да. Святейший аудитор пришел к нему, чтобы спросить, сегодня утром.
— Но наш кардинал мог отказать ему.
— Правда, но он никогда не отказывает.
— А если осужденная персона находится под его защитой?
— Его высокопреосвященство в таком случае его предупреждает.
Через четверть часа, оставив аббата, я почувствовал беспокойство. Я подумал, что этот приказ мог бы относиться к Барбарукке или ее любовнику. Дом Далакка находился под юрисдикцией Испании. Я тщетно искал повсюду молодого человека; отправившись к нему или к Барбарукке, я боялся себя скомпрометировать. Не вызывает сомнений, что, будучи уверен, я бы пошел, но мое подозрение не было достаточно основательным. Около полуночи, собираясь лечь спать, я открываю дверь, чтобы вынуть ключ, когда с удивлением вижу аббата, который быстро входит и, задыхаясь, бросается в кресло. Узнав Барбарукку, я закрываю дверь; я догадываюсь обо всем, и, предвидя последствия, теряюсь. Взволнованный, смущенный, я не спрашиваю ее ни о чем, я пересказываю ей факты, я осуждаю ее за попытку спастись в моем доме и прошу ее уйти. Несчастный! Следовало ее не просить, а выгнать, и даже звать народ, если бы она не захотела уходить. Я не в силах был это сделать. При словах «Уходите!», она, плача и стеная, бросается к моим ногам, моля о пощаде. Я уступил, но предупредил, что мы оба пропали.
— Никто не видел меня при входе в отель, или поднимающуюся сюда, я в этом уверена, и я счастлива, что побывала здесь десять дней назад, иначе я бы никогда не угадала, где ваша комната.
— Увы! Было бы лучше, если бы вы ошиблись. Что стало с доктором, вашим возлюбленным?
— Сбиры увели его вместе с горничной. Вот что произошло. Мой любовник сказал мне прошлой ночью, что в эту ночь в одинадцать часов коляска подъедет к подножию лестницы Тринита деи Монти и будет там меня ждать; я выбралась час назад из люка нашего дома, вслед за горничной. Я влезла в его дом, оделась, как вы видите, спустилась и направилась прямо к коляске. Моя служанка шла впереди меня с моим скарбом. Огибая угол и чувствуя, что пряжка моей туфли упала, я останавливаюсь и наклоняюсь ее поправить. Служанка, думая, что я следую за ней, идет своей дорогой, подходит к коляске и садится в нее; я была всего в тридцати шагах от нее. Но вот что заставило меня застыть на месте. Едва горничная поднялась, я вижу при свете фонаря, как кучер слезает с лошади, другой человек залезает на нее и, отпустив поводья, пускает лошадей вскачь вместе с моей служанкой и моим любовником, который, разумеется, дожидался меня в коляске. Что могла я сделать в этот ужасный момент? Не смея больше вернуться домой, я следовала движению моей души, которое могу назвать невольным, это привело меня сюда. И вот я здесь. Вы говорите, что из-за этого поступка я вас потеряла, и мне кажется, что я умираю. Подскажите выход, я готова на все, даже загубить себя, если это необходимо, чтобы спасти вас.
Но, произнося эти последние слова, она стала так плакать, что это было ни с чем не сравнимо. Понимая, что ее положение ужасно, я нашел его гораздо более несчастным, чем мое, но это не помешало мне увидеть себя, абсолютно невинного, на краю пропасти.
— Позвольте, — говорю я, — отвести вас к ногам вашего отца; я чувствую, что смогу убедить его в том, что он должен спасти вас от позора.
Но в ответ на это единственно целесообразное предложение, я вижу отчаяние бедной несчастной. Она отвечает, плача взахлеб, что предпочла бы, чтобы я выбросил ее на улицу, и я сдался. Я должен был так и поступить, и я думал об этом; но я не мог на это решиться. То, что мне помешало, были слезы. Знаете ли вы, дорогой читатель, какова сила слез, текущих из красивых глаз молодой и красивой честной девушки, и несчастной к тому же? Это непреодолимая сила. Credete a chi ne ha fatto esperimento[84].
Я ощутил, что физически неспособен выставить ее за дверь. Что за слезы! За полчаса три платка были мокры насквозь. Я никогда не видел таких непрекращающихся слез, и, если они были необходимы, чтобы облегчить ее боль, никогда в мире не было равной этой боли.
После всех этих слез, я спросил, что она думает делать с наступлением нового дня. Между тем, прозвонило полночь.
— Я выйду из отеля, — ответила она, всхлипывая. В этом платье никто не задержит меня, я оставлю Рим, я буду ходить, пока меня не оставит дыхание. При этих словах она упала на пол, я думал, что она умирает. Она приставила себе пальцы к горлу для облегчения дыхания, потому что задыхалась. Я увидел, что она посинела. Я находился в самом жестоком из всех затруднений. Расшнуровав ее корсаж и расстегнув все, что ее сдавливало, я призвал ее к жизни с помощью воды, которой сбрызнул ее лицо. Ночь была из самых холодных, и не было огня, я сказал ей лечь в постель и быть уверенной, что я отнесусь к ней с уважением. Она ответила, что считает себя способной вызывать лишь сострадание, и к тому же она в моих руках, и я ее господин. Стараясь внушить ей мужество и разогреть ее кровь, я уговорил ее раздеться и лечь под одеяла. Поскольку она обессилела, я вынужден был сам ее раздеть и отнести в постель. По этому случаю я получил новый опыт о себе самом. Это было открытие. Без всякого затруднения я устоял при виде всех ее прелестей. Она заснула, и я тоже, рядом с ней, но одетый.
За четверть часа до рассвета я разбудил ее и, поскольку она была в силах, она оделась без моей помощи. В первом часу дня я ушел, сказав ей сидеть спокойно до моего возвращения. Я вышел с намерением идти к ее отцу, но изменил свое желание, как только увидел мух (шпионов). Я пошел в кафе на улице Кондотта, заметив следующих поодаль соглядатаев. Приняв чашку шоколада, я положил несколько бисквитов в карман и пошел обратно в отель, заметив, что меня преследует один и тот же шпион. Я понял, что «барджело», который упустил ее, что-то подозревает. Портье сказал мне, без моего вопроса, что ночью хотели произвести некую акцию, но, как он считает, упустили подозреваемого. В то же время аудитор кардинала викария спросил у портье, в какое время он мог бы поговорить с аббатом Гама.
Тут я увидел, что нет больше времени, и вернулся в свою комнату, чтобы принять решение. Заставив Барбарукку съесть два бисквита, смоченных в канарском вине, я отвел ее на самый верх дворца, в неприличное место, где, однако, никого не было. Я сказал ей, чтобы подождала там моего уведомления, а пока, безусловно, появится мой лакей. Он, действительно, появился через несколько минут. Затем я спустился к аббату Гама, велев лакею принести мне ключ от моей комнаты, когда он окончит там уборку. Я нашел аббата, говорящего с аудитором кардинала викария.
Поговорив с ним, он подошел ко мне, спросив сначала шоколада. Он ознакомил меня с посланием кардинала викария. Речь шла о том, чтобы просить Его Высокопреосвященство заставить покинуть отель персону, укрывшуюся там около полуночи.
— Надо подождать, — добавил священник, — когда появится кардинал, и наверняка, если кто-то проник во дворец без его ведома, его заставят уйти.
Мы говорили весьма холодно, пока слуга не принес мне ключ. Видя, что я, по крайней мере, имею в запасе час, я подумал о выходе, который, единственно, мог бы спасти Барбарукку от позора. Незамеченный никем, я пошел к месту, где была спрятана Барбарукка, и заставил ее написать карандашом записку, сформулированную в таких словах на хорошем французском языке: «Монсеньор, я честная девушка, переодевшаяся аббатом. Я умоляю Ваше Преосвященство разрешить мне лично сказать вам свое имя. Я надеюсь на величие вашей души, уповая, что вы спасете мою честь».
— Вы выйдете отсюда, — сказал я, — ровно в девять часов. Вы сойдете вниз на три лестницы и войдете в апартаменты по правую руку, пройдете по ним до последней залы, где увидите толстого господина, сидящего перед жаровней. Вы дадите ему эту маленькую записку, прося сразу передать ее в руки кардиналу. Не бойтесь, что он ее прочтет, потому что у него не будет на это времени. Как только он ее передаст кардиналу, будьте уверены, в тот же момент он вас пригласит войти, и выслушает без свидетелей. Станьте на колени и расскажите ему всю свою историю, все по чистой правде, за исключением того, что вы провели ночь в моей комнате, и что вы со мной говорили. Скажите, что, видя вашего любовника схваченным, вы испугались, вы проникли во дворец, поднялись на самый верх, где, проведя ужасную ночь, решились написать записку, которую ему передали. Я уверен, мой бедный котенок, что Его Преосвященство тем или другим образом спасет вас от позора. Это единственное средство, с которым вы можете надеяться, что ваш любовник станет вашим мужем. После того, как она заверила меня, что будет выполнять все мои инструкции, я спустился вниз, причесался, оделся, и, прослушав мессу в присутствии кардинала, ушел, чтобы вернуться только к обеду.
За обедом говорили только об этом приключении. Каждый толковал его по-своему. Только аббат Гама ничего не сказал, и я поступил так же. Я понял, что кардинал взял под свою защиту персону, о которой шла речь. Это было все, чего я хотел, и мне казалось, что больше нет оснований для опасения, я наслаждался в тишине результатом своего маневра, который мне казался маленьким шедевром. После обеда я спросил аббата Гама, что это была за интрига, и вот что он мне сказал.
— Отец семейства, имени которого я пока не знаю, обратился к кардиналу викарию, чтобы тот предотвратил похищение девушки его сыном, который собрался с ней покинуть государство. Похищение должно было произойти в полночь на нашей площади. Его Высокопреосвященство, как я рассказывал вам вчера, приказал барджелло использовать своих людей и арестовать виновников, взяв их на месте преступления. Приказ был исполнен, но сбиры признали, что когда они вместе с барджелло вывели задержанных из экипажа, они нашли вместо искомой девушки женщину, которая не может внушить кому-либо искушения ее похитить. Несколько минут спустя к барджелло пришел шпион и сказал, что в тот самый момент, что коляска покинула площадь, был замечен некий аббат, проникший во дворец Испании. Барджелло сначала отправился к кардиналу викарию доложить об инциденте, при котором он упустил девушку, и, видимо, сообщил ему о подозрении, что она может быть тем самым священником, который скрылся в отеле. Викарий сказал нашему хозяину, что, возможно, девушка, одетая, как священник, оказалась спрятана в его дворце. Он просил его заставить выйти из здания персону, будь то девушка или аббат, по крайней мере, если она неизвестна Его Высокопреосвященству, чтобы снять с нее подозрение. Кардинал Аквавива принял этим утром, около девяти часов, аудитора викария, которого вы видели сегодня говорящим со мной. Он его отослал, заверив, что сделает все для поиска, и велит удалить из здания любую незнакомую персону, которую в нем найдут. Естественно, кардинал прежде всего отдал приказ дворецкому, который сразу предпринял действия к его выполнению, но четверть часа спустя дворецкому было приказано прекратить все поиски. Причина этого прекращения может быть только одна. Г-н начальник канцелярии мне сказал, что ровно в девять часов очень красивый аббат, который, на самом деле, показался ему замаскированной девушкой, явился к нему и попросил передать Его Высокопреосвященству записку. Он сразу передал ее по назначению, и Его Высокопреосвященство, прочитав, велел немедленно проводить к нему аббата, который с этого времени не выходил больше из апартаментов. Поскольку приказ о прекращении поисков был дан сразу же после того, как впустили аббата, есть основания полагать, что этот аббат и есть та самая девушка, которую упустили сбиры, и которая спаслась в отеле, где должна была скрываться всю ночь, пока не была приглашена пройти к кардиналу.
— Его Высокопреосвященство, возможно, еще сегодня передаст ее в руки не сбиров, но викария.
— Вы не имеете представления о действительной силе защиты нашего кардинала, и эта защита уже объявлена, так как персона находится не просто во дворце, но в апартаментах самого хозяина, под его покровительством.
История была интересной, внимание, с которым я ее выслушал, не могла давать каких-либо оснований для спекулятивных рассуждений Гама, который, безусловно, не стал бы мне ничего рассказывать, если бы знал, в какой мере я был в ней замешан, и насколько велик должен был быть к ней мой интерес. Я пошел в оперу, в театр Алиберти.
На следующее утро Гама вошел в мою комнату с улыбкой, говоря, что кардинал викарий знал, что похититель был моим другом, и что я должен быть также знаком с девушкой, потому что ее отец был моим учителем языка.
— Наверняка, — сказал он, — вы знали всю эту историю, и естественно полагать, что бедная девушка провела ночь в вашей комнате. Я восхищаюсь вашей выдержкой вчера в беседе со мной. Вы держались настолько хорошо в своей защите, что я был готов биться об заклад, что вы ничего не знаете.
— Я действительно ничего не знал, ответил я с серьезным и спокойным видом, я узнаю об этом только сейчас, от вас. Я знаю девушку, однако я не вижу ее уже в течение шести недель, после того, как закончил брать уроки; я знаю намного больше молодого доктора, который, однако, никогда мне не сообщал свой проект. Однако, каждый волен верить, во что хочет. Естественно, говорите вы, что девушка провела ночь в моей комнате. Позвольте мне посмеяться над теми, кто принимает спекуляции за определенность.
— Это мнение римлян, мой дорогой друг, счастливы те, кто может над этим посмеяться, но эта клевета, потому что я думаю, что это клевета, может причинить вам вред в отношении к вам нашего хозяина.
Вечером, так как не было никакой оперы, я был в ассамблее. Я не заметил каких-либо изменений ни в тоне кардинала, ни кого-либо еще. Я нашел маркизу любезной по отношению ко мне больше, чем обычно. На следующий день после обеда Гама сказал мне, что кардинал поместил девушку в монастырь, где с ней обращаются очень хорошо за счет Его Высокопреосвященства.
— Я уверен, что, — сказал он, — она останется там, пока не станет женой этого мальчика, который хотел ее похитить.
— Уверяю вас, — ответил я, — я очень счастлив, потому что она такая же хорошая, как и он, очень честная и достойна уважения каждого.
Через день или два после этого отец Жоржи сказал мне, что новостью дня в Риме было неудавшееся похищение дочери адвоката Далакка, и что меня считают устроителем всей этой интриги, что было ему крайне неприятно. Я говорил с ним так же, как говорил с Гама, и он показал, что поверил мне, но сказал, что Рим не любит принимать вещи такими, как они есть, но лишь такими, какими они должны быть. Известно, — сказал он, — что вы каждое утро бывали у Далакка, известно также, что молодой человек часто бывал у вас, и этого достаточно. Не хотят знать то, что разрушает клевету, потому что ее любят в этом святом городе. Ваша невиновность не помешает тому, чтобы эта история легла на ваш счет в сорок лет и разошлась между кардиналами в конклаве, на котором вас будут предлагать для избрания в папы.
Через несколько дней эта проклятая история начала мне надоедать, потому что о ней говорили со мной повсюду, и я увидел определенно, что все слушали, что я говорю, но никто не делал вида, что поверил мне, потому что иначе и не могло быть. Маркиза Г. сказала мне с понимающим видом, что девушка Далакка мне многим обязана; но что доставило мне наибольшие заботы, это то, что кардинал Аквавива даже в последние дни карнавала не виделся со мной в свободной манере, как бывало раньше. Никто этого не замечал, но я не мог в этом сомневаться.
Это было точно в начале Великого поста, когда никто уже не говорил об истории похищения; кардинал сказал мне пройти с ним в его кабинет. Там он произнес передо мной такую речь:
— Дело Далакка окончено, о нем больше не говорят; но решили, не отрицая, что это может быть и злословием, но что те, кто замешан в оплошности молодого человека, организовавшего похищение, это вы и я. Я допускаю, пусть говорят, потому что следующий раз в подобном случае все будет иначе, и меня это не волнует, потому что никто не может заставить вас говорить, а также потому, что вы не должны говорить, как человек чести. Если вы ничего не знали заранее, вы совершили бы, выгнав девушку, если предположить, что она была у вас, варварский поступок, и даже трусливый, который сделал бы ее несчастной до конца ее дней, который оставил бы вас под подозрением в соучастии и который, кроме того, был бы предательством. Но, несмотря на все это, вы можете себе представить, что, хотя я пренебрегаю всеми соображениями такого рода, я не могу, однако, с их учетом, оставаться индифферентным. Я вынужден вас просить не только оставить меня, но покинуть Рим; я дам вам предлог, с помощью которого вы сохраните вашу честь, который, кроме того, можно считать знаком моего внимания к вам, поскольку я его даю. Я разрешаю вам сказать мне на ухо, чего вы хотите, и даже сказать всем, что вы отправляетесь в путешествие с поручением, которое я вам дал. Подумайте, в какую страну вы хотите поехать, у меня есть друзья повсюду, я вас отрекомендую, так что я уверен, вы найдете себе применение. Я напишу вам рекомендацию своей собственной рукой, вы сами должны так сделать, чтобы никто не знал, куда вы направляетесь. Приходите завтра на виллу Негрони, чтобы сказать мне, куда вы хотите, чтобы я вас рекомендовал. У вас восемь дней до отъезда. Поверьте, мне очень жаль вас терять. Это моя жертва величайшему предрассудку. Прошу вас не заставлять меня видеть ваши страдания. Он сказал эти последние слова, видя мои слезы, и не дал мне времени на ответ, чтобы не видеть больше; несмотря на это, я нашел силы, чтобы прийти в себя и казаться веселым для всех, кто увидел меня выходящим из кабинета. За столом меня увидели в наилучшем настроении. Аббат Гама, угощая меня кофе в своей комнате, сделал мне комплимент по поводу моего довольного вида. Я уверен, сказал он, что это результат разговора, который вы имели сегодня утром с Его Высокопреосвященством.
— Да, но вы не замечаете горя у меня на сердце, которое я скрываю.
— Горя?
— Да, я боюсь потерпеть неудачу в трудном поручении, которое дал мне сегодня утром кардинал. Я вынужден скрывать отсутствие уверенности в себе, чтобы не уменьшить доверия, которое Его Преосвященство питает к моим малым талантам.
— Если мои советы могут вам быть в чем-то полезными, я предлагаю их вам. Однако вы хорошо делаете, показываясь тихим и спокойным. Ваше поручение — в Риме?
— Нет. Речь идет о путешествии на восемь — десять дней.
— В какую страну?
— На запад.
— Я не любопытен.
Я пошел один прогуляться на виллу Боргезе, где провел два часа в отчаянии, потому что я любил Рим, и, будучи уверен в широкой дороге к удаче, вдруг оказался низвергнут с нее, не зная, куда идти, и лишившись всех моих прекрасных надежд. Рассматривая мое поведение, я не находил себя виноватым, но ясно видел, что отец Жоржи прав. Я не только не должен был вмешиваться в дела Барбарукки, но должен был сменить учителя языка, как только впервые узнал про ее интригу. Но в моем возрасте, и не зная еще достаточно горя, мне невозможно было обладать такой осторожностью, которая может быть только плодом многолетнего опыта. Я думал, куда должен направиться, я думал об этом всю ночь и все утро, будучи не в состоянии определиться с тем или другим направлением. Я пошел в свою комнату, не думая об ужине. Аббат Гама пришел сказать, что Его Высокопреосвященство предупредил меня, чтобы я не занимал время обеда на завтра, потому что он имеет на меня виды.
Я нашел его на вилле Негрони «a tomap el Sol»[85]. Он прогуливался со своим секретарем, которого отослал, когда увидел меня. Будучи с ним наедине, я все ему подробно рассказал об интриге Барбарукки, не скрывая ни малейших обстоятельств. После этого правдивого рассказа, я описал ему самыми яркими красками свою боль, которую чувствовал. Я вижу себя, сказал я ему, лишенным всего счастья, на которое мог надеяться в своей жизни, потому что уверен, что не в состоянии чего-либо добиться иначе, чем у него на службе. Я провел час, разговаривая с ним и почти все время плача, но все, что я мог ему сказать, было бесполезным. Он ободрял меня с добротой, побуждая сказать ему, в какое место Европы я хотел бы поехать, и словом, которое отчаяние и досада вызвали из моего рта, был Константинополь.
— Константинополь? — сказал он, отбегая на два шага.
— Да, монсеньор! Константинополь, — повторил я ему, вытирая слезы.
Этот прелат, который был полон ума, но испанец в душе, сохранял в течение двух-трех минут глубокое молчание, а затем посмотрел на меня с улыбкой.
— Спасибо, сказал он, что не назвали Испаган, потому что этим вы бы смутили меня. Когда хотите отправляться?
— Сегодня ночью, как Ваше Преосвященство велели.
— Вы будете отплывать из Неаполя или Венеции?
— Из Венеции.
— Я дам вам солидный паспорт, потому что вы обнаружите в Романье две армии на зимних квартирах. Мне кажется, что вы можете сказать всем, что я посылаю вас в Константинополь, потому что никто вам не поверит.
Эта политическая уловка почти заставила меня смеяться. Он дал мне руку, которую я поцеловал, и пошел к своему секретарю, который дожидался его на соседней аллее, сказав мне, чтобы я с ним пообедал.
Возвратившись в отель Испании, и размышляя о выборе в Константинополь, который я сделал, я подумал, пораженный, что или я сошел с ума, или произнес это слово под воздействием оккультных сил моего Гения, который зовет меня туда, чтобы снова влиять на мою судьбу. Что меня удивило, это то, что кардинал сразу согласился. Мне показалось, что его гордость помешала ему посоветовать мне другое место. Он побоялся, что я могу подумать, что он похвастался, что имеет друзей повсюду. Кому он меня рекомендует? Что я буду делать в Константинополе? Я там ничего не знаю, но я должен туда ехать.
Его Высокопреосвященство обедал со мной наедине, демонстрируя по отношению ко мне наибольшую доброту, а я ему — наибольшее удовлетворение, потому что моя гордость, будучи сильнее, чем мое горе, не позволяла мне давать наблюдателям малейший повод считать меня опозоренным. Главной причиной моего горя была необходимость оставить маркизу Г., которую я любил и от которой не получил ничего существенного.
Через два дня Его Высокопреосвященство дал мне паспорт для Венеции, и запечатанное письмо на имя Османа Бонневаль-паши в Гарамании, в Константинополе. Я ничего никому не мог сказать, но кардинал не запретил мне, и я оставил адрес для писем всем моим знакомым. Аббат Гама говорил мне, смеясь, что он знает, что я не собираюсь в Константинополь. Шевалье да Лецце, венецианский посол, дал мне письмо к богатому и любезному турку, который был его другом. Дон Гаспаро просил меня писать ему, и отец Жоржи тоже. Когда я делал прощальный визит донне Сесилии, она прочитала мне часть письма своей дочери, которая прислала ей радостную весть, что беременна. Я также сделал визит к донне Анжелике, которая вышла замуж за дона Франческо, не пригласив меня на свадьбу. Когда я принимал благословение Святого Отца, я не был удивлен, что он рассказывал мне о знакомствах, которые у него были в Константинополе. Он был знаком, в частности, с г-ном де Бонневаль. Он велел мне передать ему привет, и сказать, что он сожалеет, не имея возможности послать ему свое благословение. Давая мне благословение, он подарил мне четки из агатов, связанных тонкой золотой цепочкой, которые стоили, возможно, двенадцать цехинов. Когда я принимал увольнение от кардинала Аквавива, он дал мне кошелек, в котором я нашел сто медалей, тех, что кастильцы называют doblones da ocho. Они стоили семьсот цехинов, и у меня было еще триста. Я оставил у себя двести, и взял обменное письмо на тысячу шестьсот римских экю, на рагузца, имевшего банк в Анконе, по имени Джованни Бушетти. Я занял место в берлине с дамой, сопровождавшей свою дочь в Лоретто по обету, который она дала за избавление от серьезного заболевания, которое без этого обета, несомненно, могло бы привести ее к могиле. Девушка была уродлива. Я скучал во время всего путешествия.
Примечания
1
Он должен склонять душу и колени. Петрарка Canzonure, К смерти Мадонны Лауры.
(обратно)2
Если он не подчиняется, его принуждают. Гораций.
(обратно)3
Говорю ли я, чтобы лишь позабавить, — решать слушателю. Марциал.
(обратно)4
Жить — это значит мыслить.
(обратно)5
Желая быть кратким, становлюсь неясным.
(обратно)6
Я не так уродлив, как то чудовище, что я видел на берегу, когда море было спокойным. Вергилий, Эклоги
(обратно)7
Лишь чести божественного поэта послужит то, что он слишком любил вино. Из Горация.
(обратно)8
Мы движемся и существуем в нем.
(обратно)9
Желал лучше быть, чем казаться — из Эсхила.
(обратно)10
Автор издевается над терминами революционноно времени — прим. перев.
(обратно)11
Каждый творец своего несчастья.
(обратно)12
Не понимать личной выгоды — не понимать ничего.
(обратно)13
Ты смеялся над ночными духами и фессалийскими чудовищами. Неточная цитата из Горация.
(обратно)14
лимфа — лат.
(обратно)15
То, что презирается, забывается с течением времени. Тацит: Анналы, IV.
(обратно)16
народность в Далмации.
(обратно)17
Научите нас, филологи, почему cunnus (женский половой орган) мужского рода, а mentula (мужской член) — женского.
(обратно)18
Потому что всегда раб носит имя своего хозяина.
(обратно)19
никто не может дать того, чем не владеет.
(обратно)20
«Я быстро раздражаюсь, но я всё же успокаиваюсь» Гораций, Эпистолы.
(обратно)21
Может быть, это была правда, но это не кажется правдоподобным для всех, кто в здравом уме. Ариосто «Неистовый Роландо».
(обратно)22
«О завещании».
(обратно)23
«Могут ли евреи строить новые синагоги».
(обратно)24
Анафема священнику, который отрастит волосы.
(обратно)25
Они горько жаловались, что ожидаемая милость не отвечает их заслугам. Гораций.
(обратно)26
разменная венецианская монета.
(обратно)27
И ее туфли приковали его взоры — кн. Юдифь.
(обратно)28
…что скрывают одежды — лат.
(обратно)29
десять часов утра по итальянскому старому счислению.
(обратно)30
Казанова пишет Мемуары по-французски, а записка была написана по-итальянски.
(обратно)31
сюжет из «неистового Роланда» Ариосто.
(обратно)32
поговорка.
(обратно)33
«И цветок, единственный, что только мог поставить меня среди богов, этот цветок, который я только что взял нетронутым» — из Ариосто— «Неистовый Роллан».
(обратно)34
беззастенчивую.
(обратно)35
монашеский орден.
(обратно)36
Будь богом — заповедь стоиков.
(обратно)37
Часто останавливайся и редко волнуйся.
(обратно)38
Судьба знает, куда нас вести.
(обратно)39
специальный магистрат.
(обратно)40
синтаксических погрешностей.
(обратно)41
достанем денег и отправим осла на его родину — лат.
(обратно)42
один из орденов Северной Италии.
(обратно)43
всегда наши усилия и желания имеют тенденцию к тому, что человеческие и божественные законы запрещают нам.
(обратно)44
х… не хочет мыслить (ит.).
(обратно)45
Следуй за Богом (лат.).
(обратно)46
ритуальная гондола дожа.
(обратно)47
Венецианский торжественный акт.
(обратно)48
Знаток письма.
(обратно)49
военному министру.
(обратно)50
колбаски из копченой или вяленой осетровой икры.
(обратно)51
фиктивный заклад.
(обратно)52
уроженец провинции Фриули.
(обратно)53
военного министра.
(обратно)54
крытая гондола.
(обратно)55
Будь что будет.
(обратно)56
древнегреческий силач.
(обратно)57
Идите со мной.
(обратно)58
Вас здесь устроят хорошо.
(обратно)59
По-видимому, здесь в тексте оригинала опечатка, или Казанова что-то путает. В Лорето находится дом, где, по преданию, родилась Дева Мария.
(обратно)60
мелкая серебряная монета.
(обратно)61
задняя часть доспехов.
(обратно)62
мелкая монета.
(обратно)63
Когда лампа погашена, все женщины одинаковы — неточная цитата из Эразма Роттердамского.
(обратно)64
монета среднего достоинства.
(обратно)65
житель острова Закинф, подвластного в этот период Венеции.
(обратно)66
монета, которая стоит 14 паоли — прим. автора.
(обратно)67
речь идет о каноническом правиле, по которому возраст прислуги священника не должен быть ниже 40 лет.
(обратно)68
дня св. Дженнаро.
(обратно)69
историка — прим. перев.
(обратно)70
папские ордонансы.
(обратно)71
Королевскими указами.
(обратно)72
Лат — Sénèque, Êpist. cvn, 11 «Ducunt volentem tala, nolentem trahunt» (Согласного фортуна ведет, несогласного тащит)
(обратно)73
Цитата — Гораций: i, 2, 62: animum rege, qui, nisi paret, imperat — Главное — твое сердце, если его не принуждают, оно направляет.
(обратно)74
Цитата — Ovide: Epist. 19, 85: Его следует направлять.
(обратно)75
Двумя цыганочками.
(обратно)76
Кватрино — золотая монета в четверть цехина.
(обратно)77
Пирамида Цестия.
(обратно)78
Автор пишет свои воспоминания, находясь в Богемии, в замке Дукс.
(обратно)79
Ответ знает Аполлон (Лат).
(обратно)80
Анаидия — воплощение непристойности в греческой мифологии (из Ксенофонта).
(обратно)81
Ангельские красоты, порожденные небесами, Не могут быть скрыты ни под какой вуалью.Из «Неистового Роланда», см. на стр. 15
(обратно)82
…если я что-то говорю в минуты развлечения, это слушатель меня направляет. — Из Марциала.
(обратно)83
Начальник папской полиции.
(обратно)84
Поверьте, это доказано опытом. Неистовый Роланд, XXIII.
(обратно)85
Прогуливающимся по солнцу.
(обратно)
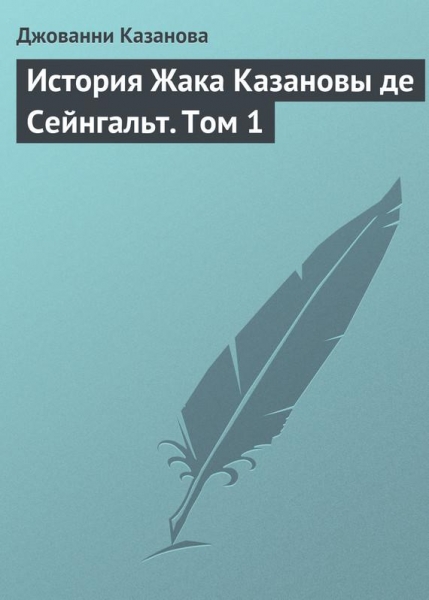

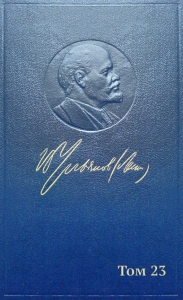

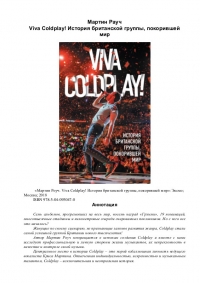

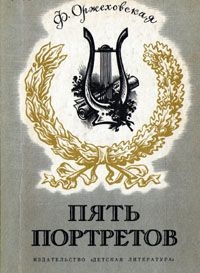


Комментарии к книге «История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 1», Джакомо Казанова
Всего 0 комментариев