Глава I
Портрет так называемой графини Пикколомини. Ссора, дуэль. Я снова вижусь с Эстер и ее отцом г-ном Д.О. Эстер увлечена кабалой. Фальшивый вексель Пикколомини; последствия. Я ограблен и подвергаюсь опасности быть убитым. Оргия с двумя падуанками, последствия. Я раскрываю большой секрет Эстер. Я раскрываю мошенничество Сен-Жермена; его бегство. Манон Баллетти мне неверна; письмо, которое она мне написала, чтобы объявить о своем замужестве; мое отчаяние. Эстер проводит день со мной. Мой портрет и мои письма к Манон попадают в руки Эстер. Я провожу день с этой очаровательной особой. Мы заводим разговор о браке.
Эта авантюристка была римлянка, довольно молодая, высокого роста, хорошо сложена, с черными глазами и кожей поразительной белизны, но той искусственной белизны, что свойственна в Риме почти всем галантным женщинам, и которая так не нравится лакомкам, любящим прекрасную природу.
У нее были привлекательные манеры и умный вид; но это был лишь вид. Она говорила только по-итальянски, и лишь один английский офицер по фамилии Уолпол поддерживал с ней беседу. Хотя он ко мне ни разу не обращался, он внушал мне дружеские чувства, и это не было только в силу симпатии, поскольку, если бы я был слеп или глух, с сэром Уолполом мне было бы ни жарко ни холодно.
М-м Пикколомини мне не нравилась, но после обеда я тем не менее поднялся в ее комнату вместе со всей компанией. Граф сел играть в вист, а Уолпол составил партию в премьер с графиней, которая мошенничала в игре. Он смеялся, не обращая на это внимания, и платил. Он покинул игру, потеряв около пятидесяти дукатов, и дама попросила отвести ее в комедию. Она оставила мужа, увлеченного партией в вист. Я также пошел в театр.
Я встретил в партере графа Тёт, брата того, которого пребывание в Константинополе сделало знаменитым. Он сказал, что выехал из Франции, чтобы драться с неким человеком, который посмеялся над тем, что не нашел его в битве при Миндене, поскольку тот якобы опоздал присоединиться к своему корпусу. Он доказал ему свою отвагу, нанеся удар шпагой. Он сказал мне, что у него нет денег, и я открыл для него свой кошелек; он открыл для меня свой, пять лет спустя, в Петербурге. Видя, что я болтаю с итальянской графиней, он сказал, что ее муж трус, на что я ему не ответил.
После комедии я вернулся в гостиницу. Сомелье сказал, что принц Пикколомини поспешно уехал со своим слугой и маленьким чемоданом. Мгновенье спустя пришла его жена, ее служанка сказала ей что-то на ухо, и она заявила, что муж поехал драться, и что это происходит часто. Она снова пригласила меня к ужину, вместе с Уолполом, и ела с большим аппетитом. Во время десерта англичанин, который играл в вист с Пикколомини, поднялся и рассказал Уолполу, что итальянский граф, уличенный в жульничестве, опроверг обвинение англичанина, своего партнера, который упрекнул его в этом, и они оба вышли. Час спустя англичанин вернулся в «Английский парламент», где он остановился, раненный в предплечье и в плечо. Дело было пустяковое. Я пошел спать.
На следующий день, пообедав у графа д'Аффри, я вернулся в гостиницу и получил письмо от графа Пиколломини, отправленное экспрессом, со вложенным в него другим, адресованным его жене. Он просил проводить ее к нему в Амстердам, в «Город Лион», где он остановился, передав ей также и письмо для нее. Он интересовался, как чувствует себя англичанин, которого он ранил. Поручение, которым он меня нагрузил, меня рассмешило, поскольку я не чувствовал в себе никакого желания его выполнять. Я направился передать письмо мадам, которая пребывала еще в кровати, играя в карты с Уолполом. Едва прочтя письмо, она сказала, что может ехать только завтра, и сказала, в котором часу. Я ответил, что мои дела лишают меня чести ей послужить, и г-н Уолпол, которому объяснили, о чем речь, предложил меня заменить. Она согласилась, и они назначили свой отъезд на завтра, после обеда, чтобы переночевать в Лейдене. Так и было проделано, но вот что случилось со мной.
На другой день после этого отъезда, я сидел за столом со всеми остальными и с двумя французами, только что прибывшими. Поев супу, один из этих французов говорит, что известный Казанова должен быть в Голландии. Другой отвечает, что было бы неплохо встретить его, чтобы получить от него важное объяснение. Поскольку я был уверен, что никогда не имел дела с этим человеком, кровь бросилась мне в голову, но я овладел собой. Я кротко спросил, знаком ли он с Казановой.
— По правде говоря, я с ним знаком, — ответил он тоном превосходства, который и сам по себе неприятен.
— Вы с ним незнакомы, — говорю я сухо, — потому что Казанова это я.
Нимало не смутившись и даже тоном превосходства, он говорит, что я ошибаюсь, если думаю, что я единственный в мире человек с именем Казанова.
Этот ответ показал, что я неправ, и я должен был сдержаться; однако решил, в свое время и в своем месте, взяв его за жилетку, заставить найти мне в Голландии другого возможного Казанову, отвечающего описанию. Я терпел, слушая и кусая губы, этого глупого типа, с которым мне хотелось что-нибудь сделать прямо за столом, перед офицерами, которые, понимая всю силу слов этого короткого диалога, могли заподозрить меня в малодушии. Наглец, в ожидании, злоупотребляя ситуацией и пользуясь своей мнимой победой, болтал обо всем вкривь и вкось. Он разболтался до того, что стал спрашивать, из какой я страны, и я счел необходимым сказать, что я венецианец.
— Значит, добрый друг французов, поскольку ваша республика находится под покровительством Франции.
Мое дурное настроение не позволило мне засмеяться. Я ответил ему тоном, к которому прибегают, когда хотят дать почувствовать кому-либо, что он жалок, что моя республика не имеет и никогда не имела потребности в покровительстве ни Франции, ни какой-либо другой суверенной страны во все тринадцать веков своего существования.
— Теперь вы мне ответите, чтобы замаскировать свое невежество, — сказал я, — что в мире есть две республики Венеции?
Последовавший взрыв смеха вернул меня к жизни и заставил замолчать легковесного наглеца, но его злой гений заставил его снова заговорить за десертом. Разговор зашел о графе д'Альбемарль. Англичане в похвалу ему сказали, что если бы он был жив, Франция и Англия сейчас бы не воевали. Другой хвалил его любовницу Лолотту. Я сказал, что познакомился с ней у герцогини де Фульви, и что никто более ее не был достоин стать графиней д'Эрувиль; граф д'Эрувиль, генерал-лейтенант и образованный человек, только что женился на ней. Но едва я произнес эти слова, француз, со смехом глядя на меня, сказал, что провел с ней ночь в борделе «Ла Пари».
Тут я не смог сдержаться и, вскинув на ладони свою тарелку, водрузил ее ему на голову. Он поднялся и стал передо мной и перед камином, повернувшись к нему спиной. Он был при шпаге и с портупеей, что свидетельствовало о его военном статусе. Кругом заговорили о других вещах. Две минуты спустя все встали из-за стола. Все вышли, за исключением моего субъекта, который сказал своему товарищу, что они увидятся в комедии. Будучи убежден, что болтун за мной последует, я вышел из гостиницы и направился в сторону Шевелина. Я видел, что он следует за мной на расстоянии сорока шагов, и стал догонять, когда я углубился в лес, где в ожидании его я стал в позицию.
В десяти шагах от меня он обнажил шпагу, и мне не пришлось отступать, чтобы выгадать время для того же самого. Это он отступил, когда почувствовал острие моей шпаги у своей груди при моем верном выпаде правым сапогом вперед, который меня никогда не подводил в схватке на шпагах. Когда я его нагнал снова, он сказал, опустив шпагу, что мы еще встретимся в Амстердаме, если я туда приеду. Я увидел его только в Варшаве, шесть лет спустя, где я собирал для него пожертвования. Его звали Варнье. Не знаю, тот ли это человек, что стал президентом Национального конвента при режиме Робеспьера.
Когда я вернулся в гостиницу после комедии, мне сказали, что он уехал в Роттердам со своим товарищем, проведя час в своей комнате с хирургом. За ужином никто со мной не говорил об этом случае, и я тем более не говорил о нем. Английская дама была единственная, кто сказал, что человек чести не может садиться за табльдот, не чувствуя в себе готовности драться, несмотря на всю свою осмотрительность.
Не имея никаких дел в Гааге, я выехал на другой день, за час до рассвета, чтобы прибыть к вечеру в Амстердам. Я встретил в полдень сэра Джеймса Уолпола в гостинице, он сказал мне, что выехал из Амстердама накануне, через час после того, как передал в руки беспутного мужа его целомудренную супругу. Он удовлетворил свой каприз и не хотел ничего больше.
Я прибыл в Амстердам около полуночи и очень хорошо устроился в гостинице «Вторая библия». Нетерпение поскорее увидеться с Эстер мешало мне выспаться. Ее близость возродила все мое былое пламя.
В десять часов я отправился к г-ну Д.О., который встретил меня с изъявлениями самой глубокой дружбы, упрекая в том, что я не остановился у него. Когда он узнал, что я бросил свою мануфактуру, он сказал, что, поскольку я не мог решиться переместить ее в Голландию, я хорошо сделал, потому что она бы меня разорила. Пожаловавшись на плохую ситуацию во Франции, причину нескольких банкротств, которые ему пришлось испытать, он предложил мне пойти повидаться с Эстер.
При виде меня она вскрикнула, бросившись мне в объятия. Я нашел ее подросшей на пару дюймов и оформившейся. Едва усевшись, она сразу заявила мне, что стала такой же ученой, как я, в области кабалы. Она сказала, что нашла счастье жизни, что она связала его полностью с волей отца, и что поэтому уверена, что он выдаст ее замуж только за человека ей по душе.
— Ваш отец, — сказал я, — должен поверить, что я вас этому научу.
— Он этому верит, и он сказал мне однажды, что простит мне все, чем я могу вам пожертвовать, чтобы вырвать у вас этот великий секрет. Но я сказала ему правду — я украду его у вас и стану, как вы, удивительным божеством, отвечающим на все вопросы, потому что, я уверена, ваши ответы проистекают из ваших знаний.
— Расскажите, как же я смог сказать, где находится портфель, и что корабль не погиб?
— Это вы бросили портфель туда, после того, как нашли его, а в том, что касается потерянного корабля, вы рискнули. Согласитесь, что, обладая благородной душой, вы должны были испытывать сильный страх. Но я никогда бы на такое не решилась. Когда мой отец задал мне вопросы по этому поводу, я ответила очень туманно. Я не хочу ни того, чтобы он потерял доверие, которое испытывает к моему оракулу, ни того, чтобы стать причиной какого-то большого несчастья, которое слишком меня заденет.
— Если такое неверное толкование составит ваше счастье, я вынужден вас при нем оставить. Но позвольте мне восхититься высокой степенью вашего таланта. Вы уникальны.
— Я не добиваюсь вашего восхищения, а хочу только искреннего мнения.
— Я не могу его сразу высказать.
Очаровательная девица стала серьезной. Решив не терять превосходства, которое я имел над нею, я задумал предсказать ей кое-что, что она могла понять только через Бога, или суметь догадаться о его замысле. Я решительно хотел сохранить свое преимущество перед ней. Мы спустились к обеду, но Эстер, грустная и молчаливая, весьма меня огорчала.
За столом я увидел четвертого человека, решив, что это влюбленный. Он не отводил глаз от нее. Мы заговорили снова о кабале, только когда он ушел. Это был любимый секретарь ее отца, которого он хотел видеть объектом ее любви, но этого не произошло.
— Возможно ли, — спросил у меня г-н Д.О., — чтобы моя дочь научилась пользоваться вашим оракулом без того, чтобы вы ее обучили?
— Я не думал, что это возможно, вплоть до сегодняшнего дня, но она убедила меня в обратном. К тому же, я не могу больше никому преподать это знание под угрозой самому лишиться посвящения. Такова клятва, которую я дал ученому, что преподал мне это вычисление. Ваша дочь, не дававшая такой клятвы, может передавать это знание, кому ей вздумается.
Она мне отвечала с умом, что сам оракул, когда она его спросила, может ли она передать другому ход этого вычисления, ответил ей, что если она проявит эту нескромность без его согласия, она сама больше не получит правдивых ответов. Я видел ее душу и порадовался, видя, что она успокоилась. Что бы я ни думал, она обязана была мне своим знанием. Я подтвердил его перед ее отцом, но она видела, что я это сделал только из вежливости, и хотела, чтобы я подтвердил это наедине с ней.
Этот здравомыслящий муж решил задать нам обоим один и тот же вопрос, чтобы увидеть, не назовет ли один из нас белым то, что другой — черным. Эстер это было тоже интересно, и он написал один и тот же вопрос на двух листочках бумаги. Она пошла вырабатывать ответ в свою комнату, а я со своим остался в той же комнате, где находился. Она пришла со своим ответом, когда мой ответ еще не был закончен. Г-н Д.О. спрашивал, хорошо ли будет, если он отделается от всех французских бумаг, что у него находились и были убыточными. Оракул Эстер ответил, что, наоборот, он должен стараться их приобретать по разумной цене, потому что Франция никогда не обанкротится. Мой ответил, что если он их продаст, он раскается, потому что новый генеральный контролер оплатит все в следующем году. Этот молодчина, обняв нас обоих, ушел, сказав, что совпадение наших ответов должно принести ему в течение этого года по меньшей мере полмиллиона, однако, с риском потерять три. Его дочь была обеспокоена, но он обнял ее снова, сказав, что это только четвертая часть его состояния.
Эстер, оставшись наедине со мной, обнаружила большую чувствительность к комплиментам, которые я ей высказал по поводу ее прекрасного, и в то же время решительного, ответа, потому что она не могла быть, как я, в курсе дел, происходящих во Франции.
— Я благодарю вас, — сказала она, — что вы меня поддержали, но признайтесь, что, для того, чтобы доставить мне удовольствие, вы слегка солгали.
— Разумеется, потому что я видел, что вы счастливы; скажу вам даже, что вам не следовало об этом и знать.
— Скажите, что я не могла этого знать заранее. Подтвердите, что это правда.
— Я подтверждаю это полностью, чтобы вас успокоить.
— Вы жестокий человек. Вы ответили, что во Франции будет новый генеральный контролер. Вы рискуете, таким образом, скомпрометировать оракул, я на это никогда бы не осмелилась. Мой дорогой оракул! Я слишком его люблю, чтобы подвергать такому позору.
— Это показывает, что не я его придумал, но я побьюсь об заклад, что Силуэт будет отставлен, что говорит сейчас и оракул.
— Дорогой друг, с вашим упрямством, вы сделаете меня несчастной, Я могу быть довольна, лишь будучи уверенной, что постигла кабалу как вы, не больше и не меньше, и теперь вы уже не можете мне говорить, что вы предсказания делаете из своей головы. Вы должны убедить меня в обратном.
— Я над этим подумаю, чтобы доставить вам удовольствие.
Я провел целый день с этой девушкой, у которой было все, что нужно, чтобы стать счастливейшей из смертных, и которая составила бы мое счастье, если бы, не любя свободу превыше всего, я смог бы помыслить поселиться в Голландии.
На следующий день мой злой гений направил меня в «Город Лион» — гостиницу, где остановился Пикколомини. Я нашел его вместе с женой в компании мошенников, которые, услышав мое имя, бросились мне навстречу. Это были шевалье Саби, который носил униформу майора на службе короля Польши и был мне знаком по Дрездену, барон де Виедо, богемец, который мне сказал, что граф де Сен-Жермен, его друг, прибыл, остановился в «Звезде Востока» и спрашивал, где я поселился. Рябой бретер, которого мне представили под именем шевалье де ла Перин, и в котором я узнал того Тальвиса, который сорвал банк у принца-епископа в Пресбурге и который был должен мне сотню луи. Другой итальянец, по виду жестянщик, по имени Нери, который сказал мне при знакомстве, год назад, что он музыкант. Я вспомнил, что видел с ним несчастную Люси. С этими мошенниками была якобы жена шевалье Саби; это была саксонка, довольно красивая, которая беседовала с графиней Пикколомини, говоря очень плохо по-итальянски. Первым делом я очень вежливо, и заранее поблагодарив его, попытался вернуть мои сто луи у этого ла Перин, который ответил мне с дерзким видом, что он помнит, что должен мне сотню по Пресбургу, но что в этой связи он помнит и кое-что более важное.
— Вы должны мне реванш, — говорит он, — со шпагой в руке. Вот след маленькой бутоньерки, которую вы подарили мне семь лет назад.
Говоря так, он отодвигает свое жабо и показывает компании маленький шрам. Эта сцена прервала разговоры по всей комнате: сто луи, шрам, требование реванша — все это было необычным. Я сказал гасконцу, что в Голландии я не даю реваншей, потому что у меня дела, но я буду защищаться повсюду, где на меня нападут, и, предвидя такую возможность, предупреждаю его, что хожу, вооруженный пистолетами. Он ответил, что желает реванша со шпагой в руке, но даст мне время окончить свои дела.
Пикколомини, который остановился на вопросе о сотне луи, предложил сыграть в фараон. Будучи в своем уме, я не стал бы играть, но намерение вернуть потраченную сотню все же заставило меня взять в руки карты. Я проиграл до ужина свою сотню дукатов и после ужина отыграл их на мелок. Желая со мной расплатиться, чтобы я мог идти спать, Пикколомини дал мне вексель на банк Амстердама, выпущенный домом Миддельбург. Я этого не хотел, но счел нужным уступить, потому что он сказал, что выкупит его у меня завтра утром. Я покинул эту компанию воров, отказав Перину, который проиграл сто луи, выдать их ему в качестве компенсации реванша. В раздражении он стал задевать меня словесно, но, проигнорировав все, я направился спать, здраво рассудив больше не иметь дела с этим головорезом.
Назавтра я вышел, однако, с намерением пойти учесть вексель Пикколомини. Сначала я зашел в кафе, чтобы позавтракать, и встретил там Рижербоса, друга Терезы, которую читатель, возможно, помнит. Обнявшись и поговорив о нашей даме (он ее так всегда называл), которая находится в Лондоне и пользуется там успехом, я показал ему свой вексель, сказав, как я его получил. Он осмотрел его и сказал, что он фальшивый, что он является копией настоящего, который был оплачен накануне. Видя, что мне трудно ему поверить, он отвел меня к торговцу, который показал мне оригинал, которым с ним расплатился незнакомец… Я попросил Рижербоса пойти со мной к Пикколомини, который, может быть, тем не менее, учтет его мне, в противном случае он будет свидетелем того, что будет.
Мы туда пошли. Пикколомини, вежливо с нами раскланявшись, попросил дать ему вексель, и он, мол, вернет его торговцу, чтобы тот его учел. Рижербос, взяв слово, сказал, что торговец, на которого был выписан вексель, не будет его оплачивать, потому что он уже его оплатил, и что вексель, что дал мне Пикколомини, — всего лишь копия. Тот сделал вид, что удивлен, сказал, что это невероятно, но что он разберется.
— Вы разбирайтесь, как вам будет угодно, — сказал я, — но пока отдайте мне мои 500 флоринов.
Он говорит, что я его знаю, что я могу ждать, что он представит гаранта векселя, он повышает голос, вмешиваются его жена и его слуга — головорез. Рижербос берет меня за руку, тащит за порог и ведет к человеку очень благородной внешности, который оказывается лейтенантом полиции. Выслушав всю историю, тот говорит мне оставить ему вексель и сказать, где я обедаю. Я называю ему дом г-на Д.О., и этого достаточно. Мы выходим, я благодарю г-на Рижербос и ухожу к Эстер.
Она встречает меня с радостью, упрекает за то, что не появлялся накануне. Мне это лестно. Она очаровательна. Я говорю ей, что только большие заботы не позволяют мне видеть ее каждый день, потому что ее глаза жгут мне душу. Заявив, что она этому не верит, и что я должен придумать, как ее убедить, она говорит мне, что если верно, что моя кабала обладает разумом, не имеющим ничего общего с разумом ее кабалы, я могу получить ответ с помощью кабалы — какое средство следует мне употребить, чтобы ее разубедить. Я притворяюсь, что счел этот способ великолепным, и предлагаю ей задать вопрос. Пришел ее отец с биржи, и мы сели за стол. Мы были за десертом, когда явился полицейский чиновник и передал мне от магистрата 500 флоринов, за которые я выдал ему квитанцию. После его ухода я рассказал г-ну Д.О. Всю историю, и прекрасная Эстер упрекнула меня, что я предпочел ей дурную компанию. Она захотела, чтобы я пошел с ней на голландскую комедию, где я скучал, в то время как она смотрела пьесу с самым живым вниманием. Вернувшись домой, она пересказала пьесу, потом мы поужинали, и вопрос о кабале не вставал. Я получил приглашение от нее и от г-на Д.О. обедать у них ежедневно или извещать их, когда не смогу прийти.
На завтра, в восемь часов, я вижу в своей комнате графа Пикколомини, который, ничего мне не объясняя, осыпает меня упреками. Я звоню, и появляется мой испанец. Граф просит его отослать, так как мы должны поговорить наедине. Я говорю, что он не понимает по-итальянски и у меня есть причины желать, чтобы он остался; но мой слуга все понимал.
— Вчера около полудня, — сказал граф, — ко мне вошли двое мужчин в сопровождении трактирщика, потому что, не понимая по-французски, они нуждались в переводчике. Один из них спросил меня, желаю ли я или нет выдать сразу 500 флоринов, что я вам должен, по тому фальшивому векселю, который они мне предъявили. Он сказал, что я должен отвечать сразу, да или нет, не рассуждая, ибо таков приказ, данный ему президентом полиции. Прижатый таким образом, я решил заплатить, но был очень удивлен, потому что этот человек сказал, что вернет мне вексель, только когда я назову, от кого его получил, потому что он фальшивый, и режим коммерции подразумевает, что следует найти изготовителя. Я ответил, что не знаю персону, которая мне его дала. Я сказал, что, для развлечения я затеял у себя в комнате небольшой банк в фараон, этот человек был приведен туда и вступил в игру этим векселем, и что он ушел, проиграв его. Я узнал после его ухода, что он пришел один и что никто из компании его не знает. Второй человек сказал, что я должен предпринять розыск, чтобы найти этого человека, в противном случае правосудие признает меня самого фальсификатором и предпримет против меня меры. Заявив мне это, они ушли вместе с векселем. Моя жена направилась после обеда к президенту полиции, чтобы высказать ему претензии, и он выслушал ее, вызвав переводчика. Ответ, который он ей дал, был таков, что его долг найти виновного в изготовлении фальшивки, что полиция на этом настаивает, и, кроме того, задета честь г-на Казанова, который может быть заподозрен как автор фальшивого векселя, и что торговец может выдвинуть против меня обвинение, чтобы постараться выяснить, кто подделал его подпись. Вы видите положение, в котором я нахожусь. Все зависит от вас; вы получили ваши деньги, выведите меня из затруднения. У вас есть друзья, походатайствуйте у них, и больше не будут говорить об этом деле.
Я ответил, что я не знаю, что делать, и закончил тем, что посоветовал ему пожертвовать мошенником, который выдал ему фальшивый вексель, или исчезнуть. Он ушел, сказав, что я об этом пожалею.
Мой испанец сказал мне, что слышал угрозы, и что я должен поостеречься; но я велел ему молчать, оделся и пошел к Эстер, где должен был поработать над тем, чтобы убедить ее в божественности моего оракула.
Она поставила мне вопрос, которым бросала вызов оракулу, и ответ на который должен был быть известен только ей одной. Здесь нельзя было положиться на удачу. Находясь в действительном затруднении, я сказал ей, что оракул может разгадать некий секрет, который ей, возможно, будет неприятно для меня открыть. Она отвечала, что ей нечего опасаться, и что я напрасно ищу отговорок. Но вот, наконец, счастливая идея, которая пришла мне на ум.
У Эстер имелась в ямочке на подбородке симпатичная родинка, очень маленькая, но заметная, окаймленная четырьмя-пятью тонкими коротенькими черными волосками. Этот маленький знак, который мы, итальянцы, называем желание , добавлял шарма ее красивому лицу. Зная, что все знаки такого рода, что виднеются у кого-то на лице, на шее или на руках, повторяются на частях тела, которые соотносятся с видимыми, я был уверен, что у Эстер должен быть знак, в точности подобный тому, что на подбородке, но в месте, которое порядочная девушка никому не показывает, и даже — такое может быть — она сама может не знать, что он у нее есть. В этой уверенности я решился удивить ее, ответив на вопрос, аналогичный этому, таким словам: «Прекрасная умница Эстер, никто не знает, что у тебя имеется знак, в точности подобный тому, что у тебя есть на кончике подбородка, в секретном месте твоего тела, предназначенном исключительно для любви». Эстер не нужен был перевод, так как она читала числа по мере того, как они выходили из-под моего пера, как будто это были буквы. Она сказала со спокойным и ясным видом, что мне не нужно знать, что означает этот ответ, и ей было бы приятно, если бы я его ей оставил.
— Охотно. Я даже обещаю вам не любопытствовать никогда по этому поводу. Мне достаточно того, что вы убедились.
— Я буду убеждена, когда увижу, что то, что содержится в ответе — правда.
— Вы полагаете, что мне неважно то, что говорит этот оракул?
— Я буду уверена, что вы забудете это, когда я сочту, что то, что он говорит, правда; но если это правда, оракул прав. Но вещь эта такая тайная, что о ней я сама не знаю. Вам не нужно ее знать. Это глупость, которая не может вас интересовать, но ее достаточно, чтобы убедить меня, что оракул наделен интеллектом, который не имеет ничего общего с вашими знаниями.
Чувство, возникшее взамен озорства, охватило меня и вызвало на глазах слезы, которые Эстер не могла воспринять иначе, чем мою к ней склонность. Слезы были вызваны раскаянием. Я любил ее, и вместе с тем обманывал; но, чувствуя свою вину, я меньше любил себя, и этим себе мстил.
Я не был, однако, уверен, что то, что мой оракул выдал Эстер, убедит ее в его божественном происхождении. Она должна была поверить в это сейчас, но могла тотчас разувериться, узнав, что соответствие между знаками на человеческом теле — вещь естественная и необходимая, и при этом исчезнет не только ее уверенность, но она сменится недоверием. Это опасение меня терзало, потому что любовь ослабевает, когда узнают, что ее объект недостоин уважения. Я мог только надеяться и продолжать. Не было уже времени отступать.
После обеда я ее покинул, чтобы нанести визит Рижербосу и поблагодарить его за то, что он для меня сделал у президента полиции. Что касается угроз Пикколомини, он посоветовал мне ходить на всякий случай с пистолетами и ничего не бояться в Голландии. Он сказал мне, что уезжает в Батавию на корабле, груженном на его деньги, и надеется поправить там свое состояние, которое пришло в расстройство, и у него остался только этот ресурс. Он предпринимает это путешествие без страховки, надеясь удвоить капитал. Если это ему не удастся, либо он потерпит кораблекрушение — в любом случае он погиб; так что он ничего не теряет. Он сказал мне это, смеясь, но так можно рассуждать, только находясь в отчаянии.
Моя дорогая давняя подруга Тереза Транти немало участвовала в его разорении. Она была в Лондоне, где занималась, как она нам писала, выгодными сделками . Она не звалась более Транти, но Корнелис. Это было имя Рижербоса, чего я ранее не знал. Мы провели час за написанием писем этой странной женщине, пользуясь оказией человека, направлявшегося в Лондон, как ему порекомендовал Рижербос. После этого мы отправились кататься на санях по замерзшему Амстелу, с огромной скоростью. Это развлечение, столь ценимое голландцами и очень утомительное на мой вкус, стоило дукат в час. После этого мы отправились есть устрицы, и затем зашли в музико[1], не ожидая никаких неприятностей, но вот что произошло дальше. Было явно решено свыше, что всякий раз, когда я предпочитаю некие развлечения обществу Эстер, со мной случается какое-нибудь несчастье. Войдя в музико, Рижербос нечаянно обратился ко мне моим именем; я заметил в этот момент, как одна из потаскух, что всегда околачиваются в этих залах, подошла поближе, внимательно меня рассматривая, и, несмотря на сумрачный свет, освещавший смрадную комнату, я узнал Люси, которую я уже видел в другом подобном месте год назад, и которая меня тогда не узнала. Я отвернулся в другую сторону, но напрасно: она подошла, заговорив грустно со мной, напомнила мне о себе, сказала, что рада видеть меня в столь цветущем состоянии, в то время, как мне должно быть грустно видеть ее такой, как она есть. Мне ее стало жалко, и я позвал своего друга подняться со вместе мной в комнату, где эта дева нас развлечет, рассказав свою историю. Люси не стала безобразной, — но чем-то, что еще хуже: отталкивающей. За девятнадцать лет, что протекли с тех пор, как я видел ее в Пасеан, все возможные виды разврата сделали ее такой. Она долго рассказывала нам свою историю, на самом деле очень короткую. Курьер из «Орла» увез ее в Триест, где оставался пять или шесть месяцев, живя с ней. Капитан корабля, влюбившись в нее, пригласил курьера, который считался ее мужем, поехать вместе с ней в Ксанту, где тот мог закупить товаров. На Ксанте курьер заделался солдатом и через четыре года дезертировал, оставив ее там, где она оставалась еще пять или шесть лет, торгуя своими прелестями. Она покинула Ксанту вместе с девушкой, очень красивой, в которую влюбился английский морской офицер, и переехала в Англию, которую покинула два или три года спустя, чтобы приехать в Голландию, где я ее и увидел. Она говорила, ни хорошо ни плохо, кроме своего родного языка, еще по-гречески, по-английски, по-французски и по-голландски. Она опустошила две бутылки за час, пока рассказывала нам свою грустную историю; она сказала, что живет с того, что зарабатывают красивые девицы, которых она держит, отдающие ей половину. Ее красота исчезла, единственным источником существования для нее стало быть сводней, ничего другого ей не осталось; бедной Люси было только тридцать три года, но выглядела она на пятьдесят, а женщинам столько лет, на сколько они выглядят.
Рижербос спросил у нее, находятся ли девушки, что живут у нее, в зале музико , и она ответила, что их там нет, что они туда не ходят, потому что это приличные девушки, которые живут с их дядей, который является венецианским джентльменом. На эти слова я разразился взрывом смеха. Люси сказала, что говорила только то, что они сами ей говорили, и что если мы хотим пойти их посмотреть, они находятся всего в пятидесяти шагах от этого места, в доме, который она снимает; мы можем пойти туда с полной уверенностью, так как дядя живет в другой части города. Он приходит только пообедать, чтобы узнать, какие они свели знакомства, и забрать деньги, которые они заработали. Рижербос решил, что надо пойти на них посмотреть, и, испытывая любопытство поговорить о знатных венецианках, я сказал Люси проводить нас туда. Я прекрасно знал, что это могут быть только шлюхи, и что их дядя не кто иной как мошенник, но решено было туда пойти.
Я вижу двух довольно красивых девушек. Люси говорит, что я венецианец, и вот — удивление и радость видеть кого-то, с кем можно поговорить. Я сразу определяю по их жаргону, что они из Падуи, говорю им это, они соглашаются; я спрашиваю у них имя их дяди, и они отвечают, что по важным соображениям не могут его назвать. Рижербос говорит, что мы можем обойтись без этого знания, и берет себе ту, что более в его вкусе. Люси велит принести устрицы, ветчину, множество бутылок, и удаляется в свою комнату. У меня нет желания делать глупости, но Рижербос начинает смеяться, строит из себя крутого, девицы кокетничают, находят мое поведение странным, я принимаю игру, они соглашаются и, после приведения их в натуральный вид, мы проделываем с ними, часто меняясь, все смешное, что подсказывает грубая обстановка этого места. По истечении трех-четырех часов мы расплачиваемся и уходим. Уходя, я даю десять дукатов бедной Люси. Девочки получают каждая по четыре дуката, что для Голландии очень хорошая плата. Мы уходим и отправляемся по домам спать.
На следующий день я встаю очень поздно и в дурном настроении, как по причине ночного дебоша, который оставляет всегда печаль в душе, affigit humo[2] так и из-за Эстер, которая должна была меня ждать. Я должен был прийти к ним обедать, как мы договорились, и извинения мне не помогут; я позвал слугу одеваться. Ледюк спустился, чтобы взять мой кофе. Я вижу входящего ла Перина и так называемого Виедо, которого я видел у Пикколомини и который назывался другом графа де Сен-Жермен, адепта магии. Я сидел на кровати, держа в руках свои чулки. У меня было три комнаты, удобные и красивые, но в дальней части дома, где, если я шумел, меня не было слышно; у меня был звонок около камина, который находился в другом конце комнаты; Ледюк должен был появиться не ранее чем через четверть часа с моим кофе; я оказался в положении, когда меня могли убить. Виедо начал первым, сказав, что граф Пикколомини, дабы избавиться от неприятностей, поручил им вернуть пресловутый вексель и предупредил их об опасности.
— Осторожность требует, чтобы мы срочно уехали, но у нас нет денег; мы в отчаянии. Дайте нам не более четырехсот флоринов, этого нам достаточно; но дайте сразу и без возражений. В противном случае нам придется бежать пешком, но приняв при этом свои меры, и вот средство, чтобы вас убедить.
При этих словах два вора достают из карманов по два пистолета каждый.
— Насилия не нужно, — говорю я им. Берите, и желаю вам доброго пути.
Я достаю из кармана штанов сверток с сотней дукатов, говорю им, что меня не заботит, что там, должно быть, на сто двадцать флоринов больше, и советую им выйти до того, как поднимется мой лакей. Виедо берет сверток и кладет в карман дрожащей рукой, даже не разворачивая, а ла Перин как истый гасконец подходит ко мне и, одобряя благородство моего поступка, обнимает меня. После этого мошенники открывают дверь и выходят. Я чувствую себя очень довольным, что так легко вышел из этого скверного положения. Я снова звоню, не для того, чтобы их преследовать, но чтобы поскорее одеться, не тратя времени на туалет, не рассказывая о случившемся Ледюку и не пожаловавшись хозяину на то, что происходит в его гостинице. Приказав Ледюку идти к г-ну Д.О., чтобы принести мои извинения, что не смогу прийти к нему обедать, я иду к президенту полиции, которого пришлось мне ждать до двух часов. Этот порядочный человек, выслушав все, сказал мне, что тотчас предпримет все возможное, чтобы арестовать воров, но боится что слишком поздно. Я рассказываю ему, что Пикколомини был у меня, и, отчитавшись обо всем, чего от меня тот хотел, добавляю, что он угрожал мне, говоря, что я раскаюсь. Президент заверил, что примет меры. После этого я вернулся к себе с горьким привкусом, чтобы проделать свой туалет и привести себя в порядок. Лимонад без сахара помог мне избавиться от желчи. Я явился к г-ну Д.О. В сумерках и застал Эстер серьезной и задетой, но она переменилась, видя меня расстроенным.
— Скажите же мне поскорее, — говорит она, — что вы были больны, и вы меня успокоите.
— Да, дорогой друг, и более чем болен, но теперь я чувствую себя очень хорошо; вы увидите это за ужином, потому что у меня со вчерашнего обеда маковой росинки во рту не было.
Это была правда, я ничего не ел, кроме устриц у падуанских потаскух. Эстер, прелестная, привлекла меня к поцелуям, и весь пылая, я уверил ее в своей любви.
— Вот новость, которую я могу вам сообщить, — сказала она: я уверена, что вы не являетесь автором сообщений своего оракула, или, по крайней мере, не тогда, когда вы хотите, как я, им быть. Ответ, который он мне дал, точен, и точен до такой степени, что это удивительно. Он сказал мне вещь, которую никто не может знать, потому что я сама ее не знаю. Вы не поверите, в какое изумление я пришла, когда обнаружила его правоту. Вы владеете сокровищем, ваш оракул непогрешим; но если он непогрешим, он не должен лгать и по пустякам. Он сказал мне, что вы меня любите, и я этому рада, потому что вы мужчина моей души; но мне нужно, чтобы вы дали мне свидетельства своей любви, в которых, если это действительно так, вы мне не можете отказать. Держите, читайте ваш ответ, я уверена, что вы его не знаете. Потом я скажу вам, как вы должны поступить, чтобы сделать Эстер вполне счастливой.
Я читаю, делая вид, что читаю это впервые. Я целую слова оракула, которые говорят, что я ее люблю, я показываю, как я очарован тем, что ответ выражен с такой простотой, затем прошу у нее прощения за то, что счел возможным, что этот ответ неизвестен ей самой. Она отвечает, слегка покраснев, что такое не покажется мне невозможным, если ей позволено меня в этом убедить. Затем, переходя к испытанию, которого она требует, чтобы убедиться в моей любви, она говорит, что я должен сообщить ей мой секрет.
— Вы меня любите, — говорит она, — и у вас не должно быть никакого затруднения для того, чтобы сделать счастливой девушку, которая станет вскоре вашей женой, а вы — ее повелителем. Мой отец с этим согласится. Когда я стану вашей женой, я сделаю все, что вы захотите: мы станем жить отдельно, если это доставит вам удовольствие; но это будет лишь тогда, когда вы научите меня извлекать ответ до того, как я дам себе труд заранее составить его у себя в голове.
Я взял ее прекрасные руки и, целуя их, сказал, что она знает, что я вынужден держать мое слово девушке в Париже, которая, разумеется, ни в какой мере ее не стоит, но я не считаю себя оттого менее обязанным его соблюдать. Увы! Могу ли я принести ей мои самые искренние извинения, будучи в невозможности обучить ее пользоваться оракулом по-другому, чем она это делает?
День или два спустя ко мне явился офицер с незнакомым мне именем; я велел сказать, что я занят, и, поскольку мой лакей отсутствовал, я заперся. После всего, что со мною случилось, я решил не принимать никого. Не смогли схватить двух воров, которые хотели меня убить, и Пикколомини исчез, но в Амстердаме были еще люди из его шайки.
Час спустя вернулся Ледюк и принес мне письмо, написанное на плохом итальянском, которое дал ему офицер, ожидающий ответа. Я увидел, что оно подписано тем же незнакомым мне именем. Он писал, что мы знакомы, но он может мне назвать свое имя лишь тет-а-тет, и что он придет ко мне с визитом лишь после моего одобрения.
Я сказал Ледюку пригласить его войти и оставаться в моей комнате. Я увидел человека моего роста, в возрасте сорока лет, в военной форме, с разбойничьей физиономией.
Он начал с того, что мы были знакомы в Сериго, шестнадцать или семнадцать лет назад. Я вспомнил, что выходил там на берег лишь ненадолго, когда сопровождал баиля[3] в Костантинополь, и что это должен был быть один из двух несчастных, которым я подал милостыню. Я спросил его, не он ли сказал мне, что он сын графа Поччини из Падуи, который не является графом, и он похвалил мою память. Я спросил, что он имеет мне сказать, и он ответил, что не может говорить в присутствии моего слуги. Я сказал ему говорить по-итальянски и велел Ледюку быть в прихожей.
Он мне сказал, что узнал, что я был у его племянниц, что я обошелся с ними как со шлюхами, и что придя сюда, он хочет, чтобы я дал ему сатисфакцию. Услышав придирки, я бегу к своим пистолетам, показываю ему один и велю выйти вон. Заскакивает Ледюк и мошенник уходит, говоря, что еще встретится со мной.
Постыдившись пойти пожаловаться президенту полиции, которому я должен буду рассказать всю скандальную историю, я решил проинформировать о деле моего друга Рижербоса, обратившись к нему за помощью. Эффектом этих демаршей было то, что сама полиция направила приказ Люси отослать двух графинь. Люсия пришла ко мне на следующий день, рассказав, со слезами на глазах, об этом деле, которое ввергает ее в нищету. Я даю ей шесть цехинов, и она уходит, утешенная. Я попросил ее больше ко мне не приходить. Все, что я делал вдали от Эстер, становилось для меня пагубным.
Три дня спустя явился ко мне вероломный майор Саби и сказал мне быть настороже, потому что венецианский офицер, который заявляет, что я, якобы, его обесчестил, говоря повсюду, что, напрасно потребовав у меня сатисфакции, он имеет право меня убить. Он сказал, что он в отчаянии, что он хочет уехать, и что у него нет денег.
Когда я сегодня думаю обо всех неприятностях, что я претерпел в Амстердаме за время короткого пребывания там во второй раз, в то время, как я мог бы жить там очень счастливо, я полагаю, что мы сами являемся первейшей причиной своих несчастий.
— Я советую вам, — продолжал Саби, — дать этому несчастному пятьдесят флоринов и избавиться таким образом от врага.
Я поблагодарил его и передал ему их в полдень, в кафе, которое майор мне назвал. Читатель увидит, где я встретился с ним четыре месяца спустя.
Г-н Д.О. пригласил меня поужинать с ним в ложе бургомистров . Это была честь, поскольку по всем законам масонства туда допускались только двадцать четыре ее члена. Это были самые богатые миллионеры биржи. Он сказал, что доложил обо мне, и что в честь меня ложа будет открыта по-французски. Меня настолько высоко оценили, что объявили сверхштатным членом ложи на все время моего пребывания в Амстердаме. Г-н Д.О. сказал мне на следующий день, что я ужинал в компании, располагающей тремя сотнями миллионов.
На другой день г-н Д.О. попросил меня выдать ответ на вопрос, на который оракул его дочери, которая при сем присутствовала, ответил слишком темно. Эстер мне его процитировала. Было спрошено у оракула: «Человек, который намерен убедить его, вместе со всем обществом, заняться делом большой важности, является ли он действительно другом короля Франции?». Я мгновенно догадался, что этот человек — никто иной как граф де Сен-Жермен. Г-н Д.О. не знал, что я с ним знаком. Я должен был вспомнить, что говорил мне граф д'Аффри. Вот случай блеснуть моему оракулу и дать над чем подумать моей прелестной Эстер.
Составив по вопросу пирамиду и пометив над каждым из четырех ключей буквы O.S.A.D. , заранее приписав им значения, я извлек ответ, начинающийся с четвертого ключа D . Вот он:
«Другом не признан. Приказ подписан. Все согласовано. Все заполнено. Все исчезает. Отложено».
Я притворился сначала, что нахожу ответ очень темным. Эстер, удивленная, нашла, что он говорит многое в необычном стиле. Г-н Д.О. сказал, что ответ ему ясен, и назвал оракул чудесным .
— Слово «Отложено», — сказал он, — относится ко мне. Вы искусны, и вы и моя дочь, извлекать ответы оракула, но в интерпретации мое искусство превосходит ваше. Я воспрепятствую всему этому делу. Речь идет о том, чтобы выложить сто миллионов под заклад коронных бриллиантов Франции. Это дело, которое король хочет завершить без вмешательства министров и даже без их ведома. Я прошу вас никому об этом не говорить.
Когда Эстер осталась наедине со мной, она сказала, что сразу поняла, что этот последний ответ не родился в моей голове, и заговорила о том, чтобы я сказал ей, что означают четыре буквы. Я ответил, что это неважно, потому что опыт мне подсказывает, что они не необходимы, но что эта надпись заложена в конструкции пирамиды, я их проставляю, когда мне кажется, что это необходимо.
— Что означают эти четыре буквы?
— Они суть инициалы невыразимых имен четырех главных умственных сущностей земли. Их нельзя произносить, но тот, кто хочет получать оракул, должен их знать.
— Ах, дорогой друг! Не обманывайте меня, потому что я всему верю, и, честное слово, нельзя этим злоупотреблять. Ты разве не должен научить меня этим непроизносимым именам, если хочешь преподать мне кабалу?
— Разумеется. И я могу их передать только тому, кого объявляю моим наследником. Нарушивший это предписание наказывается забвением всего. Согласитесь, прекрасная Эстер, что эта угроза должна меня пугать.
— Я согласна с этим. Несчастная! Вашей наследницей станет ваша Манон.
— Нет. Ее ум не наделен этим талантом.
— Но вы должны, однако, определиться с кем-нибудь, потому что вы смертны. Мой отец разделит с вами вашу судьбу, без того, чтобы обязать вас на мне жениться.
— Увы! Что вы говорите? Как это может быть, чтобы условие жениться на вас мне не понравилось!
Три или четыре дня спустя г-н Д.О. заходит в десять часов утра решительными шагами в кабинет Эстер, где она вместе со мной работает над тем, чтобы научиться извлекать оракул всеми четырьмя ключами и удваивать, утраивать и учетверять его, как захочется. Удивленные его появлением, мы встаем, он повторно нас обнимает и хочет, чтобы мы обнялись.
— Что все это значит, мой обожаемый папа?
Он приглашает нас сесть и читает письмо, что только что получил от г-на Калкуэна, одного из секретарей L.H.P.[4]. В письме, в частности, говорится, что посол Франции запросил у Генеральных Штатов от имени короля, своего повелителя, о так называемом графе де Сен-Жермен, и ему ответили, что вышлют Его христианнейшему Величеству названную персону, как только его разыщут. В соответствии с этой просьбой, говорилось далее в письме, узнав, что запрашиваемый проживает в «Звезде Востока», направили в полночь в эту гостиницу вооруженную стражу, чтобы его захватить, но его там не нашли. Хозяин сказал, что этот граф уехал в начале ночи, направившись в Нимег. Направились вслед за ним, но без особой надежды его поймать. Неизвестно , каким образом он смог узнать о том, что отдан этот приказ, и кто смог помочь этому несчастному.
– Неизвестно , — сказал, смеясь, г-н Д.О., — но все это знают. Сам г-н Калкуэн должен был дать знать этому другу короля Франции, что придут за ним в полночь и заберут его, если он там окажется. Нет таких дураков. Правительство ответит послу, что, к сожалению, Его Превосходительство слишком поздно запросило об этой персоне, и никто не будет удивлен таким ответом, потому что это обычно так и происходит в подобных случаях. Все слова оракула подтвердились. В этот момент мы должны были бы выплатить ему 10 тыс. флоринов, которые нужны были сразу. Закладом служил самый прекрасный бриллиант короны, который остался у нас; однако мы его вернем, как только он за ним явится, по крайней мере если посол ему не откажет. Я никогда не видел более прекрасного камня. Вы теперь увидите, каков мой долг перед вами за ваш оракул. Я направляюсь на биржу, где вся компания выскажет мне свою благодарность. Я попрошу вас после обеда запросить оракул, должны ли мы объявить о том, что прекрасный алмаз у нас, или лучше хранить молчание. После этого прекрасного сообщения он нас снова поцеловал и ушел.
— Вот момент, — сказала Эстер, — когда ты можешь дать мне самый большой знак дружбы из всего, что можешь, который тебе ничего не будет стоить, а меня наполнит гордостью и радостью.
— Укажи, мой ангел, как я смогу дать тебе нечто, что мне не будет ничего стоить?
— Мой отец после обеда хочет узнать, надо ли объявлять об алмазе, или общество поступит лучше, сохранив его в депозитарии и перед этим оценив. Скажи ему, чтобы обратился с этим ко мне и предложи, что сам объяснишь ответ, если он будет слишком темен. Сделай сейчас этот запрос, и я отвечу твоими же словами. Отец еще больше меня полюбит.
— Ах, моя дорогая Эстер! На что я только не готов, чтобы уверить тебя в моей дружбе! Пойдем, сделаем это.
Я велю составить ей вопрос самой, говорю, чтобы она поместила своей собственной рукой четыре могущественные буквы, и помогаю составить ответ с помощью волшебного ключа. Затем, делая добавления и вычитания, как я ей подсказываю, она, удивленная, получает такой ответ: «Общество сделает лучше, скрыв секрет, иначе вся Европа будет смеяться над ним. Предполагаемый алмаз — не более чем подделка».
Я подумал, что очаровательная девушка сойдет с ума от радости. Ее душили взрывы смеха.
— Какой ответ! — воскликнула она. Алмаз фальшивый! Какая глупость дать себя так обмануть! И это мой отец получит от имени оракула! И ты сделал мне такой подарок! Теперь они проверят этот факт, и, найдя, что камень фальшивый, важное общество будет многим обязано моему отцу, потому что иначе оно бы безусловно опозорилось. Можешь оставить мне эту пирамиду?
— Охотно даю ее тебе, но она не поможет тебе стать более ученой.
После обеда разразилась комическая сцена, когда почтенный г-н Д.О. узнал из оракула своей дочери, что камень фальшивый. Он издал громкие вопли. Дело представилось ему невероятным, он попросил меня составить аналогичный запрос, и когда увидел, что выходит тот же ответ, хотя и другими словами, он вышел, чтобы подвергнуть алмаз всем проверкам и порекомендовать соблюдать молчание, когда откроется правда. Однако эта рекомендация оказалась бесполезна. Все узнали о положении вещей и сказали, как и должны были сказать, хотя это и не было правдой, что компания была обманута и дала мошеннику 100 тыс. флоринов, которые он просил.
Эстер прославилась, и желание постигнуть науку оракула с моей помощью у нее возросло. Стало известно, что Сен-Жермен проехал в Эмбден, затем в Англию. Я встречусь с ним еще в своем месте. Но вот какое известие обрушилось на меня на Новый Год и почти меня убило.
Я получил из Парижа толстый пакет вместе с письмом от Манон, в котором она писала:
«Будьте благоразумны и сохраняйте спокойствие при известии, которое я вам сообщаю. Этот пакет содержит все ваши письма и ваш портрет. Отправьте мне мой, и если вы сохраняете мои письма, сожгите их. Я рассчитываю на ваше благородство. Не думайте больше обо мне. Со своей стороны, я сделаю все возможное, чтобы вас забыть. Завтра в это время я стану женой г-на Блондель, королевского архитектора и члена его академии. Вы меня очень обяжете, если, при своем возвращении в Париж, вы сделаете вид, что со мной незнакомы, везде, где мы встретимся».
Это письмо повергло меня в состояние глубокой подавленности, вогнав в оцепенение на добрые два часа. Я послал сказать г-ну Д.О., что чувствую себя нехорошо и не покину свою комнату целый день. Я вскрыл пакет и, рассматривая свой портрет, казалось, видел чудо. Мое лицо, изображенное смеющимся, мне казалось в этот момент угрожающим и яростным. Я принялся писать неверной и все время рвал написанное. В десять я поел супу, потом лег в кровать, но не мог заснуть. Сотня проектов рождалась и отвергалась. Я решил было ехать в Париж, чтобы убить этого Блонделя, которого я не знал и который посмел жениться на девушке, что принадлежала мне и которую полагали моей женой. Я желал зла ее отцу и ее брату, которые не написали мне об этом. На другой день я послал сказать г-ну Д.О., что я еще болен. Я провел весь день, перечитывая письма неверной. Пустой желудок посылал мне в голову видения, которые меня усыпляли, очнувшись, я терял разум, разговаривая сам с собой в приступах гнева, что надрывали мне душу.
В три часа пришел г-н Д.О., чтобы пригласить меня с собой в Гаагу, где на следующий день — в день св. Иоанна — собирались все знатные франк-масоны Голландии; однако увидев, в каком я состоянии, он не настаивал.
— Что же это за болезнь?
— Большое горе; я прошу вас не разговаривать со мной.
Он ушел, очень огорченный, попросив повидаться с его дочерью. Я увидел ее на следующее утро, с гувернанткой. Удивленная, что видит меня в таком расстроенном виде, она спросила, что за горе, с которым мой ум не может справиться. Я прошу ее сесть и, не желая говорить с ней об этом, заверяю, что одного ее присутствия достаточно, чтобы мне стало легче.
— Будем говорить о других вещах, дорогой друг, и полагаю, что не стану думать о несчастье, которое отягощает мне душу.
— Оденьтесь и проведем день со мной.
— Начиная с кануна Нового Года я съел только шоколад и несколько чашек бульона. Я очень слаб.
Я вижу тревогу на прелестном лице.
Секунду спустя она пишет несколько строк, которые дает мне прочесть. Она говорит, что если значительная сумма денег, помимо тех, что должен мне ее отец, может развеять мое горе, она может быть моим врачом. Я отвечаю, целуя ей руку, что мне не хватает не денег, а лишь достаточно сильного ума, чтобы принять решение. Она говорит, что я должен обратиться к своему оракулу, и я не могу сдержать смеха.
— Как вы можете смеяться? — говорит она, рассуждая очень правильно. — Мне кажется, что средство от вашего горя должно быть ему совершенно знакомо.
— Я смеюсь, мой ангел, из-за комической идеи, что пришла мне в голову, сказать вам, что это вы должны обратиться к своему оракулу. Говорю вам, что не обращаюсь к моему оракулу, потому что опасаюсь, что он предложит мне лекарство, которое понравится мне еще меньше, чем само горе, что меня обуревает.
— Вы всегда вольны не воспользоваться им.
— Таким образом я пренебрегу уважением, которое должен оказывать высшему разуму.
Я вижу, что этот ответ ее убедил. Минуту спустя она спрашивает, доставит ли мне удовольствие, если она на весь день останется со мной. Я отвечаю, что если она останется обедать, я встану, велю поставить три куверта на маленький столик и, разумеется, поем. Вижу, что она довольна и смеется; она говорит, что сделает сама кабилло[5], как я люблю, котлеты и устрицы. Сказав гувернантке, чтобы та отправила домой их портшез, она направилась в комнату хозяйки, чтобы заказать набор деликатесов, жаровню и винный спирт, необходимый, чтобы приготовить свои маленькие рагу прямо у стола.
Такова была Эстер. Это было сокровище, которое соглашалось принадлежать мне, но при условии, что я буду принадлежать ей, чего я никак не мог ей дать. Почувствовав себя возрожденным при мысли, что проведу весь день, я обрел уверенность, что смогу начать забывать Манон. Я воспользовался моментом, чтобы подняться с постели. Она обрадовалась, войдя и увидев меня вставшим. Она попросила меня с очаровательной грацией, чтобы я причесался и оделся, как будто я собираюсь на бал. Этот каприз заставил меня рассмеяться. Она сказала, что это нас развлечет. Я позвал Ледюка и, сказав ему, что собираюсь на бал, велел достать из чемодана соответствующую одежду, и когда он спросил, какую, Эстер сказала, что сама выберет. Ледюк открыл ей чемодан и, оставив ее, стал меня брить и причесывать. Эстер, воодушевленная этой ситуацией, принялась с помощью гувернантки раскладывать на кровати кружевную рубашку и те из моих одежд, что пришлись ей более по вкусу. Я выпил бульону, почувствовав, что это мне необходимо, и увидел, что проведу приятный день. Мне стало возможным не то, чтобы возненавидеть, но начать презирать Манон; анализ этого нового ощущения оживил мои надежды и возродил мое былое мужество. Я сидел перед огнем, под расческой Ледюка, наслаждаясь удовольствием, которое испытывала Эстер, занимаясь столом, когда увидел ее передо мной, грустную и сомневающуюся, держащую в руке письмо Манон, в котором та отправляла меня в отставку.
— Я, наверное, виновата, — спросила она робко, — что открыла причину вашего страдания?
— Нет, моя дорогая. Пожалейте меня, и не будем об этом говорить.
— Значит, я могу прочесть все?
— Все, если вам интересно. Вы все равно меня пожалеете.
Все письма неверной и все мои были в порядке дат разложены на моем ночном столике. Эстер стала читать. Когда я полностью оделся и мы остались фактически одни, потому что гувернантка занималась плетением кружев и не вмешивалась в наши разговоры, Эстер сказала, что никакое чтение никогда не доставляло ей такого интереса, как эти письма.
— Эти проклятые письма меня убивают. Вы поможете мне после обеда все их сжечь, в том числе то, что велит мне сжечь их.
— Лучше сделайте мне подарок; они никогда не выйдут из моих рук.
— Я принесу их вам завтра.
Их было более двух сотен, и самые короткие были в четыре страницы. Обрадованная тем, что завладела ими, она сказала, что соберет их вместе, чтобы забрать их вечером с собой. Она спросила, не отдам ли я ей портрет Манон, и я сказал, что не знаю, что мне делать.
— Отошлите его ей, — сказала она с возмущением, — я уверена, что ваш оракул даст вам именно этот ответ. Где он? Могу я на него взглянуть?
Ее портрет был у меня внутри золотой табакерки, и я его никогда не показывал Эстер из опасения, чтобы, сочтя Манон, может быть, более красивой, чем она, она не могла подумать, что я не показываю его из-за тщеславия, что меня бы только огорчило. Я быстро открыл шкатулку и взял табакерку. Могло так статься, что Эстер нашла бы Манон некрасивой или сочла бы необходимым сделать вид, что находит ее таковой, но она воздала ей хвалы, сказав только, что девушке со скверной душой не следует иметь такое красивое лицо. Она захотела также взглянуть на все портреты, что у меня были, которые м-м Манцони отослала мне из Венеции, как читатель, может быть, помнит. Среди них были и ню, но Эстер не стала изображать ханжу. О'Морфи ей очень понравилась, и она сочла ее историю, которую я рассказал ей со всеми обстоятельствами, очень любопытной. Портрет М.М., сначала в виде монашки, а затем ню, заставил ее много смеяться; она хотела услышать ее историю, но я от этого уклонился. Мы сели за стол и провели за ним два часа. Перейдя очень быстро от смерти к жизни, я ел со всем возможным аппетитом; Эстер ежеминутно торжествовала, что смогла стать моим доктором. Я обещал ей, вставая из-за стола, отослать портрет Манон ее мужу не позже чем завтра, и Эстер зааплодировала моей идее, но час спустя она задала вопрос оракулу, надписав O S A D над ключами, в котором спросила, правильно ли я сделаю, отослав сопернику портрет неверной. Она провела расчет, вычитая и прибавляя, говоря мне со смехом, что не сможет составить ответ, и выдала, наконец, заключение, что я должен отправить портрет, но ей самой, и не проявлять злобы, посылая портрет ее мужу.
Я зааплодировал, снова поцеловал ее, сказал, что последую указанию оракула, и что я прекратил хвалить ее умение в обращении с оракулом, потому что она полностью овладела знанием. Эстер, естественно, смеясь и испытывая страх, что я начну относиться к ней слишком всерьез, постаралась уверить меня в обратном. С этими дурачествами, которые так любит амур, он вырастает в гиганта в очень короткое время.
— Не будет ли слишком большим любопытством с моей стороны, — сказала она, — если я спрошу, где ваш портрет? Она говорит в своем письме, что отослала его вам.
— К сожалению, я не знаю, куда его подевал. Согласитесь, выкинутая подобным образом вещь не доставляет мне удовольствия.
— Поищем ее вместе, дорогой друг, я хочу ее видеть.
Мы нашли портрет среди книг, что лежали у меня на комоде. Эстер, удивленная, сказала, что я как живой; я счел возможным предложить его ей, сказав, однако, что он недостоин такой чести, и она приняла его с выражениями чрезвычайной благодарности. Я провел с ней один из тех дней, что можно назвать счастливыми, поскольку он протекал в радости, взаимном удовлетворении и спокойствии, без всякой суматохи страсти. Она ушла в десять часов, взяв с меня слово, что я проведу следующий день с ней.
Проспав восемь часов сном, который по пробуждении оставляет человека удивленным, поскольку ему кажется, что он вообще не спал, я пошел к Эстер, которая еще спала, но которую гувернантка постаралась разбудить. Она встретила меня смеясь, сидя в кровати и указывая мне на ночной столик, где лежала вся моя корреспонденция, за чтением которой она провела почти всю ночь. Она позволила мне целовать ее щеки цвета лилий с розами, защищая от моих рук свою алебастровую грудь, треть которой, доступная моим взорам, меня ослепляла, но не мешая моим глазам любоваться ее красотой. Я сел к ее коленям, восхваляя ее красоту и ее ум, созданных, как то так и другое, чтобы забыть тысячу Манон. Она спросила меня, красива ли та вся, и я ответил, что, не будучи еще ее мужем, я этого не знаю, и она улыбнулась, хваля мою сдержанность.
— Но, несмотря на это, — сказал я, — я знаю от ее кормилицы, что она хорошо сложена, и что никакое пятнышко не портит ни ее белизны, ни блеска всех ее секретных частей.
— Вы должны иметь обо мне другое мнение, — говорит Эстер.
— Да, мой ангел, потому что оракул поведал мне большой секрет; но это не мешает тому, чтобы я считал вас совершенно прекрасной всюду. Мне будет легко, став вашим мужем, воздержаться от того, чтобы трогать вас там.
— Значит вы считаете, — говорит она, краснея, живым тоном, — что, трогая там, вы можете обнаружить нечто, что уменьшит ваши желания?
На эту выходку, которая меня полностью обезоружила, я почувствовал стыд самого жестокого свойства. Я попросил у нее прощения, и под влиянием чувства оросил ее руки слезами, которые вызвали в ответ ее собственные. Пылая оба одним пламенем, в этот момент мы ощутили, что готовы были бы отдаться нашим желаниям, если бы позволила наша осмотрительность. Мы испытали нежный экстаз, за которым последовало успокоение, заставившее нас подумать о нежных радостях, которым мы могли бы предаться. Три часа пролетели очень быстро. Она сказала мне идти в ее кабинет, чтобы дать ей возможность одеться. Мы обедали с тем секретарем, который ей не нравился, и который мог только завидовать моему счастью.
Мы провели вместе весь остаток дня, в тех доверительных беседах, которые возникают, когда заложены первые основы самой интимной дружбы между людьми противоположного пола, которые кажутся созданными друг для друга. Мы еще пылали, но в кабинете Эстер не была так свободна, как в своей спальне. Я вернулся к себе, очень довольный судьбой. Я полагал, что она сможет решиться стать моей женой, не настаивая, чтобы я преподал ей то, что преподать не мог. Я раскаялся в том, что не захотел внушить ей, что ее наука равна моей, и мне казалось, что невозможно будет теперь сказать ей, что я ее обманул, и заслужить прощение. Только Эстер могла заставить меня забыть Манон, которая стала теперь казаться мне недостойной всего того, что я хотел для нее сделать.
Г-н Д.О. вернулся, и я пошел к нему обедать. Он с удовольствием узнал, что его дочь меня вылечила, проведя со мной весь день. Он сказал нам, когда мы остались одни, что узнал в Гааге, что граф де Сен Жермен владел секретом делать алмазы, которые отличались от настоящих только весом, что не помогло ему сделаться очень богатым, даже при использовании этого таланта. Я бы его изрядно насмешил, если бы вздумал рассказать все, что я знаю об этом человеке.
На другой день я повел Эстер в концерт. Она сказала мне, что на следующий день она не выйдет из своей комнаты, и мы сможем поговорить о нашей свадьбе. Это был последний день года 1759.
Глава II
Я разочаровываю Эстер. Я уезжаю в Германию. Мое приключение вблизи Кёльна. Жена бургомистра; я добиваюсь победы над ней. Бал в Боне. Прием у кёльнского Выборщика. Завтрак в Брюле. Первая близость. Ужин без приглашения у генерала Кеттлера. Я счастлив. Мой отъезд из Кёльна. Маленькая Тоскани. Драгоценность. Мое прибытие в Штутгарт.
1760 г., 1-е января.
Это свидание должно было стать решающим. Я внушил ей любовь, и моя честь была задета. Я пришел, решив не обманывать этого ангела и будучи уверен, что не получу отказа на мое предложение. Я застал ее в постели. Она сказала, что проведет в постели весь день, и что мы будем работать. Гувернантка принесла нам маленький столик, и она поставила передо мной несколько вопросов, направленных на то, чтобы дать мне понять, что, прежде, чем стать ее мужем, я должен передать ей мою науку. Они все были сформулированы таким образом, чтобы заставить высший ум приказать мне удовлетворить ее требование, либо отказать в нем. Я не мог сделать ни того, ни другого, поскольку запрещение могло ей не понравиться до такой степени, что заставит отказаться от всякого желания связать свою судьбу со мной. Я был занят вырабатыванием двусмысленных ответов, пока г-н Д.О. не позвал меня обедать. Он разрешил дочери оставаться в постели, но при условии, что остаток дня она проведет не работая, так как это занятие может только усилить ее мигрень. Она обещала, и я этим воспользовался.
Выйдя из-за стола, я вернулся к ней и застал ее спящей. Я хотел поберечь ее сон, но она проснулась, и чтение героиды[6] об Элоизе и Абеляре зажгло в нас пламя. Разговор зашел о секрете, который открыл ей ранее оракул, и который можно было узнать только от нее самой; она позволила моей руке его разыскать, и когда увидела, что я в сомнении, потому что он пальцами не нащупывался, она решилась сделать его для меня видимым. Он был не более просяного зернышка. Она позволила мне поцеловать его, что я и сделал, затаив дыхание.
Проведя два часа в безумствах любви, никогда не доходя до великого свершения, которое она, совершенно правильно, мне запрещала, я решился сказать ей правду, хотя и видел, что после двух ложных и разоблаченных признаний, третье может ее возмутить.
Эстер, которая была очень умна, так что я никогда не мог ее обмануть, по крайней мере, когда она этого не хотела, слушала меня без удивления, не перебивая и без малейшей тени гнева. Она сказала мне под конец моей исповеди, что, будучи уверена в моей любви, и находя очевидным ложность этого последнего признания, она понимает, что если я не обучаю ее творить кабалу, разум подсказывает, что это не в моей власти, и что, следовательно, она не будет больше требовать от меня того, что я не могу или не хочу делать.
— Останемся же добрыми друзьями до самой смерти, — сказала она, — и не будем больше говорить об этом. Я прощаю вас и мне вас жаль, если любовь лишает вас смелости быть искренним. Сейчас это так. Вы никогда бы не смогли узнать нечто, что принадлежит мне, и что было бы неизвестно мне самой.
— Ладно, моя дорогая! Притормозите ваше рассуждение. Вы не знали, что у вас есть этот знак, а я знал, что он у вас есть.
— Вы знали? Как вы могли знать? Это невероятно.
— Я вам сейчас все скажу.
Я изложил ей всю теорию соответствия знаков, что имеются на человеческом теле, кончив тем, что удивил и убедил ее, когда сказал, что уверен, что ее гувернантка, у которой на правой щеке была большая мушка, должна иметь такую же на левой ягодице.
— Я узнаю это, — сказала она, — но я поражена, что ты единственный в целом мире, кто знает эту науку.
— Это известно, моя дорогая, всем, кто знаком с анатомией, физиологией, и даже астрологией, наукой химерической, когда ее применяют, чтобы найти в звездах все принципы наших действий.
— Принесите же мне завтра, завтра и не позднее, книги, где я смогу почерпнуть знания такого рода. Мне не терпится стать ученой и получить возможность удивлять всех невежд с помощью моей цифровой кабалы, потому что любая наука без шарлатанства не может ее заменить. Я хочу посвятить себя учебе. Будем же любить друг друга, мой дорогой, до самой смерти. Нам для этого нет нужды жениться.
Я вернулся в гостиницу очень довольный, как будто сбросил с себя большое бремя. Я принес ей на другой день все книги, которые смог достать и которые могли ее развлечь. Среди них были хорошие и плохие, но я предупредил ее об этом. Мои «Коники» ей понравились, потому что она нашла их соответствующими правде. Желая блеснуть с помощью оракула, она должна была стать хорошим физиком, и я направил ее на правильный путь. Я решил совершить маленькое путешествие в Германию, перед тем, как вернуться в Париж, и она одобрила мою идею, будучи обрадована тем, что я обещал ей увидеться еще до конца этого года. Хотя мы больше и не увиделись, я не могу упрекнуть себя, что обманул ее, поскольку все, что со мной произошло, помешало мне сдержать данное ей слово.
Я написал г-ну д'Аффри, попросив его прислать мне паспорт, который был мне нужен, поскольку я хотел совершить тур в Империи, где французы и все державы находились в состоянии войны. Он ответил мне весьма вежливо, что мне в этом нет нужды, но если я этого хочу, он мне его пришлет. Его письма мне было достаточно. Я положил его в мой портфель, и в Кёльне оно послужило мне лучше, чем паспорт.
Я передал г-ну Д.О. все деньги, что у меня были, из нескольких банков, Он дал мне общий вексель, имеющий хождение среди десяти-двенадцати крупнейших банкирских домов Германии. Я отправился в моей почтовой коляске, которую вызвал из Мордика, располагая почти сотней тысяч голландских флоринов, многими ценными безделушками, кольцами и очень дорогим экипажем. Я отправил в Париж лакея-швейцарца, с которым уезжал, взяв с собой только Ледюка, сидящего на запятках.
Это вся история моего короткого пребывания в Голландии в этот второй раз, когда я не сделал ничего важного для своей судьбы. У меня там были неприятности, но когда я об этом вспоминаю, я нахожу, что любовь искупала все.
Я остановился только в Утрехте на один день, чтобы взглянуть на землю, принадлежащую гернгутерам[7], и через день прибыл в Кёльн в полдень; но за полчаса до приезда туда пятеро солдат-дезертиров, трое справа и двое слева, остановили меня, весело спрашивая кошелек. Мой почтальон, под угрозой смерти от пистолета, который я держал в руке, хлестнул двоих, и разбойники разрядили свои ружья в меня, но ранили только мою коляску. Им не хватило ума стрелять в почтальона. Если бы у меня имелось два кошелька, как обычно у англичан, из которых легкий предназначен для дерзких воров, я кинул бы его этим несчастным, но, имея только один, и хорошо наполненный, я рискнул жизнью, чтобы его спасти. Мой испанец, который слышал свист пуль, пролетающих мимо головы, к его удивлению, не был задет. В Кёльне французы находились на зимних квартирах. Меня поселили в гостинице под вывеской «Солнце». Войдя в зал, я увидел графа де Ластик, племянника м-м д'Юрфэ, который, поприветствовав, отвел меня к г-ну де Торси, коменданту. Я показал ему вместо паспорта письмо г-на д'Аффри, и все прошло отлично. Когда я рассказал ему, что произошло при моем приезде, он поздравил меня с удачей, но осудил во вполне ясных выражениях возможные последствия моей бравады… Он сказал, что если я не тороплюсь уезжать, я, возможно, увижу их повешенными, но я хотел назавтра уехать.
Мне пришлось обедать с г-дами де Ластик и де Флавакур, которые уговорили меня пойти в комедию. Из-за этого мне пришлось привести себя в порядок, так как, вполне возможно, они представили бы меня дамам, и я хотел блеснуть.
Придя в театр и увидев там красивую женщину, которая навела на меня свой лорнет, я попросил г-на де Ластик меня представить. В первом антракте он отвел меня в ее ложу, где начал с того, что сказал, кто я, г-ну графу де Кеттлер, генерал-лейтенанту на австрийской службе, состоящему при французской армии, как г-н де Монтасе, француз, — при австрийской. Затем тот представил меня даме, вызвавшей мой интерес. Она стала задавать мне вопросы о Париже, затем о Брюсселе, где она выросла, не обнаруживая при этом интереса к моим ответам. Ее внимание привлекали мои кружева, брелоки, мои кольца. Быстро сменив тему, она спросила меня, как будто вспомнив, что должна проявить любопытство, остановлюсь ли я на несколько дней в Кёльне, и притворилась огорченной, когда я ответил, что рассчитываю обедать завтра в Бонне. Генерал Кеттлер поднялся, сказав мне, что уверен, что эта прекрасная дама сумеет уговорить меня отложить мой отъезд, и ушел вместе с Ластиком, оставив меня наедине с интересной красоткой. Это была жена бургомистра Х., с которой Кеттлер не расставался.
— Уж не ошибся ли он, — спросила она меня заинтересованно, — уверяя, что я смогу этого добиться?
— Я не уверен, но возможно он ошибается, предполагая, что вы захотите это проделать.
— Очень хорошо. Надо его на этом поймать, для того лишь, чтобы наказать за недоверие. Оставайтесь.
Неожиданность такого оборота поставила меня в глупое положение. Мне надо было собраться с мыслями. Могу ли я ожидать чего-то в Кёльне при разговорчиках такого сорта? Любопытство толкало меня, наказание казалось весьма вероятным, возможность получить желаемое — манила, и идея послужить приманкой в ловушке вызывала восхищение. Следовало углубить глупость ситуации. Приняв послушный и благодарный вид, я склонился к ее руке и поцеловал ее с покорным видом.
— Вы останетесь здесь, и это засвидетельствует вашу вежливость, так как, уехав завтра, вы покажете, что приехали сюда только для того, чтобы посмеяться над нами. Генерал дает завтра бал, и вы с нами потанцуете.
— Осмелюсь ли я польстить себе, мадам, предположив, что смогу служить персоне ваших достоинств в контрдансах?
— Я не буду танцевать ни с кем другим, когда вы будете утомлены.
— То-есть, когда я паду мертвый.
— Но откуда у вас эта благоухающая помада? Вы появились в театре, и я стала ее ощущать.
— Она из Флоренции; если она кружит вам голову, я тотчас же скажу снова меня причесать.
— Ах, боже! Это будет убийственно! Такая помада — это счастье моей жизни.
— И вы составите счастье моей, позволив мне отправить вам завтра дюжину баночек.
Возвращение генерала помешало ей ответить. Я встал, чтобы уйти.
— Я уверен, — сказал мне он, — что ваш отъезд отложен. Мадам пригласила вас прийти завтра поужинать и потанцевать ко мне. Не правда ли?
— Она меня заворожила, мой генерал, убедив, что вы окажете мне эту честь, и что я буду иметь честь танцевать с ней контрдансы. Как можно уехать после этого?
— Вы правы. Я буду вас ждать.
Я вышел из ложи влюбленный и уже счастливый в воображении, и вернулся в театр, где благоухание моей помады вызвало комплименты всех молодых офицеров. Это был подарок Эстер, и первый день, когда я им воспользовался. В коробке было двадцать четыре баночки. Я вынул из нее дюжину и отослал даме на другой день в девять часов, в полотняном навощенном и запечатанном пакете, адресованными на ее имя, как будто он был направлен неким комиссионером.
Я провел утро, осматривая с наемным слугой достопримечательности Кёльна, все в героико-комическом духе. Я смеялся, рассматривая изображение лошади Баярда, которую столь прославил Ариосто, на которую взобрались четверо сыновей Эймона. Был там также и герцог Амон, отец непобедимого Брадаманте, и счастливчик Ричардетто.
Все гости за столом у г-на де Кастри, где я обедал, были удивлены, что генерал Кеттлер сам пригласил меня на свой бал, будучи весьма подвержен ревности по отношению к своей даме, которая заставляла страдать его тщеславие. Он был слишком почтенного возраста, с неприятным лицом и без всяких достоинств по части ума, чтобы претендовать на то, чтобы быть любимым. Но ему пришлось, однако, смириться, что я проведу всю ночь, болтая или танцуя с ней. Я вернулся к себе настолько влюбленным, что больше не думал об отъезде. В момент возникшей между нами теплоты я осмелился сказать ей, что если она пообещает мне тет-а-тет, я согласен провести в Кёльне весь карнавал.
— А если, пообещав вам, — отвечала она, — я вас обману, что вы скажете?
— Я буду переживать в одиночестве и скажу, что вы не смогли сдержать свое слово.
— Вы хороший человек. Оставайтесь же с нами.
— Через день после бала я нанес ей первый визит, и она представила меня своему мужу, который не был ни молодым, ни красивым, но очень любезным. Часом позже, услышав, что у ее дверей останавливается коляска генерала, она сказала мне, что если он меня спросит, намерен ли я явиться в Бону на бал Выборщика[8], я должен ответить, что не премину. Несколько минут спустя я сбежал.
Я ничего не знал раньше об этом бале, но теперь был проинформирован. Была приглашена вся знать Кёльна, и, поскольку являлись в масках, туда могли прийти все. Я решил пойти, но инкогнито, тем более, что генерал не задал мне этого вопроса. Мне казалось, что м-м Х, дав мне этот намек, дала тем самым и приказ туда явиться. Я не мог иначе истолковать это сообщение. Я был уверен, что она туда придет, и я надеялся. Женщина эта была редкостного ума. Между тем, я отвечал всем, кто меня спрашивал, приду ли я на этот бал, что у меня есть соображения не идти туда, и самому генералу я так сказал, когда, в присутствии мадам, он спросил меня, буду ли я там. Я сказал, что здоровье не позволяет мне насладиться этим развлечением. Он ответил, что необходимо отказываться от всяких удовольствий, если они вредят здоровью.
В день, когда давался бал, я выехал в начале ночи один, в почтовой карете, со своим сундучком и двумя домино, одетый так, как никто меня не видел. В Боне я снял комнату, где замаскировался и оставил мое второе домино и свой сундучок. Я закрыл ее на ключ и отправился ко двору в портшезе. Неузнанный никем, я увидел всех дам Кёльна и прекрасную Х с открытым лицом, сидящую за банком в фараон и понтирующую на дукат. Я с удовольствием увидел, что банкёр — граф Верита, веронец, с которым я познакомился в Баварии. Он был на службе у Выборщика. Его небольшой банк составлял не более пяти-шести сотен дукатов, и понты между мужчинами и женщинами распределялись как десять к двенадцати. Я вступил и поставил рядом с Мадам, банкёр дал мне карточку и предложил подснять карты. Я отказался, и сняла м-м А.
Я начал понтировать с десяти дукатов на одну карту, она проигрывала четыре раза подряд, и то же произошло при следующей талии. При третьей талии никто не хотел снимать. Банкёр просит генерала, который не играет, и тот снимает. Примета мне кажется доброй, я ставлю пятьдесят дукатов и получаю пароли. В следующей талье я снимаю банк. Все заинтересованы и ждут продолжения, но, вопреки этому, я ускользаю. Я велю нести меня в мою комнату, где сменяю домино и оставляю свои деньги; я возвращаюсь на бал, где вижу нового банкёра и много золота, но, решив больше не играть, я не взял с собой денег. Всех волнует, кто был та маска, которая сняла предыдущий банк. Я слоняюсь повсюду; я вижу м-м Х, разговаривающую с графом Верита, сидящим с ней рядом, я подхожу и слышу, что они говорят обо мне; он говорит ей, что Выборщик желает знать, кто был та маска, которая сняла его банк, и что генерал Кеттлер ему сказал, что это мог быть венецианец, который приехал восемь-десять дней назад в Кёльн. Она говорит, что венецианец ей сказал, что недостаточно хорошо себя чувствует, чтобы идти на этот бал. Граф говорит ей, что он меня знает, что если я в Боне, Выборщик об этом узнает, и что я не уеду, не переговорив с ним. Слушая все это, я предвижу, что меня могут легко раскрыть после бала, но я не боюсь, так как это предвидел, и я остаюсь. Но я плохо все рассчитал. Образовали контрданс, мне захотелось потанцевать, но я не учел, что придется снять маску. Получилось, что я уже не мог скрыться. Когда М-м Х меня увидела, она сказала, что ошиблась, что она была готова держать пари, что я та маска, которая обыграла графа Верита. Я сказал ей, что только что приехал.
Но в конце контрданса, когда граф Верита меня увидел, он сказал, что поскольку я на балу, он уверен, что я тот, кто его обыграл; я, засмеявшись, оставил его говорить свое, и, поев чего-то в буфете, продолжил танцевать. Два часа спустя граф Верита сказал мне, смеясь, что я поменял домино, и указал, где моя комната.
— Выборщик, — сказал он, — все узнал, и чтобы наказать вас за эту шалость, приказал мне сказать вам, что завтра вы не уедете.
— Он меня арестует?
— Почему бы и нет, если вы откажетесь завтра с ним пообедать?
— Я повинуюсь. Где он? Представьте меня.
— Он удалился; но завтра приходите ко мне в полдень.
Когда он меня представлял, принц был в окружении пяти-шести придворных, и у меня был глупый вид, потому что я его до того не видел и искал глазами человека в церковной одежде, а его там не было. Он сам вывел меня из затруднения, сказав на венецианском жаргоне, что он одет как великий магистр тевтонского ордена. Тем не менее, я преклонил перед ним колено, и когда я хотел поцеловать ему руку, он отобрал ее, отступив назад. Он сказал, что когда он был в Венеции, я был в Пьомби, что его племянник, следующий Выборщик Баварский, сказал ему, что спасшись, я был арестован в Мюнхене, и что меня бы не отпустили, если бы я вместо Мюнхена приехал в Кёльн. Он сказал, что надеется, что после обеда я расскажу ему историю своего бегства, и чтобы я остался ужинать, и мы поговорили о маленьком маскараде, над чем посмеялись. Я был приглашен рассказать всю историю моего бегства, поставив при этом условие, что ему хватит терпения ее выслушать, потому что рассказ мог продлиться два часа, и я насмешил его, пересказав короткий диалог, который возник по этому поводу между мной и г-ном герцогом де Шуазейль.
Во время обеда принц говорил со мной все время по-венециански и осыпал меня любезностями. Он был весел и за его обликом святости никто из говоривших с ним не мог предугадать, что его век будет недолог. Он умер год спустя.
Перед тем, как встать из-за стола, он попросил меня рассказать всю историю моего бегства, которая с интересом была выслушана в течение двух часов всей прекрасной компанией. Мой читатель знает эту историю, но в написанном виде она далеко не так интересна, как когда я ее рассказывал.
Маленький бал у Выборщика был очень приятен. Это был маскарад. Мы все были одеты крестьянами, костюмы были из личного гардероба принца, дамы пошли переодеваться в одном зале, мужчины — в другом. Сам Выборщик был одет крестьянином, и было бы странно, если бы кто-то не захотел нарядиться подобным образом. Генерал Кеттлер выглядел подлинным крестьянином, М-м Х была прехорошенькая. Танцевали только контрдансы и балеты во вкусе нескольких провинций Германии, весьма забавно. Было только три или четыре женщины из известных знатных фамилий, другие, более или менее хорошенькие, были личными знакомыми Выборщика, который всю свою жизнь был большим другом прекрасного пола. Две из этих женщин танцевали фурлану, и Выборщик бесконечно был рад, заставив меня станцевать с ними. Это венецианский танец, и в Европе нет ничего более энергичного; его танцуют тет-а-тет, и эти женщины, поочередно, затанцевали меня почти до смерти. На двенадцатой или тринадцатой фурлане, запыхавшись, я запросил пощады. Во время не знаю какого танца дарят поцелуй крестьянке, которую ловят в объятия; я, не придерживаясь политеса, ловил все время м-м Х, и «крестьянин» Выборщик кричал «браво, браво!». Бедный Кеттлер бесился.
Она улучила момент сказать мне, что все дамы из Кёльна уезжают завтра в полдень, и что я могу добавить себе чести пригласить их всех завтракать в Бриль, направив им по два-три билета, надписав на билетах имена мужчин, с которыми они прибыли.
— Доверьтесь, — сказала мне она, — графу Верита, и он все сделает; скажите ему только, что вы хотите сделать то же, что и принц де Дё Пон два года назад. Но не теряйте времени. Рассчитывайте на двадцать персон и назначьте время. Сделайте так, чтобы билеты доставили к восьми часам утра.
Очарованный властью, которую эта очаровательная женщина сочла возможным проявить по отношению ко мне, я мгновенно решил подчиниться. Бриль, завтрак, двадцать персон, как герцог де Дё Пон, билеты, на определенный час, граф Верита — я все понял, как если бы она затратила на мой инструктаж час.
Я вышел, одетый крестьянином, попросил пажа отвести меня в комнаты графа Верита. Он смеется, видя меня одетым подобным образом, я рассказываю ему в немногих словах об афере, которую затеваю, я обращаюсь к нему, как будто бы это было дело большой государственной важности.
— Ваше дело весьма нетрудное, — говорит он. Оно для меня сводится к тому, чтобы написать записку офицеру, начальнику дворца, и срочно отправить ее. Скажите только мне, сколько вы хотите потратить.
— Больше, чем можно, — говорю я.
— То-есть, меньше.
— Нет. Больше, потому что я хочу, чтобы все было великолепно.
— Надо все же сказать, сколько, потому что я знаю людей.
— Скажите ему: двести дукатов.
— Этого достаточно. Герцог де Дё Пон не потратил больше.
Он пишет записку, отправляет ее, заверив меня, что все будет сделано. Я оставляю его, думая о билетах. Я беседую с пажом-итальянцем, очень предупредительным. Я говорю ему, что заплачу дукат слуге, который назовет мне имена дам из Кёльна, что приехали в Бону, и кавалеров, их сопровождающих. Полчаса спустя я получаю подтверждение, что все сделано. Я сам надписал перед сном восемнадцать билетов и на следующее утро отправил их все, запечатанными, по их адресам, с наемным слугой, которого мне выделил хозяин.
В девять часов я отправился взять отпускное свидетельство у графа Верита, который передал мне от имени Выборщика золотую шкатулку, внутри которой был медальон с его портретом в одеянии великого магистра тевтонского ордена. Я был весьма тронут этой милостью; я хотел пойти поблагодарить Его Сиятельство, но граф сказал, что я могу отложить это до моего проезда через Бонн по направлению к Франкфурту.
Завтрак был намечен на час, но в полдень я был уже в Бриле. Это был загородный дом Выборщика, красоту которого составляла со вкусом выполненная меблировка. Это была копия Трианона. Я увидел в большом зале стол, накрытый на двадцать четыре персоны, с приборами из позолоченного серебра, тарелками из фарфора, и на буфете большое количество серебряной посуды и большие золоченые блюда. На двух столах в другом конце зала я увидел бутылки с самыми известными винами со всей Европы и сласти разного вида. Когда я сказал офицеру, что я тот, кто устраивает этот завтрак, он сказал, что я буду доволен, и что он здесь с шести часов утра. Он сказал, что холодные закуски будут на двадцати четырех блюдах; кроме того, будут еще двадцать четыре блюда с устрицами из Англии и десерт — полный стол. Видя большое количество слуг, я сказал, что они не нужны, но он ответил, что они здесь, потому что личных слуг гостей в зале не будет. Он сказал, что мне не следует беспокоиться, потому что они все знают.
Я встречал моих гостей у карет, ограничиваясь комплиментом, что прошу у всех прощения за свою дерзость, с которой я добивался этой чести. В час пригласили к столу, и я увидел радость, блестящую в прекрасных глазах м-м Х, когда она увидела великолепие, воздвигнутое Выборщиком. Она заметила, что всем известно, что все это было проделано ради нее, но была очарована тем, что я не выделял ее среди других. Было двадцать четыре куверта, и, несмотря на то, что я разослал только восемнадцать билетов, места были все заняты. Таким образом, было шесть персон, явившихся без приглашения. Это меня порадовало. Я не хотел садиться, я ухаживал за дамами, порхая от одной к другой и закусывая на ходу тем, что они мне давали.
Устрицы из Англии кончились лишь на двадцатой бутылке шампанского. Завтрак начался, когда компания была уже пьяна. Этот завтрак, который, естественно, состоял только из первых блюд, превратился в обед из самых тонких. Не было выпито ни капли воды, потому что рейнское и токай этого бы не потерпели. Перед тем, как подать десерт, выставили на стол огромное блюдо рагу с трюфелями. Его опустошили, последовав моему совету запивать мараскином.
— Это как вода, говорили дамы, и пили его, как будто это действительно была вода.
Десерт был великолепен. Портреты всех суверенов Европы взирали со стен, все осыпали комплиментами офицера, при сем присутствовавшего, который преисполнился гордости и говорил, что все это может сохраняться и в карманах; соответственно, десерт клали в карманы. Генерал высказал великую глупость, вызвавшую всеобщие насмешки.
— Я уверен, — сказал он, — что это шутка, которую сыграл с нами Выборщик. Его Сиятельство захотел сохранить инкогнито, и г-н Казанова отлично послужил принцу.
После града насмешек, который дал мне возможность собраться с мыслями, я сказал:
— Если Выборщик, мой генерал, — сказал я ему со скромным видом, — дал бы мне подобный приказ, я бы подчинился; но он бы меня этим унизил. Его Сиятельство пожелал оказать мне милость более удачным образом, и вот результат.
Говоря так, я достал табакерку, которая обошла два-три раза стол.
Все поднялись из-за стола, удивленные, что провели за ним три часа. После обычных комплиментов прекрасная компания укатила в Кёльн, чтобы хватило времени еще на посещение комедии. Очень довольный этим прекрасным праздником, я оставил бравому распорядителю двадцать дукатов для слуг. Он попросил меня отметить в письме графу Верита свое полное удовлетворение.
Я прибыл в Кёльн вовремя, чтобы пойти на малую пьесу. Не имея кареты, я прибыл в театр на портшезе. Увидев м-м Х вместе с г-ном де Ластик, я направился в ее ложу. Она сказала мне с грустным видом, что генерал почувствовал себя столь больным, что вынужден был пойти прилечь. Немного погодя г-н де Ластик оставил нас одних, и прелестная женщина выдала мне комплименты, стоящие сотни моих завтраков. Она сказала, что генерал выпил слишком много токайского, и что он грубая свинья, что он сказал, что знает, кто я такой, и что мне не подобает вести себя подобно принцу. Она ответила ему, что наоборот, я принял их как принцев и как их скромный слуга. Он был возмущен ее словами.
— Пошлите его ко всем чертям, — сказал я ей.
— Слишком поздно. Женщина, которую вы не знаете, завладела им; я утешусь, но это не доставляет мне удовольствия.
— Мне радостно это слышать. Почему я не высокий принц! А между тем я должен вам сказать, что я гораздо сильнее болен, чем Кеттлер. Я нахожусь в крайних обстоятельствах.
— Полагаю, вы шутите.
— Я говорю серьезно. Поцелуи на балу у Выборщика дали мне возможность вкусить нектар необычайной сладости. Если вы не сжалитесь надо мной, я уеду отсюда несчастным до конца своих дней.
— Отложите ваш отъезд. Оставьте Штутгарт. Я думаю о вас, и это правда. Поверьте, я не хочу вас обманывать.
— Например, сегодня вечером, если бы у вас не было коляски генерала, и если бы у меня была своя, я смог бы сопроводить вас к вам домой со всем почтением.
— Да что вы! У вас нет своей?
— Нет.
— В таком случае, это я должна вас отвезти; но, дорогой друг, это должно произойти очень естественным образом. Вы проводите меня до кареты, я спрошу у вас, где ваша, и, услышав, что у вас нет кареты, я предложу вам сесть в мою, и высажу вас у вашей гостиницы. Это займет лишь пару минут, но, в ожидании лучшего, это уже кое-что.
Я ответил ей лишь глазами, потому что радость окутала мне душу. После комедии подходит лакей и говорит, что ее карета у дверей. Мы выходим, она задает мне оговоренный вопрос и, услышав, что у меня нет кареты, она поступает еще лучше: она говорит, что направляется в отель генерала узнать, как он себя чувствует, и что если я хочу, она сможет затем проводить меня в мою гостиницу.
Божественный ум! Нужно было пересечь два раза старый город, плохо мощеный. Карета была закрытая. Мы делали, что могли, но это было почти ничего. Луна светила прямо на нас, и негодяй — кучер поворачивал время от времени голову. Мне было ужасно. Часовой сказал кучеру, что генерал не доступен для посещения. Она приказала ему ехать в мою гостиницу, и теперь луна была сзади нас. Нам было чуть лучше, но все же плохо, совсем плохо. Мерзавец в жизни не ездил столь быстро. Выходя, однако, я дал ему дукат. Я отправился спать, влюбленный до смерти, и в какой-то мере более несчастный, чем накануне. М-м Х поведала мне, что, доставляя мне счастье, сама была счастлива. Я решил оставаться в Кёльне, пока генерал не уедет.
На следующий день в полдень я направился в отель генерала, чтобы оставить расписку в книге посетителей, но он принимал. Меня пригласили войти. М-м Х была там. Я поздравил генерала с тем, что он в порядке, и он ответил лишь холодным кивком. Вокруг было много офицеров, так что четыре минуты спустя я откланялся. Он сохранял домашний режим еще три дня, и м-м Х не появлялась в театре.
В последний день карнавала генерал пригласил множество народа к себе на ужин, и после ужина должны были танцевать. Я захожу, как обычно, поздороваться в ложу к м-м Х, остаюсь там наедине с ней, она спрашивает, пригласил ли меня генерал на ужин, я говорю, что нет, и она говорит непререкаемым и возмущенным тоном, что я, тем не менее, должен туда пойти.
— Вы и не думайте об этом, — говорю я нежно, — я повинуюсь вам во всем, кроме этого случая.
— Я знаю все, что вы можете мне сказать. Надо туда пойти. Я буду чувствовать себя опозоренной, если вас не будет на этом ужине. Вы не сможете дать мне большего свидетельства вашей любви и вашего уважения.
— Остановитесь. Я пойду. Но скажите, понимаете ли вы, что этим роковым приказом вы подвергаете мою жизнь опасности, потому что я не тот человек, который способен промолчать, если этот грубиян меня оскорбит.
— Я все это понимаю; я люблю вашу честь по меньшей мере так же, как вашу жизнь. Ничего с вами не будет, я отвечаю за это, я беру все на себя. Вы должны туда идти. Пообещайте мне это, потому что я так решила. Если вы не хотите туда идти, я тем более не пойду, но после этого мы больше не увидимся.
— Я пойду. Достаточно об этом.
В этот момент вошел г-н де Кастри, и я вышел. Предвидя самое свое жестокое публичное оскорбление, которое должно иметь фатальные последствия, я провел инфернальные два часа. Я настроился однако вести себя разумно. Я направился к генералу сразу после комедии; было только семь или восемь человек. Я подошел к канониссе, любящей итальянскую поэзию, и наша беседа была интересной; через полчаса зала заполнилась; последними пришли м-м Х с генералом. Будучи занятым беседой с дамой, я, естественно, не повернулся, и, соответственно, он меня не заметил. М-м Х, очень оживленная, не дала ему времени оглядеть собрание. Продолжение следовало. Четверть часа спустя канониссе объявили, что стол накрыт, она приняла мою руку, и вот, я за столом, сижу рядом с ней, и, секунду спустя, все места заняты. Однако иностранец, который, должно быть, был приглашен, остался без места. Генерал кричит, что этого не может быть, и, подождав, пока поставят еще один куверт, оглядывает гостей и, поскольку я на него не смотрю, называет меня и говорит:
— Месье, я вас не приглашал.
Я отвечаю, тоном весьма уважительным, но твердым:
— Это правда, мой генерал, но, будучи уверен, что это произошло только вследствие забывчивости, я, тем не менее, явился засвидетельствовать свое уважение Вашему Превосходительству.
После этого ответа я продолжаю свою беседу с канониссой, ни на кого не глядя. Разговор за столом продолжился лишь после трех-четырех минут всеобщего молчания. Канонисса высказала приятную мысль, которую я поддержал, переадресовав мимоходом другим сотрапезникам, и стол внезапно оживился.
Генерал обиделся, что меня не устраивало. Мне хотелось его развеселить, и я улучил момент. Этот момент наступил при второй перемене. Г-н де Кастри произнес похвальное слово Дофину, говорили о его брате графе де Люсак, говорили о другом — герцоге Курляндском, перешли к Бирону, прошлому герцогу, который был теперь в Сибири, и его личных качествах. Один из собеседников сказал, что все его достоинство заключалось в умении нравиться императрице Анне; я извинился:
— Его большое достоинство состояло в том, что он верно служил последнему герцогу Кеттлеру, который без храбрости этого человека, сегодня пребывающего в несчастье, потерял бы все свое войско в войне, что теперь закончилась. Это сам герцог Кеттлер, геройским жестом, достойным войти в историю, направил его к петербургскому двору, и сам Бирон никогда не добивался герцогства. Он хотел получить только графство Вартенбергское, благодаря правам младшей ветви дома Кеттлер, правящей ныне, вопреки капризу царицы, которая непременно хотела сделать своего фаворита герцогом.
— Я не знал никогда человека, лучше образованного, — сказал генерал, глядя на меня, — и, не будь этого каприза, я правил бы сегодня.
После этого скромного объяснения он разразился смехом и направил мне бутылку рейнского, с надписью на этикетке 1748. С этого момента он говорил только со мной, и мы поднялись из-за стола добрыми друзьями. Танцевали всю ночь; канонисса была моей дамой. Я танцевал с м-м Х только один менуэт. К концу бала он спросил меня, уезжаю ли я, что можно было легко понять как вопрос «когда?». Я ответил, что до отъезда еще с ним увижусь.
Я отправился спать, очень довольный тем, что дал м-м Х доказательство своей любви, сильнее которого трудно себе вообразить, но возблагодарил судьбу, что вмешательство моего доброго гения подсказало мне, как образумить этого грубияна, потому что Бог знает, что бы я сделал, если бы он осмелился сказать мне выйти из-за стола. В первый же раз, как мы с ней увиделись, она сказала, что содрогнулась, когда услышала, как он мне сказал, что не приглашал меня.
— Очевидно, — сказала она, — что он сказал бы вам далее, если бы ваш гордый ответ не заставил его окаменеть, и во всяком случае мое решение было уже принято.
— Какое решение?
— Я бы поднялась, и мы вышли бы вместе; г-н де Кастри мне сказал, что он сделал бы то же самое, и думаю, что все дамы, которых вы приглашали в Брюль, последовали бы нашему примеру.
— Но дело еще не кончено, потому что я хочу сатисфакцию.
— Я это вижу и прошу вас забыть, что я подвергла вас такому риску; но со своей стороны, я никогда не забуду, что обязана вам своей благодарностью.
Три или четыре дня спустя, узнав, что она больна, я пошел ее повидать в одиннадцать часов утра, чтобы не встретить там генерала. Она приняла меня в комнате своего мужа, который спросил, не пообедаю ли я с ними по-семейному, и я согласился. Я получил от этого обеда удовольствия больше, чем от ужина у генерала два дня спустя после моего приезда в Кёльн. Этот бургомистр был один из тех людей, что всему предпочитают мир в доме, и которого жена должна любить, потому что он не из числа тех, кто говорит: Displiceas aliis, sic ego tutus ero.[9]
Перед обедом она показала мне весь дом:
— Вот наша спальня, а вот кабинет, где иногда я сплю одна, когда этого требуют приличия; а вот общая церковь, которую мы можем рассматривать как свою капеллу, потому что эти два обрешеченные окна позволяют нам наблюдать мессу. Мы ходим туда только по праздничным дням, спускаясь по этой маленькой лестнице, внизу которой есть дверь; вот ключ от нее.
Это была вторая суббота поста, мы поели очень вкусно постное, но еда интересовала меня менее всего. Мою влюбленную душу переполняла эта очаровательная женщина, которую, в ее возрасте двадцати пяти лет, обожала вся семья. Это были свояченица и дети — сыновья брата ее мужа, которым он был опекуном. Я рано ушел, чтобы пойти писать Эстер, которую эта новая страсть заставила меня забыть.
На другой день я поспешил послушать мессу в маленькой церкви м-м Х. Это было воскресенье. Я увидел ее выходящей из маленькой двери, расположенной под ее обрешеченными окнами. Она шла в сопровождении своих племянниц, прикрыв красивую голову капюшоном своего плаща. Эта дверь была так хорошо укрыта в приделе церкви, что ее не было видно. Дьявол, который, как известно, искушает в церкви гораздо сильнее, чем в других местах, заронил в этот момент в моей душе прекрасный проект — проводить целые ночи в ее объятиях, поднявшись к ней по этой замечательной лестнице.
Я сообщил ей этот проект на следующий день в комедии. Она засмеялась. Она сказала, что думала об этом, и что она передаст мне записку с инструкцией, спрятанную в газету, в ближайшее время. Мы не смогли поговорить. Дама из Экс-ла-Шапель, которая прибыла провести несколько дней в Кёльне, полностью завладела ею, и ложу заполнили визитеры.
На следующий день она публично дала мне газету, сказав, что не нашла в ней ничего интересного. Вот копия письма, что я нашел внутри:
«Прекрасный проект, подсказанный Амуром, не без трудностей, но сулит надежды. Жена ложится спать в кабинете, только когда муж просит ее согласия на это отделение; при этом такое положение может длиться четыре или пять дней. Она полагает, что основание для такой просьбы может вскоре возникнуть, и давняя привычка приводит к тому, что она не сможет ему отказать. Так что надо ждать. Для влюбленной женщины возникнет необходимость известить любовника. Необходимо будет спрятаться в церкви, и не следует ни секунды рассчитывать на то, чтобы подкупить человека, который ее откроет и затем закроет. Хотя и бедный, он неподкупен по причине глупости. Он проболтается. Единственный способ — спрятаться в церкви и дать себя запереть. Церковь закрывают в полдень в рабочие дни, и вечером — в праздничные, и открывают каждый день на заре. Когда наступит время, дверца будет закрыта таким образом, что любовнику достаточно будет слегка толкнуть ее, чтобы открыть. Кабинет отделен от спальни только перегородкой, очень тонкой, не следует даже чихать, ему не позволено быть простуженным, потому что случится большое несчастье, если он вздумает кашлянуть. Бегство любовника не составит никакого труда. Он спустится в церковь и выйдет, когда увидит, что она открыта. Поскольку церковный сторож не видел его, когда закрывал церковь, следовательно, не увидит и когда откроет».
Это письмо согрело мне душу. Я поцеловал его сотню раз. На следующий день я отправился изучить внутренности этой церкви — это было главным. Там была кафедра, где меня бы не увидели; но лестница находилась в ризнице, всегда закрытой. Я остановился на одной из двух исповедален, у которых были выходящие наружу дверцы. Спрятавшись там, где исповедник держит ноги, я был бы не виден, но пространство там было настолько тесным, что мне показалось, что я там не помещусь, если дверца будет закрыта. Я подождал до полудня и попробовал туда залезть, когда никого в церкви не было. Я там поместился, но настолько плохо, что меня увидел бы любой, кто приблизится. Во всех предприятиях такого рода ничего не получится, если не рассчитывать на фортуну. Решившись положиться на свой опыт, я вернулся к себе, вполне довольный. Я дал отчет моей обожаемой, поместив рассказ об этом в ту же газету и передав ей в комедии, где виделся с ней каждый день.
Восемь-десять дней спустя она спросила у генерала в моем присутствии, нет ли у него каких-либо поручений для ее мужа, который завтра в полдень уедет в Экс-ла-Шапель и вернется через три дня.
Меня не нужно было обо всем предупреждать заранее. Быстрый взгляд, который она мне послала, дал мне понять, что мне надо воспользоваться этим сообщением. Какая радость! Еще большая, потому что я был слегка простужен. Назавтра был праздничный день, и это еще одна радость, потому что мне надо было спрятаться в исповедальне только к вечеру, и благодаря этому я избегал обузы прятаться там весь день.
Я направился туда в четыре часа и втиснулся в более темную из исповедален, положившись на Бога. В пять часов ключарь, сделав привычный круг по церкви, вышел и закрыл дверь. Я вышел из укрытия и присел на лавку, где, видя ее тень за решеткой, уверился, что она меня видит. Она закрыла ставню.
Четверть часа спустя я подошел к двери, толкнул ее, и она открылась. Я прикрыл ее и на ощупь уселся на последних ступеньках лестницы. Я провел там пять часов, которые в предвкушении счастья не показались бы мне трудными, если бы не крысы, которые бегали туда и сюда вблизи меня, терзая мне душу. Проклятые животные, которых я никогда не мог терпеть, ни вынести омерзение, которое они у меня вызывают. Они отвратительны и зловонны.
В десять часов она явилась, со свечой в руке, выведя меня из тоскливого положения, в котором я очутился только ради нее. Можно лишь в общих чертах представить себе взаимные наслаждения этой счастливой ночи, не вдаваясь в детали. Она сказала, что приготовила мне маленький ужин, но у меня не было аппетита ни на что, кроме ее прелестей, хотя я обедал лишь в четыре часа. Мы провели семь часов в исступлении, прерывая его лишь изредка на любовные разговоры, с тем, чтобы возобновить наслаждения.
Le beliezze d'Olimpia eran di quelle Che son più rare; e non la fronte sola Gli occhi, le guanciè, e le chiome avea belle, La bocca, il naso, gli omeri, e la gola; Ma discendendo giù da le mammelle, Le parti che solea coprir la stola Fur di tarda eccellenza, cke ante porse A quante ne avea il mondo polean forse [1681] Vinceano di candor le nevi intatte Et eran più che avorio a toccar molli: Le poppe ritondette parean latte Che fuor dé giunchi allora ailora tolli: Spazio fra lor tal discendea quai fatte Esser veggiam fra piccolini colli Uombrose valli in sua stagion amené Che H ver no abbia di neoe'allora piene. 1 rilevati fianchi, e le bel'anche, E netto più che specckio io ventre piano Pareano fatte, e quelle cosce bianche Da Fidia a torno, o da più dotta mano. Di quelle parti debbovi dir anche etc. etc.[10]М-м Х имела мужа, который руководствовался лишь своим собственным темпераментом и чувством дружбы, которое он к ней испытывал, чтобы отдавать ей свой долг неукоснительно каждую ночь. То ли следуя режиму, то ли из щепетильности, он воздерживался от своих прав в критические дни месячных, и, чтобы избежать соблазна, держался подальше от своей драгоценной половины; но в эту счастливую ночь она не была в этом отделенном положении. Мы были обязаны нашим неожиданным счастьем путешествию этого славного человека. Я покинул ее опустошенным, но не насытившимся. Я обещал, сжимая ее в своих объятиях, что она встретит во мне ту же готовность в первый же раз, как мы снова увидимся. Я отправился залезть в исповедальню, где слабый свет зарождающегося дня помог мне скрыться от глаз ключаря. Как только я увидел, что дверь открыта, я отправился спать. Вышел я только ко времени театра, чтобы снова увидеть мой очаровательный объект, обладателем которого меня сделала любовь.
Не прошло и двух недель, как, садясь в свою карету, она сказала мне, что будет спать в кабинете в следующую ночь. Это был будний день. Церковь была открыта только с утра, я пошел туда к одиннадцати часам, хорошо позавтракав. Я поместился в исповедальне так же легко, как в прошлый раз, и в полдень церковный сторож закрыл свою церковь.
Мысль о том, что я должен оставаться десять часов то ли в церкви, то ли в темноте внизу лестницы, в компании крыс, не радовала, потому что я не мог взять с собой даже табака, с которым мне могло понадобиться хотя бы высморкаться, но любовь придает ценность ожиданию, когда любовник уверен, что может положиться на ее слово.
В час я увидел листок бумаги, падающий на пол из зарешеченного окна. С бьющимся сердцем я подхожу и поднимаю его и вижу следующие слова:
«Дверь открыта. Я думаю, что вам будет лучше здесь, чем в церкви. Вы найдете маленький обед, ночную лампу и книги. Вам будет неудобно сидеть, но не вижу другого выхода. Эти десять часов продлятся для вас меньше, чем для меня, будьте в этом уверены. Я сказала генералу, что больна. Представьте себе, как бы я могла сегодня выйти. Боже сохрани вас сегодня от кашля, особенно будущей ночью, потому что мужской кашель отличается от женского».
Амур! Очаровательный бог, который думает обо всем! Я не колеблюсь ни минуты. Я вхожу и вижу посредине трех ступенек салфетки, прибор, маленькие аппетитные тарелки, бутылки, стаканы, подогреватель и бутылку винного спирта. Вижу размолотый кофе и лимоны, сахар и ром, если мне захочется сделать пунш. И к этому забавные книжки. Поразительно, что м-м Х смогла проделать все так, чтобы никто из семьи не заметил. Достоинством всего этого было то, что, казалось, это было проделано скорее для того, чтобы развлечь, чем накормить кого-то. Я провел три часа за чтением, затем еще три — за едой, приготовил себе чай, затем пунш. После этого я заснул, и ангел явился разбудить меня в десять часов. Эта вторая ночь прошла, однако, менее оживленно, чем первая: меньше возможностей из-за темноты и больше помех из-за соседства мужа, которого малейший шум бы разбудил. Мы провели три-четыре часа в объятиях сна. Это была последняя ночь, что мы провели вместе. Генерал уехал в Вестфалию, и она должна была перебраться в деревню. Я обещал ей вернуться в Кёльн в следующем году, но многие несчастья мне в этом помешали. Я попрощался со всеми и уехал, полный сожаления.
Пребывание в течение двух с половиной месяцев в этом городе не уменьшило моих денег, несмотря на то, что каждый раз, как я играл на деньги, я проигрывал. Прием в Боне мне был компенсирован с лихвой. Банкир Франк жаловался, что я не взял у него ни малейшей суммы. Я бы не был так разумен, если бы не моя нежная связь, которая поставила меня в необходимость убеждать всех, кто за мной наблюдал, что я стараюсь вести себя хорошо.
Я выехал в середине марта и сделал остановку в Боне, чтобы засвидетельствовать свое почтение Выборщику. Принца там не было. Я пообедал с графом Верита и с аббатом Скампар, который был фаворитом принца. Официальное письмо, которое дал мне граф для канониссы, которая должна была быть в Кобленце, в котором он воздал мне хвалы, послужило причиной того, что я был там арестован, но вместо канониссы, которая уехала в Мангейм, я встретился с поселившейся в той же гостинице женщиной — актрисой по имени Тоскани, которая возвращалась в Штутгарт со своей дочерью, молодой и очаровательной. Она возвращалась из Парижа, где провела год, обучая дочь серьезному танцу у знаменитого Вестри. Эта девица, очарованная встречей со мной, сразу показала мне спаниеля, которого я ей подарил год назад. Это маленькое животное очень ее радовало. Девочка — настоящая игрушка — легко уговорила меня заехать в Штутгарт, где, впрочем, я мог насладиться всеми мыслимыми удовольствиями. Ее мать была обеспокоена тем, как герцог найдет ее дочь, такую, как теперь, с детства предназначенную для услаждения этого принца, который, несмотря на то, что имел официальную любовницу, хотел иметь также всех фигуранток своего балета, обладающих хоть какими-то достоинствами. Тоскани заверила меня за ужином, что ее малышка еще девушка, и жаловалась, что герцог возьмет ее только после того, как прогонит действующую любовницу и поставит ее на место той. Эта действующая любовница была танцовщица Габриелла, та самая дочь венецианского гондольера, о которой я говорил в моем первом томе, жена Мишеля Агата, которого я встретил в Мюнхене, убежав из тюрьмы Пьомби.
Юная Тоскани, как и ее мать, не были огорчены тем, что видели мой интерес к чистоте игрушки, сохраняемой для герцога Вюртембергского, и их тщеславие объединилось, чтобы убедить меня, что они меня не обманывают. Это было времяпрепровождение, которое заняло меня на добрые два часа следующим утром, с двумя очаровательными созданиями, потому что мать не хотела ни за что на свете оставить меня наедине со своим сокровищем, которое я, к моему удивлению, смог разгрызть. Будучи далек от того, чтобы мне нравилось ее присутствие, я доказал, тем не менее, что ценю его. Она смеялась и наслаждалась моей лояльностью в том, что я гасил в ней весь огонь, который зажигала в моей душе ее дочь своими прелестями, непрерывным объектом моих глаз. Эта мать, хотя еще и молодая, казалось, не была оскорблена тем, что я, по-видимому, испытывал потребность в этой картине, чтобы сыграть как следует с ней роль влюбленного. Ей казалось, что ее дочь, которую она обожала, была частью ее самой, но она была уверена, что играет главную роль. Она ошибалась, и мне не надо было ничего лучше. Ее дочь не нуждалась в матери, чтобы меня разжечь, а эта последняя, без присутствия первой, нашла бы меня ледышкой.
Между тем, я решил ехать в Штутгарт повидать Бинетти, которая говорила всюду обо мне, рассказывая чудеса. Эта Бинетти была дочь венецианского гондольера Рамона, которому я также помог стать на ноги, в тот же год, когда м-м де Вальмарана выдала ее замуж за французского танцора Бине, который итальянизировал свою фамилию, став Бинетти. Я должен был повидать в Штутгарте Гардельпа, младшего Баллетти, которого я очень любил, молодую Вулкани, на которой он женился, и нескольких других старых знакомых, которые должны были превратить в подлинный рай намеченное мной короткое пребывание в этом городе. На последнем посту я отделился от дорогого общества Тоскани. Я направился в «Медведь», куда меня отвез почтальон. В следующем томе читатель узнает, какого рода несчастья приключились со мной в этом городе.
Глава III
Год 1760. Любовница Гарделла. Портрет герцога Вюртембергского. Мой обед у Гарделлы и его последствия. Несчастная встреча. Я играю, я теряю четыре тысячи луи. Процесс. Удачное бегство. Мое прибытие в Цюрих. Церковь, освященная лично Ж.-К.
В ту эпоху самым блестящим двором Европы был двор герцога Вюртембергского. Он содержал его, располагая огромными субсидиями, которые ему выплачивала Франция, чтобы располагать десятью тысячами его солдат. Это был прекрасный корпус, который за всю войну отличился лишь ошибками.
Большие расходы, что нес герцог, состояли из затрат на великолепные приемы, превосходные строения, охотничьи команды и капризы разного рода, но то, что стоило ему сокровищ, были спектакли. У него были французская комедия и комическая опера, итальянские серьезная опера и буффо и десять трупп итальянских танцоров, из которых каждый имел уровень премьера в каком-то из известных итальянских театров. Постановщиком его балетов был Новерс, который часто использовал до сотни фигурантов, его машинист делал ему декорации, которые часто заставляли зрителей поверить в магию. Все его танцовщицы были красивы, и все они старались по крайней мере раз усладить влюбленного монсеньора. Главная была венецианка, дочь гондольера Гарделло, та, которую венецианский сенатор Малипьеро, тот, что дал мне первые начатки хорошего образования, воспитал для театра, оплатив ей учителя танцев. Читатель может вспомнить, что я встретил ее в Мюнхене, бежав из Пьомби, замужем за танцором Мишелем л'Агата. Герцог Вюртембергский влюбился в нее, попросил ее у ее мужа, который был счастлив уступить ее ему; но спустя год, разлюбив, он дал ей титул Мадам и назначил пенсион. В своей необузданности он возбудил ревность у всех остальных, которые мечтали стать его любовницами и заполучить больше благ, чем Бывшая, которая всего-то заимела титул и почести, делая лишь то же, что могли бы и они, чтобы ее столкнуть. Но Гарделла обладала искусством выживания. Далекая от мысли утомлять герцога упреками в его неверности, она осыпала его по этому поводу комплиментами. Не любя его, она чувствовала себя гораздо счастливей, будучи в отставке, чем если бы она была влюблена и страдала. Ей, полной амбиций, было достаточно почестей, которыми он ее осыпал. Она с удовольствием наблюдала за всеми танцовщицами, которые, стараясь понравиться герцогу, обращались к ней. Она оказывала им хороший прием, поддерживала их в стремлении понравиться суверену и склоняла его к ним, а он, в свою очередь, находя эту терпимость фаворитки замечательной и героической, полагал своим долгом всеми средствами заверить ее в своем совершенном уважении. Он оказывал ей публично все почести, какие, согласно обычаю, мог оказывать лишь принцессам.
Я понял через короткое время, что все, что делал этот принц, было направлено лишь на то, чтобы заставить о нем говорить. Он хотел, чтобы говорили, что ни один принц из его современников не обладает ни таким умом, ни такими талантами, ни таким искусством изобретать удовольствия и наслаждаться ими, ни большими способностями к управлению, ни более мощным темпераментом в поглощении всех гастрономических радостей, радостей Бахуса и Венеры, никогда не посягая при этом на время, необходимое для того, чтобы править своим государством и управлять всеми его департаментами, во главе которых он желал находиться. Чтобы иметь для этого время, он решился обмануть природу в той ее части, что необходима для сна. Он считал, что волен так поступать, и подвергал опале слугу, который не шел до конца в попытках заставить его сойти с кровати после трех-четырех часов сна, которому он вынужден был отдаться. Слуга, обязанностью которого было его будить, имел право делать все, что хочет, с его державной персоной, чтобы вырвать его из объятий Морфея. Он его тряс, он заставлял его выпить крепкий кофе, он доходил до того, что клал его в холодную ванну. Когда, наконец, Его Светлейшее Сиятельство уже не спал, он собирал своих министров, чтобы решить текущие дела; затем он давал аудиенцию всем, кто ему представлялся, из которых большая часть были простые крестьяне, тупые, невежественные, со своими жалобами, полагавшие, что нет дела важнее, чем поговорить со своим сувереном, и что он разрешит их проблемы за минуту. Однако не было ничего более комического, чем эти аудиенции, которые герцог давал своим бедным подданным. Он пытался заставить их прислушаться к голосу разума, и они выходили от него, напуганные и лишенные надежды. По другому дело обстояло с хорошенькими крестьянками. Он выслушивал их жалобы тет-а-тет, и, несмотря на то, что он ничего им не согласовывал, они выходили утешенные.
Субсидий Франции было недостаточно для его больших трат, он загружал своих подданных большими натуральными поборами, которые, наконец, став непереносимыми, заставили их несколько лет спустя обратиться в Имперский трибунал в Вессларе, который заставил его изменить систему. Его «пунктиком» было руководить, двигаясь под дудку короля Прусского, который все время насмехался над ним. Этот принц имел в женах дочь маркграфа Байрейтского, самую красивую и самую совершенную из принцесс Германии. Она спасалась в это время у своего отца, не имея сил переносить кровные оскорбления, которые муж, не стоящий ее, наносил ей. Те, кто говорит, что она покинула его, не желая терпеть его неверность, плохо осведомлены.
Поселившись в «Медведе» и пообедав в одиночку, я переоделся и пошел на итальянскую серьезную оперу, которую герцог устроил бесплатно для публики в прекрасном театре, который повелел для этого соорудить. Он был в кругу, перед оркестром, окруженный своим двором. Я сел в ложе, в первом ряду, один, обрадованный возможностью послушать без помех музыку известного Юмелла, которого герцог держал у себя на службе. Ария, исполненная знаменитым кастратом, доставила мне много удовольствия, и я зааплодировал. Минуту спустя ко мне подошел человек и заговорил со мной по-немецки, грубым тоном. Я ответил ему четырьмя словами, смысл которых означал: я не понимаю по-немецки. Он отошел, и подошел другой, говоря мне по-французски, что когда суверен в опере, не разрешается аплодировать.
— Что ж. Тогда я приду, когда суверена не будет, потому что, когда мне нравится ария, я не могу не поаплодировать.
Дав такой ответ, я пошел вызывать мою коляску, но ко мне подходит тот же офицер и говорит, что герцог хочет со мной говорить. Я иду с ним в круг.
— Вы Казанова?
— Да, Монсеньор.
— Откуда вы приехали?
— Из Кёльна.
— Вы первый раз в Штутгарте?
— Да, Монсеньор.
— Рассчитываете ли остановиться здесь надолго?.
— Пять или шесть дней, если позволит Ваше Величество.
— Столько, сколько захотите, и вам также позволено аплодировать.
Следующей арии герцог аплодировал, и все поступили так же, но ария мне не понравилась, и я остался спокоен. После балета герцог направился отдать визит своей обрадованной фаворитке, я увидел, как он поцеловал ей руку и затем удалился.
Офицер, который не знал, что я с ней знаком, сказал, что это Мадам, и что, имея честь говорить с принцем, я могу также пойти поцеловать ей руку в ее ложе. Мне пришло в голову ответить, что я полагаю возможным для себя уклониться от этой чести, потому что она моя родственница. Необъяснимая ложь, которая могла принести мне только неприятности. Я увидел, что он удивлен, он оставляет меня и идет в ложу моей родственницы , которой сообщает о моем появлении. Она поворачивает голову и подзывает меня веером. Я иду к ней, смеясь про себя над дурацкой ролью, которую должен играть. Едва я вхожу, она подает мне руку, которую я целую, называя ее кузиной. Она спрашивает, сказал ли я герцогу о нашем родстве, я отвечаю, что нет; но она берет это на себя и приглашает меня обедать к ней завтра.
По окончании оперы она уходит, и я иду делать визиты танцовщицам, которые переодеваются. Ла Бинетти, моя самая старая знакомая, при виде меня встает, преисполненная радости, и просит меня обедать у нее каждый день. Скрипач Курц, который был моим товарищем по оркестру Сан-Самуэль, представляет мне свою дочь, невероятно красивую, говоря хозяйским тоном, что герцог ее еще не имел, но какое-то время спустя это проделает и полюбит ее; она подарит ему двух малюток; она создана, чтобы внушить ему постоянство, потому что сочетает красоту с умом, но сейчас герцог нуждается в переменах. После Курца я вижу малютку Вулкани, которую узнал в Дрездене; она меня удивила, представив своего мужа, который бросился мне на шею. Это был Баллетти-младший, брат моей изменницы, мальчик, исполненный таланта и ума, которого я безумно любил. Все знакомые обступили меня, и тут пришел офицер, которому я представился как родственник Гарделлы, и рассказал компании всю историю; но ла Бинетти ясно и четко заявляет, что это неправда, и смеется мне в лицо, когда я говорю, что она не может этого знать, чтобы обвинить меня во лжи. Ла Бинетти, дочь гондольера, как и та, находит, что я должен отдать ей приоритет, и она, быть может, права.
На следующий день я обедаю, очень весело, с фавориткой, хотя она и говорит, что, не видя герцога, она не знает, как он к этому отнесется. Ее мать находит, что эту интрижку между кузеном и кузиной, не стоит затевать. Она говорит, что ее родственники никогда не играли комедий; я спрашиваю, жива ли еще ее сестра, и этот вопрос ей очень не нравится. Эта сестра была толстая слепая нищенка, которая просила милостыню на мосту в Венеции.
Проведя весело весь день в компании этой фаворитки, которая была моя самая старая знакомая такого рода, я ее оставил, заверив, что назавтра приду к ней завтракать, но по выходе из дома ее усатый портье выдал мне грубейшим образом самую дурную любезность. Он приказал мне, не сказав, от кого это исходит, чтобы ноги моей не было больше в этом доме. Осознав, наконец, какую большую глупость я совершил, я вернулся в дурном настроении в свою гостиницу. Если бы я не пообещал Ла Бинетти пообедать с ней завтра, я бы сразу же унес ноги и таким образом избежал бы тех неприятностей, что получил из-за своей ошибки в этом городе.
Ла Бинетти жила в доме своего любовника, который был посланником Вены. Этот дом представлял собой часть городской стены, так что его лестница и окна выходили наружу, за город. Если бы в тот момент я был способен быть влюбленным, вся моя прежняя любовь пробудилась бы, так как ее прелести были очаровательны. Венский посланник был терпим, а ее муж был настоящим животным, посетителем злачных мест. Мы пообедали в самой веселой обстановке и, не имея больше дел в Вюртемберге, я решил уехать через день, так как назавтра должен был посетить Луисбург вместе с Тоскани и ее дочерью. Это было уже договорено, и завтра, в пять часов утра, мы должны были встретиться. Но вот что случилось со мной, когда я вышел вечером из дома Бинетти.
Три офицера, очень приятных, с которыми я познакомился в кафе, подошли ко мне, и я прошелся с ними два или три круга по променаде. Они сказали, что у них встреча с девицами, и заверили меня, что если я хочу к ним присоединиться, я доставлю им удовольствие. Я сказал, что не говорю по-немецки, и мне будет скучно, но они ответили, что девушки, с которыми они встречаются, итальянки, и уговорили меня.
На закате мы вошли в город и поднялись на третий этаж дома скверного вида, где я увидел в неприглядной комнате двух так называемых племянниц Почини и, секунду спустя, самого Почини, который стал с отменной наглостью меня обнимать, называя своим лучшим другом. Ласки, которыми осыпали меня девицы, должны были доказывать давнее знакомство, и все это принудило меня замкнуться.
Офицеры начали развлекаться, я не последовал за ними, но это их не стеснило. Я спохватился, слишком поздно, в том попустительстве, которое себе позволил, пойдя туда с незнакомыми, но дело было сделано. Все, что случилось со мной дурного в Штутгарте, произошло из-за моего непродуманного поведения.
Подали суп из харчевни, я не ел, но, чтобы не сойти за невежливого, выпил два-три стакана венгерского. Принесли карты, офицер организовал банк, я понтировал, голова у меня замутилась, я проиграл пятьдесят или шестьдесят луи, что у меня были. Мне не хотелось больше играть, но доблестные офицеры не захотели, чтобы я уходил, пренебрегши ужином с ними. Они уговорили меня составить банк в сотню луи и дали мне их в марках. Я их проиграл, снова составил банк и проиграл его, затем поставил больше, все увеличивал и увеличивал, и наконец в полночь мне сказали: пожалуй, достаточно. Пересчитали марки, и получилось, что я проиграл четыре тысячи луи или около того. Голова у меня кружилась так сильно, что пришлось послать за портшезом, чтобы отвезти меня в гостиницу. Мой слуга сказал, раздевая меня, что при мне не было ни моих часов, ни золотой табакерки. Я не забыл предупредить его, чтобы разбудил меня в четыре часа, и провалился в сон.
Слуга не подвел. Я удивился, найдя в кармане сотню луи; я хорошо помнил, однако, о моем крупном проигрыше на слово, но решил, что подумаю об этом позже, как и о моих часах и табакерке. Я взял другую и пошел к Тоскани, мы направились в Луисбург, мне все показали, мы хорошо пообедали и вернулись в Штутгарт. У меня было такое хорошее настроение, что в компании никто не мог и вообразить себе то несчастье, что приключилось со мной накануне.
Первое, что сказал мне мой испанец, было то, что в доме, где я ужинал, никто ничего не знает ни о моих часах, ни о табакерке, и второе — что три офицера приходили ко мне в восемь часов утра с визитом и сказали ему, что завтра придут ко мне завтракать. И они не обманули.
— Господа, — сказал я им, — я проиграл сумму, которую не могу оплатить, и которую, разумеется, никогда не проиграл бы, если бы не яд, который вы мне подлили в венгерское вино. В борделе, куда вы меня завели, меня обокрали на сумму в три сотни луи, но я никого не обвиняю. Если бы я вел себя разумно, ничего бы не случилось.
Они начали шуметь. Они говорили мне о чувстве чести, которое заставляет их играть, но все их рассуждения были напрасны, потому что я решил ничего не платить. В разгар нашего спора пришли Баллетти, Тоскани-мать и танцор Бинетти, которые выслушали все, и у них возникли вопросы. Они ушли после завтрака, и один из офицеров предложил мне проект урегулирования.
Они получают по их действительной стоимости все вещи, что у меня были — золотые украшения и бриллианты, — и если их стоимость не покрывает сумму моего долга, они примут расписку, по которой я обязуюсь выплатить остаток в определенное время.
Я ответил, что не могу платить им никоим образом, и начались упреки с его стороны. Я сказал ему еще с большим хладнокровием, что для того, чтобы заставить меня платить, у них есть два способа. Первый — предъявить мне судебный иск, и при этом я найду адвоката, и он меня защитит. Второй, который я предложил им с самым скромным видом, — принудить меня платить, самым честным образом, в полной секретности, каждому из них, со шпагой в руке. Они ответили, разумеется, как и следовало ожидать, что окажут мне честь меня убить после того, как я с ними расплачусь. Они ушли, ругаясь и заверяя меня, что я об этом пожалею.
Я вышел, чтобы идти к Тоскани, где провел весело весь день, что, при положении, в котором я находился, казалось безумием, но такова была сила чар ее дочери, а душа моя просила веселья.
Между тем Тоскани, которая была свидетельницей ярости трех отчаянных игроков, сказала мне, что я должен первым напасть на них в суде, потому что если я позволю им выступить первыми, они получат большое преимущество; она послала найти адвоката, который, выслушав все, сказал, что я должен немедленно идти к суверену. Они привели меня в притон, дали выпить подмешанного вина, которое лишило меня здравого рассудка, они играли, и игра была запрещенная, они выиграли непомерную сумму, и в этом дурном месте у меня украли мои вещи, что я, будучи пьяным, осознал только по возвращении в гостиницу. Дело было вопиющее. К суверену, к суверену, к суверену!
Я решился на это на другой день и, последовав общему совету, решил не писать, а явиться ко двору, чтобы рассказать лично. В двадцати шагах от дверей дворца я встретил двоих из этих месье, которые подступили ко мне и сказали, что я должен подумать о том, чтобы им заплатить; я хотел продолжить свой путь, не отвечая; я почувствовал, что меня хватают за левую руку, естественным движением я выхватываю шпагу, подбегает офицер стражи, я кричу, что мне хотят помешать пройти к суверену, чтобы принести справедливую жалобу. Офицер слушает часового и всех окружающих, заявивших о том, что я вытащил шпагу, чтобы защититься, и решает, что никто не может помешать мне войти.
Я вхожу, меня пропускают вплоть до последней прихожей, я прошу аудиенции, мне говорят, что я получу ее, офицер, который хватал меня за руку, входит тоже, он излагает дело по-немецки, так, как он хочет, офицеру, который исполняет функции камергера и который, очевидно, с ними заодно, и проходит час, а я не получаю аудиенции. Тот же офицер, который заверил меня, что суверен меня выслушает, говорит мне, что суверен уже все знает, что я могу возвращаться к себе, успокоиться и ожидать, что справедливость восторжествует. Я выхожу из дворца, чтобы вернуться к себе в гостиницу, но встречаю танцора Бинетти, который, зная обо всем, убеждает меня идти обедать к нему, где венский посланник возьмет меня под свою защиту, чтобы гарантировать от насилия, которое могут учинить мне жулики, вопреки тому, что сказал тот другой офицер в приемной герцога. Я пошел туда; Бинетти взялся с жаром за мое дело, пошел информировать о нем посланника, который, выслушав меня самого, сказал, что герцог, может быть, ничего не знает, и что я должен описать вкратце мое дело и передать записку ему. Я уверился в правильности этой идеи.
Я быстро написал записку об этой грустной истории, и посланник убедил меня, что не позже чем через час она попадет в руки принца. Ла Бинетти во время обеда заверила меня самым положительным образом, что венский посланник будет моим защитником, и мы провели день довольно весело, но к вечеру пришел мой испанец сказать, что если я вернусь в гостиницу, я буду арестован, потому что офицер пришел в мою комнату, где, не найдя меня, встал у дверей гостиницы и оставался там в течение двух часов, имея в своем распоряжении двух солдат. Ла Бинетти не захотела, чтобы я возвращался в гостиницу; она требовала, чтобы я остался у нее, мой слуга ушел и вернулся со всем необходимым, чтобы мне раздеться и поселиться у моей доброй подруги, где я могу не опасаться насилия. Посланник пришел в полночь, он не рассердился, что ла Бинетти дала мне убежище, и сказал, что моя записка, без всякого сомнения, была прочитана сувереном. Я пошел спать, достаточно спокойный, и прошло три дня без того, что я бы заметил какие-то результаты моей записки, и чтобы я услышал, чтобы кто-то говорил о моем деле. Ла Бинетти не хотела, чтобы я куда-либо выходил. На четвертый день, когда я советовался со всем домом, что я должен предпринять, г-н посланник получил письмо от Государственного министра, в котором тот его просил от имени суверена отказать мне от своего дома, поскольку я участвую в судебной тяжбе с офицерами Его Светлости, и, поскольку я нахожусь в его доме, процесс не может протекать свободно ни в пользу одной ни в пользу другой из сторон ввиду необходимости проведения допросов. В этом письме, которое я прочел, министр заверял посланника, что дело будет рассмотрено с полнейшей справедливостью. Таким образом, мне следует вернуться в мою гостиницу. Ла Бинетти от этого пришла в полнейшее негодование, наговорила посланнику упреков, которые он высмеял, сказав, что не может меня защитить вопреки распоряжению герцога. После обеда, когда я хотел идти к моему адвокату, судебный пристав принес мне вызов в суд, который мне перевел мой хозяин. Я должен был явиться в течение часа к какому-то нотариусу, который должен получить и записать мои показания. Я явился туда вместе с посыльным и провел два часа с этим человеком, который записал по-немецки все то, что я продиктовал ему на латыни. Он сказал мне подписать, но я ответил, что не могу подписать то, чего не понимаю, и мы имели долгий диспут, в котором я стоял неколебимо. Он впал в гнев, говоря, что я не могу ставить под сомнение правоту нотариуса, я отвечал ем, что он может обойтись без моей подписи, и выйдя от него, я велел отвести меня к моему адвокату, который сказал, что я был прав, отказываясь подписывать, что он придет ко мне завтра, чтобы получить от меня доверенность, и что таким образом мое дело станет его делом. Успокоенный этим человеком, который показался мне порядочным, я пошел ужинать и спать к себе, вполне спокойным, но на следующий день мой слуга вошел ко мне вместе с офицером, который довольно вежливо сказал мне на хорошем французском, что я не должен удивляться, если буду арестован в моей комнате, с часовым у двери, поскольку, так как я иностранец, противная партия хочет увериться, что я не ускользну во время процесса. Он попросил у меня мою шпагу, которую я был вынужден ему отдать с большим моим сожалением. Она была хорошей стали и стоила пятьдесят луи; это был подарок от м-м д'Юрфе. Я известил о своем аресте моего адвоката, который заверил меня, что этот арест продлится лишь несколько дней. Будучи поставлен перед необходимостью оставаться у себя, я начал получать визиты от танцоров и танцовщиц, которые оказались самыми порядочными людьми из всех, кого я встречал. Отравленный стаканом вина, обманутый, обворованный, я оказался лишен свободы и в опасности быть приговоренным к уплате ста тысяч франков, в результате чего я должен был бы оказаться в одной рубашке, потому что никто не знал, что у меня есть в моем портфеле. Я оказался огорошен таким притеснением, я написал Мадам, ла Гарделе, и не получил ответа. Ла Бинетти, ла Тоскани и Баллетти, которые обедали или ужинали у меня, составили мое единственное утешение. Офицеры-мошенники являлись, каждый поодиночке, уговаривая меня отдать деньги одному, не давая другим, каждый заверяя, что избавит меня от неприятностей. Они удовольствовались бы тремя или четырьмя сотнями луи, но при этом, отдав одному, я не был бы уверен, что другие не явятся за тем же. Я сказал одному из них, который мне особенно надоел, что они доставили бы мне удовольствие, не докучая более визитами.
На пятый день моего ареста герцог Виртембергский выехал из Штутгарта, направляясь в Франкфурт, и в тот же день ла Бинетти пришла сказать, что Венский посланник велел ей известить меня, что суверен обещал офицерам не вмешиваться в это дело, и что поэтому он видит для меня опасность, что я стану жертвой несправедливого решения. Он советовал мне постараться избавиться от неприятностей, пожертвовав всем, что я имею в золоте и бриллиантах и получив отказ от требований от своих предполагаемых кредиторов в явной форме. Ла Бинетти не соглашалась с этим мнением, но сочла себя обязанной сказать мне, что посланник велел ей это передать.
Я не мог решиться лишиться моих украшений и опустошить мой сундучок, где у меня были часы, табакерки, другие шкатулки, оправы и портреты, которые стоили свыше сорока тысяч франков, но тот, кто заставил меня принять суровое решение, был мой адвокат, который наедине со мной сказал мне ясно и четко, что если я не могу решить дело, заплатив, мне следует подумать о спасении, так как без этого я пропал. Решение полицейского судьи, — сказал мне он, — будет расправой, поскольку вы, будучи иностранцем, не можете рассчитывать затянуть ваше дело, превратив его в обычное крючкотворство. Вы должны начать с того, чтобы назвать поручителей. Вам приведут местных свидетелей, которые расскажут, что вы профессиональный игрок, что это вы завели офицеров к своему соотечественнику Поччини, что это неправда, что вас опоили, и что это неправда, что у вас украли часы и табакерку. Скажут, что все это найдут в ваших чемоданах, когда судья прикажет составить опись вашего имущества. Ожидайте всего этого завтра или послезавтра, и не сомневайтесь в том, что я вам говорю. Придут опустошить ваши два чемодана, ваш сундук и ваши карманы, все опишут и все будет продано с молотка в тот же день, и если полученных денег не хватит для оплаты вашего долга и всех судебных издержек и вашего ареста, вас закатают, месье, в солдаты войск Его Светлейшей Милости. Я сам слышал офицера, вашего самого главного кредитора, который говорил, смеясь, что он сам заплатит четыре луи за ваш контракт, и что герцог будет очень доволен, что смогли приобрести прекрасного мужчину.
Адвокат ушел, оставив меня оцепеневшим. Его рассказ вверг меня в такой сильный ступор, что по меньшей мере час мне казалось, что все соки моего организма искали выхода, чтобы освободить место, которое они занимали. Меня разденут до рубашки и сделают солдатом! Меня!. Этого не будет. Изыщем средство, чтобы выиграть время.
Прежде всего, я написал офицеру, моему основному кредитору, что я соглашусь, но все трое должны собраться вместе и в присутствии нотариуса и свидетелей, чтобы засвидетельствовать их отказ от претензий и дать мне возможность сразу уехать. Трудность состояла в том, чтобы ни один из троих не состоял завтра в карауле, но я старался выгадать хоть один день; тем временем я надеялся, что добрый Боже меня просветит.
Я написал письмо президенту полиции, называя его Монсеньором и испрашивая его мощной защиты. Я говорил ему, что, решившись продать свое имущество, чтобы прекратить судебные действия, в результате которых меня хотят разорить, я прошу его приказать прекратить процедуры, затраты на которые ложатся на мой счет. Кроме того, я прошу его направить ко мне законного представителя, который оценит мое имущество по его действительной стоимости, так что я смогу согласовать претензии офицеров — моих кредиторов, с которыми я умоляю его быть моим посредником. Мой слуга отнес мои письма тем и другому.
После обеда офицер, который получил мое письмо и который требовал две тысячи луи, пришел в мою комнату. Он застал меня в постели, я сказал ему, что думаю, что у меня лихорадка, и что я жду от него сочувствия. Он сказал, что только что говорил с президентом полиции, который дал ему прочесть мое письмо.
— Придя к соглашению, — сказал он, — вы приняли верное решение, но вам не нужно, чтобы мы были все трое вместе. У меня есть все полномочия от моих двоих товарищей, заверенные нотариально.
— Месье, я прошу только удовлетворения увидеть вас всех вместе, и думаю, что вы не можете мне в этом отказать.
— Вы получите его; но если вы торопитесь, заверяю вас, что вы сможете нас увидеть только в понедельник, потому что один из нас будет в карауле следующие четыре дня.
— Я подожду понедельника, но дайте мне ваше слово чести, что все юридические действия будут приостановлены до этого времени.
— Я даю его вам, и вот моя рука. Я прошу вас, в свою очередь, о маленьком одолжении. Мне нравится ваша почтовая коляска. Отдайте мне ее за ту цену, в которую она вам обошлась.
— Охотно.
— Вызовите хозяина гостиницы и скажите ему, что она моя.
— Очень хорошо.
Он вызывает хозяина; я говорю тому, что моя коляска принадлежит месье, и он мне отвечает, что я волен ею распоряжаться, после того, как расплачусь, и сказав это, уходит. Офицер смеется, говорит мне, что уверен, что получит коляску, благодарит меня, обнимает и уходит.
Два часа спустя, приходит человек приличной наружности, говорящий по-итальянски, и передает мне от имени шефа полиции, что мои кредиторы придут вместе в понедельник, и что он тот, кто оценит мое имущество. Он мне советует поставить в соглашение условие, чтобы мои вещи не шли с молотка, и чтобы мои кредиторы ориентировались на цену, которую он поставит. Он обещает, что я буду доволен. Сказав ему, что я сделаю ему подарок в сотню луи, я встаю и предлагаю, чтобы он окинул глазом все, что у меня есть в моих двух чемоданах, и мои украшения.
Все осмотрев и заметив, что одни мои кружева стоят двадцать тысяч франков, он заверяет меня, что у меня более сотни тысяч франков, и что он скажет нечто совсем противоположное под большим секретом офицерам. — опираясь на это, — говорит он мне, — попытайтесь уговорить их удовольствоваться половиной того, что вы им должны, и вы уедете с половиной своего имущества.
— В этом случае вы получите пятьдесят луи, и вот пока шесть.
— Я принимаю их. Рассчитывайте на мою дружбу. Весь Штутгарт знает, что ваши кредиторы мошенники, и герцог их знает; но он полагает себя обязанным закрывать глаза на их разбой.
После этих двух действий, я вздохнул спокойней. Имея в запасе пять дней, я должен был использовать их, чтобы обеспечить бегство со всем моим маленьким хозяйством, включая мою коляску. Это было трудно, но легче, чем из Пьомби. Мне достало и смелости и средств. Я послал просить на ужин Ла Тоскани, Баллетти и танцора Бинетти. Мне нужно было обсудить дело с людьми, которые могли не бояться гнева моих троих преследователей.
После хорошего ужина я проинформировал моих трех друзей обо всех обстоятельствах моей ситуации и о моем решении спастись, ничего не теряя из моего имущества.
Бинетти заговорил первым. Он сказал, что если я могу выйти из гостиницы и пойти к нему, я смогу выбраться через одно из окон его дома, я окажусь в чистом поле и в ста шагах от большой дороги, откуда смогу выехать на почтовой карете за пределы герцогства. Баллетти посмотрел из окна моей комнаты, выходящего на улицу, и решил, что я не смогу через него выбраться из-за дощатой крыши лавки. Я считаю это соображение правильным и говорю, что найду другой способ выйти из гостиницы, и меня заботит мой багаж. Ла Тоскани говорит, что я должен бросить чемоданы и переправить все их содержимое к ней, что она найдет способ переправить все туда, где я остановлюсь.
— Я вынесу все, — говорит она мне, — понемногу за раз, под моими юбками.
Баллетти говорит, что его жена ей поможет, и на этом мы останавливаемся.
Я говорю Бинетти, что буду у него в воскресенье в полночь, когда не должен буду убивать охрану, что стоит у дверей моей комнаты все время, кроме ночи. Охрана меня запирает, уходит спать и возвращается утром. Баллетти говорит о своем верном слуге, которого он направит на большую дорогу, где тот подождет меня с почтовой каретой. Ла Тоскани добавляет, что можно погрузить на эту карету весь мой багаж в других чемоданах. Она приступает к делу, спрятав две моих вещи под юбками. Три женщины так мне хорошо послужили в следующие дни, что в субботу в полночь мои чемоданы опустели, как и шкатулка, из которой я положил в карманы все, что было ценного.
Днем в воскресенье ла Тоскани принесла мне ключи от двух чемоданов, куда положила все мои пожитки, и Баллетти пришел заверить меня, что почтовая карета будет ждать на большой дороге, охраняемая его слугой. Уверившись, что все в порядке, я предпринял следующее, чтобы выйти из гостиницы.
Солдат, что прогуливался у дверей моей комнаты, обычно уходил, увидев меня лежащим в постели. Он желал мне доброй ночи, запирал меня и, положив ключ в карман, уходил. Он возвращался утром, но не открывал дверь, пока я не позову. Тогда входил мой слуга.
Солдат стражи обычно ужинал за маленьким столом, на который выносилось то, что я выделял ему со своего собственного стола. Вот какую инструкцию я выдал своему испанцу:
— После ужина, — сказал я ему, — вместо того, чтобы идти спать, я буду готов выйти из моей комнаты, и выйду оттуда, когда не увижу больше света снаружи. Выйдя, я спущусь по лестнице и беспрепятственно выйду из гостиницы. Я направлюсь прямо к Бинетти и через его дом выйду из города; я буду тебя ждать в Фюрстемберге. Никто не сможет помешать тебе уехать завтра или послезавтра. Ты, однако, должен, как только ты увидишь меня готовым в моей комнате, загасить свечу на столе, за которым ужинает часовой; ты легко ее погасишь, снимая нагар. Ты возьмешь ее, чтобы снова зажечь в моей комнате, и я воспользуюсь этим моментом темноты, чтобы выйти. Когда ты снова зажжешь свечу, ты вернешься к солдату, чтобы помочь ему прикончить бутылку. Когда ты ему скажешь, что я лег, он придет пожелать мне спокойной ночи, как это делает всегда, затем он меня запрет и уйдет вместе с тобой. Он ничего не поймет, когда зайдет сказать мне свое пожелание и увидит меня лежащим. Чтобы обмануть солдата, я помещу на подушке болванку для парика, прикрытую ночным колпаком, и взобью одеяло так, что легко будет ошибиться.
Все сошло вполне благополучно, как я услышал от самого Ледюка, три дня спустя, со всеми подробностями.
Пока Ледюк пил с часовым, я приготовился, с манто, накинутым на плечи, с охотничьим ножом на поясе, так как у меня больше не было моей шпаги, и двумя пистолетами в кармане.
Как только темнота снаружи заверила меня, что свеча погасла, я вышел из комнаты, спустился по лестнице и вышел из дверей гостиницы, никого не встретив. Оставалось четверть часа до полуночи. Я быстрыми шагами направился к дому Бинетти; при свете луны я увидел дома его жену, ожидающую меня в окне. Она открывает дверь, я поднимаюсь вместе с ней, и, не теряя ни минуты, она ведет меня к окну, через которое я должен выйти; жена Биллетти уже там, чтобы помочь мне спуститься вниз, и ее муж уже внизу, в грязи по колено, чтобы подать мне руку. Я начинаю с того, что бросаю ему свое манто.
Две очаровательные женщины опутывают меня веревкой, под мышки, поперек груди, и, держа ее за два конца, опускают меня, мало-помалу, очень осторожно и очень удобно, вопреки всей опасности. Никогда еще беглеца так хорошо не обслуживали. Баллетти, принимая меня, передает мне мое манто, затем говорит следовать за ним.
Не обращая внимания на грязь, в которой мы бредем по колена, и пролезая собачьими дырами там, где мы натыкаемся на живые изгороди, и лестницами, сделанными, чтобы помешать проникать зверям, мы доходим до большой дороги, очень усталые, несмотря на то, что расстояние не превышает трехсот-четырехсот шагов. Столько же мы проходим, чтобы добраться до коляски, стоящей закрытой, в ожидании меня, у отдельно стоящего кабака. Лакей Баллетти сидит в ней. Он выходит, говоря нам, что почтальон зашел только что в кабак и выйдет, выпив кружку пива. Я сажусь на его место и, хорошо его отблагодарив, говорю его хозяину уходить вместе с ним и предоставить мне дальнейшее.
Это было 2 апреля 1760 года, день моего рождения, отмеченный во всю мою жизнь многими происшествиями.
Почтальон две минуты спустя выходит из кабака, спрашивая, долго ли еще ждать, полагая, что говорит с тем же человеком, с которым он выехал из Канстата. Я оставляю его в его заблуждении и говорю ехать в Тюбинген, не останавливаясь для смены лошадей в Вальдембюке, он подчиняется; однако мне становится смешно при виде его лица, когда он рассмотрел меня в Тюбингене. Слуга Баллетти был очень молод и очень маленького роста; когда почтальон говорит мне, что я не тот, с кем он выехал, я отвечаю, что очевидно он был пьян, и, успокоенный двумя флоринами, которые я ему дал на чай, он ничего не ответил. Я выехал дальше и остановился лишь в Фюрстемберге, где был уже спокоен.
Хорошо поужинав и еще лучше поспав, я написал каждому из трех офицеров одно и то же письмо. Я вызвал на дуэль всех троих, сказав ясно и четко, что если они не придут, я буду называть их в дальнейшем не иначе как J… F…[11]. Я обещал им ждать их три дня, начиная со дня написания письма, надеясь их убить всех троих и стать после этого знаменитым по всей Европе. Я написал также ла Тоскани, Баллетти и ла Бинетти, порекомендовав им моего слугу.
Офицеры не пришли, но в эти три дня дочери хозяина гостиницы помогли мне провести время со всем возможным удовольствием.
На четвертый день, в полдень, я увидел прибывшего Ледюка с чемоданом, привязанным к седлу. Первое, что он мне сказал, было, что я должен ехать в Швейцарию, так как весь город Штутгарт знает, что я здесь, и что я должен опасаться, потому что три офицера из мести легко могут организовать мое убийство. После того, как я сказал ему, что не нуждаюсь в его советах, он поведал мне о том, что произошло после моего бегства.
— После вашего ухода, — сказал он, — я отправился спать. На другой день в восемь часов часовой пришел и стал прогуливаться перед вашей дверью, и в десять пришли три офицера. Когда я сказал им, что вы еще спите, они ушли, сказав мне, чтобы я их позвал из кафе, когда ваша комната откроется, но, не видя меня, они пришли снова в полдень и приказали солдату караула открыть вашу дверь. Я насладился прелестной сценой.
Они решили, что вы спите, пожелали вам доброго утра, приблизились к вашей кровати, потрясли вас, колпак сполз, болванка для парика упала и, увидев их потрясенными, я не смог удержаться и прыснул.
— Ты смеешься, мерзавец? Ты скажешь нам, где твой хозяин.
На эти слова, сопровождаемые ударом трости, я ответил с проклятием, что они могут допросить только часового. Часовой сказал, что вы могли уйти только через окно, но они вызвали капрала и приказали взять невинного солдата под арест. На этот шум поднялся хозяин, открыл чемоданы и, увидев их пустыми, заявил, что ваша почтовая коляска послужит ему платой, и оставил без внимания, когда офицер сказал, что вы ее ему продали.
Пришел другой офицер и, услышав о происшедшем, решил, что вы не могли уйти иначе, чем через окно, и поэтому приказал, чтобы солдата освободили; но произошла, на мой взгляд, самая черная из несправедливостей. Поскольку я продолжал говорить, что не знаю, куда вы могли уйти, и потому что я не мог удержаться от смеха, решили меня отправить в тюрьму. Мне сказали, что я там пробуду, пока не скажу, где вы, или, по крайней мере, где ваши вещи.
На следующий день пришел один из офицеров и сказал, что меня приговорят к галерам, если я буду продолжать отказываться. Я ответил ему, что даю слово испанца, что ничего не знаю, но даже если бы знал, я ни за что не сказал бы ему, потому что, по чести, я не могу стать шпионом против моего хозяина. Палач, по приказу этого месье, выдал мне плетей и после этой церемонии меня отпустили. Я пошел спать в гостиницу, и на другой день весь Штутгарт узнал, что вы здесь и что вы прислали отсюда офицерам вызов на дуэль. Это глупость, говорят все, потому что они так не поступят, но м-м Бинетти мне велела вам передать, что вы должны отсюда уехать, потому что они могут послать вас убить. Хозяин продал вашу почтовую коляску и ваши чемоданы венскому посланнику, который помог вам, как говорят, выйти через окно помещения, которое он сдает Бинетти. Я сел в почтовую карету, так что никто мне не мешал, и вот я здесь.
Три часа спустя после его прибытия я сел в почтовую карету до Шафхаузена, и оттуда направился в Цюрих, наняв лошадей, потому что в Швейцарии нет почты. Там я очень хорошо поселился в «Шпаге».
Сидя в одиночестве после ужина, в одном из богатейших городов Швейцарии, где я очутился, как будто упав с неба, потому что у меня не было ни малейшего намерения туда попасть, я предался размышлениям о моем теперешнем положении и моей прошедшей жизни. Я обратился в моей памяти к моим несчастьям и удачам и обдумал свое поведение. Я понял, что сам привлек к себе все беды, которые со мной случились, и злоупотребил милостями, что предоставила мне Фортуна. Пораженный несчастьем, в которое я только что впрыгнул двумя ногами, я содрогался, я решал перестать быть игрушкой Фортуны, вырваться из ее рук. Располагая сотней тысяч экю, я решил создать себе стабильное положение, исключив всякие случайности. Совершенный мир есть самое большое благо.
Охваченный этой мыслью, я лег спать, и самые приятные сновидения посетили меня в моем уединении, в изобилии и спокойствии. Мне снилось, что я живу в прекрасной сельской местности, что я там хозяин, наслаждаюсь свободой, которую напрасно ищут в обществе. Я спал, но во сне убеждал себя, что не сплю. Неожиданное пробуждение на рассвете дало мне ясность; я подосадовал на себя и решил осуществить свой сон, я поднялся, оделся и вышел, даже не попытавшись понять, куда я иду.
Час спустя, выйдя из города, я оказался среди гор; Я решил бы, что заблудился, если бы не колеи, которые убедили, что эта дорога должна вывести меня в какие-то обитаемые места. Я встречал каждые четверть часа каких-то крестьян, но доставил себе удовольствие не спрашивать их ни о чем. Пройдя неторопливым шагом часов шесть, я очутился вдруг на большой равнине между четырех гор. Я заметил слева от себя, в прекрасной перспективе, большую церковь, примыкающую к большому зданию правильной архитектуры, которая влекла к себе проходящих мимо. Подойдя, я увидел, что это должен быть монастырь, и обрадовался про себя, поняв, что я нахожусь в католическом кантоне.
Я вошел в церковь; я увидел внутри прекрасную отделку алтарей из мрамора и орнаментов и, прослушав последнюю мессу, зашел в ризницу, где увидел монахов-бенедиктинцев. Один из них, которого, по кресту, что он носил на груди, я принял за аббата, спросил, не хочу ли я осмотреть все, что есть замечательного в алтаре, не сходя с балюстрады; я ответил, что он окажет мне честь и удовольствие, и он пошел сам, в сопровождении двух других, показывая мне богатую отделку помещения, ризы, покрытые крупным жемчугом, и вазы для святых даров, украшенные алмазами и другими каменьями.
Очень плохо понимая по-немецки и, тем более, швейцарский жаргон, который таков же по отношению к немецкому, как генуэзский — к итальянскому, я спросил у аббата на латыни, давно ли сооружена церковь, и он рассказал мне подробно ее историю, закончив, что это единственная церковь, которая была освящена непосредственно И.-Хр. Видя мое изумление и желая доказать, что он говорит мне только чистую и совершенную правду, он отвел меня в церковь и показал на поверхности мраморной плиты пять вдавленных следов, которые оставили пять пальцев И.-Хр., когда он лично освящал эту церковь. Он оставил эти знаки, чтобы нехристи не могли сомневаться в чуде, и чтобы избавить настоятеля от заботы приглашать епископа этой епархии для освящения этой церкви. Тот же настоятель узрел эту истину в чудесном сновидении, которое ему указало ясно и недвусмысленно, чтобы он больше об этом не думал, так как эта церковь divinitiis consecrata[12] и что это так же верно, как ясно видны в таком-то месте церкви пять вдавленных пальцев. Настоятель туда пошел, увидел их и возблагодарил господа.
Глава IV
Я принимаю решение стать монахом. Я исповедуюсь. Отсрочка на пятнадцать дней. Капуцин Джустиниани — вероотступник. Я меняю намерение; что меня к этому приводит. Выходка в гостинице. Обед с аббатом.
Этот аббат, очарованный покорным вниманием, с которым я выслушивал его россказни, спросил меня, где я здесь поселился, и я ответил, что нигде, поскольку, придя из Цюриха пешком, я сразу вошел в церковь. Тогда он сложил руки и воздел их кверху, глядя в небо и как бы благодаря бога за то, что он тронул мое сердце и направил меня в паломничество, чтобы принести сюда мои прегрешения, потому что, говоря по правде, я всегда имел вид великого грешника. Он сказал мне, что, поскольку уже полдень, я окажу ему честь, пойдя с ним отведать супу, и я согласился. Я еще не знал, где нахожусь, и не хотел у него спрашивать, с радостью оставляя его во мнении, что пришел туда специально в паломничество, чтобы замолить мои грехи. Дорогой он сказал мне, что монахи постятся, но я могу есть скоромное вместе с ним, потому что он получил бреве от папы Бенуа XIV, который позволил ему есть скоромное всякий день вместе с тремя сотрапезниками. Я ответил, что охотно поучаствую в его привилегии. Войдя в свои апартаменты, он показал мне бреве в рамке, под стеклом, висящее над ковриком, напротив стола, выставленное на обозрение любопытным и сомневающимся. На столе было только два прибора, и слуга в ливрее быстро принес третий. Аббат предложил мне этот третий прибор, сказав, что второй — для его канцлера.
— Мне нужна, — сказал он с скромным видом, — канцелярия, так как, в качестве аббата Нотр-Дам де Эйнсидель, я являюсь также князем Святого римского государства.
Я вздохнул с облегчением. Я, наконец узнал, где я нахожусь, и был обрадован, так как читал и слышал разговоры о монастыре Нотр-Дам от монахов-отшельников. Это было Лоретто этой страны гор. За столом князь-аббат счел возможным расспросить меня, из какой я страны, женат ли, и если я собираюсь объездить Швейцарию, он снабдит меня рекомендательными письмами повсюду, где я хочу побывать. Я ответил, что я венецианец, неженат, и что с удовольствием приму от него письма, которые он окажет мне честь дать, после того, как я расскажу ему, кто я такой, в ходе доверительной беседы, которой, я надеюсь, он меня удостоит.
Вот каким образом я решился исповедаться ему, до того момента не испытывая к этому никакого желания. Это было мое внезапное желание. Мне казалось, что я делаю только то, чего хочет Бог, потому что я следовал идее, заранее не обдуманной, упавшей с неба. Итак, я изъявил ему достаточно ясно, что он должен стать моим исповедником, на что он повел со мной рассуждения, полные елея, которые меня не утомили, поскольку сопровождались весьма тонким обедом, с блюдами из бекасов и куликов.
— Откуда, мой преподобный отец, такая дичь в этот сезон?
— Это секрет, месье, который я вам с удовольствием открою. Я храню эту дичь до шести месяцев без доступа воздуха, так что она не портится.
Этот князь церкви был перворазрядный лакомка и гурман, сохранявший при этом строгий вид. Его рейнское вино было превосходным. Принесли озерную форель, и он заметил мне с улыбкой, на цицероновой латыни, что было бы проявлением гордыни отказаться от нее лишь потому, что это рыба, тонко подчеркнув этот софизм. Он внимательно меня разглядывал и, изучив мои повадки, мог больше не опасаться, что я попрошу у него денег, что, как я увидел, его успокоило. После обеда он послал со мной канцлера, и тот провел меня по всему монастырю и, наконец, в библиотеку, где я увидел портрет кёльнского Выборщика в епископском облачении. Я сказал, что он похож, но что художник сделал его несколько менее красивым, и показал его портрет в прекрасной табакерке, которую во время обеда еще не доставал из кармана. Он весело отметил каприз Его Электорального высочества, чтобы художник изобразил его Великим Магистром, и полюбовался красотой табакерки, и им все больше и больше овладевала идея относительно моей особы. Но библиотека вызвала бы у меня восторженные восклицания, если бы я был один. Книги были только in-folio. Самые новые были старше, чем в век, и все эти толстые книги трактовали только вопросы религии. Библии, комментаторы, святые отцы. Несколько легистов на немецком, анналы и большой словарь Хоффмана.
— Но ваши монахи. — спросил я, — имеют ли у себя в комнатах книги по физике, истории, о путешествиях?
— Нет, — сказал он, — они хорошие люди, которые не думают ни о чем другом, кроме как исполнять свой долг и жить в мире.
В этот момент во мне родилось желание сделаться монахом, но я ничего ему не сказал. Я попросил лишь отвести меня в свой кабинет, где я принесу ему полную исповедь во всех моих прегрешениях, чтобы получить завтра отпущение грехов и принять от него святое причастие, и он отвел меня в маленький флигель, где даже не предложил мне стать на колени. Он усадил меня напротив себя и по меньшей мере в течение трех часов я рассказывал ему о своих скандальных похождениях, но без красочности, так как мне нужно было придерживаться стиля покаяния, хотя когда я повторял в уме свои проделки, я не мог их порицать. Несмотря на это, он не усомнился, по крайней мере, в моем исправлении; он сказал, что раскаяние придет, когда с помощью правильного поведения я снова обрету благодать, потому что, по его мнению, и еще более по моему, без благодати невозможно почувствовать раскаяние. Произнеся слова, которые способны очистить от греха весь людской род, он посоветовал мне удалиться в комнату, которую он мне дает, провести остаток дня в молитвах и рано лечь спать, откушав супу, если я намерен ужинать. Он сказал мне, что назавтра, на первой мессе, я причащусь, и мы расстались.
В одиночестве, в моей комнате, я склонился к идее, которая пришла мне перед исповедью. Я решил, что нахожусь в том самом месте, в котором смогу жить счастливо до своего последнего часа, не полагаясь более на фортуну. Мне казалось, что это зависит только от меня, потому что я чувствовал уверенность, что аббат не откажет мне в принятии в свой орден, в случае, если я передам ему, например, десять тысяч экю, с тем, чтобы дать мне ренту, которая, после моей смерти, перейдет монастырю. Для счастья, как мне казалось, мне нужна только библиотека, и я был уверен, что мне позволят ее устроить по моему выбору, если я сделаю вклад в монастырь, оставив за собой лишь свободный выбор книг на всю свою жизнь. Что касается общества монахов, раздоров, дрязг, неотделимых от их натуры, которую я знал, я был уверен, что не буду в них замешан, так как, ничего не желая и не питая никаких амбиций, способных вызвать их зависть, я мог ничего не опасаться. Я видел возможность будущего раскаяния, и страх приводил меня в трепет, но я льстил себя надеждой, что найду способы от него излечиться. Испрашивая одеяния Св. Бенедикта, я испрошу срок в десять лет, перед тем как принять постриг. Впрочем, я решил, что не хочу никакой нагрузки, никакого религиозного титула, я хочу только мира в душе и всей приличной свободы, которой могу пожелать, не вызывая скандала. Если аббат даст мне десять лет послушничества, которых я у него попрошу, я предложу ему оставить у себя десять тысяч экю, уплаченные мной авансом, если я решусь отказаться от пострига. Я записал свой проект на бумаге, после чего заснул, и назавтра, после принятия святого причастия, представил его аббату, когда он пригласил меня выпить чашку шоколаду.
Он прочитал мою записку перед тем, как мы позавтракали, ничего мне не сказал, и, перечитав ее во время прогулки, сказал, что ответит мне после обеда.
После обеда этот славный аббат сказал мне, что его коляска готова, чтобы отвезти меня в Цюрих, где он просит меня подождать две недели его ответа. Он пообещал, что сам принесет его мне, и дал мне два запечатанных письма, попросив отнести их лично по адресам.
— Ваше преподобие, я бесконечно обязан вашему высочеству, я отнесу ваши письма и буду вас ждать в «Шпаге» и надеюсь, что вы удовлетворите мои пожелания.
Я принял его руку, которую он очень скромно протянул для поцелуя.
Когда мой испанец увидел меня вернувшимся, он разразился смехом, объяснившим его мысль.
— Чему ты смеешься?
— Я смеюсь тому, что, едва приехав, вы находите случай развлекаться два дня.
— Скажи хозяину, что мне нужна коляска в моем распоряжении на две недели и хороший наемный слуга.
Хозяин, которого звали Оте, и который имел звание капитана, явился лично сказать, что в Цюрихе есть только открытые коляски; я согласился, и он поручился за верность предлагаемого наемного слуги. На другой день я отнес письма по адресам, это были г-н Орсильи и г-н Песталуци, их не было дома. Я увидел обоих после обеда у себя; они просили меня обедать у них по их дням и пригласили с собой в городской концерт, потому что там не было другого зрелища, кроме этого; он предназначался только для граждан-абонентов и для иностранцев, которые должны были платить экю, но они сказали, что я должен пойти как гражданин, и наперебой воздавали при мне хвалы аббату Эйнсиделя. На этом концерте, на котором звучала инструментальная музыка, я очень скучал. Мужчины все сидели по одну сторону, где и я со своими гостеприимцами, женщины — по другую, и мне это не понравилось, потому что, несмотря на мое грядущее обращение, я заметил среди них трех-четырех, которые мне приглянулись, которые обратили внимание на меня и с которыми я охотно бы полюбезничал. По окончании концерта выход произошел вперемешку, и два гражданина представили мне своих жен и дочерей; эти дочери положительно были из самых очаровательных в Цюрихе. Церемонии на улице были очень короткими, так что, поблагодарив этих господ, я вернулся к себе. Назавтра я обедал в семейном кругу у г-на Орельи, где воздал должное достоинствам его дочери, но не выявляя при этом своих чувств. На другой день у г-на Песталучи я играл в точности ту же роль, хотя мадемуазель легко продемонстрировала мне свой ум в вопросах галантности. Я оказался, к моему большому удивлению, очень ученым, и через три-четыре дня весь Цюрих знал об этом. Я наблюдал, что на променадах на меня поглядывали с почтением, что для меня было ново. Я все больше убеждался, что стать монахом было мое истинное призвание. Я скучал, но видел, что при таком внезапном изменении нрава это было неизбежно. Эта скука исчезнет, когда я привыкну к мудрости. Я проводил утром по три часа с преподавателем языка, который учил меня немецкому; он был итальянец, родом из Генуи, его звали Джустиниани, он был капуцин, и отчаяние заставило его отступить от веры. Этот бедный человек, которому я давал каждый день по экю и шести франкам, явился для меня ангелом, посланцем Провидения, а в моем безумном предполагаемом обращении я принимал его за дьявола, вышедшего из ада, потому что он пользовался каждым перерывом в наших длительных занятиях, чтобы говорить мне дурное обо всех религиозных отправлениях, и те, что имели наиболее привлекательный вид, были, по его мнению, самыми извращенными, поскольку были самыми соблазнительными. Он честил всех монахов как самых низких каналий рода человеческого.
— Однако, — как-то сказал я ему, — Нотр-Дам де Ейнсидель, например? Согласитесь, что…
— Что? Это объединение двух дюжин бездельников, невежд, порочных, лицемеров, сущих свиней, которые…
— Но его Высокопреподобие аббат?
— Крестьянин-выскочка, играющий роль принца и в своем самомнении вообразивший себя принцем.
— Но он ведь действительно…
— Отнюдь, это маска; я смотрю на него как на шута.
— Что он вам сделал?
— Ничего. Он монах.
— Он мой друг.
— Если так, простите мне все, что я сказал.
Этот Джустиниани, однако, меня смутил. На четырнадцатый день моего предполагаемого обращения, накануне дня, в который аббат обещал нанести мне визит, в шесть часов пополудни я сидел у окна, откуда видел прохожих и всех, кто прибывал к моей гостинице в коляске. Я увидел карету, запряженную четверкой лошадей, подъехавшую крупной рысью и остановившуюся у моих дверей. Официант подошел открыть дверцу кареты, так как на запятках не было слуги, и я увидел четырех женщин, хорошо одетых, которые оттуда вышли. Я не нашел ничего особенного в первых трех, но четвертая, одетая в то, что называют амазонкой, меня поразила. Эта молодая брюнетка с черными глазами, очень контрастирующими с цветом волос, с решительными бровями, лилейным цветом лица и розовыми щеками, под шляпкой голубого сатина, из-под которой свисал серебряный локон, падавший ей на ушко, представляясь талисманом, ввергавшим меня в ступор. Я лег грудью на подоконник, выгадывая десяток дюймов, и она подняла свою очаровательную головку, как будто я ее позвал. Моя необычная позиция заставила ее рассматривать меня с полминуты, что слишком для приличной женщины. Она входит, я перемещаюсь к окну из моей прихожей, которое выходит в коридор, и вижу ее быстро поднимающейся, чтобы догнать своих трех компаньонок, только что прошедших. Когда она оказалась перед моим окном, она случайно повернула голову и, увидев меня стоящим, ускорила шаги, издав легкий вскрик, как будто увидав привидение, но тут же справилась, засмеявшись, и упорхнула в комнату, где скрылись ее подруги.
Спасайтесь, смертные, если у вас есть силы, от подобной встречи. Сопротивляйтесь, фанатики, если можете, обращаясь к безумной идее похоронить себя в келье, если увидите то, что мне довелось увидеть в тот момент в Цюрихе, 23 апреля. Я бросился на кровать, чтобы успокоиться. Я вернулся к окну в коридоре пять-шесть минут спустя и, увидев официанта, выходящего из комнаты новоприбывших, сказал ему, что буду ужинать внизу за общим столом.
— Если вы хотите там ужинать, чтобы быть с этими дамами, это бесполезно. Они будут ужинать в своей комнате в восемь часов, чтобы уехать завтра на рассвете.
— Куда они едут?
— Они направляются в Эйнсидель в паломничество. Они все четверо католички.
— Откуда они?
— Из Золотурна.
— Как их зовут?
— Я не знаю.
Я вернулся в кровать, я думал ехать в Эйнсидель. Но что я буду там делать? Они едут туда исповедоваться, причащаться, беседовать с Богом, со святыми, с монахами; с каким лицом я предстану там? Может также статься, что я встречу дорогой аббата, и к тому же я должен, вопреки аду и небесам, следовать своей дорогой. Я отбросил эту мысль, но я видел, что если бы у меня был настоящий друг, я отправился бы с ним залечь в засаде, чтобы похитить амазонку, что было бы самым легким делом, потому что с ними не было никого из сопровождения. Я подумал было дерзко пойти и пригласить их на ужин, но боялся, что остальные три паломницы меня выгонят; мне казалось, что амазонка является богомолкой только для проформы, потому что ее лицо говорило об этом, и давно уже мне не доводилось обманываться в физиономии женщины.
Но неожиданно самая счастливая из идей возникла в моей возбужденной душе. Я вернулся к моему окну в коридор и оставался там, пока не появился проходящий мимо официант; я зазвал его в свою комнату, дал ему луи и сказал, чтобы он дал мне свой зеленый передник, такой, как его, потому что я хочу пойти прислуживать за столом этих дам.
— Ты смеешься?
— Я смеюсь над вашей прихотью. Пойду принесу вам передник. Более красивая спросила у меня, кто вы такой.
— Это может быть, потому что она видела меня мимоходом, но она меня не узнает. Что ты ей сказал?
— Что вы итальянец, и все.
— Запомни, что надо быть сдержанным.
— Я попросил вашего испанца прийти обслуживать за ужином, потому что я один, и у меня еще стол внизу.
— Он не должен появляться в комнате, пока я разыгрываю свою роль, потому что этот дурачок не может удерживаться от смеха, и все полетит к черту. Позови его. Он должен будет ходить в кухню и приносить мне оттуда блюда.
Официант возвратился с передником, и с ним Ледюк. Я сказал ему со всей серьезностью, чего я от него хочу, он смеялся как безумный, но заверил меня, что все сделает. Я велел дать мне разделывательный нож, убрал волосы под косынку, раздвинул ворот рубашки, надел передник поверх пурпурной куртки, отделанной золотым галуном, посмотрелся в зеркало и нашел, что выгляжу гнусно и плохо похож на персонаж, который должен представлять. Я был вне себя от восторга. Они из Золотурна. Они говорят по-французски. Ледюк мне сказал, что официант сейчас принесет ужин. Я вхожу в их комнату и говорю, глядя на стол:
— Сейчас вас обслужат, медам.
— Поторопитесь же, — говорит самая некрасивая, — потому что мы должны подняться до света.
Я расставляю стулья и вижу уголком глаза, что красотка неподвижна, я бросаю на нее молниеносные взгляды и вижу, что она ошеломлена. Я выхожу навстречу официанту, помогаю ему поместить блюдо на стол, и официант уходит, говоря мне:
— Останься здесь, так как я должен пойти обслуживать внизу.
Я беру тарелку и ставлю ее перед той, что меня поразила, не глядя на нее, но прекрасно ее вижу, вижу только ее. Она удивлена; другие меня не замечают. Я подхожу сменить ей тарелку, потом быстро меняю другим, те сами берут кипяток, пока я передаю им с великолепной сноровкой соленого каплуна.
— Вот, — говорит очаровательница, — официант, который отлично обслуживает. Давно ли вы, мой дорогой, служите в этой гостинице?
— Всего несколько недель, мадам. Вы очень добры.
Я спрятал под рукавами моей куртки манжеты ручной вышивки, которые застегивались на запястьях, но жабо высовывалось слегка из выреза, она его заметила и сказала мне:
— Подождите, подождите.
— Чего желаете, мадам?
— Покажите-ка. Это превосходные кружева.
— Да, мадам, мне это говорили; но они старые. Это итальянский сеньор, который здесь живет, мне подарил.
Говоря это, я позволил ей вытянуть наружу всю манжету; она проделала это медленно, не глядя на меня, но делая это, по-моему, специально очень медленно, давая мне насытиться видом ее очаровательной физиономии. Какой упоительный момент! Я понимал, что она меня узнала, и, видя, что она соблюдает секрет, какое огорчение я испытал, сознавая, что должен довести до конца мой маскарад. Одна из ее подруг, в конце концов, решила прекратить изучение ею моих манжет, сказав:
— Какое любопытство! Кажется, что ты никогда не видела кружев.
Моя героиня краснеет. Ужин кончается. Они расходятся по своим углам, чтобы раздеться, в то время, как я разбираю стол; но красавица садится писать. Я не хочу быть настолько фатом, чтобы решить, что она пишет для меня. Вынеся все, я останавливаюсь в дверях.
— Чего вы ждете? — спрашивает она.
— На вас сапожки, Мадам. Вы же не захотите ложиться обутая.
— Действительно, вы правы. Я, должно быть, неправа, что рассердилась на вас за то, что вы заметили эту ошибку.
— Не смогу ли я вам помочь, мадам?
Я опускаюсь перед ней на колени, она протягивает мне ноги, продолжая писать; я расшнуровываю ее сапожки, передаю их ей, затем я расстегиваю подвязки ее панталон, чтобы их снять и доставить мне удовольствие видеть, и еще большее — потрогать ее икры, но она говорит мне, прервав свое письмо:
— Ну вот, достаточно, достаточно, я не думала, что вы проявите такое усердие. Мы увидимся завтра вечером.
— Вы будете ужинать здесь, мадам?
— Разумеется.
Я выхожу, унося с собой сапожки и спрашивая, желает ли она, чтобы я запер дверь, или чтобы оставил ключ внутри.
— Оставьте ключ внутри, любезный, я запру сама.
Я вышел, и она заперла дверь. Мой испанец берет у меня сапожки и говорит, смеясь, как сумасшедший, что она меня провела.
— Как?
— Я все видел. Вы играли свою роль как ангел, и я уверен, что завтра утром она даст вам луи на чай, но если вы мне его не отдадите, я все раскрою.
— Молчи, мерзавец, вот тебе аванс, принеси мне поужинать.
Вот удовольствия моей жизни, которых я не могу больше испытать; но у меня осталось удовольствие их пережить еще раз, о них рассказывая. И, несмотря на это, есть чудовища, которые призывают это запретить, и дураки-философы, которые утверждают, что все это не более чем суета.
В воображении я спал с амазонкой; радость искусственная, но чистая, и я оказался перед ее дверью, с ее вычищенными сапожками в руке, как раз, когда кучер пришел их будить. Я спросил их для проформы, хотят ли они завтракать, и они со смехом ответили, что у них нет аппетита. Я вышел, чтобы дать им возможность одеться, но дверь оставалась открытой, и мои глаза завтракали видом алебастровой груди. Она обратилась ко мне, спрашивая, где ее сапожки, и я попросил позволить мне их ей надеть. Она обулась, и поскольку на ней были велюровые панталоны, видом походила на мужчину, но впрочем, при чем тут официант? Тем хуже для него, если он смеет надеяться на что-то серьезное, кроме тех пустяков, что ему достались. Он будет наказан, потому что никогда не будет настолько отважен, чтобы пойти дальше. Сегодня, став старым, я приобрел некоторые привилегии в этом роде и радуюсь, пренебрегая ими, но и пренебрегая теми, кто мне их предоставляет.
После их отъезда я снова лег, а проснувшись, узнал, что аббат в Цюрихе. Г-н Оте сказал мне часом позже, что он будет обедать со мной тет-а-тет в моей комнате. Я сказал, что платить буду я и что он должен принять нас как принцев.
Бравый прелат вошел ко мне в полдень и сделал мне комплимент по поводу прекрасной репутации, которую я заслужил в Цюрихе, что позволило ему предположить, что мое преображение продолжается.
— Вот, — сказал он мне, — дистих, который вы должны вывесить на дверях ваших апартаментов:
Inveni portum. Spes et fortuna valete; Nil mihi vobiscum est: ludite nunc alios.[13]— Это перевод, — сказал я ему, — двух греческих стихов Эврипида; но они были бы хороши в другие времена, монсеньор, так как за вчерашний день я изменил намерения.
Он поздравил меня и пожелал мне исполнения всех моих желаний, заверив по секрету, что ему было бы легче добиться спасения, оставаясь в миру, чем удалившись в келью. Этот текст показался мне свойственным не лицемеру, но порядочному человеку, исполненному здравого смысла. После обеда я осыпал его всеми возможными изъявлениями благодарности, проводил его до самой дверцы его коляски и видел, что он уезжает, весьма довольный. Затем я занял место у окна моей комнаты, выходящего к мосту, ожидая моего ангела, который явился из Золотурна специально, чтобы избавить меня от страданий монашества. Я наслаждался самыми красивыми замками Испании вплоть до прибытия коляски. Она приехала в шесть часов, я спрятался, но так, чтобы видеть, как выходят дамы. Я вижу их и замечаю, что все четверо смотрят на окно, в котором красавица видела меня в предыдущий день. Это любопытство, которого не могло бы возникнуть, если бы красотка не раскрыла мой секрет, показало, что она рассказала все, и руки у меня опустились. Я разочаровался не только в надежде пойти дальше в очаровательном приключении, но и в вере в то, что я хорошо сыграл свою роль. Я предвидел, что, возможно, утрачу уверенность, надоем, буду высмеян и освистан. Эти мысли все портили; я сразу решил, что не буду исполнять перед ними фарс, в котором смогу посмеяться только над собой. Если бы я интересовал амазонку так, как она интересовала меня, она бы не стала раскрывать игру; она этим все сказала; она не захотела пойти в игре дальше, либо, по недомыслию, не предвидела, что ее нескромность свяжет мне руки и ноги, потому что две из трех остальных мне положительно не нравились, и если женщина, что мне нравилась, меня вдохновляла, другая, которая мне не нравилась, сбивала с толку. Предвидя все, что может произойти неприятного, если я не появлюсь к столу, я ушел. Я встретил Джустиниани. Я поведал ему о своем желании провести пару часов в обществе юной и продажной красотки, и он отвел меня к двери, где, как он сказал, на втором этаже я найду то, что ищу, шепнув на ушко старухе, которую там увижу, его имя. Он не осмелился пойти со мной, потому что его могли знать и доставить ему неприятности в этом городе, где полиция в этих вопросах была весьма сурова. Он сказал мне также, что я должен заходить в этот дом, лишь будучи уверен, что меня не видят, и чтобы дождался сумерек. Я так и сделал; меня дурно накормили, но неплохо развлекли в обществе двух юных работниц, вплоть до полуночи. Моя щедрость, неизвестная в этой стране, доставила мне дружбу женщины, которая пообещала мне сокровищ этого рода, если я продолжу приходить к ней, соблюдая все предосторожности, чтобы меня не заметили. По возвращении Ледюк сказал мне, что я хорошо сделал, что сбежал, потому что вся гостиница узнала о моем маскараде, и все, включая г-на Оте, намеревались развлечься, собравшись около комнаты, чтобы наблюдать, как я играю роль официанта; это сообщение мне очень не понравилось.
— Это я, — продолжал он, — занял ваше место. Эту даму зовут В… Я никогда не видел столь пикантной.
— Не спрашивала ли она, где другой официант?
— Нет. Это другие задавали этот вопрос несколько раз.
— А м-м В. ничего не говорила?
— Ничего. Она стала грустна, сделала вид, что не интересуется вами, когда я сказал, что вчерашний официант не появляется, потому что заболел.
— Почему же ты сказал, что я болен?
— Что-то же было нужно сказать.
— Ты расшнуровывал ее сапожки?
— Она не захотела.
— Кто тебе сказал ее имя?
— Кучер. Она новобрачная, и муж преклонного возраста.
Я лег спать, и назавтра рано занял место у окна, чтобы увидеть, как они садятся в коляску, но не прятался за занавеску. Мадам шла последней, и, чтобы посмотреть наверх, спросила, не идет ли дождь, и приподняла свою сатиновую шляпку. Я быстро снял свою, и она приветствовала меня грациозной улыбкой.
Глава V
Мой отъезд из Цюриха. Бурлескная авантюра в Баде. Золотурн. Г-н де Шавиньи. Г-н и м-м де… Я играю комедию. Я притворяюсь больным, чтобы приблизить мое счастье.
Господин Оте зашел в мою комнату, чтобы представить мне двух мальчиков, своих сыновей; они были со своим гувернером, который воспитывал их как принцев. В Швейцарии хозяин гостиницы зачастую это человек, который содержит по-благородному свой дом и садится во главе стола, за который он не считает за бесчестье брать плату с тех, кто приходит обедать. Он прав: он занимает место во главе стола лишь для того, чтобы быть уверенным, что каждый из сотрапезников хорошо обслужен. Если у него есть сын, он не позволит, чтобы тот занимал место за столом, но хочет, чтобы он за ним прислуживал. Сын хозяина гостиницы в Шофхаузене, капитан на службе императора, стоял за моим стулом, чтобы сменить мне тарелку, в то время как его отец обедал вместе со всеми постояльцами. Такого нет в других домах, но он почитает это за честь, и он прав. Так думают швейцарцы, и над этим насмехаются поверхностно мыслящие головы. Между тем, в Швейцарии, как и в Голландии, обдирают иностранца, где только могут; те, кто позволил так с собой поступать, бывают поражены этим, но они того заслуживают. Надо договариваться заранее. Именно поэтому я был защищен в Базеле от известного обдиралы Имофф в «Трех Королях».
Хозяин сделал мне комплимент по поводу моего исполнения роли официанта; он сказал, что сожалеет о том, что не видел при этом меня, но похвалил, что я не повторил маскарад на втором ужине. Поблагодарив за честь, которую я оказал его дому, он попросил не отказывать также и в том, чтобы отобедать хотя бы еще раз до моего отъезда. Я пообещал пообедать в этот день.
Решив отправиться в Золотурн, чтобы продолжить интригу с прекрасной амазонкой, я взял кредитное письмо на Женеву. Я написал м-м д'Юрфэ с просьбой послать мне солидное письмо для г-на де Шавиньи, посла Франции, в котором бы говорилось, что у меня есть важные дела личного порядка, и направить его мне как можно скорее в Золотурн, на почту до востребования. Я написал также несколько других писем, среди которых одно — герцогу Виртембергскому, которое он должен был найти желчным.
За столом моей гостиницы я нашел старших офицеров, хороший стол и превосходный десерт со сластями. После обеда я проиграл сотню луи в десятку и назавтра столько же — у молодого человека, довольно богатого, который пригласил меня к себе обедать. Его звали Эшер.
Я развлекался четыре дня у женщины, с которой меня познакомил Джустиниани, но довольно посредственно, потому что две девицы, которых она мне предоставила, говорили только на швейцарском диалекте. Без слов наслаждение любовью снижается по меньшей мере на две трети. Я столкнулся в Швейцарии с тем же странным явлением, что и в Генуе. Швейцарцы и генуэзцы, которые говорят очень плохо, хорошо пишут.
Едва выехав из Цюриха, я должен был остановиться в Бадене, чтобы отдать в починку коляску, которую приобрел. Это место, в котором депутаты кантонов собираются на генеральную ассамблею. Я отложил свой отъезд, чтобы пообедать с польской дамой, которая следовала в Эйнсидель, но после обеда воспоследовало забавное приключение. Я потанцевал с дочерью хозяина, по ее просьбе, это было воскресенье. Хозяин вошел, его дочь скрылась, и мошенник потребовал меня уплатить штраф в один луи; он показал мне объявление, которое я не мог прочесть. Я не захотел платить; я позвал местного судью, хозяин, согласившись, вышел. Четверть часа спустя он пригласил меня в одну из комнат своей гостиницы, где я увидел его в парике и с молотком; он сказал, что он и есть судья. Он записал и дал мне прочесть решение, и я должен был заплатить ему еще экю за то, что он писал. Я сказал ему, что если бы его дочь меня не уговорила, я бы не стал танцевать, и поэтому он должен заплатить мне луи за свою дочь. В результате я вынужден был посмеяться. Я отправился на следующий день, поздним утром.
В Люцерне я увиделся с апостолическим нунцием, который пригласил меня обедать, а во Фрайбурге — с женой графа д'Аффри, которая была молода и галантна; но вот что я увидел в восьми-десяти лье от въезда в Золотурн.
В начале ночи я прогуливался с деревенским хирургом. Вдруг вижу в ста шагах от меня фигуру человека, который карабкается снаружи дома и, достигнув окна, влезает внутрь. Я показываю на него хирургу, тот смеется и говорит, что это молодой влюбленный крестьянин, который собирается провести ночь со своей избранницей.
— Он проводит с ней, — говорит он, — всю ночь и покидает ее утром еще более влюбленным, потому что она не оказывает ему последних милостей. Если она их ему оказывает, он, может быть, на ней не женится, и она с трудом найдет нового возлюбленного.
Я нашел на почте в Золотурне письмо м-м д'Юрфэ, в которое было вложено другое от герцога де Шуазейль, адресованное г-ну де Шавиньи, послу. Оно было запечатано, но имя министра, который его написал, было на адресе. Я нанял на день коляску, оделся, как в Версале, прибыл к дому посла, который не принимал, и оставил там письмо. Это был праздничный день, я явился к последней мессе, где не увидел прекрасной дамы, и, после небольшой прогулки, вернулся в свою гостиницу. Офицер, который там ожидал, пригласил меня от имени посла обедать ко двору.
М-м д'Юрфэ сказала мне в своем письме, что явилась специально в Версаль, что она уверена, что герцогиня де Грамон получила от министра самое действенное письмо. Я был этому весьма рад, так как предполагал играть соответствующую роль. У меня было много денег. Маркиз де Шавиньи был послом в Венеции за тридцать лет до того, я знал множество вещей, которые его касались, мне не терпелось с ним познакомиться.
Я явился в назначенный час, обо мне не объявляли; когда открылись двери, я вижу красивого старика, выходящего мне навстречу, и слышу самое любезное придворное обращение. Он представляет мне всех окружающих, затем, делая вид, что не запомнил моего имени, достает из кармана письмо герцога де Шуазейль, которое читает вслух в том месте, где тот просит оказывать мне всяческое внимание. Он сажает меня на софу рядом с собой и расспрашивает только о том, что позволяет мне ответить, что я путешествую лишь для собственного удовольствия, что швейцарская нация предпочтительнее всех прочих, и что настоящий момент самый счастливый в моей жизни, потому что позволяет мне познакомиться с ним.
Подают на стол, и Его Превосходительство усаживает меня справа от себя. Стол был накрыт на пятнадцать-шестнадцать кувертов, и каждого сидящего обслуживал лакей в ливрее посла. Воспользовавшись случаем, я говорю, что в Венеции о нем говорят до сих пор с чувством глубокого восхищения.
— Я всегда вспоминаю, — говорит он, — ту доброту, которую проявляли ко мне во все время моего посольства, но прошу вас назвать мне тех, кто до сих пор говорит обо мне. Они должны быть весьма стары.
Это было то, чего я хотел. Я знал от г-на де Малипьеро о делах, происходивших во времена Регентства, которые доставили ему много славы, и г-н де Брагадин мне много рассказывал о его амурах со знаменитой Стрингеттой. Его повар был превосходен, но удовольствие говорить с ним заставило меня забыть о еде; я увидел, что он порозовел от радости; он сказал, поднимаясь из-за стола, что никогда не обедал в Золотурне с большим удовольствием, и что его похождения в Венеции, о которых я ему напомнил, заставили его помолодеть. Он обнял меня и просил бывать у него с утра и до вечера, все время, пока я пробуду в Золотурне. В свою очередь, он много говорил о Венеции: воздав хвалы правительству, он сказал, что в мире не знает города, где могут приготовить лучший стол, хоть постный, хоть скоромный, с помощью лишь доброго масла и заграничного вина. В пять часов он пригласил меня прогуляться в визави[14], куда поднялся первый, вынудив меня сесть в глубине коляски. Мы высадились у красивого деревенского дома, где нам подали мороженое. Вернувшись в город, он сказал, что у него собирается каждый вечер многочисленная компания, мужчины и женщины, и, что касается его, он надеется, что я не пренебрегу этим. Мне не терпелось взглянуть на эту ассамблею; мне казалось невозможным, что я не увижу там м-м … Народ стал прибывать. Несколько некрасивых женщин, несколько так себе, ни одной красивой. В игровых кружках, которые образовались, я оказался с молодой блондинкой и с женщиной в возрасте, демонстрировавшей некоторый ум. Я потерял, скучая, пять-шесть сотен фишек, не пускаясь в разговоры. Когда настало время платить, более опытная дама сказала, что это три луи.
— Три луи?
— Да, месье. Два су за фишку. Вы, может быть, думали, что играли по лиарду[15]?
— Наоборот, мадам. Я полагал, что по двадцать су, потому что я никогда не играю по меньшей ставке.
Она оставила мою гасконаду без ответа, но покраснела.
Сделав тур по залу и не увидев красотки, которую искал, я направился к выходу. Посол уже удалился. Я увидел двух дам, которые разговаривали, поглядывая на меня; я узнал в них тех, которых видел в Цюрихе вместе с м-м…; я ускользнул от них.
На следующий день офицер посла пришел сказать, что Его Превосходительство сейчас придет, и послал его убедиться, что он меня застанет. Я сказал, что жду его. Я раздумывал о средстве узнать от него о м-м…, но он избавил меня от забот.
Через четверть часа я встретил этого респектабельного сеньора, как положено. Поговорив о дождях и хорошей погоде, он улыбнулся и сказал, что пришел ко мне с самым глупейшим из предположений, но сразу предупреждает, что ничего не знает. После этого предисловия он говорит, что две дамы, которые видели меня на ассамблее, и которых он мне назвал, зашли после моего ухода в его комнату, чтобы предупредить, что он должен меня поостеречься, потому что я — официант гостиницы в Цюрихе.
— Вы их обслуживали за столом десять дней назад, когда они совершали паломничество в Нотр-Дам Пустынников. Они в этом уверены; и что они встретили вчера около Аара другого официанта, вашего товарища, который, очевидно, следует за вами, бог знает с какой целью. Они сказали, что вчера вечером, когда вы их заметили, вы скрылись. Я сказал им, смеясь, что был бы уверен, что они ошиблись, даже если бы вы не передали мне письмо герцога де Шуазейль, и что они будут обедать с вами у меня сегодня. Я сказал им, что, быть может, вы переоделись в официанта, чтобы попытать счастья с одной из них. Они ответили, что это предположение абсурдно, что вы никто иной как слуга из гостиницы, очень ловко нарезавший каплуна и очень проворно менявший тарелки на столе, и что они готовы похвалить вас за это, если я позволю. Я ответил, что они вас насмешат и меня тоже. Если есть что-то правдивое в этой истории, прошу вас мне рассказать все.
— Все, и с удовольствием. Но нам понадобится некоторая сдержанность, потому что этот фарс сможет доставить неприятности кое-кому, а я предпочел бы лучше умереть, чем это сделать.
— Так это правда? Я очень заинтригован.
— Между нами говоря, правда. Я надеюсь, что Ваше Превосходительство не примет меня за официанта из «Шпаги».
— Нет. Никогда. Вы там играли роль.
— Именно. Они вам сказали, что их там было четверо?
— Я это знаю. Там была красотка; теперь я все понял. Вы правы, необходима сдержанность, так как она пользуется безупречной репутацией.
— Это меня не трогает. Дело невинное, и тут можно лишь плести всякие небылицы, наносящие вред репутации этой очаровательной женщины, чьи достоинства меня поразили.
Я рассказал ему всю историю, добавив в заключение, что поехал в Золотурн только в надежде с ней познакомиться и, если возможно, завязать с ней отношения.
— Если это невозможно, — сказал я ему, — я уеду через три-четыре дня, поставив в смешное положение двух сплетниц, которые должны отлично понимать, что так называемый официант — не более чем маска. Они притворились, что не поняли этого, лишь для того, чтобы меня унизить и нанести вред мадам, которая очень неразумно поступила, доверив им секрет.
— Тише, тише. Сколько сложностей! Позвольте мне обнять вас. Эта история мне понравилась чрезвычайно. Позвольте мне действовать. Вы не уедете, дорогой друг, вы познакомитесь с мадам. Позвольте мне посмеяться. Я был молод. И красивые глаза частенько заставляли меня затевать маскарады. Сегодня за столом вы высмеете двух злюк, но изящно. Дело настолько простое, что сам г-н де … посмеется над ним. Его жена, может ли она не знать, что вы ее любите?
— Она должна была заглянуть мне в душу, хотя я только ее разул.
— Это комично.
Он смеясь ушел, и у дверцы своей кареты снова обнял меня в третий раз. Будучи уверен, что м-м …рассказала все, что знала, своим трем приятельницам перед возвращением в Цюрих, я счел едкой и вероломной забаву двух мерзавок у посла, но мои сердечные интересы требовали, чтобы их клевета сошла за остроумную шутку.
Я пришел к послу в половине второго и, отвесив ему глубокий реверанс, увидел двух дам. Я спросил у той, что по виду была более злой, хромала и звалась Ф., узнает ли она меня.
— Вы похожи на официанта из гостиницы в Цюрихе.
— Да, мадам. Я был им в течение часа, чтобы иметь честь видеть вас вблизи, и вы наказали меня, не обратившись ко мне ни с единым словом. Надеюсь, что не буду столь несчастлив здесь, и что вы позволите мне за вами поухаживать.
— Это удивительно. Вы так хорошо играли вашу роль, что никто не мог догадаться, что вы лишь исполняете роль низкого персонажа. Теперь мы посмотрим, так ли хорошо вы сыграете роль того, кого теперь представляете, и если вы придете ко мне, вы окажете мне честь.
После этого комплимента история стала достоянием публики, и тут явилась м-м …, которая пришла вместе с мужем. Она меня видит, она говорит мужу:
— Вот официант из Цюриха.
Бравый муж благодарит меня весьма учтиво за то, что я оказал честь его жене, разув ее. Я вижу, что она ему все рассказала, и мне это нравится. Г-н де Шавиньи сажает ее справа от себя, и я оказываюсь за столом между двумя, что на меня клеветали.
Хотя они и были мне неприятны, я наговорил им любезностей, удерживаясь от того, чтобы не глядеть на мадам …, которая была еще более хороша, чем тогда, когда была одета амазонкой. Ее муж не показался мне ревнивцем, и не настолько старым, как его описали. Посол пригласил его на бал вместе с ней и попросил ее в следующий раз сыграть Шотландку[16], чтобы я не мог сказать герцогу де Шуазейль, что в Золотурне меня недостаточно развлекали. Она ответила, что два актера — это недостаточно; он предложил сыграть лорда Монроза, и я тут же сказал, что сыграю Мюррея. Моя соседка Ф., рассерженная таким раскладом, потому что ей доставалась неприятная роль миледи Эльтон, отпустила мне колкость:
— Почему, — сказала она, — в пьесе нет роли официанта! Вы сыграли бы ее превосходно!
— Но вы научите меня, — ответил я, — сыграть еще лучше роль Мюррея.
Посол назначил день, пятью или шестью днями позже, и назавтра я получил мою маленькую роль. Бал был объявлен, я пошел к себе, чтобы переодеться, и вернулся в зал, одетый с большой элегантностью. Я открыл бал, танцуя менуэт с дамой, которая должна была иметь преимущество перед остальными, потом я танцевал со всеми; но хитрый посол предложил меня м-м… для контрдансов, и никто не мог ничего возразить. Он сказал, что лорд Мюррей должен танцевать только с Линдан.
В первой фигуре контрданса я сказал ей, что приехал в Золотурн только ради нее, и что не будь ее, никогда бы не увидели меня официантом; и что я надеюсь, что она позволит мне ухаживать за ней. Она ответила, что у нее есть причины, мешающие ей принимать мои визиты, но что случай нам увидеться не замедлит представиться, если я не уеду сразу, и если это не привлечет к ней излишнего внимания и разговоров. Объединенные вместе любовь, любезность и ум не могли бы дать более удовлетворительного ответа. Я обещал ей любую осторожность, которой она могла бы пожелать. Моя любовь во мгновение ока превратилась в героическую и полностью под покровом тайны.
Признав себя новичком в искусстве театра, я попросил м-м Ф. меня научить. Я пошел к ней утром, но она приняла это лишь как предлог. Направляясь туда, я делал подкопы под мадам…, которая хорошо понимала мотив, заставлявший меня действовать таким образом. Это была вдова тридцати лет, с злым умом, желтоватым цветом лица и неловкими движениями, потому что она не хотела, чтобы заметили, что она хромает. Она все время говорила, и, желая демонстрировать ум, которого не имела, была утомительна. Я, несмотря на это, должен был изображать влюбленность. Она меня насмешила, сказав однажды, что не предполагала во мне робкого характера, увидав играющим столь хорошо роль официанта в Цюрихе. Я спросил, с чего она предположила во мне робкий характер, и она мне не ответила. Я решил с ней порвать после того, как мы сыграем Шотландку.
Наше первое представление было для зрителей, составляющих весь цвет города. М-м Ф. была счастлива внушить ужас в своей роли, будучи уверена, что сама ее персона этому не соответствует. Г-н де Шавиньи заставил плакать. Говорили, что он сыграл свою роль лучше, чем сам Вольтер. Но кровь моя заледенела, когда в третьей сцене пятого акта Линдан мне сказала: «Как? Вы смеете меня любить?». Она произнесла эти пять слов так странно, столь заметным тоном упрека, даже выходя из настроения своей роли, что все зрители зааплодировали в восторге. Эти аплодисменты меня поразили и выбили из рамок игры, потому что мне показалось, что она посягнула на мою честь. Поскольку по тексту мы были на «Ты», и, как велела моя роль, я должен был ответить: «Да, я вас обожаю, и так и должно быть», я произнес эти слова так трогательно, что аплодисменты удвоились; клики «бис» четырех сотен голосов заставили меня повторить эти слова.
Но, несмотря на аплодисменты, мы сочли за ужином, что мы плохо знаем свои роли. Г-н де Шавиньи сказал, что надо отложить второе представление на послезавтра, и что мы проведем завтра репетицию у него в деревенском доме, где пообедаем. Мы как актеры все хвалили друг друга. М-м Ф. сказала, что я хорошо играю, но роль официанта я играл еще лучше, и все засмеялись, но мне достались еще большие аплодисменты, когда я ответил, что она очень хорошо играла роль Миледи Эльтон, но не могло и быть иначе, потому что ей не пришлось вкладывать в это никаких усилий.
Г-н де Шавиньи сказал М-м …, что зрители, которые аплодировали ей в том месте, где она удивляется, что я ее люблю, были неправы, потому что, произнося эти слова тоном упрека, она вышла из своей роли, так как Линдан должна стремиться к Мюррею.
Назавтра посол заехал за мной на своей коляске, сказав, что мне не нужна моя. Все актеры собрались в его загородном доме. Он сказал г-ну М., что надеется решить его дело, и что они поговорят о нем после обеда и репетиции пьесы. Мы сели за стол, а затем занялись репетицией пьесы, не прибегая к помощи суфлера. К вечеру он сказал всей компании, что ждет нас на ужин в Золотурне, и все уехали, кроме М., с которым он должен был говорить о деле. У меня не было коляски. В момент отъезда меня ждал весьма приятный сюрприз:
— Садитесь со мной в мою коляску, — сказал посол г-ну М., и мы поговорим о нашем деле. Г-н де Сейнгальт[17] будет иметь честь воспользоваться вашей коляской, послужив мадам, вашей супруге.
Я подал руку этому чуду природы, которая поднялась с видом полнейшей невозмутимости, с силой сжав мою руку. И вот мы сидим, один близ другого. Полчаса пролетели как одна минута, но мы не теряли их на разговоры. Наши губы соединились и не разъединялись до самых дверей отеля. Она сошла первой. Ее воспаленное лицо меня напугало. Этот цвет не был ее естественным, мы могли выдать наше преступление всему залу. Ее честь не позволяла мне выставить ее столь изменившейся на суд Ф., которая скорее бы восторжествовала, чем унизилась от такого важного разоблачения. На мысль об уникальном средстве меня натолкнули любовь и фортуна — частенько мой друг: у меня в кармане лежала коробочка с нюхательным табаком. Я быстро сказал ей принять поскорее порцию табака, и сделал то же самое. Слишком большая доза произвела эффект на середине лестницы, и мы продолжали чихать еще добрую четверть часа; ее предательское воспаление было приписано действию порошка. Когда чихание прекратилось, она сказала, что у нее больше не болит голова, но она поостережется в дальнейшем прибегать к такому сильному средству. Я увидел, что м-м Ф. в глубоком раздумье, но не осмелилась ничего сказать.
Это испытание моей доброй фортуны привело меня к решению провести в Золотурне столько времени, сколько потребуется, чтобы полностью меня осчастливить. Я быстро решил снять загородный дом. Каждый человек в моей ситуации, наделенный сердцем, принял бы такое решение. Передо мной была совершенная красавица, которую я обожал, был уверен, что покорю ее сердце, которое пока лишь слегка затронул, у меня были деньги и я был сам себе хозяин. Мне этот проект показался гораздо более продуманным, чем стать монахом в Эйнсиделе. Я был так полон счастьем, в настоящем и в будущем, что мне было безразлично, что об этом скажут. Я оставил все общество за столом и присоединился к послу перед тем, как тот ушел. Я не мог, из соображений галантности, лишить этого любезного старика откровенного признания, которого он столь явно заслуживал.
Как только мы остались одни, он спросил меня, хорошо ли я воспользовался услугой, которую он мне предоставил. Поцеловав в ответ его благородное лицо, я все сказал ему в трех словах: «Я могу надеяться на все». Но когда он услышал историю о нюхательном порошке, его комплиментам не было конца, потому что столь сильно изменившаяся физиономия дамы могла бы выдать состоявшуюся битву. После этого рассказа, который привел его в хорошее настроение, я сказал, что для достижения моего полного счастья, чтобы при этом не задеть честь дамы, я не вижу ничего лучше, чем снять загородный дом, чтобы спокойно дожидаться там милости фортуны. Мне бы хотелось получить от него рекомендации, чтобы нанять меблированный дом, коляску в свое распоряжение, двух лакеев, хорошего повара и гувернантку-горничную, что будет заботиться о моем белье. Он ответил, что подумает об этом. Назавтра наша комедия прошла очень хорошо, и на следующий день он сообщил мне свой проект:
— Я вижу, дорогой друг, что в этой интриге ваше счастье зависит от удовлетворения вашей страсти, так, чтобы не нанести при этом ущерба репутации М-м… Я также уверен, что вы уедете, не достигнув ничего, если она даст вам понять, что ваш отъезд необходим для сохранения ее мира. Отсюда вы видите, что я тот человек, который нужен, чтобы дать вам совет. Необходимо, если вы действительно хотите остаться не разоблаченным, воздержаться от малейших действий с вашей стороны, которые могут заронить подозрение в ком-то, кто не верит в вашу незаинтересованность. Короткое свидание, которое я вам обеспечил позавчера, может показаться здравому уму лишь плодом самого чистого случая, и операция с нюхательным табаком сводит на нет догадки самой проницательной злобы, потому что поклонник, который хочет ухватить за волосы случай, благоприятный для своей любви, прибегнет к тому, чтобы наслать конвульсии на голову своей красавицы лишь в случае счастливой встречи, когда она окажется в его руках, и невозможно будет догадаться, что был использован чихательный порошок, чтобы замаскировать краску, бросившуюся ей в лицо. Но и нельзя будет любовнику слишком часто пользоваться этим средством, чтобы скрывать наслаждение, вызвавшее такой эффект, имея в кармане этот раздражитель. Того, что произошло, недостаточно, чтобы вас разоблачить. Сам г-н М., который, не желая выглядеть ревнивцем, все же таковым является, не может найти ничего необычного в том, что я пригласил его вернуться в Золотурн вместе со мной, потому что он не догадывается, что я захотел быть вашим Меркурием, в то время как вполне естественно и сообразно с обычными правилами вежливости, которых он никогда не нарушает, чтобы его дражайшая супруга возвратилась сюда, занимая место в моем визави, которое в этот раз я захотел, чтобы он занял сам из-за участия, которое я проявил в его важном деле.
После этого долгого вступления, которое я вам сделал в стиле Государственного секретаря в Совете, перейдем к заключению. Два дела вам необходимы, чтобы достичь счастья. Первое, что вам надо сделать, это заставить М. стать вашим другом, не давая ему никакого основания для догадки, что вы остановили свой выбор на его жене, и в этом я могу вам помочь. Второе, которое касается дамы, — чтобы объяснения всего, что происходит, были бы для всех понятны. Скажу вам теперь, что вы можете снять этот загородный дом только при условии, что мы с вами найдем очень правдоподобное объяснение, достаточное, чтобы пустить пыль в глаза всем наблюдателям. Я нашел такое объяснение вчера, думая о вас. Вам следует притвориться больным, и найти при этом болезнь, в которой, с ваших слов, врач не сможет усомниться. К счастью, я знаю такого, страстью которого является прописывать загородный воздух и ванны почти от всех болезней. Этот врач должен днями прийти ко мне, чтобы прощупать мне пульс. Вы пригласите его для консультации в свою гостиницу, дав ему два луи; я уверен, что он пропишет вам, по меньшей мере, загородный воздух, и расскажет всему городу, что он уверен, что вас вылечит. Это в характере Хереншвандта, который, впрочем, человек ученый.
— Как он оказался здесь? Он мой друг. Я познакомился с ним в Париже, у м-м дю Рюмэн.
— Это его брат. Найдите приличную болезнь, которая вас не портит. Потом мы найдем дом, и я дам вам человека, который будет готовить вам превосходные рагу.
Выбор этой болезни заставил меня подумать. Я сообщил набросок моего проекта по секрету М-м …, и она его одобрила. Я попросил ее найти способ, чтобы нам переписываться, и она обещала подумать. Она сказала, что ее муж обо мне самого лучшего мнения, и что он не нашел ничего дурного в том, что я оказался с ней в его коляске. Она спросила меня, нашел ли г-н де Шавиньи поведение ее мужа естественным, или напряженным, и я ответил — естественным. Она подняла свои прекрасные глаза к небу, прикусив губу.
— Это вам не нравится, милый друг?
— Увы!.. Нет.
Три-четыре дня спустя врач прибыл, чтобы посмотреть третье представление «Шотландки» и пообедать у посла. Когда он сделал мне за десертом комплимент по поводу моего, по видимости, хорошего здоровья, я сказал, что видимость обманчива, и просил бы его уделить мне немного своего времени. Обрадованный, что обманулся, он предложил мне встречу у меня в гостинице на завтра. Он пришел, и я наговорил ему того, что пришло мне в голову.
— Меня посещают каждую ночь, — сказал я, — любовные сны, которые меня изнуряют.
— Мне знакома, месье, эта болезнь, и я вылечу ее двумя средствами. Первое, которое вам, быть может, не понравится, — это провести шесть недель за городом, где вы не будете видеть предметы, производящее в вашем мозгу впечатление, которое, воздействуя на седьмую пару нервов, причиняет вам поясничное раздражение, которое должно также, при вашем пробуждении, вгонять вас в большую печаль.
— Это правда.
— О! Я это знаю. Второе средство состоит в холодных ваннах, которые вас взбодрят.
— Далеко ли они отсюда?
— Где вы закажете, потому что я сейчас опишу их состав. Аптекарь вам их приготовит.
Написав рецепт и получив два луи, он ушел, и уже до полудня весь город был информирован о моей болезни и о моем решении поселиться за городом. Г-н де Шавиньи болтал об этом за столом, говоря г-ну Хереншвандту, что следует оградить меня от дамских визитов. Г-жа Ф. сказала, что следует защитить меня также и от некоторых портретов в миниатюре, которыми была полна моя шкатулка. М., который был анатом, счел рассуждение доктора прекрасным. Общество порекомендовало послу найти мне загородный дом и повара, потому что я не любил плохо питаться.
Лишившись необходимости играть фальшивую роль, я не ходил больше к м-м Ф. Она посмела меня упрекнуть в непостоянстве, в сильных выражениях, заявив, что я ею играл. Она сказала, что она знает все, и пообещала отомстить. Я ответил, что ей не за что мне мстить, так как я ничего ей не обещал, но если она думает меня убить, я попрошу охрану. Она ответила, что она не итальянка.
Обрадованный тем, что избавился от этой гадюки, я сделал М-м… единственным объектом моих мыслей. Г-н де Шавиньи, полностью в моих интересах, внушил М., что я тот, кто может склонить герцога де Шуазейля, генерал-полковника королевских швейцарцев проявить милость к его кузену, который убил на дуэли в замке Мюэт его человека. Он сказал, что я могу многое, с помощью герцогини де Грамон, и, рассказав мне обо всем, спросил, хочу ли я заняться этим делом и оказать такую любезность, и могу ли я рассчитывать на успех. Это был способ добиться дружбы М. Я ответил, что не могу быть уверен в успехе, но охотно займусь этим.
Он поставил меня в известность обо всем в присутствии М. младшего, который принес мне все бумаги, излагающие обстоятельства дела, впрочем, весьма простые. Я провел значительную часть ночи за написанием письма, направленного непосредственно герцогине де Граммон, затем герцогу, ее отцу, и написал м-м д'Юрфэ, что благополучие ордена розенкрейцеров зависит от милости, которую окажет король некоему офицеру, который из-за этой дуэли вынужден был покинуть королевство.
Я отнес на другой день поутру послу письмо, которое должно было предстать перед глазами герцога. Он нашел его превосходным и сказал, чтобы я шел показать его М., которого я застал в ночном колпаке. Исполненный благодарности за интерес, который я принял в его деле, он воздал мне самые горячие слова благодарности, сказав, что его жена еще в постели, и просил меня подождать, чтобы позавтракать вместе с ней, но я просил передать ей мои извинения, потому что почта уходит в полдень и время торопит.
Я вернулся в свою гостиницу, где запечатал и отнес на почту мои письма, затем пошел обедать к послу, который меня ожидал.
Похвалив мое решение не ожидать, когда М-м сойдет с постели, и заверив, что ее муж должен теперь стать моим задушевным другом, он показал мне письмо Вольтера, который свидетельствовал ему свою благодарность за исполнение роли Монроза, которую тот сыграл в «Шотландке», и другое — от маркиза де Шовелен, который был сейчас в «Ле Делис»[18] у того же Вольтера. Он пообещал ему визит перед своим возвращением в Турин, куда он направлялся как посол.
После обеда я возвратился к себе, чтобы переодеться, потому что это был день ассамблеи и ужина при дворе, как называли резиденцию посла Франции в Швейцарии.
Глава VI
Мой загородный дом. Мадам Дюбуа. Я совершаю ошибку. Гнусная хромоножка. Мои страдания.
Входя в зал, я вижу М-м М… внимательно читающую письмо. Я подхожу к ней, чтобы попросить прощения за то, что не подождал ее с завтраком; она отвечает, что я хорошо сделал, и говорит, что если я еще не снял загородный дом, который мне нужен, я доставлю ей удовольствие, согласившись на тот, что предложит мне ее муж прямо в этот же день, за ужином.
Она не смогла сказать мне больше, так как муж позвал ее на кадриль. Я расположился играть. За столом все говорили со мной о моем здоровье и о ваннах, которые я собираюсь принимать в загородном доме, который хочу снять. М., как и предупредила меня его супруга, заговорил со мной об одном, близ Аара, который очарователен. Но он хочет, — сказал он мне, — сдать его не менее чем на шесть месяцев.
Я ответил, что предвижу, что он мне понравится, и что я могу уехать, когда захочу, но заплачу ему за шесть месяцев авансом.
— В нем есть зала, красивей которой нет во всем кантоне.
— Тем лучше: я дам там бал. Поедем его смотреть завтра утром, не позже. Я приду за вами в восемь часов.
— Буду с удовольствием вас ждать.
Пред тем, как ложиться, я заказал берлину с четверкой лошадей, и в восемь часов застал М. полностью готовым. Он сказал, что хотел пригласить жену вместе с нами, но она лентяйка, которая любит валяться в постели. Мы прибыли в красивый дом, менее чем в часе езды, и я нашел его превосходным. Там можно было поместить двадцать любовниц. Помимо залы, которой я залюбовался, там был кабинет, увешанный изысканными эстампами. Большой сад, прекрасный огород, фонтан и жилой корпус, очень удобный, чтобы принимать ванны. Найдя все прекрасным, мы вернулись в Золотурн. Я попросил М. заняться всем, чтобы я смог переселиться туда завтра. Я нашел Мадам очарованной, когда ее муж сообщил ей, что дом мне понравился. Я сказал, что надеюсь, что они окажут мне честь часто там обедать, и М. дала мне в этом слово. Отдав сотню луи, которые требовались, чтобы снять дом на шесть месяцев, я обнял его и отправился обедать, как всегда, с послом.
Когда я сказал ему, что снял дом, который М. предложил мне, по воле его жены, которая меня об этом предупредила, он не нашелся, что сказать.
— Но хорошо ли, — спросил он, — что вы собираетесь дать там бал?
— Хорошо, если я получу за свои деньги то, что мне нужно.
— У вас с этим не будет затруднений, потому что вы найдете у меня все, что вы могли бы найти за ваши деньги. Я вижу, что вы намерены потратиться. Вы получите двух лакеев, горничную и повара; мой метрдотель их наймет, и вы вернете ему сумму; он честный человек. Я буду приходить иногда поесть вашего супу и послушать с удовольствием прелестную историю о состоянии интриги. Я высоко ценю эту молодую женщину, ее поведение разумно не по возрасту, и знаки любви, данные вам ею, должны заставить вас ее уважать. Знает ли она, что я все знаю?
— Она знает только, что Ваше Превосходительство знает, что мы любим друг друга, и она не сердится, потому что уверена в вашей деликатности.
— Это очаровательная женщина.
Аптекарь, которого мне рекомендовал врач, пришел в тот же день, чтобы составить мне ванны, которые должны были меня вылечить от болезни, которой у меня не было, и послезавтра я туда отправился, приказав Ледюку сопровождать меня со всем моим багажом. Но каково же было мое удивление, когда, войдя в помещение, которое я должен был занимать, я увидел там молодую женщину или девушку с очень красивым лицом, которая подошла ко мне с намерением поцеловать руку. Я отстранил ее, и мой удивленный вид заставил ее покраснеть.
— Вы из этого дома, мадемуазель?
— Метрдотель монсеньора посла нанял меня вам в услужение в качестве горничной.
— Извините мое удивление. Пойдемте в мою комнату.
Когда мы остались одни, я сказал ей сесть рядом со мной на канапе. Она ответила мне ласково и с самым скромным видом, что не может принять эту честь.
— Как вам угодно; но у вас не вызовет затруднений, надеюсь, есть вместе со мной, когда я вас попрошу, потому что когда я ем один, мне неуютно.
— Я буду вам подчиняться.
— Где ваша комната?
— Там. Это метрдотель мне ее показал, но от вас зависит приказать.
Она была позади алькова, где стояла моя кровать. Я вхожу туда вместе с ней и вижу на софе платья, примыкающую туалетную комнату со всеми принадлежностями, юбки, колпаки, башмаки, ночные туфли и красивый дорожный сундук, где вижу в изобилии белье. Я смотрю на нее, вижу ее серьезное поведение, одобряю его, но мне кажется, что следует устроить ей строгий экзамен, потому что она слишком интересна и слишком хорошо одета, чтобы быть не более чем горничной. Я подозреваю, что это игра, которую затеял со мной г-н де Шавиньи, потому что такая девушка, которой должно быть не более чем двадцать четыре-двадцать шесть лет, имеющая гардероб, который я вижу, кажется мне более подходящей для роли любовницы такого человека, как я, чем горничной. Я спрашиваю, знает ли она посла, и какую оплату ей обещали, и она отвечает, что знает посла только по виду, и что метрдотель сказал ей, что она будет иметь два луи в месяц и стол в своей комнате. Она говорит, что она из Лиона, вдова, и что ее зовут Дюбуа. Я оставляю ее, так и не решив, что будет, так как, чем больше я на нее смотрю и разговариваю с ней, тем более нахожу ее интересной. Я прохожу в кухню и вижу там молодого человека, трудящегося над паштетом. Его зовут дю Розье. Я знал его брата на службе у посла Франции в Венеции. Он говорит мне, что в девять часов мой ужин будет готов.
— Я никогда не ем один.
— Я знаю.
— Сколько вы имеете в месяц?
— Четыре луи.
Я вижу двух слуг приятной внешности, хорошо одетых. Один из них говорит, что даст мне то вино, которое я запрошу. Я иду в маленький дом для ванн, где нахожу слугу аптекаря, который трудится над составлением мне ванны, которую я должен принимать завтра и каждый день.
Проведя час в саду, я пошел к консьержу, где увидел большую семью, и дочерей, которые не были неприятны. Я провел пару часов, болтая с ними, очарованный тем, что все говорят по-французски.
Поскольку я захотел осмотреть весь мой дом, жена консьержа провела меня повсюду. Я вернулся в мои апартаменты, где нашел Ледюка, который распаковывал чемоданы. Сказав ему, чтобы отдал мое белье м-м Дюбуа, я пошел писать. Кабинет был красивый, с северной стороны, с одним окном.
Очаровательная перспектива, казалось, была создана, чтобы плодить в душе поэта самые счастливые идеи, порожденные свежестью воздуха и ощутимой тишиной, ласкающей слух в этой улыбающейся обстановке. Я чувствовал, что для того, чтобы насладиться некоторыми простыми радостями, человек должен быть влюблен и счастлив. Я торжествовал.
Я слышу стук и вижу мою прекрасную горничную, которая с веселым видом, совсем не соответствующим тому, когда хотят на что-то пожаловаться, просит сказать моему камердинеру, чтобы был с ней повежливее.
— И чем он вас обидел?
— Может быть, ничем, по его мнению. Он хочет меня обнимать, я уклоняюсь, и он, полагая, что это его право, становится немного дерзким.
— До какой степени?
— Смеясь надо мной. Извините, месье, если я в этом слишком чувствительна. Зубоскальство мне не нравится.
— Вы правы, голубушка. Это происходит по глупости, либо от злобы. Ледюк будет знать, что к вам следует относиться уважительно. Вы будете ужинать со мной.
Полчаса спустя, зайдя что-то спросить, я сказал ему, что он должен уважать Дюбуа.
— Эта недотрога не захотела, чтобы я ее поцеловал.
— Ты наглец.
— Она ваша горничная или любовница?
— Это, может быть, моя жена.
— Этого достаточно. Пойду развлекаться к консьержу.
Я был весьма доволен своим легким ужином и превосходным вином Нефшателя. Моя горничная удовлетворилась местным вином, которое тоже было исключительным. Я был весьма удовлетворен и поваром, и благонравием моей горничной, и моим испанцем, который сменял ей тарелки без всякой аффектации. Я отослал моих людей, распорядившись о моей ванне на шесть часов утра. Оставшись за столом наедине с этой слишком красивой особой, я попросил ее рассказать мне свою историю.
— Моя история очень короткая. Я родилась в Лионе. Мои мать и отец отвезли меня с собой в Лозанну, как я узнала от них самих, потому что сама этого не помню. Я знаю, что мне было четырнадцать лет, когда мой отец, бывший кучером у м-м д'Эрманс, умер. Эта дама взяла меня к себе, и через три или четыре года я поступила в услужение к миледи Монтегю в качестве горничной, и ее старый лакей Дюбуа на мне женился. Три года спустя я осталась вдовой в Виндзоре, где он умер. Воздух Англии вызвал у меня изнурение, я попросила отпуска у моей благородной хозяйки, которая мне его предоставила, оплатив мое путешествие и сделав значительные подарки. Я вернулась в Лозанну к моей матери, где поступила на службу к английской даме, которая меня очень любила и привезла бы меня с собой в Италию, если бы у нее не возникли подозрения относительно молодого герцога де Росбюри, который показался ей влюбленным в меня. Она его любила и заподозрила во мне соперницу. Она ошибалась. Она засыпала меня подарками и отправила к моей матери, где я два года занималась рукоделием. Г-н Лебель, метрдотель посла, спросил меня четыре дня назад, пойду ли я в услужение к итальянскому сеньору в качестве горничной, и сказал мне условия. Я согласилась, имея всегда желание увидеть Италию; это желание явилось причиной моего легкомыслия, я согласилась, и вот, я здесь.
— О каком легкомыслии вы говорите?
— О приезде моем сюда, не узнав предварительно о вас.
— Вы бы не приехали, если бы узнали обо мне заранее?
— Нет, разумеется, потому что здесь у меня не будет таких условий, как у других женщин. Вам не кажется, что вы не можете иметь горничную вроде меня, чтобы при этом не говорили, что вы держите меня для других целей?
— Я ожидал этого, потому что вы очень красивы, а я не выгляжу как осьминог, но я не обращаю на это внимания.
— Я бы тоже не обращала на это внимания, если бы мое состояние позволяло мне пренебрегать этими предрассудками.
— Иными словами, моя красавица, вы настроены вернуться в Лозанну.
— Не теперь, так как это доставит вам проблемы. Смогут подумать, что вы мне не понравились из-за слишком свободного поведения, и вы, быть может, составите обо мне ошибочное суждение.
— Что я подумаю? Прошу вас.
— Вы решите, что я хочу вас к этому расположить.
— Такое могло бы быть, так как ваш резкий и необъяснимый отъезд меня живо заденет. Но, тем не менее, я на вас сердит. При таком образе мыслей вы не можете ни добровольно остаться у меня, ни уехать. Но вам, однако, надо принять решение.
— Я его приняла. Я остаюсь, и я почто уверена, что не пожалею об этом.
— Ваше решение мне нравится; но есть одна трудность.
— Не будете ли вы добры мне ее объяснить?
— Я должен, дорогая Дюбуа. Не должно быть никакой печали и никаких щепетильностей.
— Вы никогда не найдете меня печальной; но пожалуйста, давайте объяснимся насчет слова щепетильность. По поводу чего вы ожидаете щепетильности?
— Мне это нравится. Слово щепетильность в обычном смысле означает суеверное негодование по поводу действий, которые предполагаются порочными, хотя на самом деле могут быть вполне невинны.
— Если действия вызывают во мне сомнение, я не склонна судить о них слишком сурово.
— Вы, полагаю, много читали.
— Я только и делаю, что читаю, потому что без этого мне скучно.
— У вас есть книги?
— Много. Вы понимаете по-английски?
— Ни слова.
— Жаль, потому что они бы вам понравились.
— Я не люблю романы.
— Я тем более.
— Мне это нравится.
— Отчего же, скажите пожалуйста, у вас так поспешно возникают романтические суждения?
— Вот это я тоже люблю. Такая игривость мне нравится, и я очарован возможностью вас тоже насмешить.
— Извините, что я смеюсь, но…
— Никаких но. Смейтесь и над тем и над этим, и вы не найдете лучшего средства мной управлять. Я нахожу, что вы для меня очень удачное приобретение.
— Я должна снова засмеяться, так как только от вас зависит увеличить мой заработок.
Я поднялся из-за стола, очень удивленный этой молодой женщиной, у которой имелось все, чтобы стать моей слабостью. Она рассуждала, и в этом первом диалоге она разделала меня вчистую. Юная, красивая, держится с элегантностью и с умом, — я не мог представить, куда она меня заведет. Мне не терпелось поговорить с г-ном Лебелем, который предоставил мне такую вещь. Собрав приборы и отнеся их в свою комнату, она явилась спросить, ставлю ли я папильотки под ночной колпак. Этим занимался Ледюк, но я с удовольствием отдал ей предпочтение. Она справилась с этим очень хорошо.
— Я предвижу, — сказал я ей, — что вы будете мне служить как миледи Монтегю.
— Не сразу. Но поскольку вы не любите огорчаться, я должна просить вас о милости.
— Просите, дорогая.
— Я не хотела бы служить вам в ванной.
— Как бы я мог об этом даже подумать! Это было бы слишком скандально. Это дело Ледюка.
— Прошу вас меня извинить, но я вынуждена попросить вас еще об одной милости.
— Говорите мне свободно все, чего вы хотите.
— Могу ли я поместить спать в моей комнате одну из дочерей консьержа?
— Клянусь вам, что если бы я задумался об этом хоть на минуту, я бы сказал вам об этом. Она в вашей комнате?
— Нет.
— Пойдите, позовите ее.
— Я сделаю это завтра, так как если пойду за ней сейчас, могут заинтересоваться причинами. Я благодарю вас.
— Дорогой друг, вы разумны. Будьте уверены, что я никогда не стану мешать вам оставаться такой.
Она помогла мне раздеться, и должна была бы найти меня очень благопристойным, но, задумавшись о своем поведении перед сном, я увидел, что оно не проистекало из моей добродетели. Мое сердце было занято М-м М…, и м-м Дюбуа этому помешала; я, быть может, обманывал себя таким образом, но не остановился на этой мысли.
Утром я позвонил Ледюку, который сказал, что уже не надеялся удостоиться этой чести. Я обозвал его дураком. Приняв холодную ванну, я снова лег, заказав ему две чашки шоколаду. Моя бонна пришла в элегантном дезабилье, смеющаяся.
— Вы веселы, моя прекрасная служанка.
— Весела, так как очень рада быть с вами, я хорошо спала, я погуляла, и в моей комнате есть девушка, очень милая, которая спит со мной.
— Пригласите ее войти.
Я рассмеялся, увидев дурнушку весьма дикого вида. Я сказал ей, что она будет пить со мной каждое утро шоколад, и она радостно сказала, что очень его любит. После обеда явился г-н де Шавиньи, провел со мной три часа и остался очень доволен моим домом, но весьма удивлен горничной, которой снабдил меня Лебель. Тот ему об этом ничего не говорил. Он нашел, что это настоящее средство, чтобы излечить меня от любви, которую внушила мне м-м М… Я заверил его, что он ошибается. Он сказал при этом все, что можно сказать самого пристойного.
Не позднее, чем на следующий день, как раз в момент, когда я садился за стол со своей бонной, ко мне во двор въехала коляска, и я вижу м-м Ф., которая из нее выходит. Я был удивлен и недоволен, но не мог отправить ее обратно.
— Я не ожидал, мадам, чести, которую вы мне оказываете.
— Я приехала просить вас об одном удовольствии, после того, как мы пообедаем.
— Входите же, потому что суп уже на столе. Я представляю вам м-м Дюбуа.
— М-м Ф., говорю я той, будет обедать с нами.
Моя бонна отдает честь столу, играя роль хозяйки, как ангел, и м-м Ф., несмотря на свое чванство, не подает ни малейшего вида недовольства. Я не сказал и двадцати слов за все время обеда, не уделяя этой полоумной никакого внимания, обеспокоенный впрочем, какого рода удовольствия она от меня ждет.
Когда Дюбуа нас покинула, она сказала мне без уверток, что прибыла просить меня выделить ей две комнаты на три-четыре недели. Очень удивленный ее наглостью, я отвечаю, что не могу доставить ей это удовольствие.
— Вы мне его доставите, потому что весь город знает, что я приехала просить вас о нем.
— Я нуждаюсь в одиночестве и в полной свободе; любая компания меня раздражает.
— Я вас не буду раздражать, и лишь от вас зависит, чтобы никто не узнал, что я у вас. Я не сочту дурным, если вы не будете даже справляться о моем здоровье, так же, как я о вашем, даже когда вы заболеете. Я попрошу готовить мне еду мою служанку на маленькой кухне и не пойду гулять в ваш сад, когда буду знать, что вы там. Помещение, которое я у вас прошу, это две задние комнаты на первом этаже, куда я могу входить и выходить по маленькой лестнице, никого не видя и оставаясь невидимой. Скажите теперь, чисто из вежливости, можете ли вы отказать мне в этом удовольствии.
— Если вы знакомы просто с правилами вежливости, вы их не нарушите, и вы не станете проявлять упорство, выслушав, что я вам отказываю.
Она мне не отвечает, и я прохаживаюсь по комнате, вдоль и поперек, как одержимый. Я думаю о том, чтобы выставить ее за дверь. Мне кажется, что я имею право счесть ее сумасшедшей, затем я размышляю о том, что у нее должны быть родственники, и что она сама, если с ней обойтись без церемоний, станет моим врагом и прибегнет, возможно, к какой-то ужасной мести. Я думаю, наконец, что М-м М… поплатится за любое насильственное решение, которое я предприму, чтобы избавиться от этой гадюки.
— Ну что ж, мадам, — говорю я, у вас будут апартаменты, и через час после того, как вы туда войдете, я возвращаюсь в Золотурн.
— Я согласна на апартаменты, и я туда вселюсь послезавтра, и я не думаю, что вы сделаете глупость вернуться после этого в Золотурн. Вы заставите смеяться весь город.
Сказав это, она встала и вышла. Я предоставил ей идти, не пошевельнувшись; но секунду спустя раскаялся, что отступил, потому что ее демарш и ее наглость были невиданны и беспрецедентны. Я почувствовал себя дураком, трусом и скотиной. Я не должен был принимать дело всерьез, но посмеяться, высмеять ее, сказать ей ясно, что она сошла с ума, и заставить уйти, призвав в качестве свидетелей всю семью консьержа и моих слуг. Когда я рассказал о случившемся Дюбуа, я видел, что она удивлена. Она сказала, что поступок такого рода невероятен, и что мое намерение прибегнуть к подобному насилию допустимо, лишь если у меня есть серьезные мотивы, способные меня оправдать.
Видя, что она рассуждает правильно, и не желая ни о чем ее информировать, я принял решение больше ничего ей не говорить. Я пошел прогуляться до часа ужина и оставался с ней за столом до полуночи, находя ее все более милой, полной ума и очень забавной во всех историйках, что она мне рассказывала, и которые ее занимали. У нее был очень свободный ум, но она считала, что, не придерживаясь максим, которые считаются свойственными уму и порядочности, она будет несчастна. Она была, таким образом, мудра скорее в силу своей системы, чем добродетели; но если бы она не имела добродетельных представлений, она не смогла бы придерживаться своей системы.
Я счел свое приключение с Ф. настолько экстраординарным, что не смог запретить себе пойти назавтра с утра попотчевать этой историей г-на де Шавиньи. Я сказал своей бонне, что она может обедать, не дожидаясь меня, если я не вернусь к обычному часу.
Посол уже знал, что Ф. приходила ко мне, но разразился смехом, когда я рассказал, каким образом она меня победила.
— Ваше превосходительство находит это смешным; я — нет.
— Я это вижу, но поверьте мне, что вы должны над этим тоже посмеяться. Отнеситесь ко всему этому, как если бы вы не знали, кто к вам явился, и она будет наказана. Скажут, что она влюблена в вас, и что вы ее отвергаете. Я советую пойти рассказать всю эту историю М. и остаться с ним обедать без всяких околичностей. Я говорил о вашей прекрасной горничной с Лебелем. Он не слышал о ней ничего порочащего. Она приехала из Лозанны час спустя после того, как я поручил ему найти для вас приличную горничную, он это вспомнил, предложил Дюбуа, и все было сделано. Это находка для вас, потому что когда вы влюбитесь, она не заставит вас томиться.
— Не знаю, потому что у нее есть принципы.
— Я уверен, что вы не наделаете глупостей. Я приеду завтра к вам обедать, и с удовольствием с ней поболтаю.
— Ваше Превосходительство доставит мне искреннее удовольствие.
М. проявил по отношению ко мне настоящее радушие и поздравил с прекрасным достижением, которое должно обеспечить мне счастливое загородное житье. Его жена, хотя и знала об истинном положении вещей, тоже выдала мне комплимент, но я увидел, что они оба были поражены, когда я рассказал им в деталях всю историю. М. сказал, что если эта женщина действительно мне станет в тягость, лишь от меня будет зависеть получить правительственное распоряжение, чтобы ее ноги у меня не было. Я сказал, что не хочу прибегнуть к такому средству, потому что, помимо того, что оно ее опозорит, оно и меня представит слабым, потому что все должны знать, что я волен поступать, как хочу, и что она никогда не сможет вселиться ко мне без моего согласия. Его супруга сказала мне серьезно, что я хорошо сделал, что предоставил той апартаменты, и что она нанесет той визит, потому что та сама сказала, что снимет завтра у меня помещение. Я больше об этом не говорил, был приглашен поесть у них супу и чем бог послал, и остался. Мои отношения с Мадам… были в пределах общей вежливости, и у ее мужа не могло возникнуть ни малейшего подозрения относительно нашего поведения. Она улучила момент, чтобы сказать мне, что я хорошо сделал, согласившись предоставить помещение этой злой особе, и что я смогу пригласить ее мужа провести два-три дня у себя, после того, как г-н де Шовелен, которого они ждут, уедет. Она сказала мне также, что консьержка моего дома — ее кормилица, и что она сможет писать мне через нее, когда понадобится.
Проделав визит к двум итальянским иезуитам, которые были в это время проездом в Золотурне, и пригласив их обедать назавтра, я вернулся домой. Моя бонна развлекала меня до полуночи философскими разговорами. Она любила Локка. Она говорила, что способность мыслить не является доказательством нематериальности нашей души, потому что Бог мог придать способность мыслить и материи. Я много смеялся, когда она сказала, что есть разница между понятиями мыслить и рассуждать.
— Я думаю, — сказал я ей, — что вы рассудите здраво, убедив себя лечь со мной, и весьма разумно — не согласившись с этим.
— Поверьте мне, — ответила она, — что между рассуждениями мужчины и женщины такое же различие, как между двумя полами.
На следующий день мы пили свой шоколад в девять часов, когда прибыла м-м Ф. Я только подошел к окну. Она отослала свою коляску и направилась в свои апартаменты вместе со своей горничной. Отправив Ледюка в Золотурн за моими письмами, я попросил бонну меня причесать, сказав, что к обеду мы ждем посла и двух итальянских иезуитов. Я заказал повару приготовить хороший обед, постное и скоромное, поскольку была пятница. Я видел, что бонна была весьма обрадована, и отлично меня причесала. Побрившись, я отдал ей мои подарки, и она приняла их с большим изяществом и благодарностью, уклонившись, однако, от меня своим прелестным ротиком. В первый раз я поцеловал ее в щеки. Это был тот тон, который мы выработали совместно. Мы были влюблены и целомудренны, но она должна была страдать меньше, чем я, по причине свойственного ее полу кокетства, зачатую более могущественного, чем любовь. Г-н де Шаввиньи прибыл в одиннадцать часов. Я пригласил к обеду иезуитов, предупредив его об этом, и отправил за ними свою коляску; в ожидании мы пошли пройтись. Он пригласил мою бонну присоединиться к нам, после того, как она распорядится обо всем по хозяйству. Этот человек был одним из тех, кого Франция, когда она была монархией[19], берегла, чтобы отправлять, по случаю и в зависимости от обстоятельств, туда, где ей появлялась нужда привлечь к себе силы и возможности, которые она использовала в своих интересах. Таков был г-н де л'Опиталь, который мог привлечь к себе двор Елизаветы Петровны[20], герцог де Нивернуа, который делал в 1762 году с кабинетом на Сент-Джеймс что хотел, и многие другие, которых я знал. Маркиз де Шавиньи, прогуливаясь в моем саду, нашел в характере моей бонны все то, что могло бы сделать мужчину счастливым; и она окончательно его очаровала за столом, где загнала двух иезуитов разговорами, исполненными доброй шутки… Проведя весь день с наибольшим удовольствием, он удалился в Золотурн, попросив меня приехать обедать к нему, когда он известит меня, что г-н де Шовелен прибыл.
Этот любезный господин, с которым я познакомился у герцога де Шуазейля в Версале, прибыл два дня спустя. Он меня сразу узнал и представил своей очаровательной супруге, с которой я не был знаком. Случайно получилось, что я оказался за столом рядом с Мадам М…, мной овладело веселое настроение, и я рассказывал забавные вещи. Г-н де Шовелен сказал, что знает весьма забавные истории, которые мне понравятся.
— Но вы не знаете, — сказал ему г-н де Шавиньи, — цюрихскую историйку; и рассказал ее.
Г-н де Шовелен сказал М-м М…, что для того, чтобы иметь честь ей послужить, он готов быть ее кучером, но М. ему ответил, что мой вкус намного более тонкий, потому что та, что меня поразила, живет у меня в моем загородном доме.
— Давайте нанесем вам визит. — сказал мне г-н де Шовелен.
— Да, — подхватил г-н де Шавиньи, — поедем все вместе.
И тут же попросил у меня предоставить ему мой прекрасный зал, чтобы дать бал не позднее чем в ближайшее воскресенье.
Таким образом, старый придворный помешал мне самому вызваться устроить бал. Это была фанфаронада, которая меня огорчила. Я бы восставал против права, по которому лишь посол мог принимать знатных иностранцев в течение тех пяти-шести дней, что они намеревались провести в Золотурне, правда, я оказался бы при этом втянут в очень разорительную глупость.
Говоря о комедиантах, игравших у г-на де Вольтера, заговорили о «Шотландке» и воздали хвалы моей соседке, которая покраснела и стала хороша, как звезда. Посол пригласил нас всех на бал на завтра. Я вернулся к себе, без памяти влюбленный в эту очаровательную женщину, которую господь создал, чтобы причинить мне самое большое горе в жизни. Читатель в этом убедится.
Моя бонна к моему возвращению уже легла, и я был этому рад, так как глаза М-м М… не вызвали у меня помрачения разума. Она нашла меня назавтра грустным и с умом обрушилась на меня за это. В тот момент, когда мы завтракали, появилась горничная м-м Ф. и передала мне записку. Я сказал ей, что отправлю ответ. Я распечатал записку и прочел следующее:
«Посол направил мне приглашение на бал. Я ответила, что нехорошо себя чувствую, но если к вечеру буду чувствовать себя лучше, я приду. Мне кажется, что, находясь у вас, я должна и явиться туда с вами, или вообще не ходить. Если у вас нет желания доставить мне удовольствие отвести меня туда, я прошу вас сказать там, что я больна. Извините, если я сочла возможным нарушить наши условия в этом единственном случае, потому что тут речь идет о том, чтобы продемонстрировать публике по крайней мере видимость добрых отношений».
Вне себя от гнева, я взял перо и ответил: «Вы предприняли, мадам, хитрую уловку. Скажут, что вы больны из-за того, что я удостоился чести послужить вам в полной мере насладиться моей свободой». Моя бонна посмеялась над запиской, которую написала мне дама, и сочла, что она заслужила мой ответ. Я запечатал его и отправил. Я провел на балу очень приятную ночь, потому что много болтал с объектом моей страсти. Она посмеялась над моим ответом на записку Ф., но не одобрила ее, потому что, как сказала она, в жилах у той забурлит яд гнева, и бог знает, какие разрушения произведет взрыв. Я провел у себя два следующих дня, и в воскресенье спозаранку пришли люди посла и принесли все, необходимое для бала и для ужина, привели все в порядок для оркестра и осветили весь дом. Метрдотель явился отдать мне поклон, когда я был за столом. Я пригласил его сесть и поблагодарил за прекрасный подарок, который он мне сделал, дав такую очаровательную горничную. Это был прекрасный человек, уже немолодой, порядочный, любезный и очень сведущий в своей области.
— Кто из вас двоих, — спросил он, — более разочарован?
— Никто, — сказала Дюбуа, — потому что мы оба довольны друг другом.
Первой к вечеру прибыла М-м М… со своим мужем. Она очень уважительно говорила с моей бонной, когда я сказал, что это моя горничная. Она сказала, что я непременно должен отвести ее к Ф., и я вынужден был подчиниться. Он встретила нас с видимостью самой глубокой дружбы и вышла с нами, чтобы пройтись, поддерживаемая М. Сделав круг по саду, М-м М… сказала мне отвести ее к ее кормилице.
— Кто это ваша кормилица?
— Это консьержка, — сказал мне М., — мы подождем вас у Мадам.
— Скажите мне, — спросила она дорогой, — ваша горничная спит иногда с вами?
— Нет, клянусь. Я могу любить только вас.
— Если дело обстоит так, вы напрасно ее держите, потому что никто этому не поверит.
— Мне достаточно, что вы сами не думаете, что я в нее влюблен.
— Я не могу поверить, что то, что вы говорите, правда. Она очень красива.
Мы вошли к консьержке, которая назвала ее дочкой, обласкала ее, затем оставила нас, чтобы пойти сделать нам лимонаду. Оставшись наедине с нею, я осыпал ее огненными поцелуями, которые вызвали в ответ такие же с ее стороны, на ней была только легкая юбка под платьем из тафты. Боже! Какое очарование! Я был уверен, что замечательная кормилица не возвратится столько времени, сколько сочтет для нас необходимым. Но отнюдь нет! Никогда не приготавливали столь быстро два стакана лимонада!
— Уже готово? — спросил я у кормилицы.
— Отнюдь нет, месье, но я делаю быстро.
Простота вопроса и ответа вызвали взрыв смеха моего ангела. Вернувшись к м-м Ф., она сказала, что время воюет против нас, и мы должны ожидать момента, когда ее муж не решит приехать провести у меня три-четыре дня. Я просил его об этом, и он обещал.
М-м Ф. поставила перед нами конфитюры, которые очень хвалила, и особенно мармелад из айвы, который просила попробовать. Мы уклонялись, и М-м М…наступила мне на ногу. Она сказала мне впоследствии, что есть подозрение, что Ф. отравила своего мужа.
Бал получился великолепный, как и ужин на двух столах по тридцать кувертов на каждом, не считая буфета, за которым могли бы есть сто и более персон. Я танцевал только один менуэт с м-м де Шовелен, проведя почти всю ночь за разговором с ее мужем, человеком, полным ума. Я подарил ему мой перевод его маленькой поэмы о семи смертных грехах, который он весьма одобрил. Когда я пообещал нанести ему визит в Турине, он спросил, возьму ли я с собой свою горничную, и когда я ответил, что нет, он сказал, что я совершаю ошибку. Все находили ее очаровательной. Ее безуспешно приглашали танцевать, она сказала мне позже, что если бы она уступила, ее возненавидели бы все дамы. Впрочем, танцевала она очень хорошо.
Г-н де Шовелен, отбыл во вторник, и в конце недели я получил письмо от м-м д'Юрфе, в котором она писала, что провела в Версале два дня по моему делу. Она отправила мне копию грамоты о помиловании, подписанной королем, относительно кузена М… Она сообщила мне, что министр уже переправил его в полк, чтобы виновный вернулся снова на то место, которое занимал до дуэли.
Едва получив это письмо, я велел запрячь лошадей, чтобы отнести эту новость г-ну де Шавиньи. Радость переполняла мою душу, и я не скрыл ее от министра, который осыпал меня комплиментами, поскольку М… получил, с моей помощью, не потратив при этом ни обола, то, за что должен был бы заплатить очень дорого, если бы решил получить за деньги. Чтобы придать делу вид наибольшей значимости, я попросил посла, чтобы он сам передал новость М… Он сразу согласился, пригласив того к себе запиской.
Посол встретил его, передав копию грамоты о помиловании, сказав в то же время, что это мне он обязан этим. Этот славный человек, преисполненный удовлетворения, спросил у меня, сколько он мне должен.
— Ничего, кроме вашей дружбы; но если вы хотите проявить ее, доставьте мне честь приехать провести несколько дней у меня, так как я умираю от скуки. Дело, за которое вы меня благодарите, того не стоит, потому что вы видите, как быстро его исполнили.
— Того не стоит? Я работал над ним в течение целого года, сотрясая небо и землю и не имея возможности его решить; и в две недели вы все сделали. Располагайте моей жизнью.
— Обнимите меня и приезжайте со мной повидаться. Я чувствую себя счастливейшим из людей, когда могу оказать услугу такому человеку как вы.
— Я пойду сообщить эту новость жене, которая будет прыгать от радости.
— Да, идите, — говорит посол, — и приходите завтра обедать с нами вчетвером.
Маркиз де Шавиньи, старый придворный и человек ума, воспитывался при дворе монарха, где, по сути, не встречал ни трудного ни легкого, потому что в любой момент одно переходило в другое. Он знал, что м-м д'Юрфэ сделала бы для него все, когда Регент втайне ее любил. Это он дал ей прозвище нимфы Эгерии, потому что она говорила, что все узнает от своего Гения, который проводит с ней все ночи, когда она спит одна.
Он говорил со мной потом о М…, который должен был испытывать по отношению ко мне чувства самой крепкой дружбы. Он был убежден, что верное средство добиться женщины, у которой ревнивый муж, это завоевать ее мужа, потому что дружба по своей природе исключает ревность. На следующий день, на встрече вчетвером, М-м М… мне дала в присутствии мужа заверения в такой же дружбе, и они обещали приехать и провести у меня три дня на следующей неделе.
Я увидел их после обеда, они приехали без предупреждения. Когда я увидел сходящую с коляски также и горничную, мое сердце содрогнулось от радости; радость, однако, была умерена двумя неприятными сообщениями: первое, это то, что моя донна М… должна вернуться в Золотурн на четвертый день, и другое, переданное Мадам М…, — что следует все время терпеть общество м-м Ф. Я отвел их в предназначенное им помещение, которое наиболее отвечало моим намерениям. Оно было на первом этаже на стороне, противоположной моей. Спальная комната имела альков с двумя кроватями, разделенными перегородкой, снабженной дверью. Вход туда был из двух прихожих, из которых первая имела дверь в сад. У меня был ключ от всех этих дверей. Спальня находилась в стороне от комнаты, где должна была поселиться их горничная.
В соответствии с пожеланием моей богини, мы направились к Ф., которая встретила нас весьма хорошо, однако, под предлогом того, чтобы не связывать нашу свободу, не соглашалась проводить все три дня в нашем обществе. Она, однако, сочла своим долгом сдаться на мои возражения, когда я сказал, что наша договоренность касается лишь случая, когда я один. Моя горничная ужинала у себя в комнате, без того, чтобы я ей об этом сказал, и дамы о ней не спрашивали. После ужина я отвел Мадам и М. в их апартаменты, после чего не мог уклониться от того, чтобы проводить Ф. к ней; прикинувшись недотепой, я уклонился от того, чтобы присутствовать при ее ночном туалете, несмотря на ее настояния. Кода я пожелал ей доброй ночи, она сказала мне с хитрым видом, что своим хорошим поведением я заслуживаю достигнуть того, чего желаю. Я ничего ей не ответил.
На другой день, ближе к вечеру, я сказал м-м М…, что, имея все ключи, легко могу проникнуть к ней и в ее кровать. Она ответила, что ожидает, что с ней будет муж, потому что он говорил ей нежности, которые обычно говорит, когда думает осуществить некий проект; но что это можно будет проделать на следующую ночь, потому что, со смешком сказала она, он никогда не делает этого два дня подряд.
К полудню прибыл г-н де Шавиньи. Быстро поставили пятый куверт, но он поднял шум, когда узнал, что моя бонна будет обедать в одиночестве в своей комнате. Дамы сказали, что он прав, и мы все направились заставить ее бросить свою работу. Она стала душой нашего обеда; она чудесно развлекала нас забавными историями, касающимися миледи Монтегю. М-м М…, когда нас никто не мог услышать, сказала мне, что невозможно, чтобы я ее не полюбил. Сказав, что я ее разочарую, я попросил согласия провести пару часов в ее объятиях.
— Нет, дорогой друг, потому что он сказал мне утром, что луна восходит сегодня в полдень.
— Разве нужно позволение луны, чтобы вам исполнить свой долг?
— Именно. Это, согласно его астрологии, средство сохранить здоровье и заиметь мальчика, которое посылают ему небеса, потому что, если небеса не вмешаются, у меня нет надежды на это.
Я вынужден был посмеяться и приготовиться ждать до завтра. Она сказала на прогулке, что жертвоприношение луне было проделано, и что для полной уверенности и свободы от всяких неожиданностей она доставит ему нечто экстраординарное, после чего он уснет. Соответственно, она сказала, что я могу прийти к ней через час после полуночи.
Уверенный в моем близком счастье, я предавался радости, той, что испытывает любовник, столь долго ее дожидающийся. Это была единственная ночь, на которую я мог надеяться, потому что назавтра М. решил ночевать уже в Золотурне; я не могу назвать более счастливой секунды, чем первая.
После ужина я проводил дам в их апартаменты, затем вернулся в свою комнату и сказал своей бонне, чтобы шла спать, так как мне надо много писать.
За пять минут до назначенного часа я вышел и, поскольку ночь была темна, обошел вслепую вкруг дома. Я хотел отпереть дверь в помещение, где был мой ангел, но нашел ее открытой, и не мог понять причины. Я открываю дверь второй прихожей и чувствую прикосновение. Рука, которую она положила мне на рот, указала, что я не должен разговаривать. Мы бросились на большое канапе, и в один момент я оказался на вершине своих желаний. Было летнее солнцестояние. Имея в запасе только два часа, я не терял ни минуты; я использовал их все, чтобы повторно изливать свидетельства огня, который меня пожирал, на божественную женщину, которую, как я был уверен, я сжимал в своих объятиях. Я находил, что решение, принятое ею, не ждать меня в своей постели, было замечательным, потому что шум от наших поцелуев мог разбудить мужа. Ее страсть, которая, казалось, превосходила мою, вздымала мою душу до небес, и я чувствовал убеждение, что из всех одержанных мною побед эта была первой, которую я мог восславить в полной мере.
Бой часов известил, что я должен уйти; я поднялся, дав ей самый нежный поцелуй, и вернулся в свою комнату, где, в самом полном удовлетворении сердца погрузился в сон. Я проснулся в девять часов и увидел М., который с видом глубокого удовлетворения показал мне письмо, только что полученное им от своего кузена, которое возвещало о его благополучии. Он пригласил меня прийти принять шоколаду в его комнате, пока его жена занимается туалетом. Я поспешно надеваю домашнюю пижаму, и в тот момент, когда собираюсь выйти вместе с М., вижу входящую Ф., которая с оживленным видом говорит, что она меня благодарит, и что она уезжает в Золотурн.
— Подождите четверть часа, мы пойдем завтракать вместе с М-м М…
— Нет; я только что пожелала ей доброго утра, и я уезжаю. Адьё.
— Адьё, мадам.
Едва она вышла, М. спросил у меня, не сошла ли она с ума. Он мог бы в это поверить, потому что хотя бы из вежливости она должна была бы подождать до вечера, чтобы уехать вместе с М. и М-м.
Мы идем завтракать и обмениваемся комментариями к этому внезапному отъезду. Затем мы выходим, чтобы пройтись по саду, где находим мою бонну, к которой подходит М. Мадам мне кажется слегка подавленной, и я спрашиваю, хорошо ли она спала.
— Я спала только четыре часа, напрасно прождав вас в постели. Какое препятствие могло помешать вам прийти?
Этот вопрос, которого я никак не ожидал, заледенил мне кровь. Я смотрю на нее, я не отвечаю, я не могу оправиться от изумления. Я пришел в себя, ощутив ужас, догадавшись, что та, что была в моих объятиях, была Ф. Я отступил в сень деревьев, чтобы скрыть смятение, которое нельзя себе и представить. Я почувствовал себя умирающим. Чтобы остаться на ногах, я оперся о дерево. Первая мысль в моей голове, мысль, которую я сразу отбросил, была та, что М-м М… хочет отречься от содеянного; любая женщина, которая отдается кому-то в темном месте, имеет право отказаться от того, что было, и невозможно уличить ее во лжи; но я слишком хорошо знал М-м…, чтобы допустить, что она способна на столь низкое вероломство, неведомое никому из женщин, кроме настоящих монстров — ужаса и позора людского рода. Я в тот же миг увидел, что если она сказала, что напрасно ждала меня, для того, чтобы доставить себе развлечение моим удивлением, она лишена деликатности, потому что в материи этого рода малейшее сомнение может убить чувство. Я, наконец, увидел правду. Ф. ее заменила. Как она это сделала? Как она все узнала? Узнать это можно было путем рассуждения, и рассуждение пришло вслед за идеей, поразившей ум, который, вслед за унижением, растерял в значительной мере свою силу. Я находился в ужасающей уверенности, что провел два часа с монстром, вышедшим из ада, и мысль, которая меня убивала, была та, что я не мог не признать, что ощущал себя тогда счастливым. Я не мог себе этого простить, потому что различие между одной и другой было огромным и достаточным, чтобы привести к безошибочному суждению все мои чувства, из которых, однако, не были задействованы зрение и слух. Но этого было недостаточно, чтобы меня извинить. Мне должно было бы хватить и осязания. Я проклял любовь, природу и мою подлую слабость, когда согласился сохранить у себя этого монстра, который обесчестил моего ангела и сделал меня неприятным самому себе. В этот момент я приговорил себя к смерти, но решил, прежде чем кончить жизнь, порвать также на куски собственными руками эту мегеру, которая сделала меня несчастнейшим из людей.
В то время, как я плавал в водах Стикса, появился М., который спросил, не чувствую ли я себя плохо, потому что испугался, видя меня побледневшим; он сказал, что его жена беспокоится об этом; я ответил, что покинул их по причине случившегося со мной легкого головокружения, и что чувствую себя уже хорошо. Мы пошли присоединиться к остальным. Моя бонна дала мне кармелитской воды и сказала в шутку, что меня столь сильно задел отъезд Ф.
Оказавшись снова с М-м М…, вдали от ее мужа, который болтал с Дюбуа, я сказал ей, что меня обеспокоило именно то, что она сказала мне, явно, в качестве шутки.
— Я не шутила, дорогой друг, скажите же, почему вы не пришли этой ночью.
При этой реплике я думал, что упаду мертвый. Я не мог решиться рассказать ей, что случилось, и не знал, что должен придумать, чтобы оправдаться в том, что не пришел в ее кровать, как мы договорились. Я оставался таким образом хмурым, нерешительным и немым, когда маленькая служанка Дюбуа принесла ей письмо от м-м Ф, отправленное ей по почте. Она его открыла и передала мне вложение, адресованное мне. Я положил его в карман, сказав, что прочту его позже, когда будет удобно, что это не срочно, это шутка. М. говорит, что это любовное; я не отвечаю, иду к себе; подают на стол, мы идем обедать; я не могу есть, что относят к моему нездоровью. Мне не терпится прочесть это письмо, но надо найти время. Когда мы поднялись из-за стола, я сказал, что мне лучше и взял кофе.
Вместо того, чтобы сесть за пикет, как обычно, М-м М… говорит, что в закрытой аллее свежо и надо бы туда перейти. Я подаю ей руку, ее муж — Дюбуа, и мы идем туда.
Когда она уверилась, что нас никто не может услышать, она начала так:
— Я уверена, что вы провели ночь с этой ужасной женщиной, и я, быть может, уж не знаю как, скомпрометирована. Скажите мне все, милый друг, это моя первая интрига; но если она должна послужить мне уроком, я не должна ничего упустить. Я уверена, что любима вами; сделайте же так, чтобы я не думала, что вы теперь, увы, стали мне врагом!
— Святые небеса! Я — вашим врагом!
— Скажите же мне правду обо всем, и до того, как прочтете полученное вами письмо. Во имя любви призываю вас ничего не скрывать.
— Вот все, в немногих словах. Я вхожу к вам в час, и во второй прихожей чувствую руку, прикрывающую мне рот, призывающую не говорить. Я хватаю вас в объятия, и мы падаем на канапе. Вы понимаете, что я должен был быть уверен, что это вы, и не мог сомневаться? Я провел таким образом, не говоря вам ни слова и не слыша в ответ ни единого слова от вас, самые упоительные два часа, что были у меня в жизни; проклятые два часа, ужасная память о которых будет погружать меня в ад до моего последнего вздоха. В три часа с четвертью я вас покинул. Вы знаете остальное.
— Кто мог сказать этому монстру о том, что вы придете ко мне в комнату в час.
— Ничего об этом не знаю.
— Согласитесь, что из нас троих я наиболее, и может быть, единственная, несчастна.
— Во имя бога, не думайте так, потому что я намерен пойти ее заколоть, и затем убить себя.
— И когда станет известен этот факт, сделать меня самой несчастной из женщин. Успокоимся. Дайте мне письмо, что она вам написала. Я прочту его под деревьями, вы прочтете потом. Если кто-то увидит, что мы его читаем, придется дать прочесть ему тоже.
Я дал ей письмо и присоединился к М., которого моя бонна заставляла закатываться смехом. После этого диалога я стал немного более способен к рассуждению. Доверие, с которым она потребовала, чтобы я дал ей письмо монстра, мне понравилось. Мне было любопытно, и в то же время противно его читать. Оно могло меня только разозлить, и я опасался приступа настоящего гнева.
М-м М … присоединилась к нам, и, когда мы снова отделились, она вернула мне письмо, сказав, чтобы я прочел его наедине и на спокойную голову. Она потребовала у меня слова чести, что в этом деле я не стану ничего предпринимать, не посоветовавшись до того с ней, сообщая мне свои мысли посредством консьержки. Она сказала, что мы можем не опасаться, что Ф. опубликует этот факт, поскольку она опозорилась первая, и что лучшее, что мы можем делать, это затаиться. Она увеличила мое желание прочесть письмо, сказав, что злая женщина дала мне заверение, которым я не должен пренебречь.
При очень здравом рассуждении моего ангела мне ранили душу слезы, которые без малейшей гримасы обильно сочились из ее прекрасных глаз. Она пыталась умерить мое чересчур заметное страдание, мешая слезы со смехом, но я слишком хорошо видел то, что происходит в ее благородной и великодушной душе, чтобы не понимать плачевного состояния ее сердца, происходящего от уверенности, что недостойная Ф. знала и не сомневалась в том, что между ею и мной существует преступная договоренность. От этого мое отчаяние достигало высшей степени.
Она уехала в семь часов вместе с мужем, которого я благодарил словами столь правдивыми, что он не мог сомневаться, что они происходят из самой чистой дружбы, и действительно я его не обманывал. Какова природа этого чувства самой искренней и нежной дружбы, которое может испытывать мужчина, любящий женщину, к мужу этой женщины, если таковой у нее есть? Многие догадки служат лишь к увеличению предрассудков. Я его обнял, и когда я хотел поцеловать руку Мадам, он благородно меня просил оказать ей такую же честь, как и ему. Я направился в свою комнату, горя нетерпением прочесть письмо этой гарпии, которая сделала меня несчастнейшим из людей. Вот его точная копия, кроме нескольких фраз, которые я исправил:
«Я покидаю, месье, ваш дом, в достаточной мере удовлетворенная, не только тем, что провела два часа с вами, потому что вы не отличаетесь от других мужчин, и мой каприз, впрочем, послужил мне только, чтобы доставить случай посмеяться, но и тем, что была отомщена за те публичные знаки неприязни, что вы мне дали, потому что я простила вам мелкие частности. Я отомщена за вашу политику, разоблачив ваши намерения и лицемерие этой М…, которая отныне не сможет смотреть на меня с видом превосходства, который заимствован ею от ее фальшивой добродетели. Я отомщена тем, что она должна была прождать вас всю ночь, и тем, что комический диалог между вами двумя этим утром должен дать ей понять, что я присвоила себе то, что было предназначено для нее, и вы теперь не сможете больше считать ее чудом природы, потому что, если вы приняли меня за нее, я, стало быть, ничем не отличаюсь от нее, и вы, соответственно, должны будете излечиться от безумной страсти, которая вами владеет, и заставить себя обратить внимание на преимущества всех остальных женщин. Если я вас разочаровала, вы мне обязаны за благодеяние, но я освобождаю вас от благодарности, и я даже позволяю вам меня ненавидеть, в предвидении, что эта ненависть меня минует с миром, потому что если в будущем ваши шаги покажутся мне оскорбительными, я способна опубликовать случившееся, ничего не боясь, потому что я вдова, сама себе хозяйка и могу пренебречь всем, что обо мне говорят. Я ни в ком не нуждаюсь. Эта М…, наоборот, должна себя охранить. Однако вот то, что я должна вам сообщить, чтобы показать, какая я добрая.
Знайте, месье, что в течение десяти лет я страдаю неким недомоганием, которое никак не могла вылечить. Вы достаточно постарались этой ночью, чтобы его подцепить; я советую вам в этой связи принять лекарства. Я предупреждаю вас об этом, чтобы вы поостереглись сообщить его вашей красавице, которая, по неведению, смогла бы передать его своему мужу, и другим, что сделает ее несчастной, и я буду сожалеть об этом, потому что она не сделала мне никакого зла и никакой обиды. Мне кажется, что вы оба можете обмануться относительно наличия доброжелателя; я решила поселиться у вас лишь для того, чтобы убедиться в очевидном, что мое предположение верно. Я осуществила мой проект без всякой помощи со стороны. Проведя две ночи впустую на известном вам канапе, я решила провести там третью ночь и завершить этим предприятие. Никто в доме меня не видел, и даже моя горничная не знает цели моих ночных путешествий. Вы вольны сохранить эту историю в молчании, что я вам и советую.
PS — Если вы нуждаетесь во враче, рекомендуйте ему хранить сдержанность, так как весь Золотурн знает, что у меня есть эта легкая болезнь, и могут сказать, что вы получили ее от меня. Это меня огорчит».
Я счел наглость этого письма столь чудовищной, что она почти вызвала меня желание рассмеяться. Я хорошо знал, что Ф. могла меня только ненавидеть после моих поступков по отношению к ней; но я никогда не предполагал, что она в своем отмщении может зайти столь далеко. Она подарила мне свою болезнь; я еще не мог видеть ее симптомы, но я в этом не сомневался; мне предстояла грустная обязанность ее лечить. Я должен был покинуть мою любовь и даже отправиться лечиться куда-то в другое место, чтобы избежать болтовни злых сплетников. Решение, которое я принял после двух часов мрачных размышлений, было затаиться, но я твердо решил отомстить, как только представится удобный случай.
Поскольку я ничего не ел за обедом, мне настоятельно требовались хороший ужин и добрый сон. Я сел за стол с моей бонной, в грустном состоянии души, не взглянув ни разу ей в лицо.
Глава VII
Продолжение предыдущей главы. Мой отъезд из Золотурна.
Но как только слуги вышли, и мы остались одни, сидя друг напротив друга, эта молодая вдова, которая начала меня любить, потому что я принес ей счастье, сочла своим долгом меня разговорить.
— Ваша грусть, — сказала она, — для вас не характерна и внушает мне страх. Вы могли бы облегчить себе душу, доверив мне ваши дела. Я любопытствую лишь потому, что вы мне интересны; я смогу, возможно, быть вам полезной. Будьте уверены в моей скромности. Чтобы подбодрить вас говорить со мной свободно и иметь ко мне некоторое доверие, я могу сказать вам все, что знаю о вас, без того, чтобы кто-то мне рассказал что-либо, и чтобы я предпринимала малейшие шаги, чтобы выяснить, проявляя нескромное любопытство, то, что мне не положено знать.
— Очень хорошо, моя бонна. Ваше объяснение мне нравится, я вижу, что вы испытываете ко мне дружеские чувства, и мне это приятно. Начните же с того, что скажите мне без малейшей утайки, все, что вы знаете о делах, которые меня занимают в настоящий момент.
— Охотно. Вы любите и любимы М-м … М-м Ф., что здесь была, и к которой вы относитесь очень плохо, затеяла склоку, которая привела, как мне кажется, к ссоре между вами и М-м… и затем уехала, как не принято уезжать из уважаемого дома. Это привело ваш дух в смятение. Вы опасаетесь последствий; вы ощущаете несчастную необходимость что-то предпринять; ваше сердце вступает в противоречие с вашим разумом, страсть борется с чувством. Что я знаю? Ничего. Я лишь предполагаю. Я знаю, что вчера у вас был счастливый вид, а сегодня вы кажетесь мне вызывающим жалость, и я это чувствую, потому что вы внушаете мне самое глубокое чувство дружбы. Я сегодня изо всех сил старалась развлечь М., я из кожи вон лезла, чтобы его развеселить, и чтобы он дал вам возможность свободно поговорить с его женой, которая, мне кажется, достойна владеть вашим сердцем.
— Все, что вы мне сейчас сказали, — правда; ваша дружба мне дорога, и я высоко ценю ваш ум. М-м Ф. чудовище, она сделала меня несчастным, чтобы отомстить за мое пренебрежение, и я не могу отомстить. Гордость запрещает мне говорить вам больше; впрочем, ни вы, ни кто другой не сможет дать мне совет, способный избавить меня от страдания, охватившего мою душу. Я умру, быть может, от этого, мой добрый друг, но пока прошу вас сохранить для меня вашу дружбу и говорить со мной все время с такой же искренностью. Я выслушаю всегда вас с тем же вниманием. Вот для этого вы мне и полезны, и я вас за это ценю.
Я провел тяжелую ночь, что крайне необычно при моем темпераменте. Справедливый гнев, отец желания отомстить, мешал мне спать, так же как мечты о новом счастье, на которое я уже не надеялся. Переживание лишило меня сладости сна, а также и аппетита. Сколько помню, при самых больших неприятностях я всегда хорошо ел и еще лучше спал, и благодаря этому выходил из трудных положений, в которых без этого я бы не выдержал напряжения. Я позвонил Ледюку очень рано, маленькая девочка пришла сказать, что Ледюк болен, и что Дюбуа принесет мне мой шоколад.
Она приходит; она говорит, что у меня вид полутрупа, и что я хорошо сделаю, прервав свои ванны. Едва приняв свой шоколад, я его выблевал, впервые в жизни. Шоколад приготовила моя бонна, без этого я бы решил, что Ф. меня отравила. Минуту спустя я выблевал все, что съел за ужином, и, с большими усилиями, вязкие слизистые горькие выделения, которые меня убедили, что яд, которым я был отравлен, был порожден во мне черным гневом, который, набрав такую силу, убивает человека, лишающего себя сладости мести, которой требует его душа. Душа требовала от меня жизни Ф, и без шоколада, который заставил гнев выплеснуться наружу, я был бы им убит. Разбитый от собственных усилий, я увидел, что моя бонна плачет.
— Почему вы плачете?
— Я не знаю, о чем вы думаете.
— Успокойтесь, дорогая. Я думаю, что мое состояние побудит вас продлить свою дружбу со мной. Оставьте меня, так как сейчас я надеюсь поспать.
В самом деле, я проснулся вернувшимся к жизни. Я поразился, увидев, что проспал единым махом семь часов. Я звоню, моя добрая бонна входит и говорит, что хирург из соседней деревни хочет со мной поговорить. Она вошла очень грустная; я вижу, что она внезапно повеселела, я спрашиваю о причине, и она говорит, что увидела меня воскресшим. Я говорю, что мы пообедаем, после того, как я выслушаю, что имеет сказать мне хирург. Он входит и, оглянувшись по сторонам, говорит мне на ухо, что у моего слуги сифилис. Я разразился смехом, потому что ожидал чего-то ужасного.
— Дорогой друг, позаботьтесь о нем в полной мере, и я вам все компенсирую; но в другой раз сообщайте о своих открытиях с менее мрачным видом. Сколько вам лет?
— Исполнилось восемьдесят.
— Храни вас господь!
Поскольку я опасался оказаться в таком же положении, я посочувствовал моему бедному испанцу, который, в конце концов, подцепил проклятую чуму впервые, в то время, как я имел ее, должно быть, в двадцатый раз[21]. Правда, мне было на четырнадцать лет больше, чем ему.
Моя бонна, вошедшая, чтобы помочь мне одеться, спросила, что такого сказал мне старый добряк, что заставило меня смеяться.
— Я его хорошо понимаю; но скажите мне сначала, знаете ли вы, что означает слово сифилис?
— Знаю. Курьер миледи от него помер.
— Очень хорошо; но притворитесь, что не знаете. Ледюк его заимел.
— Бедный мальчик! И это заставило вас рассмеяться?
— Смеяться заставило то, что хирург рассказал мне это как ужасный секрет.
Причесав меня, она сказала, что у нее тоже есть некая тайна, которую она должна мне доверить, вследствие чего я должен заранее ее простить, либо немедленно отослать.
— Вот еще напасть! Какого дьявола вы натворили? Говорите быстро.
— Я вас обокрала.
— Что? Как? Когда? Можете вы вернуть мне украденное? Я не считал вас воровкой. Я никогда не прощаю ни воров, ни лжецов.
— Как вы, однако, быстры! Я между тем уверена, что вы меня простите, потому что не прошло и получаса, как я вас обокрала, и готова немедленно вернуть украденное.
— Если не прошло и получаса, вы заслуживаете, дорогая, полного отпущения грехов; верните же мне то, что незаконно взяли.
— Вот оно.
— Письмо Ф.? Вы его прочли?
— Естественно. Это кража.
— Вы украли, таким образом, мой секрет, и кража эта серьезная, так как вы не сможете вернуть мне украденное. Ах, дорогая Дюбуа! Вы совершили тяжкое преступление.
— Я знаю. Это кража, когда нельзя вернуть украденное; но я могу вас заверить, что она останется в мне как забытая полностью. Скорее, скорее простите меня.
— Скорее, скорее! Вы странное создание. Я скорее, скорее вас прощаю, и целую вас; но берегитесь в будущем не только читать мои бумаги, но даже касаться их. У меня есть секреты, которым я не хозяин. Забудьте же ужасы, которые вы прочли.
— Выслушайте меня. Позвольте, чтобы я их не забывала, и вы, быть может, от этого выиграете. Поговорим об этом событии. Оно привело меня в ужас. Этот монстр нанес смертельный удар вашей душе и другой — вашей личности, гадина притворилась вашей любовницей, опозорив М-м …Я считаю, дорогой хозяин, что это последнее — ее главное преступление, потому что, несмотря на оскорбление, ваша любовь должна сохраниться, и болезнь, которой эта стерва вас наградила, пройдет; но честь М-м…, если гадина осуществит то, чем угрожает, будет утеряна навсегда. Не настаивайте, чтобы я забыла то, что узнала; поговорим, наоборот, об этом, чтобы найти лекарство. Я достойна, поверьте, вашего доверия, и уверена, что заслужу вскоре ваше уважение.
Мне казалось, что я сплю, слыша, как молодая женщина такого положения говорит со мной разумней, чем Минерва с Телемаком. Этого ее рассуждения было более чем достаточно, чтобы добиться не только поставленной ею цели, но и заслужить мое уважение.
— Да, мой дорогой друг, — сказал я, — подумаем, как защитить от опасности, ей угрожающей, М-м…, и я возблагодарю вас, если это не окажется невозможным. Будем думать над этим и обсуждать, денно и нощно. Продолжайте ее любить и простите ей ее первоначальное заблуждение, заботьтесь о ее чести и проявите жалость к моему состоянию, будьте моим истинным другом и забудьте отвратительное звание хозяина, чтобы заменить его званием друга; я останусь им до самой смерти, клянусь вам. Ваши здравые слова покорили мое сердце; придите в мои объятия.
— Нет, нет, этого не нужно; мы молоды и слишком легко можем поддаться чувствам. Мне для счастья достаточно остаться вашим другом, но я не хочу получить это задаром. Я хочу заслужить вашу дружбу с помощью убедительных доказательств моей. Я пойду займусь делом и надеюсь, что после обеда вы почувствуете себя гораздо лучше.
Такая мудрость меня удивила. Она могла быть искусственной, потому что, чтобы ее разыграть, Дюбуа достаточно было знать законы психологии, но не это меня заботило. Я предвидел, что влюблюсь в нее и подпаду под влияние ее моральных принципов, когда ее самолюбие не позволит ей их нарушить, когда она сама влюбится в меня в полном смысле этого слова. Я решил не поощрять свою зарождающуюся любовь. Остановленная в зачаточном состоянии, она должна будет умереть от досады. Досада убивает новорожденное чувство. Так я себя уговаривал. Я забыл, что невозможно испытывать чувство простой дружбы к женщине, которую находишь красивой, с которой ведешь беседы и которая, возможно, влюблена в тебя. Дружба в своем апогее переходит в любовь, и, разрешаясь тем же тонким механизмом, с которым любовь должна стать счастливой, она радуется, становясь все сильнее после проявлений нежности. Это то, что случилось у нежного Анакреона со Смердисом, Клеобулом и Басиллом[22]. Платоник, который претендует на то, что можно быть просто другом молодой женщины, которая нравится, и с которой рядом живешь, — визионер. Моя горничная была слишком очаровательна и слишком умна; было невозможно, чтобы я не влюбился.
Мы начали разговор лишь после того, как хорошо пообедали, потому что нет ничего более неосмотрительного и более опасного, чем разговаривать в присутствии слуг, всегда хитрых или невежественных, которые плохо слышат распоряжения, появляются и исчезают, и полагают, что обладают привилегией безнаказанно выдавать секреты своих хозяев, потому лишь, что они их узнают не напрямую.
Моя бонна начала с того, что спросила, есть ли у меня достаточная убежденность в верности Ледюка.
— Он слегка плут, моя дорогая, большой развратник, смелый, даже дерзкий, умница и невежда, бессовестный враль, которого никто, кроме меня, не может заставить уступить. Этот разбойник, однако, обладает большим достоинством: он слепо выполняет все, что я ему прикажу, пренебрегая любым риском, которому он подвергнется, подчиняясь; он не побоится не только палок, но и виселицы, если видит ее лишь в отдалении. Когда я путешествую, и надо узнать, рискую ли я пересечь реку вброд, оставаясь в коляске, он раздевается, без того, чтобы я ему это сказал, и идет проверить глубину вплавь.
— Ну, достаточно. Вам нужен этот парень. Я заявляю вам, дорогой друг, — потому что теперь я должна так вас называть, — что М-м … нечего больше опасаться. Сделайте то, что я вам скажу, и если м-м Ф. поведет себя не умно, она окажется сама единственной пострадавшей. Но без Ледюка мы ничего не сможем сделать. Необходимо, однако, прежде всего, чтобы мы выяснили всю историю его заразы, потому что некоторые обстоятельства могут стать препятствием для моего проекта. Идите же, выясните все от него самого, и узнайте при этом, рассказал ли он о своем несчастье слугам. Все разузнав, прикажите ему соблюдать строгое молчание об интересе, который вы проявляете к его болезни.
Не пытаясь в деталях понять ее план, я сразу поднялся к Ледюку. Я нашел его одного в постели, сел возле него с безмятежным видом и пообещал вылечить его, при условии, что он ничего от меня не скроет, без утайки рассказав мне, вплоть до мельчайших подробностей, все относительно болезни, как он ее подхватил. Он сказал мне, что в день, когда он отправлялся в Золотурн за моими письмами, он сошел с лошади на полдороги, чтобы попить молока на молочной ферме, там встретил услужливую крестьянку, которая всего за четверть часа привела его в то состояние, в котором я его вижу. В постель его привела большая опухоль на тестикулах.
— Рассказывал ли ты об этом кому-нибудь?
— Никому, потому что надо мной будут смеяться. Только хирург знает о моей болезни, но он не знает, от кого я ее подцепил. Он сказал, что удалит опухоль, и что завтра я смогу прислуживать вам за столом.
— Хорошо. Продолжай держать это все при себе.
Когда я передал все это моей Минерве, она задала мне следующие вопросы:
— Скажите мне, может ли Ф. со всей строгостью утверждать, что она провела с вами два часа на канапе.
— Нет, потому что она ни видела меня, ни говорила со мной.
— Очень хорошо. Тогда отвечайте на ее гнусное письмо, что она ошиблась, потому что вы не выходили из своей комнаты, и что вы проведете расследование в своем доме, чтобы выяснить, кто тот несчастный, которого она заразила, не узнав его. Пишите и отправляйте письмо немедленно, и через часа полтора вы ей отправите следующее письмо, которое я сейчас напишу, а вы скопируете.
— Мой прелестный друг, я проник в ваш гениальный замысел; но я дал слово чести М-м …, что ничего не буду предпринимать по этому делу, не известив предварительно ее.
— Это случай нарушить слово чести. Любовь мешает вам идти столь же далеко, как я, но все зависит от быстроты и от интервала между первым и вторым письмами. Сделайте это, дорогой друг, и вы узнаете остальное из письма, которое я сейчас напишу. Пишите же первое письмо.
Меня понуждало действовать истинное уважение к ней, которое я испытывал. Вот копия моего письма, убедительно доказывающая, что замысел моей бонны был безошибочен:
«Бессовестность вашего письма столь же неприемлема, как и те три ночи, что вы провели здесь, чтобы убедиться, что ваши черные подозрения обоснованы. Знайте, чудовище, вышедшее из ада, что я не выходил из своей комнаты, и что вы провели два часа бог знает с кем; однако, я, возможно, это узнаю, и дам вам отчет. Возблагодарите небо, что я распечатал ваше письмо только после отъезда М. и М-м. Я получил его в их присутствии, но, презирая руку, его написавшую, положил в карман, и оно никого не заинтересовало. Если бы его прочитали, очевидно, я бы догнал вас и заставил сдохнуть под моими ударами, женщина, недостойная прожить и дня. Я чувствую себя хорошо, но я не стараюсь вас этим убедить в том, что это не я наслаждался вашими костями».
Показав письмо Дюбуа, которая его одобрила, я отправил его несчастной, которая сделала несчастным меня. Полтора часа спустя я отправил ей следующее, с которого я сделал нижеследующую копию, не изменив ни слова:
«Четверть часа спустя после того, как я вам написал, пришел хирург сказать мне, что мой лакей нуждается в его услугах по поводу истечения жидкости, которое он приобрел недавно, с симптомами, которые указывают, что он подхватил большую дозу сифилитического яда. Я приказал хирургу позаботиться о нем и пошел навестить больного, который, не без некоторого стеснения, признался мне, что это от вас он приобрел этот прекрасный „подарок“, сказав, что, увидел вас входящей в одиночку, в темноте, в апартаменты М-м…, после того, как уложил меня в кровать, и подошел к вам, любопытствуя, что вы собираетесь делать, потому что, если вы вдруг захотели пройти к той даме, которая должна была уже лечь, вы не пройдете в дверь, ведущую в сад. Прождав час, чтобы убедиться, что вы уже ушли, он решил зайти сам, потому что ему показалось, что вы оставили дверь открытой. Он клялся мне, что, войдя, он не собирался наслаждаться вашими прелестями, чему я без труда поверил, но чтобы посмотреть, не был ли это кто-то другой, кто воспользовался этим случаем. Он уверял меня, что хотел звать на помощь, когда вы схватили его, положив ему руку на рот, но изменил намерение, когда был увлечен на канапе и осыпан поцелуями. Он сказал мне, что, сочтя несомненным, что вы приняли его за другого, он обслуживал вас около двух часов подряд, чем заслужил благодарность, весьма отличную от той, которую вы ему выдали, и печальные признаки которой он увидел на следующий день. Он покинул вас, по-прежнему молча, при первых проблесках дня, опасаясь, что будет узнан. Впрочем, вы свободно можете взять его от меня, и, отдаю вам должное, вы, должно быть, воображаете себе удовольствие, которое, такая, как вы есть, вы никогда не обретете в реальности. Сообщаю вам, что этот бедный мальчик решил нанести вам визит, и я не могу ему в этом помешать; будьте, однако, нежны с ним, потому что он может предать гласности это дело, и вы ощутите последствия этого. Вы узнаете от него самого его претензии, и я советую вам их удовлетворить».
Я отправил ей это письмо и час спустя получил ответ на первое, который состоял лишь из нескольких недлинных строк. Она писала, что моя выдумка гениальна, но не даст мне ничего, потому что она уверена в своей правоте. Она вызывает меня появиться у нее в течение нескольких дней и доказать, что мое здоровье отлично от ее. Моя бонна во время нашего ужина рассказывала мне разные истории, с целью меня развеселить, но я был слишком печален, чтобы их воспринимать. Дело шло к тому, чтобы предпринять третий демарш, который должен был завершить начатое, и окончательно затравить наглую Ф., и поскольку я написал первые два письма, как того хотела Дюбуа, я должен был довести дело до конца. Она изложила мне инструкции, которые я должен был дать Ледюку завтра, вызвав его в мою комнату. Она захотела удостовериться в их правильности, спрятавшись за занавеску моего алькова, чтобы самой услышать то, что я ему приказываю сделать.
Вызвав его, я спросил, в состоянии ли он сесть на лошадь, чтобы отправиться в Золотурн по делу, которое важно для меня в высшей степени.
— Да, месье, но хирург требует, чтобы я завтра начал принимать ванны.
— Ладно. Ты поедешь сначала в Золотурн к м-м Ф., и не будешь там ничего говорить обо мне, так как она не должна знать, что это я тебя отправляю к ней. Ты скажешь ей, что ты должен с ней поговорить. Если она тебя не примет, дожидайся ее на улице, но я думаю, что она тебя примет, и даже без свидетелей. Ты ей скажешь, что она наградила тебя сифилисом, когда ты ее об этом не просил, и что ты хочешь от нее денег, которые тебе нужны, чтобы позаботиться о своем здоровье. Ты ей скажешь, что она заставила тебя работать два часа в темноте, не узнав, и что если бы не плохой подарок, который она тебе поднесла, ты бы никогда не признался в этом, но, находясь в том состоянии, которое ты ей продемонстрируешь, она не должна осуждать твой поступок. Если она откажется, пригрози ей обратиться к правосудию. Вот все. Ты вернешься, не теряя времени, сказать мне, что она ответит.
— Но если она велит выбросить меня в окошко, я не смогу вернуться так быстро.
— Не бойся этого, я за это отвечаю.
— Вот странное поручение.
— Ты единственный человек, способный его выполнить.
— Я готов, но мне надо задать вам несколько серьезных вопросов. У этой дамы действительно сифилис?
— Да.
— Я ей сочувствую. Но как я подтвержу ей, что она его мне дала, в то время, как я никогда с ней не говорил?
— Его дают не при разговоре, дурачина. Ты провел с ней два часа в темноте, без разговоров, она поймет, что это тебе она его дала, полагая, что дает его другому.
— Наконец, я начинаю понимать. Но если мы были в темноте, как я мог понять, что имею дело с ней?
— Ты видел ее входящей; но возможно она не задаст тебе никакого вопроса.
— Итак, я пошел. Мне любопытно больше, чем вам, что она мне ответит. Но вот что важно. Может быть, она начнет торговаться насчет денег, которые она должна мне дать на лечение; в этом случае я прошу мне сказать, достаточно ли мне будет сотни экю.
— Для Швейцарии это много, достаточно пятидесяти.
— В добрый час, я еду, и надеюсь узнать все. Я ничего не скажу, но бьюсь об заклад, что это вам она сделала этот подарок, и вы этого стыдитесь и хотите откреститься.
— Может быть и так. Будь неболтлив и поезжай.
— Вы знаете, мой друг, этот чудак уникален! — сказала мне бонна, выходя из-за занавески. — Я чуть не рассмеялась, когда он сказал вам, что не сможет вернуться так быстро, если она велит его выкинуть в окно. Я уверена, что он прекрасно справится с поручением, и когда он приедет в Золотурн, она как раз отправит сюда ответ на второе письмо. Мне это очень любопытно.
— Это вы автор этого фарса, дорогой друг; он замечателен, исполнен мастерства. Не верится, что он сочинен молодой женщиной, новичком в интригах.
— Это мой первый, и я надеюсь, что он удастся.
— Только бы она не потребовала от меня доказать, что я себя хорошо чувствую.
— Но до сих пор вы себя хорошо чувствуете, полагаю.
— Очень хорошо.
— Будет забавно, если это неправда, что у нее сейчас есть по крайней мере эти белые высыпания.
— Сейчас я не сомневаюсь в моем здоровье, но что произойдет с Ледюком? Мне не терпится увидеть развязку пьесы, для спокойствия моей души.
— Вы об этом напишете М-м…
— Это несомненно. Вы должны понимать, что я не могу не сказать об этом автору; но я не обману вас с вознаграждением, которого заслуживает ваше творение.
— Единственное вознаграждение, которого я от вас желаю, — это чтобы вы не имели больше от меня никаких тайн.
— Это странно. Каким образом мои дела могут вас так сильно интересовать? Я не могу считать вас любопытной по характеру.
— Это было бы мерзко. Вы вызываете мое любопытство, лишь когда я вижу вас грустным. Ваше благородное отношение ко мне вызвало мою привязанность.
— Я это очень ценю, моя дорогая. Я обещаю вам в будущем рассказывать обо всем, что, по любому поводу, может вызвать ваше любопытство.
— Ах, как я рада!
Час спустя после отъезда Ледюка пришел пешком человек и передал мне письмо от Ф. и пакет, сказав, что имеет приказ ждать ответа. Я сказал ему ждать снаружи. Моя бонна при этом присутствовала, и я попросил ее прочесть письмо. Мое сердце трепетало. Она подозвала меня, прочтя его, и сказала, что все идет хорошо. Вот это письмо:
«Может быть, то, что вы мне говорите, правда, а может быть, это лишь басня, сотканная вашим глубоким умом, к сожалению для вас слишком известным всей Европе, я принимаю это за правду, потому что не могу отказать этому в правдоподобии. Я в отчаянии, что причинила зло невинному, и охотно заплачу пеню. Прошу вас выдать ему двадцать пять луи, которые я вам высылаю; но достаточно ли у вас хозяйской власти, чтобы внушить ему соблюдать самое строгое молчание? Я надеюсь на это, потому что, зная меня, вы должны бояться моего мщения. Знайте, что если история этой шутки станет достоянием публики, мне нетрудно будет высветить ее под другим углом, что доставит вам неприятности и откроет глаза благородному человеку, которого вы обманываете, потому что я никогда не отступлю. Поскольку я хочу, чтобы мы больше никогда не встретились, я нашла предлог, чтобы завтра уехать в Люцерн к своим родственникам. Напишите мне, получили ли вы это письмо».
— Я жалею, что отправил Ледюка, — сказал я своей бонне, — потому что она буйная, и может произойти какое-нибудь несчастье.
— Ничего не произойдет. Отправьте ей обратно ее деньги. Она даст их ему лично, и ваша месть будет полной. Она не сможет более сомневаться в факте. Вы узнаете все по его возвращении через два или три часа. Все прошло прекрасно, и честь очаровательной и достойной женщины, которую вы любите, — в полной безопасности. Вам остается только неприятная забота убедиться, что в вашей крови присутствует болезнь этой несчастной, но я думаю, что это нетрудно выяснить и легко вылечить, потому что застарелые белые кожные высыпания не являются сифилисом, и что они очень редко, как я слышала в Лондоне, передаются. Мы должны убедиться, что она завтра уедет в Люцерн. Смейтесь, дорогой друг, прошу вас, потому что наша пьеса не перестает быть комичной.
— Ах! Она трагична. Я знаю человеческое сердце; М-м… не может больше меня любить.
— Это правда, что некоторое изменение…, но не время сейчас об этом думать. Быстрей, быстрей ответьте ей в немногих словах и отправьте ее двадцать пять луи.
Вот мой короткий ответ:
«Ваше недостойное подозрение, ваш ужасный проект мести и наглое письмо, что вы мне написали, — вот причины вашего теперешнего раскаяния. Персонажи встретились, и не по моей вине. Я отсылаю вам ваши двадцать пять луи. Я не смог помешать Ледюку нанести вам визит, но вы его легко умиротворите. Я советую вам доброе путешествие и обещаю избегать всяких возможностей увидеться с вами. Знайте, злая женщина, что мир не заполнен весь монстрами, которые расставляют сети, чтобы похитить честь у тех, кто ею дорожит. Если в Люцерне вы встретите апостолического нунция, поговорите с ним обо мне, и вы узнаете, какова репутация у моей головы в Европе. Могу вас заверить, что мой слуга не расскажет никому историю своей теперешней болезни, и не будет о ней говорить, если вы его хорошо приветите. Прощайте, мадам».
Прочитав свое письмо Дюбуа, которая нашла его вполне пригодным, я отправил его с теми деньгами.
— Пьеса еще не окончена, — сказала она, — у нас еще три сцены: возвращение испанца, проявление вашей болезни и удивление М-м…, когда она узнает всю эту историю.
Итак, проходит два, три, четыре часа, и наконец весь день, а Ледюк не появляется, и я в действительной тревоге, хотя Ледюк упорно твердил, что он может задержаться, только если не застанет Ф. дома. Есть такие люди, которые не могут поверить в несчастье. Таков был и я, с моих тридцати лет, когда меня заключили в Пьомби. Сейчас, когда я начинаю уже заговариваться, все, что я вижу впереди, окрашено в черное. Я вижу это и на свадьбе, куда меня приглашают; и в Праге, на коронации Леопольда II, я сказал: nolo coronari[23]. Проклятая старость, достойная заселять ад, в котором, впрочем, мы все будем: tristisque senectus[24].
В половине десятого моя бонна видит при свете луны Ледюка, который идет пешком. Я не зажигал света, она находилась в алькове. Он вошел, сказав, что умирает от голода.
— Я ждал ее, — говорит он, — до половины седьмого, и она мне сказала, когда увидела внизу лестницы, что ей нечего мне сказать. Я ответил, что это мне есть что ей сказать, и она остановилась прочесть письмо, в котором я узнал ваш почерк, и положила пакет в карман. Я пошел за ней в ее комнату, где никого не было, и сказал ей, что она наградила меня сифилисом, и я прошу ее оплатить мне врача. Я готов был ее убеждать, но, повернувшись ко мне, она спросила, давно ли я ее жду, и когда я ответил, что нахожусь у ее дверей одиннадцать часов, она вышла и, узнав у слуги, которого она, по-видимому, отправляла сюда, время, когда он возвратился, она вошла и, при закрытых дверях, дала мне пакет, сказав, что там лежат двадцать пять луи, чтобы мне вылечиться, если я болен, и если мне дорога моя жизнь, я должен воздерживаться рассказывать кому бы то ни было об этом деле. Я ушел и вот я здесь. Этот пакет, он мой?
— Да. Иди спать.
Бонна вышла вместе с ним.
На следующий день я увидел первые симптомы моей грустной болезни, но три-четыре дня спустя увидел, что все это пустяки. Восемь дней спустя, применяя только раствор ляписа, я был полностью здоров, в отличие от Ледюка, который был в очень плохом состоянии.
Я провел все утро следующего дня за письмом М-м…, в котором во всех деталях описал все, что сделал, вопреки данному ей слову. Я отправил ей копии всех писем и все то, что должно было ей доказать, что Ф. уехала в Люцерн, убежденная в том, что отомстила только в своем воображении. Я окончил свое письмо из двенадцати страниц признанием, что я заболел, но заверил ее, что в две-три недели буду полностью здоров. Я передал под большим секретом свое письмо консьержке и через день получил несколько строк, написанных ее рукой, где она меня извещала, что на неделе я увижу ее у себя вместе с мужем и г-ном де Шавиньи. Несчастный! Я должен был отказаться от всякой мысли о любви; но Дюбуа, моя единственная компания, поскольку Ледюк был болен, проводила со мной целый день, становилась для меня чем-то весьма серьезным. Чем больше я отказывался что-либо предпринять, тем больше я влюблялся, и напрасно убеждал себя, что, видя часто ее без всяких последствий, я стану, наконец, к ней безразличен. Я подарил ей кольцо, сказав, что, когда ей придет мысль его продать, ей дадут за него сотню луи, но она заверила меня, что и не подумает его продавать, разве что от большой нужды, когда я ее уволю. Мысль ее уволить мне показалась бессмысленной. Она была наивна, искренна, забавна, одарена природным умом, который позволял ей рассуждать с большой точностью. Она никогда не любила и вышла замуж за пожилого человека лишь в угоду миледи Монтэгю.
Она писала только своей матери, и я читал ее письма, чтобы доставить ей удовольствие. Попросив ее однажды дать мне почитать ответы, я должен был рассмеяться, потому что она сказала, что та не отвечает, потому что не умеет писать.
— Я думала, что она умерла, — сказала она мне, — когда я уезжала в Англию, и очень обрадовалась, когда, приехав в Лозанну, нашла ее в полном здравии.
— Кто вас сопровождает?
— Никто.
— Это немыслимо. Совсем молодая, такая, как вы есть, хорошо одетая, вращаясь в компании, состоящей из многих людей с разными характерами, молодых людей, развратников, потому что они есть повсюду, — как вы можете защититься?
— Защититься? Мне в этом нет нужды. Великий секрет состоит в том, чтобы ни на кого не смотреть, делать вид, что не слушаешь, не отвечать и жить одной в комнате, либо с хозяйкой, в приличных гостиницах.
У нее не было ни одного приключения за всю ее жизнь, она никогда не уклонялась от своих обязанностей. С ней никогда не случалось несчастья, как она выразилась, влюбиться. Она развлекала меня с утра до вечера без напускной скромности, и часто мы переходили на ты. Она с чувством говорила мне о прелести М… и слушала меня с большим интересом, когда я рассказывал ей о моих любовных похождениях, когда переходил к некоторым описаниям, и когда она видела, что я скрываю от нее некоторые слишком шокирующие подробности, ободряла меня говорить ей все без стеснения, с таким обаянием, что я чувствовал себя обязанным ей уступать. Когда, наконец, слишком верная картина ее раздражала, вызывая у нее взрывы смеха, она вставала и, зажав мне рукой рот, чтобы помешать рассказывать дальше, скрывалась в своей комнате, где закрывалась, чтобы помешать мне, как она говорила, спрашивать у нее то, что в тот момент она считала лишним мне сообщать, но дала мне эти объяснения лишь в Берне. Эта большая дружба возникла как раз в тот опасный момент, когда Ф. надругалась надо мной.
Накануне дня, когда г-н де Шавиньи неожиданно приехал пообедать со мной, М-м… и ее мужем, бонна спросила меня, был ли я влюблен в Голландии. Я рассказал ей то, что случилось со мной и Эстер; но когда я продвинулся в область изучения нимф, чтобы обозначить маленький признак, известный только ей, моя очаровательная бонна подбежала ко мне, чтобы закрыть мне рот, давясь от смеха и падая в мои объятия. При этом я не мог удержаться, чтобы не поискать также и у нее этот маленький признак, и в пылу смеха она смогла оказать мне лишь очень слабое сопротивление. Не имея возможности перейти к великим свершениям, в силу своего состояния, я умолил ее об услуге, чтобы помочь вызвать кризис, который мне стал необходим, оказав ей в то же время такую же нежную услугу. Это продолжалось едва минуту, и наши глаза, любопытные, влюбленные и доброжелательные, в этом участвовали. После свершения она сказала мне, смеясь, но с самым умным видом:
— Мой дорогой друг, мы влюблены, и если мы не поостережемся, мы не ограничимся в ближайшее время простыми шалостями.
Говоря так, она поднялась, вздохнула и, пожелав мне доброй ночи, ушла спать с маленькой девочкой — своей компаньонкой. Это было в первый раз, когда мы дали себя увлечь нашим чувствам. Я пошел спать, чувствуя себя влюбленным и предвидя, что должно произойти у меня с этой молодой женщиной, которая заняла теперь в моей душе столь большое место.
Мы были приятно удивлены завтрашним утром при виде г-на де Шавиньи вместе с г-ном и г-жой М. Мы гуляли до обеда, сев затем за стол с моей дорогой Дюбуа, в которую мои гости, как мне показалось, влюбились. На послеобеденной прогулке они от нее не отходили, а я, со своей стороны, пользовался удобным случаем, чтобы повторить устно М-м… историю, которую я ей описал, не говоря, однако, что вся заслуга лежала на Дюбуа, потому что она была бы оскорблена, узнав, что той известна ее слабость. М-м… сказала мне, что испытала высшее удовольствие при чтении моего письма, по единственной причине, что эта Ф. не сможет больше думать, что провела два часа со мной.
— Но как, — спросила она, — могли вы провести два часа с этой женщиной, не почувствовав, хотя и в темноте, что это не я? Меня унижает, что различие между мной и ею не оказало на вас никакого эффекта. Она меньше меня, значительно более худая, на десять лет старше и, что меня удивляет, у нее дурной запах изо рта. Вы, между тем, были лишены лишь зрения, и ничего не заметили. Это невероятно.
— Это опьянение от любви, мой дорогой друг, и потом, я видел перед собой только вас, глазами души.
— Я понимаю силу воображения, но воображение должно отступить перед тем фактом, что вы были заранее уверены в том, что встретите меня.
— Вы правы; вот ваша прекрасная грудь, и когда я думаю сегодня, что держал в своих руках эти два дряблых пузыря, мне хочется себя убить.
— Вы это чувствовали, и вас это не отвратило?
— Уверенный, что я в ваших объятиях, как же мог я ощутить что-либо неприятное? Самая грубость кожи, неудобства слишком просторного «кабинета» не могли заставить меня усомниться или уменьшить мой пыл.
— Что я слышу! Мерзкая женщина! Зловонная противная клоака! Отказываюсь в это поверить. И вы могли мне все это простить?
— Полагал, что я с вами, и все представлялось мне божественным.
— Ничего подобного. Найдя меня такой, вы должны были швырнуть меня на паркет, даже побить.
— Ах! Сердце мое! Как вы сейчас ко мне несправедливы!
— Это возможно, дорогой друг, я настолько рассержена на этого монстра, что не знаю, что говорю. Но теперь, когда она отдана слуге, и после жестокого визита, который она должна была стерпеть, она должна умереть от стыда и ярости. Меня удивляет, что она поверила этому, потому что он на четыре дюйма ниже вас, и, кроме того, как она могла поверить, что слуга проделал это так, как вы должны были бы проделать? Я уверена, что в тот момент она была влюблена. Двадцать пять луи! Это ясно. Он удовольствовался бы и десятью. Какое счастье, что этот мальчик оказался так кстати болен! Но вы должны были сказать ему все?
— Как все? Я допустил, что он вообразил себе, что она дала мне рандеву в этой прихожей, и что я действительно провел с ней два часа. Размышляя над тем, что я приказал ему делать, он увидел, что я, почувствовав себя заболевшим, испытывая отвращение, разочаровался и решил ее пристыдить, чтобы отомстить, и чтобы она не смогла никогда хвалиться, что имела со мной дело.
— Это очаровательная комедия. Бесстыдство этого мальчика — что-то выдающееся, и еще более его смелость, потому что эта Ф. могла солгать о своей болезни, и вы понимаете, какому риску он подвергся.
— Я подумал об этом и боялся этого, потому что чувствовал себя хорошо.
— Но теперь вы лечитесь, и я тому причиной. Я в отчаянии.
— Моя болезнь, мой ангел, это пустяки. Это некие истечения, называемые «белые цветы». Я применяю только раствор ляписа, я вылечусь в восемь — десять дней и надеюсь…
— Ах, мой дорогой друг!
— Что?
— Не будем об этом думать, заклинаю вас.
— Это отвращение, которое весьма естественно, когда любовь слаба. Я несчастен.
— Нет, я вас люблю, и вы будете несправедливы, если перестанете меня любить. Будемте нежными друзьями и не будем думать более о том, чтобы дать друг другу знаки любви, которые могут стать для нас фатальными.
— Проклятая и подлая Ф.
— Она уехала, и через две недели мы также уезжаем в Базель, где останемся до конца ноября.
— Удар нанесен, и я вижу, что должен подчиниться вашим условиям, или, лучше сказать, своей судьбе, ибо все, что со мной случилось с тех пор, как я в Швейцарии, фатально. Единственное, что меня утешает, это что я сумел спасти вашу честь.
— Вы заслужили уважение моего мужа, мы будем отныне истинными друзьями.
— Если вы должны уехать, я вижу, что лучше сделаю, уехав до вас. Это убедит ужасную Ф., что наша дружба не носила преступного характера.
— Вы мыслите как ангел и все время убеждаете меня в своей любви. Куда вы едете?
— В Италию; Но сначала остановлюсь в Берне, затем в Женеве.
— Значит, вы не заедете в Базель, и это хорошо, потому что иначе бы пошли разговоры. Однако, если можно, в те немногие дни, что вы проведете здесь, примите веселый вид, потому что грусть вам не идет.
Мы присоединились к послу и М., которым было не до того, чтобы думать о нас, среди разговоров с Дюбуа. Я посетовал им на скупость, которую она проявляет по отношению к блесткам своего ума в отношениях со мной, и г-н де Шавиньи сказал, что полагает, что мы влюблены друг в друга, она посетовала на него, и мы продолжили прогулку с М-м…
— Эта женщина, — сказала мне она, — шедевр. Скажите мне правду, и я подарю вам до вашего отъезда свидетельство своей благодарности, которое вам понравится.
— Что хотите вы знать?
— Вы любите ее, а она вас.
— Я так полагаю, но до настоящего времени…
— Я не хочу далее знать, так как если это до сих пор не случилось, оно случится, и это все равно. Если бы вы мне сказали, что вы не любите друг друга, я бы вам не поверила, потому что невозможно, чтобы мужчина вашего возраста жил вместе с такой женщиной и не любил ее. Очень красивая, много ума, веселости, талант красноречия, — у нее есть все, чтобы нравиться, и я уверена, что вам было бы трудно устоять перед ней. Лебель оказал ей дурную услугу, потому что она пользовалась очень хорошей репутацией, но теперь не найдет более себе места среди людей комильфо.
— Я возьму ее с собой в Берн.
— И хорошо сделаете.
Я сказал ей в момент их отъезда, что попрощаюсь с ними в Золотурне, когда решу в скором времени уехать в Берн.
Приведенный к необходимости не думать более о М-м…, я лег в постель, не поужинав, и моя бонна сочла, что должна уважить мою печаль.
Два или три дня спустя я получил записку от М-м…, в которой она написала мне прийти к ней завтра к десяти часам, напросившись на обед. Я исполнил ее приказ буквально. М. мне сказал, что я доставил бы ему истинное удовольствие, но что он должен ехать в деревню, откуда не уверен, что вернется раньше, чем к часу. Он добавил, что я могу оставаться в компании его жены до его возвращения, и поскольку она вышивала на пяльцах вместе с девушкой, я согласился, при условии, что она не будет из-за меня прерывать своего занятия.
Но к полудню девушка ушла и, оставшись одни, мы направились насладиться прохладой на площадке, примыкающей к дому, где имелся кабинет, откуда, сидя в глубине, мы замечали все коляски, заезжающие на улицу.
— Почему, — спросил я ее, — вы не воспользовались этим счастьем, когда мое здоровье было превосходным?
— Потому что тогда мой муж думал, что вы проявляете к нам интерес только из-за меня, и что вы мне не нравитесь; но ваше поведение убедило его в полной безопасности, и к тому же ваша бонна, в которую, он полагает, вы влюблены, и которая ему тоже нравится, до того, что, я думаю, что не более чем через несколько дней он охотно бы поменялся с вами. Вы были бы готовы к такому обмену?
Имея лишь час, который должен был стать последним, в который я мог бы засвидетельствовать ей свою непреходящую любовь, я бросился к ее ногам, и она не воздвигла никаких препятствий моим желаниям, которые, к моему великому сожалению, оставались ограничены рамками, которые я должен был соблюсти ради ее драгоценного здоровья. При том, что она позволила мне делать, самое большое удовольствие должно было доставить ей, конечно, сожаление о той ошибке, которую я совершил, чувствуя себя счастливым с Ф.
Мы перешли на другую сторону ложи, на открытый воздух, когда увидели, как на улицу въезжает коляска М. Добряк порадовал нас, попросив у меня извинения, что так задержался.
За столом он почти все время говорил со мной о Дюбуа и, как мне показалось, был недоволен, когда я сказал ему, что намерен отвезти ее к ее матери в Лозанну. Я раскланялся с ними в пять часов, чтобы направиться к г-ну де Шавиньи, которому рассказал всю грустную историю, которая со мной приключилась. Я бы счел за преступление не передать любезному старцу полностью эту очаровательную комедию, возникновению которой он столь способствовал в самом ее зарождении. Восхищенный умом Дюбуа, потому что я от него ничего не скрыл, он заверил меня, что был бы счастлив, в своем преклонном возрасте, иметь возле себя такую женщину. Он был очень рад моему доверию, когда я сказал, что влюблен в нее. Он сказал, что, не заходя в дома, я могу проститься со всем, что есть достойного в Золотурне, даже не оставшись на ужин, если не хочу возвратиться к себе слишком поздно; я так и сделал. Я повидал красотку, понимая, что это в последний раз, но я ошибся. Я увидел ее десять лет спустя, и в свое время и в своем месте читатель узнает, где, как и по какому случаю. Я проводил посла до его комнаты, воздав ему почести, которых он заслужил, и попросив у него письмо для Берна, где рассчитывал провести пару недель, и в то же время попросил направить ко мне своего метрдотеля, чтобы подбить наши счета. Он обещал передать мне с ним письмо к г-ну Мюрэ, магистрату кантона Тюн.
Возвратившись к себе, грустный от того, что видел в последний раз перед отъездом этот город, где одерживал лишь слабые победы, по сравнению с действительными потерями, я поблагодарил с нежностью мою бонну за сочувствие, с которым она меня поддержала, и пожелал ей доброй ночи, предупредив, что через три дня мы уедем в Берн, и попросив собрать мои чемоданы.
Назавтра с утра, позавтракав со мной, она спросила:
— Вы, стало быть, возьмете меня с собой?
— Да, если вы согласитесь.
— Очень охотно, тем более, что я вижу вас грустным и, некоторым образом, больным, тогда как вы были здоровы и веселы, когда я поступила к вам на службу. При необходимости вас покинуть, я была бы утешена, видя вас счастливым.
В этот момент пришел старый хирург сказать, что бедный Ледюк настолько плох, что не может сойти с постели.
— Я вылечу его в Берне. Скажите ему, что мы уезжаем послезавтра, так, чтобы к обеду быть там.
— Хотя путешествие составит лишь семь лье, он не в состоянии его совершить, потому что лежит, полностью парализованный.
Я пошел повидать его и нашел, как и сказал хирург, неспособным двинуться. У него остались в действии только рот, чтобы говорить, и глаза, чтобы видеть.
— Я чувствую себя, впрочем, вполне хорошо, — сказал он.
— Я тебе верю; но послезавтра я хочу обедать в Берне, а ты не можешь двигаться.
— Перенесите меня, и вы вылечите меня там.
— Ты прав. Я велю перенести тебя на носилках.
Я поручил слуге позаботиться о нем и организовать все, чтобы доставить его в Берн в гостиницу «Сокол», наняв двух лошадей с носилками.
В полдень я увидел Лебеля, который принес письмо, что посол передал мне для г-на де Мюрэ. Он представил мне свой счет согласно квитанциям, и я оплатил их с большим удовольствием, найдя его весьма почтенным человеком во всех отношениях. Я оставил его обедать со мной и Дюбуа и хорошо сделал, потому что он нас весьма развлекал. Она занималась с ним с начала и до конца обеда; он сказал мне, что только сейчас он, можно сказать, познакомился с ней, так как в Лозанне разговаривал с ней только три-четыре раза и то наскоро. Поднимаясь из-за стола, он попросил у меня позволения ей писать, и она поймала его на слове и просила писать ей.
Лебель был обаятельный мужчина, которому не было еще и пятидесяти лет, с благородной внешностью. В момент отъезда он обнял ее на французский манер, не прося у меня позволения, и она ответила ему с большой грацией.
Она сказала мне после его отъезда, что знакомство с этим человеком может ей быть только полезно, и она рада находиться с ним в переписке.
Назавтра мы привели все в порядок для путешествия. Я увидел Ледюка, отправляющегося на носилках, с тем, чтобы провести ночь в четырех лье от Золотурна. На следующий день, в четыре часа утра, хорошо вознаградив семью консьержа, повара и лакея, которые оставались, я выехал в своей коляске, со своей бонной, и в одиннадцать часов прибыл в Берн, остановившись в «Соколе», куда двумя часами ранее прибыл Ледюк. Договорившись обо всем с хозяином, потому что я хорошо знал обычай швейцарских хозяев гостиниц, я поручил слуге, которого я оставил себе и который был из Берна, позаботиться о Ледюке и передать его заботам самого лучшего врача страны по этим заболеваниям. Пообедав с моей бонной в ее комнате, потому что мою прибирали, я отправился вручить мое письмо портье г-на де Мюрэ, а потом пошел пройтись.
Глава VIII
Берн. Мата. Мадам де ла Саон. Сара. Мой отъезд. Прибытие в Базель.
Выйдя на возвышенность на окраине города, я увидел широкую равнину и маленькую речку, спустился по меньшей мере на сотню ступенек и остановился при виде тридцати-сорока кабинок, которые были ничем иным как ложами для людей, намеревающихся принять ванную. Человек приличного вида спросил у меня, не хочу ли я принять ванну, и когда я ответил утвердительно, он открыл мне ложу, и вот, несколько служанок подбежали ко мне. Человек сказал, что каждая из них мечтает о чести мне услужить при ванной, и что мне надо выбрать, кого я хочу. Он сказал, что за малый экю я получу ванну, девушку и завтрак. Я бросил платок, как знатный турок, той, которая показалась мне лучшей, и зашел внутрь.
Она заперла дверь изнутри, обула меня в туфли и сердито, не смотря мне в лицо, покрыла мои волосы и мой тупей шелковым платком, раздела меня и, поместив в ванную, разделась сама и зашла туда, не спросив у меня позволения; она начала меня тереть повсюду, кроме места, которое я прикрыл рукой, догадавшись, что я не хотел, чтобы она его трогала. Когда я почувствовал, что хорошо растерт, я попросил у нее кофе. Она вышла из ванной, позвонила и открыла дверь. Затем снова зашла в ванну, не смущаясь, как будто была полностью одета.
Минуту спустя старая женщина принесла нам кофе. Затем вышла, и моя банщица снова вышла из ванной, чтобы запереть дверь, и вернулась на прежнее место.
Я увидел, хотя и не особенно на этом задерживаясь, что в этой служанке было все, чего бы мог себе вообразить страстный любовник в объекте своей влюбленности. Правда, я чувствовал, что ее руки не нежны и, возможно, ее кожа на ощупь грубовата, я не заметил на ее лице следов того, что мы называем благородством, и улыбки, которую приносит воспитание, чтобы выразить нежность, ни, наконец, взгляда, который подразумевает затаенные чувства удовольствия, уважения, застенчивости и стыдливости. При всем том, моя швейцарка, восемнадцати лет, имела все, чтобы нравиться мужчине, который хорошо себя чувствует и который не враг природе; несмотря на это, она меня не задевала.
Но отчего? — говорил я себе; эта служанка красива, у нее красивый разрез глаз, белые зубы, яркий цвет ее лица говорит о здоровье, — и она на меня не производит абсолютно никакого впечатления? Я вижу ее совершенно обнаженной, и она не вызывает у меня ни малейших эмоций? Почему? Это может быть только оттого, что у нее нет ничего, чем пользуется кокетство, чтобы внушить любовь. Мы любим, стало быть, лишь искусство и обман, и правда больше нас не соблазняет, если ей не предшествует некий искусственный прием. Если при нашей привычке одеваться, а не ходить голышом, лицо, которое показывают всем, имеет самое малое значение, почему считается, что это лицо становится главным? Почему оно становится причиной нашей влюбленности? Почему, единственно основываясь на его свидетельстве, мы судим о красоте женщины, и почему готовы даже извинить ей, если остальные части, которые она нам не показывает, находятся в противоречии с ее красивым лицом, насколько мы можем об этом судить? Не было ли бы более натуральным и более сообразным разуму, и не было бы лучше ходить повсюду с прикрытым лицом, а остальное — обнажать, и влюбляться, таким образом, в объект, не вожделея для увенчания нашего пламени к физиономии, отвечающей, по нашим представлениям, прелестям, которые делают нас влюбленными? Без сомнения, так было бы лучше, потому что тогда влюблялись бы только в истинную красоту, и легко извиняли бы, если, сняв маску, обнаруживали, что лицо, которое мы воображали прекрасным, некрасиво. Отсюда следует, что женщины с некрасивым лицом не смогут никогда решиться его открыть, и что лишь доступные женщины окажутся среди красавиц; но некрасивые не вызовут даже и вздоха; они будут готовы на все, лишь бы не быть вынужденными раскрыться, и пойдут в этом до конца, лишь когда убедятся, что своей действительной прелестью убедили нас, что мы легко можем отвлечься от красоты лица. Очевидно и неоспоримо, однако, что непостоянство в любви происходит только от разнообразия лиц. Если бы не это, мужчина сохранял привязанность к своей первой, которая ему понравилась.
Выйдя из ванной, я дал ей полотенца, и когда она меня вытерла, сел, и она меня причесала. В то же время я оделся и обулся, и, завязав мне башмаки, она за минуту оделась, обсохнув на воздухе. Уходя, я дал ей малый экю, затем шесть франков для нее самой, но она мне их вернула с недовольным видом и ушла. Это происшествие привело к тому, что я вернулся в гостиницу огорченным, потому что эта девушка сочла себя обиженной и не безосновательно. После ужина я не мог отказать себе рассказать моей бонне всю эту историю, которую она выслушала с большим вниманием и прокомментировала ее. Она сказала, что та наверняка не красива, иначе я бы не смог противиться желаниям, которые она мне внушила, и что она хотела бы ее увидеть. Я предложил отвести ее туда, и она сказала, что я бы доставил ей удовольствие, Но она должна будет переодеться мужчиной. Сказав это, она поднялась, и через четверть часа я увидел ее одетой в платье Ледюка, но без штанов, потому что она не смогла их найти. Я предложил ей надеть мои, и мы договорились на завтрашнее утро. Я увидел ее передо мной в шесть утра, полностью одетой и с голубым рединготом, который ее чудесным образом преобразил. Я быстро оделся, и, не отвлекаясь на завтрак, мы отправились на Мату — так называется то место. Моя бонна, оживленная в предвкушении удовольствия, которое доставит ей это приключение, сияла радостью. Невозможно было догадаться, что одежда на ней — не ее пола, и держалась она, как и должно человеку, облаченному в редингот.
Спустившись, мы увидели того же человека, который спросил нас, хотим ли мы ванну на четверых, и мы зашли в ложу. Появились служанки, я указал бонне красотку, которая не смогла меня соблазнить, она взяла ее, я взял другую, большую и статную, гордого вида, и мы закрылись. Я сразу приказал моей меня причесать, разделся и вошел в ванну, и моя новая прислужница сделала то же самое. Моя бонна медлила; новизна обстановки ее удивляла, она, как показалось мне, раскаивалась, что согласилась, она смеялась, увидев меня в руках большой швейцарки, которая меня терла повсюду, и не могла решиться последовать моему примеру, но наконец победила стыд и вошла в ванну, выставив передо мной, почти через силу, свои красоты; Но она должна была допустить обслуживать себя так же, как и я, позволив той другой зайти в свою ванну и выполнить свои обязанности.
Обе прислужницы, которые наверняка уже участвовали не раз в подобных предприятиях, принялись развлекать нас спектаклем, мне уже хорошо известным, но для моей бонны это было в новинку. Они принялись вместе творить то же самое, что, по их мнению, я должен был делать с Дюбуа. Она смотрела с большим удивлением на страсть, с которой служанка, нанятая мной, играла роль мужчины по отношению к другой. Я этим был также слегка удивлен, несмотря на те страстные объятия, которые демонстрировали моим глазам М.М. и К.К. шесть лет назад, и которым нельзя было вообразить ничего, более прекрасного. Я никогда не думал, что что-нибудь может меня отвлечь, когда со мной в первый раз находится женщина, которая мне нравится и у которой есть все, что может взволновать мои чувства; но странная борьба, в которую погрузились две юные менады, меня захватила. Дюбуа сказала, что предполагаемая девица, которую я нанял, на самом деле юноша, несмотря на свою грудь, и что она в этом только что убедилась. Я повернулся к ней, и сама девица, видя мое любопытство, показала мне свой клитор, но огромный и напряженный. Я увидел, что мою бонну все это ошеломило, она заметила, что этого не может быть, однако я предложил ей потрогать и убедиться. И она должна была согласиться с увиденным. Это имело вид большого пальца без ногтя, но гнущегося; шлюха, возжелавшая мою прекрасную бонну, сказала, что он достаточно жесток, чтобы можно было его ввести ей внутрь, если она это позволит, но она не захотела, а мне эта идея также не понравилась. Мы сказали ей продолжить свои занятия со своей товаркой, и очень смеялись, потому что совокупление этих двух юных девиц, хотя и комичное, вызвало в нас самое сильное сладострастие. Моя бонна, доведенная до экстаза, предалась полностью природе, выйдя за пределы того, чего я мог бы пожелать. Это был праздник, который длился два часа и привел к тому, что мы вернулись в нашу гостиницу, весьма довольные. Я дал девицам, которые нас так позабавили, два луи, но без намерения вернуться туда снова. Нам больше не нужно было этого, чтобы продолжить раздавать друг другу знаки нашей нежности. Моя бонна стала моей любовницей, и настоящей госпожой, сделав мое счастье совершенным, как и я — ее, во все время пребывания в Берне. Полностью излечившись от того грустного состояния, в котором мы пребывали, мы предались взаимной радости. Если удовольствия преходящи, то горести — тоже, и когда, предаваясь радостям, мы вспоминаем предшествующие им горести, мы их также любим, et haec aliquando meminisse juvabit[25].
В десять часов мне объявили о поверенном из Тюна. Этот человек, одетый по французской моде, в черном, серьезный, мягкий, вежливый, средних лет, мне понравился. Он был одним из советников правительства. Он захотел при мне прочесть письмо, которое написал ему г-н де Шавиньи; я сказал, что если бы оно было распечатано, я бы ему его не принес. Он просил пообедать у него завтра в мужском и женском обществе, и послезавтра поужинать с мужчинами. Я вышел с ним, и мы пошли в библиотеку, где я познакомился с г-ном Феликс, монахом-расстригой, скорее литератором, чем эрудитом, и образованным молодым человеком по имени Шмиц, который теперь хорошо известен в республике литературы. Ученый, занимающийся натуральной историей, знающий на память десять тысяч наименований различных раковин, меня утомил, так как его наука была мне совершенно чужда. Между других вещей, он сказал мне, что Аар, известная река кантона, содержит золото в своих песках; я сказал ему, что все большие реки его имеют, и он, мне кажется, с этим не согласился.
Я пообедал у г-на де Мюрэ с четырьмя или пятью самыми известными дамами Берна, и они показались мне, в основном, похожими на даму де Саконэ, очень любезную и образованную. Я бы поухаживал за ней, если бы подольше оставался в этой столице Швейцарии, если в Швейцарии может быть столица.
Бернские дамы недурны, хотя и без блеска, потому что правила его запрещают; они держатся непринужденно и очень хорошо говорят по-французски. Они пользуются очень большой свободой, и они этим не злоупотребляют, не считая некоторой галантности, оживляющей отношения, в которых соблюдается благопристойность. Я отметил, что мужья там не ревнивы, но стараются в девять часов быть дома, чтобы ужинать в семейном кругу. За три недели, что я провел в этом городе, лишь одна женщина, двадцати четырех лет, меня заинтересовала, по причине своих познаний в химии. Она была доброй знакомой знаменитого Бохераве. Она показала мне золотую пластину, изготовленную им в ее присутствии, которая до трансмутации была медной. Она заверила меня, что он владеет философским камнем; но она сказала, что он может продлить жизнь не более чем на несколько лет после века. Бохераве, по ее словам, не смог им воспользоваться. Он умер от полипа между сердцем и легким, до того, как достиг истинной зрелости Гиппократа, указанной в семьдесят лет. Четыре миллиона, оставленных им своей дочери, указывают, что он владел искусством делать золото. Она мне сказала, что он подарил ей манускрипт, в котором описан весь процесс, но она находит его темным.
— Опубликуйте его.
— Боже сохрани.
— Тогда сожгите его.
— Я не осмеливаюсь.
К шести часам явился г-н де Мюрэ повести меня смотреть военные маневры, которые проводят за городом граждане Берна, все поголовно солдаты. Я спросил у него, что за изображение медведя имеется на воротах, и он сказал, что «Берн» по-немецки означает «Медведь», поэтому это изображение имеется на знамени кантона — второго по значению, но самого большого и богатого. Это полуостров, образованный течением Аара, истоки которого находятся вблизи истоков Рейна. Он говорил мне о мощи своего кантона, его владениях, округах, объяснил, кто такой advoyè[26]; затем говорил о политике, дав описание различных существующих здесь систем власти, образующих Швейцарское содружество.
— Я понял, — сказал я ему, — что кантоны, которых тринадцать, могут каждый иметь свою систему правления.
— Есть даже такой кантон, — сказал он, — у которого их четыре.
Но самым большим удовольствием для меня было ужинать с четырнадцатью или пятнадцатью мужчинами, — все сенаторы. Никакого веселья, никаких фривольных разговоров, никакой литературы — лишь общественное право, государственные интересы, коммерция, экономика, спекуляции, любовь к родине и обязательства предпочесть свободу самой жизни. Однако к концу ужина все эти несгибаемые аристократы начали оттаивать — sollicitant explicuere frontem[27] — неизбежное воздействие напитков, которым я также отдал дань уважения. Они начали с восхваления умеренности, но сочли мою чрезмерной. Они не принуждали меня, однако, пить, как русские, шведы, а также часто и поляки.
В полночь компания рассталась. Для Швейцарии час был поздний. Они меня благодарили и просили безусловно рассчитывать на их дружбу. Один из них, который до того был хмур, осудил республику Венецию за изгнание граубюнденцев, но, освежившись вином, попросил у меня прощения. Он сказал, что каждое правительство должно блюсти свои собственные интересы прежде иностранных, со стороны которых раздается критика его действий.
Вернувшись к себе, я нашел бонну спящей в моей кровати; я был очарован этим. Я осыпал ее сотней ласк, которые должны были убедить ее в моей любви и моей благодарности. Для чего нам стесняться? Мы должны считать себя мужем и женой, и я не мог представить себе, что настанет день, когда мы расстанемся. Когда любят друг друга, считают это невероятным.
Я получил письмо от м-м д'Юрфэ, в котором она просила меня уделить внимание М-м де ла Саон, жене генерал-лейтенанта, своего друга, которая приехала в Берн в надежде излечить свою болезнь кожи, которая ее обезобразила. Эта дама прибыла с высокими рекомендациями во все основные дома города. Она давала ужины каждый день, имея превосходного повара, и приглашала только мужчин. Она объявила, что не возвращает визиты кому бы то ни было. Я сразу отправился отдать ей мои реверансы, но какой грустный спектакль!
Я увидел женщину, одетую с наибольшей элегантностью, которая при моем появлении встала с софы, на которой до того привольно расположилась, и, сделав мне красивый реверанс, вернулась на свое место, предложив мне сесть рядом. Она видела мое удивление и мою озадаченность, но, сделав вид, что не замечает этого, начала обычный светский разговор. Вот как она выглядела.
Очень хорошо одета, кисти и руки открыты по локоть и очень красивы. Под прозрачным фишю видна белая маленькая грудь, вплоть до розовых бутонов. Лицо же чудовищное; оно внушает жалость, вызывая перед тем ужас. Оно представляет собой черноватую корку, неприятную, отвратительную, скопление ста тысяч бубонов, составляющих маску, идущую от верха груди вплоть до края лба, от уха до уха. Носа ее не видно. На лице видны лишь прекрасные черные глаза и безгубый рот, который она держит все время полуоткрытым, чтобы продемонстрировать два ряда несравненных зубов и разговаривать в очень приятном стиле, приправляя речь замечаниями и шутками наилучшего тона. Она не могла смеяться, так как боль, вызываемая контрактурами мускулов, заставляла ее плакать, но казалась довольной, видя смех тех, кто ее слушал. Несмотря на свое достойное жалости состояние, она обладала умом веселым и изукрашенным, тоном и обхождением истиной парижанки. Ей было тридцать лет, и она оставила в Париже трех детей малого возраста, вполне красивых. Ее фамильный дом находился на улице Нёв-на Малых Полях, ее муж был очень красивый мужчина; он любил ее до обожания и не отделил от нее свою постель; все военные почитали его за храбрость; но он, разумеется, должен был воздерживаться от поцелуев, потому что сама мысль об этом вызывала дрожь. Разлитие молока привело ее в это ужасное состояние при первых родах десять лет назад. Парижский Факультет тщетно прилагал усилия, чтобы избавить ее голову от этой адской чумы, и она приехала в Берн, чтобы отдаться в руки знаменитого доктора. который взялся ее вылечить, и она должна была ему заплатить только после того, как он выполнит свое обещание. Это язык всех эмпирических врачей, который обеспечивает им лишь доверие больного. Иногда они его вылечивают, но даже когда они не добиваются успеха, они все равно добиваются оплаты, легко доказывая, что он не вылечился лишь от собственной ошибки.
Между тем, во время прекрасной беседы, которую я вел с нею, появился врач. Она стала принимать свое лекарство. Это были капли, составленные им с использованием препарата ртути. Она сказала ему, что зуд, который ее беспокоит и который заставляет ее чесаться, как ей кажется, становится сильнее; он ответил, что она освободится от него только в конце курса, который должен продлиться три месяца.
— Когда я чешусь, — добавила она, — я остаюсь в том же состоянии, и зуд не прекращается.
Врач вилял. Я ушел. Она пригласила меня на все свои ужины разом. Я пришел туда в тот же вечер и видел, что она ест со всеми с большим аппетитом и пьет вино. Врач ей ничего не запретил. Я предвидел и догадывался, что она не вылечится. Она была весела, и ее замечания развлекали всю компанию. Я очень хорошо себе представлял, что можно привыкнуть видеть эту женщину без отвращения. Когда я поделился с бонной этой историей, она сказала, что, несмотря на свое уродство, эта женщина, благодаря своему характеру, может влюбить в себя мужчину, и я вынужден был согласиться.
Три или четыре дня спустя после этого ужина красивый мальчик, девятнадцати-двадцати лет, в лавке книготорговца, куда я ходил читать газету, сказал мне вежливо, что м-м Саон недовольна тем, что не имеет больше удовольствия меня видеть после того ужина.
— Вы знакомы, стало быть, с этой дамой?
— А вы меня не видели на ужине у нее?
— Да я теперь вас вспомнил.
— Я снабжаю ее книгами, потому что я книготорговец, я ужинаю там каждый вечер, и более того, я завтракаю каждый день с ней тет-а-тет, до того, как она сходит с постели.
— Я вас с этим поздравляю. Держу пари, вы в нее влюблены.
— Вы думаете, что вы шутите. Эта дама любима более, чем вы думаете.
— Я не шучу. Я того же мнения, что и вы; но спорю также, что у вас не хватит мужества, чтобы взять у нее последние милости, если она их вам предложит.
— Вы проиграете.
— Ладно, спорим; но как вы сможете мне доказать?
— Спорим на луи; но будьте скромны. Приходите туда ужинать этим вечером. Я скажу вам кое-что.
— Вы меня там увидите, и луи годится.
Когда я рассказал бонне о моем пари, она очень заинтересовалась окончанием этого дела, и особенно способом, который молодой человек использует, чтобы доказать мне, попросив познакомить ее с ним после того, как он меня убедит. Я ей обещал.
Вечером м-м де Саон высказала мне очень вежливо упреки, и ее ужин показался мне столь же приятным, как и предыдущий. Молодой человек там был, но поскольку мадам к нему не обращалась, никто не обращал на него внимания.
После ужина он проводил меня в «Сокол» и дорогой сказал, что предлагает мне самому увидеть его в любовной борьбе с этой дамой, если я хочу туда прийти в восемь часов утра.
— Горничная, — сказал он, — скажет вам, что дама не принимает, но не помешает вам войти и пройти в прихожую, когда вы скажете ей, что подождете. Эта прихожая имеет остекленную перегородку с середины до потолка, через которую можно увидеть даму в ее постели, если не мешает занавеска, натянутая поверх стекла. Я задерну занавеску таким образом, что маленькое пространство останется открытым, так что вы все увидите. Когда я кончу свое дело, я выйду оттуда; она вызовет горничную, и вы сможете заявить о себе. В полдень я приду, если позволите, принести вам книги в «Сокол», и если вы согласитесь с тем, что проиграли пари, вы его оплатите.
Я сказал ему, что не премину быть, и заказал ему книги, которые он должен мне принести.
Заинтересованный этим чудом, которое я не считал, однако, невозможным, я прихожу в назначенный час, дама не принимает, но горничная не возражает, чтобы я подождал, когда она примет. Я захожу в прихожую, вижу маленькое стеклянное пространство, которое приоткрыто, прикладываю глаз и вижу юного шалопая у постели, держащего в объятиях свое завоевание. Ночной колпак прикрывает ей голову таким образом, что не видно ее бедного лица.
Как только герой заметил, что я там, откуда могу его видеть, он дал мне знак ждать. Он поднялся и выставил на обозрение не только сокровища своей красавицы, но и свои собственные. Небольшого роста, но гигант там, где нужно дамам, он представлял парад, чтобы вызвать во мне зависть и унизить меня, а может быть и победить меня также. Что касается его жертвы, он показал ее мне в двух основных фасах и во всех профилях в пяти-шести разных позициях, в которых он выглядел Геркулесом в любовном акте, а больная помогала ему изо всех сил. Я увидел тело, прекрасней которого не мог изобразить и Фидий в своих скульптурах, и белизной превосходившее мрамор Пароса. Я был настолько взволнован, что предпочел бежать. Я пошел в «Сокол», где, если бы моя бонна не постаралась дать мне успокоительное, в котором я столь нуждался, я вынужден был бы через мгновенье отправиться искать его в Мата. Когда я рассказал ей всю историю, она исполнилась еще большим любопытством познакомиться с героем.
Он пришел в полдень, принеся заказанные мной книги, за которые я ему заплатил, дав сверху луи, который он взял, смеясь, с видом, который говорил мне, что я должен быть очень доволен, проиграв пари. Он был прав. Моя бонна, оглядев его с большим вниманием, спросила у него, знает ли он ее, и он ответил, что нет.
— Я видела вас ребенком, — сказала она ему, — вы сын г-на Мингард, священника. Вам должно было быть десять лет, когда я вас увидела в Лозанне.
— Это возможно, мадам.
— Вы не захотели стать священником?
— Нет, мадам. Я чувствую себя слишком привязанным к любви, чтобы избрать это занятие.
— Вы правы, потому что священники должны быть скромны, а скромность мешает.
На эту насмешку, которую моя бонна выдала ему от веселья сердца, бедный ветреник покраснел, но мы не заставили его потерять присутствия духа. Я просил его пообедать с нами, и, не говоря совершенно о м-м де ла Саон, он рассказал во время обеда не только о большом количестве своих удач, но и обо всех галантных приключениях самых красивых женщин Берна, тех, о ком ходили сплетни и приписывало злословие.
После его ухода моя бонна, думая, как и я, сказала, что этого молодого человека такого склада достаточно видеть лишь один раз. Я сделал так, что он больше не приходил к нам. Мне сказали, что м-м де ла Саон отправила его в Париж, и что она позаботилась о его судьбе. Я больше не буду говорить о нем, ни об этой даме, к которой я зашел еще только один раз, чтобы откланяться перед отъездом из Берна.
Я жил счастливо с моей дорогой подругой, которая говорила мне, что счастлива. Никакие страхи, никакие сомнения в своем будущем не тревожили ее прекрасную душу; она была уверена, как и я, что мы больше не расстанемся, и говорила мне все время, что она простит мне все мои измены, при условии, что я искренне буду рассказывать ей о них. Это был женский характер, которого мне было достаточно, чтобы жить в мире и довольствии; но я не был рожден, чтобы пользоваться таким счастьем.
После пятнадцати-двадцати дней нашего пребывания в Берне моя бонна получила письмо из Золотурна. Оно было от Лебеля. Видя, что она его читает с большим вниманием, я спросил, о чем оно. Она предложила мне его прочесть, и села возле меня, чтобы увидеть мою реакцию.
Этот дворецкий, в очень лаконичном стиле, спрашивал, не хочет ли она стать его женой. Он писал, что специально отложил этот вопрос, чтобы заранее привести свои дела в порядок и быть уверенным, что сможет жениться, даже если посол не даст на это согласия. Он сказал, что у него есть на что жить в достатке в Б., не имея более нужды служить, но оказалось, что эти заботы излишние, так как он поговорил с послом, и тот выразил свое полное согласие. Он просил ее ответить сразу, и прежде всего — согласна ли она, и во-вторых, хочет ли она поселиться с ним в Б., где она станет хозяйкой собственного дома, либо остаться с ним в Золотурне, в качестве его жены, у посла, что лишь послужит к увеличению их благосостояния. Он заканчивал, говоря, что то, что она принесет с собой, останется ее, и что он обеспечит за ней все, вплоть до суммы в сто тысяч франков. Таково будет ее приданое. Он ни слова не говорил о моей персоне.
— Ты вольна, мой дорогой друг, делать все, что ты хочешь, но я не могу себе представить твой уход иначе, чем осознав себя самым несчастным из людей.
— А я — самой несчастной из женщин, если не буду больше с тобой, потому что, если только ты меня любишь, мне совершенно не нужно становиться твоей женой.
— Очень хорошо. Что же ты ему ответишь?
— Завтра ты увидишь мое письмо. Я скажу ему вежливо, но без всяких уверток, что я люблю тебя и счастлива, и что в такой ситуации мне невозможно воспользоваться счастливым случаем, который предоставляет мне судьба в виде его персоны. Я скажу ему также, что, будучи разумной, я вижу, что не должна отказываться от его руки, но, сходя с ума от любви, могу только понадеяться на бога.
— Я нахожу обороты твоего письма превосходными, потому что, чтобы отклонить такое предложение, у тебя не может быть других доводов, чем те, что ты изложила; кроме того, было бы странно пытаться скрыть тот факт, что мы любим друг друга, потому что это слишком бросается в глаза. Несмотря на все это, мой ангел, это письмо меня печалит.
— Почему же, дорогой друг?
— Потому что я не могу предложить тебе немедленно сотню тысяч франков.
— Ах, мой друг! Они мне не нужны. Ты, разумеется, человек, не созданный для бедности, но, тем не менее, я чувствую, что ты сделал бы меня счастливой, даже разделив со мной свою бедность.
Мы наградили друг друга обычными знаками нежности, которые дают друг другу счастливые любовники в подобной ситуации, но в пафосе чувств облачко грусти посетило наши души. Нежная влюбленность, кажется, удваивает силы, но это не так. Амур — это безумный малыш, который хочет, чтобы его питали смехом и играми; иная пища его угнетает.
На следующий день она написала Лебелю, как и решила в первый момент после получения этой серьезной новости; и в то же время я счел своим долгом написать г-ну де Шавиньи письмо, продиктованное любовью, чувством и философией. Я попросил у него разъяснений по этому делу, не скрывая, что влюблен, но в то же время, будучи порядочным человеком, чувствую, надрывая себе сердце, что ставлю препятствие на пути к стабильному счастью Дюбуа.
Мое письмо доставило ей большое удовольствие, потому что ей было очень интересно знать, что думает посол об этом деле.
Получив от м-м д'Юрфэ рекомендательные письма для Лозанны к маркизу де Жеантиль д'Ангалери и к барону де Бавуа, в то время полковнику, владельцу полка Бала, к ее дяде и ее тете, я решил поехать и провести там две недели. Моя бонна была этим очень обрадована. Когда любят, думают, что объект любви этого достоин, и что все должны завидовать тому счастью, которое видят в другом.
Г-н де М.Ф., член совета Двухсот, с которым я познакомился за ужином у м-м де ла Саон, стал моим другом. Он зашел ко мне повидаться, и я представил ему мою бонну; он отнесся к ней как к моей жене; он представил ее на прогулке своей жене и пришел к нам ужинать вместе с нею и со своей старшей дочерью по имени Сара, тринадцати лет, брюнеткой, очень красивой, которая, обладая тонким умом, заставляла нас смеяться своим наивностям, силу которых прекрасно понимала. Ее искусство создавало впечатление о ее невинности, каковое ее отец и мать в ней и предполагали.
Эта девочка объявила себя влюбленной в мою бонну; она осыпала ее разнообразными ласками; она являлась часто к нам по утрам, спрашивая себе завтрак, и когда заставала нас в постели, называла мою бонну своей женой, заставляла ее хохотать, засовывая свою руку к ней под одеяло и щекоча ее, осыпая поцелуями, и говорила, что она ее маленький муж и что она хочет сделать ей ребенка. Моя бонна смеялась.
Однажды утром, тоже смеясь, я сказал, что она вызывает во мне ревность, что действительно я считаю ее маленьким мужчиной, и что я хочу видеть, ошибаюсь ли я. Говоря так, я хватаю ее, и хитрая шельма, говоря, что я ошибаюсь, но оказывая при этом лишь слабое сопротивление, предоставляет моим рукам полную свободу убедиться, что она девочка. После чего я оставляю ее, догадываясь, что она меня провела, потому что это мое выяснение было как раз то, чего она хотела, и моя бонна тоже мне это сказала, но поскольку я не беспокоился, я ей не поверил.
В следующий раз, войдя в момент, когда я вставал, и делая вид, что она влюблена в мою бонну, она сказала мне, что, убедившись, что она не мужчина, я не сочту дурным, если она ляжет на мое место. Моя бонна, у которой было желание посмеяться, говорит, что это хорошо, и маленькая Сара, прыгая от радости, скидывает платье, снимает юбку и падает на нее. Спектакль начинает меня интересовать. Я иду закрыть дверь. Моя бонна предоставляет ей свободу действий, плутовка, совсем голая, открыв все, что есть в другой красивого, принимается делать все, чтобы увенчать свой замысел, с таким множеством позиций, что мне приходит желание показать ей, как это бывает на самом деле. Она следит за всем с большим вниманием, вплоть до самого конца, выказывая большое удивление.
— Сделайте ей это еще раз, — говорит она.
— Я не могу, — отвечаю я, — потому что, ты видишь, я умер.
Притворяясь невинной, она предпринимает попытку меня восстановить, и достигает успеха; и теперь моя бонна говорит ей, что поскольку это ее заслуга, что я возродился, ей надлежит проделать так, чтобы я снова умер. Та говорит, что очень этого хочет, но у нее нет достаточно места, чтобы меня поместить, и говоря так, она принимает такую позу, что мне становится видно, что это правда, и что это не будет ее вина, если я не смогу этого сделать.
Состроив, в свою очередь, невинное и серьезное лицо человека, который очень хочет оказать любезность, я удовлетворяю хитрюгу, которая не подает нам никаких знаков, которые могли бы заставить нас предположить, что она не делала этого и в другие разы. Никаких проявлений страдания, никакого кровопролития, которое могло бы означать разрыв; но у меня достаточно оснований, чтобы заверить мою бонну, что Сара никогда не знала другого мужчину.
Ее благодарности, смешанные с уверениями ничего не говорить ни папа , ни маман , потому что они ее поругают, как ругали в прошлом году, когда она заставила проколоть себе уши без их позволения, заставили нас смеяться.
Сара знала, что мы не обмануты ее притворной простотой, но притворялась, что этого не знает, чтобы играть дальше свою роль. Кто научил ее этому искусству? Никто. Натуральный ум, менее редкий в детстве, чем в юности, но всегда редкий. Ее мать называла ее наивности предвестниками ума, но отец принимал их за глупости. Если бы она была глупа, наши насмешки это бы выявили, и она не пошла бы дальше. Я никогда ее не видел столь довольной, как тогда, когда ее отец сожалел о ее глупостях; она имитировала удивление, и, чтобы исправить первую, она говорила другую, еще более явную. Она задавала нам раз за разом все новые вопросы, на которые мы не знали, что ответить, смех становился наилучшим ответом, который мы могли дать, потому что их источник лежал в самых правильных рассуждениях. Сара могла бы, таким образом, подкрепить рассуждение аргументами и доказать нам, что глупость проявляется именно с нашей стороны, но тогда она бы вышла из своей роли.
Лебель не ответил Дюбуа, но посол написал мне письмо на четырех страницах, в котором доказывал мне разумно, что если бы я был стар, как он, и в состоянии сделать счастливой мою бонну также и после своей смерти, я ни в коем случае не должен был бы ее уступать, если она согласна со мной, но, поскольку я молод и не хочу на ней жениться, я должен не только согласиться на ее брак, который, вне всякого сомнения, сделает ее счастливой, но и постараться ее убедить дать свое согласие, и все это из тех соображений, что я, с моим опытом, должен предвидеть, что однажды в будущем я раскаюсь, что упустил этот случай, потому что невозможно, по его мнению, чтобы моя любовь через некоторое время не перешла в чистую дружбу, и тогда, я сам должен понять, мне станут необходимы новые увлечения; Дюбуа, в качестве просто друга, может только связать мою свободу и, соответственно, вызвать раскаяние, которое делает человека несчастным. Он сказал мне, между прочим, что когда Лебель рассказал ему о своем проекте, он был далек от того, чтобы ему отсоветовать это, он одобрил его, потому что моя прислуга, в тех нескольких случаях, когда он видел ее у меня, показалась ему вполне заслуживающей его дружбы, и поэтому он был бы рад видеть ее так хорошо обустроенной в его доме, где, без всякого ущерба для благопристойности, он мог бы наслаждаться очарованием ее ума, не оказывая, разумеется, никаких поползновений на другие ее прелести, о которых, в силу своего возраста, он не может и помышлять. Он окончил свое красноречивое письмо, сказав, что Лебель не влюбился в Дюбуа как молодой человек, но лишь после размышлений, и, соответственно, он ее не торопит. Она об этом узнает из письма, которое он ей готовит. Женитьба должна совершаться только на холодную голову.
Моя бонна, прочтя это письмо со всем вниманием, вернула его мне с безразличным видом.
— Что ты об этом думаешь, мой друг?
— Сделать так, как говорит тебе посол. Если он считает, что нам нет нужды торопиться, то это все, чего мы хотим. Не будем думать об этом и будем любить друг друга. Это письмо, однако, продиктовано мудростью; но скажу тебе, что не могу себе представить, что мы могли бы стать безразличны друг к другу, хотя я понимаю, что это может случиться.
— Безразличны — нет, ты ошибаешься.
— Это значит — стать добрыми друзьями.
— Но дружба, моя дорогая бонна, никогда не безразлична. Единственно, верно, что любовь может прекратиться. Мы это знаем, потому что так бывает всегда, с тех пор, как существует род людской. Так что посол прав. Раскаяние может начать терзать наши души, когда мы больше не будем любить друг друга. Давай завтра поженимся и накажем таким образом пороки человеческой природы.
— Мы поженимся, но из тех же соображений не будем торопиться.
Моя бонна получила письмо Лебеля через день. Она нашла его столь же разумным, как и письмо посла; однако мы решили не заниматься более этим делом. Мы договорились покинуть Берн и направиться в Лозанну, где ожидали меня те, кому я был рекомендован, и где развлечений было гораздо больше, чем в Берне.
Моя бонна и я, в постели, в объятиях друг друга, разработали комбинацию, которая нам обоим показалась весьма красивой и весьма разумной. Лозанна была маленький город, где, по ее мнению, меня должны были приветствовать все поголовно, и где, по меньшей мере первые пятнадцать дней, у меня едва хватало бы времени на визиты, на званые обеды и ужины, которые давались бы для меня каждый день. Вся знать знала мою бонну, и в том числе герцог де Росбюри, который по ней вздыхал. Ее появление вместе со мной должно было стать событием последних дней, обсуждаемым во всех собраниях, что, в конце концов, стало бы утомлять нас обоих. Кроме того, у нее была ее мать, которая ничего не говорила, но в глубине души не вполне была удовлетворена, видя ее в качестве прислуги с мужчиной, которому, по общему мнению, не могла быть никем иным как любовницей.
После всех этих размышлений мы решили, что она поедет одна в Лозанну, к своей матери, и что два или три дня спустя я приеду туда в одиночестве, как и хотел, имея при этом возможность видеться с ней каждый день у той же матери. Поскольку после Лозанны я направлюсь в Женеву, она последует за мной, и оттуда мы поедем путешествовать вместе повсюду, куда я захочу, и будем любить друг друга.
Через день после этого решения она выехала, в довольно хорошем настроении, потому что, будучи уверена в моем постоянстве, радовалась нашему разумному проекту; Но она оставила меня грустным. Обязательные визиты заняли у меня два дня; поскольку перед тем, как покинуть Швейцарию, я желал познакомиться со знаменитым Галлером, уполномоченный де Мюрэ дал мне к нему письмо, которое меня весьма порадовало. Он был байи в Роше.
Когда я делал прощальный визит м-м де ла Саон, я застал ее в постели и вынужден был провести с ней четверть часа тет-а-тет. Говоря, естественно, только о своей болезни, она повела диалог таким образом, что стало удобно, вполне благопристойно, показать мне, что священный огонь, обезобразивший ее лицо, не затронул остальное. Я теперь не так восхищался храбростью Мингарда, потому что почувствовал себя готовым поступить так же, как он. Я не видел ничего более красивого, и было вполне легко смотреть только на тело. Эта бедная женщина, демонстрируя себя с такой легкостью, мстила природе за тот ущерб, который та нанесла ей, сделав ее лицо ужасным, и в то же время, из соображений вежливости, она полагала, возможно, своим долгом вознаградить этим порядочного человека, который нашел в себе силы беседовать с ней. Я уверен, что имей она красивое лицо, она скупилась бы на все остальное.
В последний день я обедал у М.Ф., где славная Сара расспрашивала меня по поводу того, что моя жена уехала раньше меня. Мы увидим, как я нашел ее в Лондоне тремя годами позже.
Ледюк еще лечился и был очень слаб, но я, тем не менее, хотел, чтобы он ехал со мной, потому что у меня было много багажа, и я не мог довериться никому, кроме него. Так я покинул Берн, который оставил во мне такое счастливое впечатление, что мне становится веселее каждый раз, как я о нем вспоминаю.
Имея намерение поговорить в врачом Хереншвандтом по поводу консультации, которая интересовала м-м д'Юрфэ, я остановился в Морате, где он поселился. Это всего в четырех лье от Берна. Он пригласил меня обедать, чтобы ознакомить с превосходными качествами рыбы тамошнего озера, но по моем возвращении в гостиницу я решил провести там ночь по причине некоей достопримечательности, что мой читатель может мне простить.
Доктор Хереншвандт, получив от меня добрые два луи за консультацию по поводу солитёра, которую он мне дал в письменном виде, пригласил меня прогуляться по большой дороге на Аванш до капеллы, заполненной останками мертвых.
— Это кости, — сказал он, — отряда Бургиньонов, убитых швейцарцами в знаменитой битве.
Я читаю латинское описание, смеюсь и затем говорю ему серьезно, что оно содержит поразительную неточность и воспринимается как шутка, и что серьезность содержания не должна позволять разумной нации вызывать смех у тех, что его читают. Этот швейцарский доктор не понял. Вот описание: Deo. Opt. Max. Caroli inclyti, et fortissimi Bur-gundiœ ducis exercitus Muratum obsidens, ab Helvetiis cœsus, hoc sui monumentum reliquà anno 1476.[28] [29]
Представление, которое я имел о Морате до той поры, было замечательное. Его семивековая репутация, три большие осады, выдержанные и отраженные; я ожидал увидеть нечто величественное, и не увидел ничего.
— Морат, — сказал я врачу, — был, должно быть, расстрелян, разрушен, потому что…
— Отнюдь нет, он таков, каким был всегда.
Человек умный, который хочет чему-то научиться, должен читать и затем путешествовать, чтобы исправить свою науку. Знать плохо — это хуже, чем не знать. Монтэнь говорит, что нужно познавать хорошо. Однако вот мое приключение в гостинице.
Хозяйская дочка, говорящая по-романски, показалась мне чем-то редкостным, она напомнила мне торговку чулками, которую я имел в Малой Польше; она меня поразила. Ее звали Ратон. Я предложил ей шесть франков за благосклонность, но она их отклонила, сказав, что она честная. Я приказал, чтобы закладывали лошадей. Когда она увидела, что я готов уехать, она сказала мне, смеясь, и в то же время робко, что ей нужны два луи, и что если я хочу ей их дать и уехать только завтра, она придет провести ночь в моей постели.
— Я остаюсь, но помните, что должны быть со мной нежны.
— Вы будете довольны.
Когда все отправились спать, она пришла со слегка растерянным видом, долженствующим подогреть мою страсть. Имея нужду в выходе на природу, я спросил у нее, где это место, и она показала мне его, у самого озера. Я взял свечу, пошел туда и, сделав свое дело, стал читать все те глупости, которые видно во всех этих местах, и справа и слева. Вот что было написано у меня справа: «10 августа 1760. Ратон мне дала восемь дней назад и наградила меня триппером».
Я не думал, что там были две Ратон; я возблагодарил бога; я стал верить в чудеса. Я вернулся в свою комнату и застал Ратон уже лежащей; тем лучше. Поблагодарив ее за то, что она сняла свою рубашку и забросила ее за кровать, я пошел ее поднять, и она забеспокоилась. Она сказала, что рубашка запачкалась чем-то весьма натуральным; но я увидел, в чем дело. Я упрекнул ее, она мне ничего не ответила, со слезами оделась и ушла.
Так я от нее ускользнул. Если бы не эта возникшая потребность, как понимает читатель, я бы пропал, потому что мне никогда бы не пришло в голову делать обследование этой девочке цвета лилий и роз.
На следующий день я направился в Рош, чтобы познакомиться со знаменитым Галлером.
Глава IX
Г-н Галлер. Мое пребывание в Лозанне. Лорд Росбюри. Юная Саконэ. Диссертация о красоте. Юная теологиня.
Я увидел большого мужчину шести футов ростом, наделенного красивой физиономией, который, прочитав письмо г-на де Мюрэ, оказал мне все знаки гостеприимства и открыл передо мной сокровищницы своей науки, отвечая на мои вопросы с точностью и в то же время с простотой, которая должна была бы показаться мне чрезмерной, потому что в одно и то же время он меня наставлял и принимал при этом вид школяра; по той же причине, когда он расспрашивал меня по научным вопросам, он давал пояснения, которые позволяли мне не ошибаться в ответах. Этот человек был великий физиолог, врач, анатом, который, подобно Морганьи, которого называл своим учителем, сделал новые открытия в микрокосме. Он показал мне, во время моего пребывания у него, большое количество своих писем и писем Понтедера, также профессора ботаники в том же университете, потому что Галлер был также очень знающий ботаник. Говоря об этих великих людях, у которых я впитывал молоко учености в юности, он с нежностью вспоминал Понтедера, письма которого были почти нечитаемы, а кроме того, на очень темной латыни. Берлинский академик ему писал, что король Прусский, прочитав его письмо, не помышлял более о всеобщей отмене латинского языка. «Суверен, — отвечал ему Галлер в своем письме, — который решается изгнать из республики Литературы язык Цицерона и Горация, создает бессмертный памятник своему невежеству. Если люди письменности должны иметь свой общий язык, чтобы сообщать друг другу свои истины, самым простым, из мертвых языков, является, разумеется, латынь, потому что владычество греческого и арабского языков подошло к концу».
Галлер был большой поэт в манере Пиндара и хороший политик, который много сделал для своей родины. Его нрав всегда был очень чист; он сказал мне, что единственное средство дать наставления — это доказать их правоту на своем примере. Будучи добрым гражданином, он должен быть, соответственно, превосходным отцом семейства; и я таковым его и узнал. У него есть жена, — он женился на ней через некоторое время после потери первой, — на красивом лице ее запечатлена мудрость, — и красивая дочь в возрасте восемнадцати лет, которая лишь иногда разговаривала за столом, тихим голосом, только с молодым человеком, сидящим с ней рядом. После обеда я спросил у моего хозяина, оставшись с ним наедине, кто этот молодой человек, что сидел за столом рядом с его дочерью.
— Это ее репетитор.
— Такой репетитор и такая ученица могут легко оказаться влюблены друг в друга.
— И с богом!
Этот сократический ответ показал мне всю глупую дерзость моих мыслей. Я открыл том ин-октаво его трудов и прочел: Utrum memoria post mortem dubito[30].
— Вы, значит, не думаете, — спросил я, — что память составляет значительную часть души?
Мудрец вынужден был тут слукавить, потому что у него были основания не подвергать сомнению свою правоверность. Я спросил у него за столом, часто ли приходит к нему с визитами г-н де Вольтер. Он с улыбкой привел мне слова великого поэта разума: Vetabo qui Cereris sacrum vulgarit arcanœ sub iisdem sil trabibus[31].
После этого ответа я не говорил с ним больше о религии во все три дня моего пребывания у него. Когда я сказал ему, что для меня будет праздником познакомиться со знаменитым Вольтером, он ответил мне без малейшей досады, что это человек, с которым я совершенно справедливо должен желать познакомиться, но что многие находят его, вопреки законам физики, более великим издали, чем вблизи[32].
Я нашел стол г-на Галлера очень изобильным, но его самого — весьма умеренным. Он пил только воду, и маленький стаканчик ликера на десерт, разбавленного большим стаканом воды. Он много говорил со мной о Бохераве, у которого был любимым учеником. Он сказал мне, что после Гиппократа Бохераве был самым великим из врачей, и более значительным химиком, чем тот и чем все последующие после него.
— Как же он не смог получить аттестат зрелости?
— Потому что contra vint mortis nullum est medicamen in hortis[33]; но если бы Бохераве не рожден был быть врачом, он умер бы до достижения четырнадцати лет от злокачественной язвы, которую не мог вылечить ни один врач. Он вылечился, натирая себя своей собственной уриной, в которой он разводил поваренную соль.
— Мадам мне сказала, что он владел философским камнем.
— Так говорят, но я этому не верю.
— Верите ли вы, что его можно изготовить?
— Я работал тридцать лет и нашел это невозможным, но не могу сказать это убежденно. Нельзя быть хорошим химиком и не признавать физической возможности превращения металлов в золото.
Когда я откланивался, он просил меня написать ему о моем впечатлении от великого Вольтера, и это послужило началом нашей переписки на французском. У меня есть двадцать два письма этого человека ко мне, из которых последнее датировано шестью месяцами до его преждевременной смерти. Чем больше я старею, тем более беспокоюсь о моих бумагах. Это настоящее сокровище, которое привязывает меня к жизни и заставляет ненавидеть смерть.
Я прочел в Берне «Элоизу» Ж.-Ж. Руссо и хотел услышать, что скажет о ней г-н Галлер. Он сказал, что того немногого, что он прочел из этого романа, чтобы удовлетворить своего друга, ему было достаточно, чтобы судить обо всей вещи.
— Это, — сказал он, — самый плохой из всех романов, потому что самый многозначительный. Вы увидите кантон Во. Это прекрасная страна, но не рассчитывайте увидеть там оригиналы блестящих портретов, которые представляет вам Руссо. Руссо счел, что в романе ему позволено лгать. Ваш Петрарка не лгал. У меня есть его произведения, написанные на латыни, которую никто теперь не читает, по той причине, что его латынь не безупречна, и они ошибаются. Петрарка был ученый, но при этом обманщик в описании своей любви к благородной Лауре, которую любил вполне так, как мужчина любит женщину. Если бы Лаура не дала Петрарке счастья, он бы ее не прославил.
Так г-н Галлер говорил о Петрарке, перепрыгнув от разговора о Руссо, которого не любил за его приемы красноречия, блеск которых относил за счет использования антитез и парадоксов. Этот большой швейцарец был ученый из первого ряда, но он этим не кичился ни у себя в семье, ни когда находился в обществе людей, которых не увлекали научные рассуждения. Он был доступен для всех, был любезен и приветлив. Но что было у него такого, чтобы нравиться всем? Я не знаю. Легче сказать, чего у него не было, чем что было. У него не было никаких недостатков, свойственных людям, которых называют людьми ума и учеными.
Его добродетели были суровыми, но он очень остерегался проявлять суровость. Он, разумеется, избегал невежд, которые, вместо того, чтобы держаться в рамках, которые предписывает им их невежество, желают судить обо всем вкривь и вкось и пытаются даже подвергать насмешке тех, кто что-то знает, но свое недовольство не проявлял. Он слишком хорошо знал, что невежды ненавидят пренебрежение, и не хотел вызывать ненависть. Г-н Галлер был ученый, который не хотел, чтобы догадывались о его уме, и не выставлял его на обозрение, он не хотел рисковать своей репутацией; он хорошо поддерживал разговор и говорил мудрые вещи, не мешая другим в компании тоже говорить. Он никогда не говорил о своих работах, и когда о них заходила речь, он уводил разговор в сторону; когда встречалось мнение, отличное от своего, он возражал, только неохотно.
Едва прибыв в Лозанну и решив сохранить инкогнито хотя бы на один день, я, естественно, послушался своего сердца. Я отправился повидать Дюбуа, не имея необходимости никого расспрашивать о том, где она живет, поскольку она подробно обрисовала мне улицы, по которым мне следовало идти, чтобы пройти к ней. Я нашел ее с ее матерью; но мое удивление было велико, когда я увидел Лебеля. Она не дала мне времени подготовить свое появление. Вскрикнув, она повисла у меня на шее, и ее мать меня приветствовала. Я спросил у Лебеля, как себя чувствует посол, и с каких пор он находится в Лозанне. Этот славный человек, приняв дружеский тон, сказал, что посол чувствует себя хорошо, что он прибыл в Лозанну утром по делам и что он пришел повидать мать Дюбуа после обеда и был очень удивлен, застав там ее дочь.
— Вы знаете, — сказал он, — каковы мои намерения; я должен уехать завтра; и когда вы определитесь, вы мне напишете, я приеду за ней и отвезу ее в Золотурн, где мы поженимся.
На это разъяснение, которое не могло быть ни более ясным, ни более приличным, я ответил, что отнюдь не выступаю против воли моей дорогой бонны, а она, в свою очередь, добавила, что решится покинуть меня, лишь если я выражу с этим свое согласие. Сочтя наши ответы слишком неопределенными, он откровенно мне сказал, что ему необходим определенный ответ, на что я сказал, с намерением совершенно отвергнуть его проект, что в течение десяти-двенадцати дней я напишу ему обо всем. Он уехал в Золотурн на следующее утро.
После его отъезда мать моей дорогой подруги, в которой здравый смысл преобладал над умом, говорила нам разумные вещи, тоном, который она сочла необходимым, чтобы просветить наши две головы, потому что влюбленные, мы не могли решиться разлучиться. Между тем, я узнал у своей бонны, что она ждала меня каждый день до полуночи, и что мы сделаем так, как я и обещал Лебелю. У нее была своя комната и очень хорошая кровать, и она накормила меня неплохим ужином. Утром мы проснулись влюбленными, но при этом решили подумать над проектом Лебеля. Был однако один небольшой вопрос.
Читатель, возможно, помнит, что моя бонна обещала мне извинять мне все мои небольшие измены при условии, что я точнейшим образом буду ей в них признаваться. Я не собирался исповедоваться, но за ужином рассказал ей маленькую историйку с Ратон.
— Мы должны быть оба очень счастливы, — сказала мне она, — потому что если бы не случай, который заставил тебя пойти в это место, где ты нашел спасительное сообщение, ты потерял бы здоровье и, если болезнь не проявилась, передал бы ее мне.
— Это могло бы быть, и я был бы в отчаянии.
— Я это знаю; и, кроме того, меня сердит, что я об этом не жалею.
— Я вижу только одно средство, чтобы избежать этого несчастья. Когда я тебе изменю, я буду наказывать себя, избегая твоих ласк.
— Это меня ты таким образом накажешь. Если ты меня любишь, ты найдешь, как мне кажется, лучшее средство.
— Какое же?
— Не изменять мне.
— Ты права. Прошу у тебя прощения, и буду применять это средство в будущем.
— Я понимаю, что это будет тебе нелегко.
Автор таких диалогов — Амур; но Амур ничем не рискует, их составляя.
На другой день, остановившись в гостинице, переодевшись и направившись относить мои письма тем, кому они были адресованы, я увидел барона де Берсей, дядю моего друга Бавуа.
— Я знаю, — сказал мне он, — что мой племянник обязан вам своей удачей, тем, что он сразу произведен в генералы, и вся моя семья, как и я, счастлива с вами познакомиться. Я предлагаю вам свои услуги, прошу сегодня к нам обедать, и приходите всегда, когда у вас не будет ничего лучше; но в то же время я вас прошу никому не говорить о той ошибке, которую он совершил, став католиком, потому что эта ошибка, в соответствии с образом мыслей, принятым в этой стране, его бесчестит, и такое бесчестье рикошетом падет на всех родственников.
Я обещал не касаться этого обстоятельства его жизни, в разговорах о нем, и прийти к нему есть суп по-семейному. Я нашел всех адресатов моих писем порядочными, благородными, очень вежливыми и полными талантов. М-м де Жантиль Лангалери показалась мне самой обаятельной из всех дам, но у меня не было времени оказать особые знаки внимания той или другой из них. Обеды, ужины, балы каждый день, когда вежливость не допускала пропустить хотя бы один, измучили меня до крайности. Я провел две недели в этом маленьком городе, не будучи полностью свободным ни одного дня, стремясь при этом к свободе. Я смог провести с моей бонной лишь одну ночь; мне не терпелось уехать с ней в Женеву, куда все хотели передать со мной письма для г-на де Вольтера, которого, однако, здесь ненавидят из-за его желчного нрава.
— Как, мадам, разве г-н де Вольтер не душка, не любезен, весел и приветлив с вами, любезно соглашающимися играть вместе с ним в его театральных пьесах?
— Нет, месье. Когда он репетирует с нами наши роли, он на нас ругается; мы никогда не можем сказать что-нибудь так, как он хочет, мы не произносим правильно ни одного слова; он находит дурным наш голос, наш тон, и еще хуже, когда мы играем его пьесу. Какой крик поднимается из-за забытого или добавленного слога, который портит один из его стихов! Он нас пугает. Одна не к месту засмеялась, другая, в «Альзере», плохо изобразила плач.
— Не хочет ли он, чтобы вы плакали всерьез?
— Да, всерьез; он хочет, чтобы лились настоящие слезы; Он утверждает, что актер может заставить рыдать зрителя, только если заплачет реально сам.
— В этом, полагаю, он прав; но разумный и сдержанный автор не проявляет такую строгость по отношению к любителям. Можно требовать таких вещей лишь от настоящих комедиантов; но такова ошибка любого автора. Нужно лишь требовать от актера, чтобы он выразил в своих словах силу, необходимую для прояснения их собственного смысла.
— Я сказала ему однажды, утомленная его криками, что не моя ошибка, если эти слова не имеют той силы, какую должны бы были иметь.
— Я уверен, что он только рассмеялся.
— Рассмеялся? Скажите — расхохотался. Он наглый, грубый, невыносимый, в конце концов.
— Но вы прощаете ему все его недостатки, я уверен.
— Не будьте так уверены. Мы его прогнали.
— Прогнали?
— Да, прогнали; он внезапно покинул дома, которые снимал, отправился жить там, где вы его найдете, и больше к нам не приходит, даже по приглашению, потому что мы, в конце концов, ценим его большой талант, и мы его вывели из себя только для того, чтобы отомстить и дать ему жизненный урок. Заставьте его заговорить о Лозанне, и вы услышите, что он говорит о нас, хотя и смеясь, так как это его манера.
Я несколько раз бывал с лордом Росбюри, который безуспешно ухаживал за моей бонной. Это был красивый молодой человек, неразговорчивей которого я не встречал. Мне говорили, что у него есть ум, что он образован и что он не грустен; в обществе, на ассамблеях, на балах, обедах его вежливость выражалась только в реверансах; когда с ним говорили, он отвечал очень лаконично и на хорошем французском, но с нерешительностью, демонстрировавшей, что любые расспросы его гнетут. Обедая у него, я спрашивал что-то, касающееся его страны и требующее ответа в шесть-семь фраз, и он отвечал мне очень хорошо, но при этом краснел. Знаменитый Фокс, который был тоже на обеде, и которому было тогда двадцать лет, вызывал у него смех, но говоря при этом по-английски. Я увидел этого герцога в Турине через восемь месяцев спустя, влюбленного в м-м Мартин, жену банкира, которая обладала талантом развязывать ему язык.
Я увидел там девочку одиннадцати-двенадцати лет, чья красота меня поразила. Она была дочерью м-м де Саконэ, которую я знал по Берну. Я не знаю, какова была судьба этой девочки, которая оставила во мне самое сильное впечатление.
Ничто не производило никогда на меня такое сильное впечатление, как прекрасное женское лицо, даже ребенка. Говорят, красота обладает таким свойством. Согласен, потому что то, что меня привлекает, кажется мне несомненно красивым, но красиво ли оно на самом деле?. Я должен усомниться в этом, потому что то, что кажется мне красивым, по преимуществу, не кажется таковым всем. Совершенной красоты не существует, либо она не несет в себе такой силы. Все, кто говорил о красоте, лукавили; они должны были придерживаться того имени, которое дали ей греки и латиняне: — Форма. Красота — не что иное как форма (1843) по преимуществу. То, что не красиво, не имеет формы; и это искажение формы есть противоположность тому, что называется pulcrum или formosum . Мы правы, изыскивая определения вещей, но когда это содержится в их имени, какая нужда искать дальше? Если слово Форма, Forma — латинское, посмотрим латинское значение, а не французское, где, однако, говорят бесформенный вместо некрасивый , не замечая, что противоположностью этому должно быть слово, обозначающее наличие формы, которая есть не что иное как красота. Заметим, что informe на французском так же хорошо, как и на латыни, означает отсутствие лица. Это тело, у которого нет видимости чего бы то ни было.
То, что имело всегда надо мною абсолютную власть, это одушевленная красота женщины, но красота, выражающаяся в ее лице. Отсюда черпает свою силу очарование, и также верно, что сфинксы, которых мы видим в Риме и в Версале, заставляют нас почти влюбиться в их тело, хотя и деформированное, в полном смысле этого слова. Созерцая их лицо, мы приходим к тому, что находим прекрасной их деформированность. Но что есть эта красота? Мы не знаем, и когда мы хотим облечь ее в законы, или определить эти самые законы, мы лукавим, как Сократ. Все, что я знаю, это что эта поверхность, которая меня очаровывает, приводит в восторг, делает меня влюбленным есть то, что называют красотой. Это объект моего видения, я говорю о нем. Если бы мое видение могло говорить, оно говорило бы об этом с большим знанием дела, чем я.
Ни один художник не превзошел Рафаэля в изображении красоты лиц, вышедших из-под его кисти; Но если бы спросили у Рафаэля, что есть эта красота, законы которой он столь постиг, он бы ответил, что он этого не знает, что он понимает это сердцем и что он знает, как ее воспроизвести, когда видит ее перед глазами. Это лицо мне нравится, — должен был бы он ответить, — стало быть, оно красиво. Он должен был бы возблагодарить Бога, что родился с превосходным вкусом к красоте. Но omne pulcrum difficile[34]. Только избранные художники разбираются в красоте; число их невелико. Если мы захотим освободить художника от обязанности давать в своих творениях характерные черты красоты, каждый человек сможет стать художником, потому что нет ничего легче, чем изображать некрасивое. Художник, ставший таковым не по велению божьему, творит такое в силу обстоятельств. Отметим, насколько редок хороший художник среди тех, кто наделен талантом создавать портреты. Этот жанр наиболее материален в их искусстве. В нем есть три разновидности. Те, что делают похожим и уродуют; они заслуживают, по моему мнению, за свою работу ударов палкой, потому что дерзки и никогда не признают, что изобразили человека более уродливым или менее красивым. Вторые, которым нельзя отказать в достоинстве, изображают человека совершенно похоже, и даже до удивления, потому что лицо представляется говорящим.
Но редки, и весьма редки, те, кто изображает с совершенным сходством, и в то же время добавляют в лицо на картине неуловимые черты красоты. Эти художники благословенны судьбой. Таков был Натье, парижанин, которого я знал в его восемьдесят лет, в пятидесятые годы этого века. Он рисовал портрет некрасивой женщины; она очень походила лицом на написанный на полотне портрет, и, несмотря на это, все находили, что на картине она прекрасна. Рассматривали картину, и не могли найти отличие образа от натуры. То, что было добавлено или убрано художником, было неуловимо.
— Откуда эта магия? — спросил я как-то у художника, который нарисовал некрасивых Дам Франции[35] прекрасными как звезды.
— Это доказывает божественную природу красоты, перед которой все преклоняются, но никто не знает, в чем она содержится, и это также заставляет понять, насколько неуловимо различие между красотой и некрасивостью лица, которое, однако, кажется таким большим для тех, кто не имеет никакого представления о нашем искусстве.
Греческим художникам нравилось изображать Венеру, богиню красоты, косоглазой. Комментаторы изощрялись в объяснениях. Они все ошибались. Пара косых глаз может быть прекрасной, но если они косые, меня это поражает, и я нахожу их менее красивыми.
На девятый день моего пребывания в Лозанне я ужинал и провел ночь с моей бонной, и утром, выпив кофе с ней и ее матерью, сказал им, что настал момент принять решение. Мать мне сказала, что, исходя из чувства порядочности, я должен раскрыться перед Лебелем до своего отъезда, и показала мне письмо этого человека, которое получила накануне. Он просил ее объяснить мне, что если я не могу решиться отдать ему ее дочь до того, как покину Лозанну, мне еще труднее будет на это пойти, когда я буду далеко, и когда она, быть может, подарит мне живой залог своей любви, который увеличит мою привязанность к ней как матери. Он говорил, что он не собирается, разумеется, забрать обратно свое слово, но был бы еще более счастлив, если бы мог сказать, что получил свою жену из рук ее матери.
Эта добрая мать покинула нас в слезах, и я остался с моей подругой, размышляя об этом серьезном деле. Она сама взяла на себя смелость сказать мне, что следует немедленно написать Лебелю, чтобы больше не думал о ней, либо принять его предложение.
— Если я напишу ему, чтобы он не думал больше о тебе, я должен на тебе жениться.
— Нет.
Произнеся это «Нет», она оставила меня в одиночестве. Мне понадобилось подумать над этим с четверть часа, и я написал Лебелю короткое письмо, в котором отметил, что вдова Дюбуа, человек самостоятельный, решилась отдать ему свою руку, и я могу только согласиться с этим и поздравить его со счастьем. Я просил его, соответственно, прибыть из Золотурна, чтобы получить ее из рук ее матери, в моем присутствии.
После этого я вошел в комнату ее матери, передав письмо дочери и сказав, что если она его одобряет, она должна только добавить свою подпись к моей. Прочитав и перечитав, при плачущей матери, она с минуту смотрела своими прекрасными глазами на мое лицо, затем поставила свою подпись. Я сказал матери, чтобы нашла надежного человека, чтобы отправить письмо в Золотурн. Пришел человек и сразу уехал с моим письмом.
— Мы увидимся, — сказал я моей бонне, обнимая ее, — когда прибудет Лебель.
Я вернулся в свою гостиницу, и чтобы перебороть свою грусть, заперся, приказав говорить всем, что я недоступен.
Четыре дня спустя, ближе к вечеру, я увидел перед собой Лебеля, который, обняв меня, тут же покинул, сказав, что будет ждать меня у своей нареченной. Я просил его освободить меня от этого, заверив, что буду обедать у нее с ним завтра. Я сделал все необходимые распоряжения, чтобы уехать сразу после этого обеда, и назавтра с утра отдал все визиты. К полудню Лебель пришел за мной.
Наш обед не был печальным, но и не был, тем более, оживлен радостью. В момент расставания я попросил мою бывшую бонну вернуть мне кольцо, которое я ей подарил, за сотню луи, поскольку мы расстались по взаимному согласию; она приняла деньги с печальным видом.
— Я бы не брала их, — сказала она, — так как не нуждаюсь в деньгах.
— В этом случае, — сказал я, — я возвращаю вам его, но обещайте никогда не продавать его, и сохраните сотню луи как слабую компенсацию за услуги, которые вы мне оказали.
Она отдала мне свое золотое кольцо от своего первого брака и покинула меня, не в силах сдержать слезы. Осушив свои, я сказал Лебелю:
— Вы получаете во владение сокровище, которому я не могу в полной мере воздать должное. Всю его цену вы вскоре узнаете. Она полюбит вас одного, она будет заботиться о вашем хозяйстве, она не будет иметь от вас никаких секретов, она порадует вас своим умом и легко рассеет малейшую тень дурного настроения, которое вас вдруг посетит.
Когда я вошел вместе с ним в комнату матери, чтобы сказать последнее «прости», она попросила меня отложить свой отъезд и поужинать еще раз вместе с ней, но я ответил, что лошади уже запряжены и стоят у моих дверей, эта отсрочка вызовет ненужные переживания, но я обещаю ожидать ее, вместе с супругом и матерью, в гостинице в двух лье отсюда, по дороге на Женеву, где мы сможем оставаться, сколько захотим, и Лебель нашел, что это вполне подходит. К моему возвращению в гостиницу все было готово. Я выехал и остановился в обусловленном месте, где сразу заказал ужин на четверых. Я увидел их прибывшими час спустя. Меня удивил свободный и веселый вид новобрачной и особенно непринужденность, с которой она открыла свои объятия, входя в мои. Она меня привела в замешательство; в ней было больше ума, чем во мне. Я нашел в себе, однако силы сдержать свое настроение; мне казалось невозможным, чтобы она меня любила и при этом столь легко можно было перескочить столь внезапно от любви к простой дружбе; несмотря на это, я решил ее имитировать и не отказался от демонстраций, которые позволительны дружбе и которые свободны от проявлений чувств, преступающих ее пределы.
Во время ужина я увидел Лебеля скорее восхищенным тем, что он стал обладателем такой женщины, чем той радостью, которую он получил, удовлетворив свою страсть, которую он испытывал по отношению к ней. Я не мог ревновать к мужчине, настроенному таким образом. Я также видел, что оживление моей бонны происходило только от желания сообщить мне уверенность, что ее будущее таково, что нечего лучше и желать. Она действительно должна была быть счастлива, достигнув состояния стабильного и солидного, защищенного от капризов фортуны.
Эти размышления к концу ужина, который продлился два часа, привели мое настроение к такому же, как у моей покойной бонны. Я смотрел на нее со снисхождением, как на сокровище, которое мне принадлежало и, послужив моему счастью, перешло к другому, к моему полнейшему удовлетворению. Мне казалось, что моя бонна получила воздаяние, которого заслуживала, подобно тому, как великодушный мусульманин дает свободу любимому слуге в награду за его верность. Я смотрел на нее, я смеялся ее остротам, и вспоминал о тех удовольствиях, которые действительно пережил вместе с ней, без всякой горечи и без всякого сожаления, что лишен права их возобновить. Я даже почувствовал некую досаду, когда, бросив взгляд на Лебеля, подумал, что, пожалуй, он не сможет меня заменить. Она, угадав мою мысль, сказала мне глазами, что не беспокоится об этом.
После ужина Лебель сказал, что непременно должен вернуться в Лозанну, чтобы быть послезавтра в Золотурне, я его обнял, высказав пожелание, чтобы наша дружба продолжалась до смерти. Пока он пошел садиться в экипаж вместе с матерью, моя бонна, спускаясь по лестнице вместе со мной, сказала мне со своей обычной искренностью, что она не будет счастлива, пока рана окончательно не зарубцуется.
— Лебель, — сказала она, — заслуживает лишь моего уважения и моей дружбы, но это не значит, что я целиком принадлежу ему. Будь уверен, что я люблю только тебя, и что ты единственный, кто дал мне понять силу чувств и невозможность им сопротивляться, когда ничто не мешает действовать. Когда мы снова увидимся, как ты позволил мне надеяться, мы окажемся в состоянии быть истинными друзьями и будем рады последовать той судьбе, которая нас ожидает; что касается тебя, я уверена, что в скором времени новый объект, более или менее достойный занять мое место, рассеет твою грусть. Я не знаю, беременна ли я, но если это так, ты будешь доволен теми заботами, что я окажу твоему ребенку, которого ты получишь из моих рук, когда захочешь. Вчера мы предприняли договоренность на этот счет, которая не оставит в нас сомнений, если я окажусь беременна. Мы договорились, что поженимся, как только окажемся в Золотурне, но воспользуемся нашим браком не ранее чем через два месяца; таким образом, мы будем уверены, что мой ребенок принадлежит тебе, если я рожу раньше апреля; и мы охотно сделаем так, что все будут считать, что ребенок будет легальным плодом нашего брака. Это он стал автором этого мудрого проекта, источника мира в доме, разработанного, чтобы изгнать из души моего мужа всякую тень сомнения в этом слишком неясном вопросе влияния крови, о котором он думает, однако, не больше меня; но мой муж будет любить наше дитя так, как если бы он был его отцом, и если ты мне напишешь, я сообщу тебе в своем ответе новости о моей беременности и о нашей жизни. Если я буду иметь счастье подарить тебе ребенка, сына или дочь, это будет для меня сувенир, гораздо более ценный, чем твое кольцо. Но мы плачем, а Лебель на нас смотрит и смеется.
Я смог ответить ей, только сжав в своих объятиях, и я передал ее в объятия ее мужа уже в экипаже, где он сказал мне, что наше долгое прощание доставило ему большое удовольствие. Они уехали, и служанки, посланные провожать их со свечами в руках, были этому очень рады. Я отправился спать.
Наутро, при моем пробуждении, пастор церкви в Женеве спросил у меня, не буду ли я добр предоставить ему место в моей коляске, и я согласился. Нам оставалось проехать только десять лье, но, желая что-то съесть в полдень, я предоставил ему возможность отдать распоряжения.
Этот человек, красноречивый и образованный теолог, развлекал меня весьма до самой Женевы той легкостью, с которой он отвечал на все вопросы, в том числе и самые щекотливые, которые я мог задавать ему из области религии. Для него не было тайн, все находило разумное объяснение; я не встречал священника, столь удобно обращавшегося с христианством, как этот славный человек, нрав которого, как я узнал в Женеве, был очень чист; однако я узнал также, что его представления о христианстве не принадлежат, собственно, ему, его доктрина относилась ко всей его Церкви. Я желал доказать ему, что он кальвинист только по имени, потому что не считает Иисуса Христа единосущным с Богом Отцом, и он ответил, что Кальвин никогда не воспринимается непогрешимым, как наш папа; я ответил ему, что мы воспринимаем папу непогрешимым, только когда он вещает ex cathedra , и, процитировав евангелие, заставил его замолчать. Я заставил его краснеть, когда высказал упрек, что Кальвин объявил папу Антихристом Апокалипсиса. Он ответил мне, что невозможно разрушить это ошибочное убеждение, находясь в Женеве, по крайней мере пока правительство не распорядится вычеркнуть церковное предписание, которое читал весь народ, в котором глава римской церкви объявлен таковым. Он сказал мне, что народ невежествен и глуп повсюду, но что у него есть племянница, которая в свои двадцать лет не думает, как народ.
— Я хочу, — сказал он, — вас с ней познакомить. Она теологиня, и красива.
— Я увижусь с ней, месье, с удовольствием, но боже меня сохрани дискутировать с ней.
— Она заставит вас с ней дискутировать, и вы будете этим очень довольны, отвечаю вам.
Я спросил у него его адрес, но вместо того, чтобы его давать, он сказал, что заедет сам за мной в мою гостиницу, чтобы отвезти к себе. Я сошел у «Весов» и очень хорошо устроился. Это было 20 августа 1760 года.
Подойдя к окну, я взглянул случайно на стекло и увидел нацарапанное алмазом: «Ты забудешь и Генриетту». Мне мгновенно вспомнился момент, в который она написала мне эти слова, уже тринадцать лет назад, и мои волосы встали дыбом. Мы останавливались в этой самой комнате, когда она рассталась со мной, чтобы возвратиться во Францию. Я бросился в кресло, предавшись размышлениям. Ах, моя дорогая Генриетта! Благородная и нежная Генриетта, которую я так любил, где ты? Я ни от кого не слышал ничего о ней. Сравнивая себя с собой самим тех времен, я находил себя теперь менее достойным обладать ею, чем в то время. Я мог еще любить, но не находил более в себе ни той тонкости, ни той чувствительности, которые оправдывают заблуждения чувств, ни нежности нрава, ни определенной порядочности, и, что меня пугало, не находил в себе прежних сил. Мне казалось, однако, что одно воспоминание о Генриетте, вернуло мне их все. Только что покинутый моей бонной, я почувствовал себя охваченным таким энтузиазмом, что немедленно отправился бы на ее поиски, если бы знал, где искать, несмотря на ее запреты, которые еще не вылетели из моей памяти.
На другой день я спозаранку отправился к банкиру Троншену, у которого были все мои деньги. Показав мне, по моей просьбе, мой счет, он дал мне кредитное письмо на Марсель, Геную, Флоренцию и Рим. Я взял наличными только двенадцать тысяч франков. У меня было пятьдесят тысяч французских экю. Разнеся мои письма по адресам, я вернулся в «Весы», с нетерпением ожидая встречи с г-ном де Вольтером.
В своей комнате я увидел пастора. Он позвал меня обедать, сказав, что я увижу там г-на Виларса Шандьё, который после обеда отведет меня к г-ну де Вольтеру, где меня ждут уже несколько дней. Приведя себя в порядок, я направился к пастору, где застал всю интересную компанию, но особенно его юную племянницу теологиню, которой дядя позволил говорить только за десертом:
— Чем вы развлекались сегодня утром, моя дорогая племянница?
— Я читала Св. Августина, но, не согласившись с его мнением в шестом уроке, я его оставила; думаю, что могу его опровергнуть в немногих словах.
— О чем идет речь?
— Там говорится, что Дева Мария зачала Иисуса через уши. Это абсурдно по трем основаниям. Первое — потому что Бог, не будучи материальным, не нуждался в отверстии, чтобы проникнуть в тело Девы. Второе — слуховые трубы не имеют никакого сообщения с маткой. Третье — потому что она, восприняв через уши, должна была бы забеременеть тем же местом, и в этом случае, — говорила она, смотря на меня, — вы будете правы полагать ее девственной также и во время и после родов. Удивление всех присутствующих было равно моему, но надо было сохранять спокойствие. Божественный ум теологини был выше всяческих плотских ощущений, и надо было по крайней мере оставить ей эту привилегию. Ученая племянница боялась этим злоупотребить, и, в любом случае, она была уверена в своем обаянии. Ответа она ожидала от меня.
— Я склонялся бы к вашему мнению, мадемуазель, если бы, будучи теологом, позволил себе рациональное изучение чудес; но, поскольку я не являюсь таковым, позвольте мне ограничиться, полностью вами восхищаясь, осуждением Св. Августина за то, что он захотел проанализировать суть Благовещения. Я нахожу, однако, странным, что если бы Дева была глуха, воплощение не могло бы иметь места. Также верно с анатомической точки зрения, что, поскольку три пары нервов, обслуживающих слух, не имеют никакого ответвления в матку, невозможно понять, как это могло произойти; но это же чудо.
Она ответила мне очень приветливо, поскольку я говорил с ней как с истинным теологом, и ее дядя поблагодарил меня за то, что я дал хороший урок племяннице. Компания продолжила с ней болтать о самых разных вещах, но она при этом не блистала. Ее конек был Новый Завет. Мне еще придется говорить о ней, когда я вернусь в Женеву.
Мы отправились к г-ну де Вольтеру, который как раз в этот момент вставал из-за стола. Он был окружен господами и дамами, так что мое представление прошло формально. Возможно, такое формальное представление меня Вольтеру было для меня предпочтительным.
Глава X
Г-н де Вольтер; мои дискуссии с этим великим человеком. Сцена у него по случаю Ариосто. Герцог де Виларс. Синдик и его три красотки. Диспут у Вольтера. Экс-ан-Савой. Маркиз Дезармуаз.
Вот, — сказал я ему, — самый счастливый момент моей жизни. Я вижу, наконец, моего учителя; вот уже двадцать лет, месье, как я ваш ученик.
— Окажите мне честь еще на двадцать лет, и затем обещайте принести мне мое жалованье.
— Я обещаю вам это, но обещайте также ожидать меня.
— Даю вам слово, и я скорее умру, чем не дождусь этого.
Общий смех приветствовал эту первую вольтеровскую остроту. Это было в порядке вещей. Смешки должны держать в напряжении одного, в пику второму, и тот, которого они поддерживают, всегда уверен в своем выигрыше перестрелки; этот сговор обычно принят и в дружеской компании. Я ждал случая, но надеялся, в свою очередь, получить свой шанс. Представили двух вновь прибывших англичан. Он встал, говоря:
– Эти господа англичане; я хотел бы тоже им быть .
Сомнительный комплимент, так как он обязывал их ответить, что они хотели бы быть французами, а они не хотели, быть может, лукавить, либо они должны были бы постыдиться сказать правду. Человеку чести позволительно, на мой взгляд, ставить свою нацию выше других.
Едва все расселись, он снова обратился ко мне, говоря очень вежливым тоном, но с усмешкой, что как венецианец я должен, разумеется, понимать графа Альгаротти.
— Я его понимаю, но не как венецианец, потому что семь восьмых моих дорогих соотечественников игнорируют его существование.
— Я должен был сказать, — как человек литературы.
— Я знаю его, поскольку провел с ним два месяца в Падуе семь лет назад, и восхищаюсь им, в основном, как вашим почитателем.
— Мы добрые друзья, но чтобы заслужить уважение всех, кто его знает, не обязательно кем-то восхищаться.
— Если не начать с восхищения, не сделаешь себе имя. Почитатель Ньютона, он добился того, что смог заставить дам говорить о природе света.
— Он действительно этого добился?
— Не настолько, как Фонтенель в своей «Множественности миров», но можно, однако, сказать, что достиг.
— Это правда. Если вы его увидите в Болонье, прошу вас сказать ему, что я жду его писем о России[36]. Он может прислать мне их через банкира Бианчи в Милане. Мне говорили, что итальянцы недовольны его языком.
— Я этому верю. Его язык, во всем, что он написал по-итальянски, своеобразен; он, к сожалению, заражен галлицизмами.
— Но не делают ли французские обороты ваш язык более красивым?
— Они делают его невыносимым, как это бывает и с французским, начиненным итальянскими фразами; вы как писатель это понимаете.
— Вы правы, надо писать чисто. Так, критикуют Тита Ливия. Говорят, что в его латыни ощущается падуанский диалект.
— Аббат Лаццарини говорил мне, когда я начал учиться писать, что он предпочитает Тита Ливия Саллюстию.
— Аббат Лаццарини, автор трагедии «Молодой Улисс»? Вы, должно быть, были хорошим ребенком; я хотел бы с ним быть знаком; но я был хорошо знаком с аббатом Конти, который был другом Ньютона, и четыре трагедии которого охватывают всю римскую историю.
— Я его также знал и восхищался им. Оказавшись в компании этих великих людей, я поздравлял себя с тем, что молод; сейчас, когда я стою перед вами, мне кажется, что это было позавчера, но это меня не утешает. Я хотел бы быть наследником всего человеческого рода.
— Вы были бы счастливей, будучи старейшиной. Смею ли я спросить, какой области литературы вы привержены?
— Никакой, но, возможно, это придет. А пока я читаю все, что попадется, и мне нравится изучать человека, путешествуя.
— Это способ его познать, но эта книга слишком велика. Можно достигнуть этого более легким путем, читая историю.
— Она лжет; дело не только в фактах; она утомляет, а изучение мира в движении меня забавляет. Гораций, которого я знаю наизусть, — моя путеводная звезда, и я повсюду нахожу подтверждение его речам.
— Альгаротти также держал его всего в голове. Вы любите, наверное, поэзию?
— Это моя страсть.
— Много ли вы знаете сонетов?
— Десять-двенадцать, которые я люблю, и две-три тысячи, которые я, возможно, не стану перечитывать.
— В Италии страсть к сонетам.
— Да, если, однако, можно назвать страстью склонность придать некоей мысли гармоническую меру, так, чтобы прочесть ее в хороший день. Сонет труден, господин де Вольтер, потому что, благодаря форме из четырнадцати стихов, его нельзя ни удлинить, в угоду мысли, ни сократить.
— Это Прокрустово ложе. Именно поэтому их у вас так мало хороших. У нас нет ни одного, но виной этому наш язык.
— А также и французский гений, полагаю, который считает, что растянутая мысль теряет весь блеск своей силы.
— А вы не придерживаетесь такого мнения?
— Извините меня. Речь идет только о мысли. Острого словца, например, недостаточно для сонета.
— Кого из итальянских поэтов вы любите больше всего?
— Ариосто; и я не могу сказать, что люблю его больше других, потому что люблю только его. Я читал, однако, их всех. Когда я читаю: «Уже пятнадцать лет, как зло, что причинил вам…» (Из Тассо ), меня это отталкивает.
— Я благодарю вас, потому что думал, что не читал его. Я его читал, но в молодости, зная лишь посредственно ваш язык и, будучи настроен письмами итальянских почитателей Тассо, имел несчастье опубликовать суждение, которое искренне полагал своим. Это было не так. Я обожаю вашего Ариосто.
— Вздыхаю с облегчением. Но изымите из распространения ту книгу, которую считаете ошибочной.
— Все мои книги сейчас изъяты из распространения; но вот вам хороший пример самоопровержения.
И тут Вольтер меня удивил. Он прочел мне наизусть два больших отрывка из тридцать четвертой и тридцать пятой песен этого божественного поэта, где говорится о беседе, которую ведет Астольф[37] с апостолом Св. Иоанном, не пропустив ни стиха, не произнеся ни одного слова, которое было бы неточным по просодии; он напомнил мне их красоту, вместе с размышлениями, достойными действительно великого человека. У всех итальянских комментаторов не найти ничего более глубокого. Я слушал его, затаив дыхание, ни разу не сморгнув, напрасно ожидая услышать хоть одну ошибку; повернувшись к компании, я сказал, что поражен услышаным, и что сообщу всей Италии об этом чуде.
— Вся Европа, — сказал он мне, — узнает от меня самого о том скромном возмещении, которое я должен принести самому великому гению, которого она произвела.
Неудовлетворенный своей хвалой, он дал мне назавтра свой перевод станса Ариосто: Quindi avvien che tra priacipi e signorî[38]. Вот этот перевод:
Les papes, les césars apaisant leur querelle Jurent sur l'Évangile une paix éternelle; Vous les voyez demain l'un de l'autre ennemis; C'était pour se tromper qu'ils s'étaient réunis: Nul serment n'est gardé, nul accord n'est sincère; Quand la bouche a parlé, le cœur dit le contraire. Du ciel qu'ils attestaient ils bravaient le courroux. L'intérêt est le dieu qui les gouverne tous.В конце повествования, которое вызвало в адрес Вольтера аплодисменты присутствующих, несмотря на то, что ни один из них не понимал итальянского, м-м Денис, его племянница, спросила, не нахожу ли я, что тот большой отрывок, который продекламировал ее дядя, — один из самых прекрасных в творчестве великого поэта.
— Да, мадам, но не самый прекрасный.
— И тот другой провозглашен самым прекрасным?
— Так должно быть, без него не проявился бы апофеоз сеньора Лодовико.
— Так его уже объявили святым[39], я и не знала.
Раздался всеобщий смех по поводу реплики м-м Денис, Вольтер засмеялся первый, но не я, — я сохранял полную серьезность. Вольтер, задетый моим серьезным видом, сказал:
— Я знаю, почему вы не смеетесь. Вы считаете, что этот фрагмент — сверхчеловеческой силы, и его называют божественным.
— Совершенно верно.
— Что же это за фрагмент?
— Тридцать шесть последних стансов двадцать третьей песни, которые содержат техническое описание того, как Роланд сходит с ума. С тех пор, как существует человечество, никто не знает, как человек сходит с ума, за исключением Ариосто, который смог это описать, и который к концу своей жизни сам тоже сошел с ума. Эти стансы, я уверен, заставят вас содрогнуться, они вселяют ужас.
— Я помню их, они внушают неимоверную любовь. Мне не терпится их перечитать.
— Месье, может быть, будет столь любезен, их нам прочесть, — говорит м-м Денис, кинув тонкий взгляд на своего дядю.
— Почему нет, мадам, если вы будете столь добры меня послушать.
— Вы взяли на себя труд заучить их наизусть?
— Поскольку я перечитывал Ариосто два-три раза в год с возраста пятнадцати лет, неудивительно, что все запечатлелось в моей памяти без малейших усилий с моей стороны, за исключением, вынужден отметить, его избранных генеалогий и исторических трудов, которые лишь перегружают ум, не задевая сердца. Только Гораций остался в моей душе весь без исключения, несмотря на стихи, зачастую слишком прозаические, его «Посланий» (Êpîtres).
— Оставим Горация, — добавил Вольтер, — но это много, потому что речь идет о сорока шести больших песнях.
— Точнее, пятьдесят одной.
Вольтер промолчал.
— Поглядим, поглядим, — снова начала м-м Денис, — сорок шесть стансов, что заставляют дрожать и дают автору титул божественного.
Я прочел их, но не декламируя, как мы это делаем в Италии. Ариосто, чтобы нравиться, не нуждается в декламации, достаточно монотонного пения, поток которого придает им выразительность. Французы правы, находя это пение невыносимым. Я их прочел, как если бы это была проза, оживляя интонацией, глазами, всеми изменениями голоса, необходимыми для выражения чувства. Они смотрели и ощущали выражение чувств. Смотрели и ощущали усилие, которое я употреблял, чтобы сдержать слезы, и они плакали; но когда я перешел к стансу:
Pouhè allargare il freno al dolor puote Che resta solo senza altrui ris petto Già dagli occhi rigando per le gote Sparge un fût me di lacrime sut petto.[40]Мои слезы выкатились из глаз столь стремительно и столь обильно, что все в компании также заплакали, м-м Денис содрогнулась и Вольтер подбежал и обнял меня; но он не смог меня прервать, потому что Роланд, впадая в окончательное безумие, должен заметить, что он находится в той же кровати, где Анжелика еще недавно находилась обнаженная в объятиях счастливейшего Медора, — то, что содержится в следующих стансах. Мой голос, жалобный и скорбный, сумел передать ужас, вызываемый его неистовством, побуждающим его творить своей невероятной силой разрушения, которые способны творить лишь землетрясение или молния. По окончании своего чтения я грустно принял комплименты всей компании. Вольтер воскликнул:
— Я всегда говорил: если вы хотите, чтобы плакали, — плачьте; но чтобы плакать, надо чувствовать, тогда слезы идут из души.
Он обнял меня, он меня поблагодарил и предложил завтра снова прочесть те же стансы и снова плакать. Он взял с меня на это слово.
Продолжая разговор об Ариосто, м-м Денис сказала, что удивительно, что Рим не внес его в индекс. Вольтер на это ей сказал, что наоборот, папа Лев X в своей булле отлучил от церкви тех, кто осмелится его осудить. Две великие фамилии — д'Эсте и Медичи — его поддержали:
— Без этого, — добавил он, — лишь одного стиха, о передаче Рима, что Константин сделал Сильвестру в «Даре Константина», где он говорит, что там «puzza forte»[41], достаточно, чтобы защитить поэму.
Я сказал ему, предварительно попросив прощения, что стих, который заставляет кричать еще сильнее, это тот, где Ариосто ставит под сомнение восстание из мертвых всего человеческого рода в конце света.
— Ариосто, — сказал я ему, — говоря об отшельнике, который хочет помешать Родомонту овладеть Изабеллой, вдовой Зербино, рисует Африканца, который, раздосадованный его проповедью, хватает его и забрасывает так далеко, что тот разбивается о скалы, оставшись замертво, «Che al novissimo di forse fia desto»[42], пока тот не возродится.
Эта сила, которую поэт использует лишь как риторическое украшение, вынуждает кричать, что заставляет поэта смеяться.
— Досадно, — говорит м-м Денис, что Ариосто не отказывается от этих гипербол.
— Молчите, племянница, они все исполнены знания и все очень красивы.
Мы поговорили также и о других материях, сплошь литературных, и, наконец, заговорили о скандале с «Шотландкой», пьесой, сыгранной в Золотурне. Они всё об этом знали. Вольтер сказал, что если я хочу играть у него, он напишет г-ну де Шавиньи пригласить м-м прибыть играть Линдан. и что он возьмет на себя роль Монроза. Я поблагодарил его, сказав, что м-м в Базеле, и что в любом случае, я должен уехать послезавтра. Он возопил в негодовании, поднял на ноги всю компанию, и заключил, что мой визит станет оскорбительным, если я не останусь еще хотя бы на неделю. Я ответил, что, поскольку я направлялся в Женеву всего лишь для того, чтобы повидаться с ним, мне нечего здесь больше делать.
— Вы приехали сюда, чтобы что-то мне сказать, или чтобы я вам что-то говорил?
— В основном, чтобы вы мне что-то говорили.
— Тогда останьтесь здесь хотя бы на три дня и приходите ко мне каждый день обедать, и мы поговорим.
Так я оказался приглашен, и на этом откланялся, направившись в мою гостиницу, где предстояло мне о многом написать.
Синдик города, которого я здесь не назову, и который провел день у Вольтера, явился четверть часа спустя, попросив оставить его поужинать со мной.
— Я присутствовал при споре, который случился у вас с этим великим человеком, но ничего не говорил. Мне хотелось бы провести часок с вами наедине.
Я его обнял и, попросив извинения, что он видит меня в ночном колпаке, сказал, что он может провести у меня хоть всю ночь.
Этот любезный человек провел со мной два часа, не говоря совершенно о литературе, но ему и не нужно было этого, чтобы мне понравиться. Это был большой поклонник Эпикура и Сократа; история за историей, смех наперебой, разговоры обо всем, что касается удовольствий, которые можно получить, живя в Женеве, — вот то, что нас занимало до полуночи. Покидая, он пригласил меня поужинать на следующий день, заверив, что наш ужин будет веселым. Я обещал ждать его у себя в гостинице. Он просил никому не говорить о нашей встрече.
Наутро молодой Фокс явился в мою комнату с двумя англичанами, которых я видел у Вольтера. Они предложили мне сыграть в «Пятнадцать» по два луи за кон и, проиграв менее чем за час пятьдесят луи, я прекратил игру. Мы пошли осматривать Женеву и в час обеда отправились в «Отраду»[43]. Герцог де Вилар только что прибыл туда, чтобы проконсультироваться у Трончена, который в течение десяти лет поддерживал своим искусством его жизнь.
Во время обеда я не разговаривал, но потом Вольтер пригласил меня порассуждать о правительстве Венеции, зная заранее, что я должен был быть им недоволен; Я не оправдал его ожидания. Я попытался показать, что в мире нет страны, где можно пользоваться большей свободой. Поняв, что тема мне не по душе, он повел меня в свой сад, который, как он мне сказал, он сам создал. Большая аллея заканчивалась у водного потока; он сказал, что это Рона, которая течет во Францию. Он дал мне полюбоваться прекрасным видом Женевы и Дан Бланш[44], самой заметной вершины Альп. Переведя разговор на итальянскую литературу, он стал рассуждать с умом и большой эрудицией, высказывая, однако, каждый раз ошибочные суждения. Я не возражал. Он говорил со мной о Гомере, о Данте и Петрарке, — все знают его мысли об этих великих гениях. Не могу удержаться и не написать о том, что он думает, это, безусловно, важно. Я говорил ему только, что если бы эти авторы не заслужили того уважения, которое им оказывают все те, кто их изучает, их бы не поместили на тот высокий ранг, который они занимают.
Герцог де Вилар и знаменитый врач Троншен присоединились к нам. Троншен, большой, хорошо сложенный, с красивым лицом, вежливый, красноречивый, но не говорун, ученый физик, умница, врач, любимый ученик Бохераве, не пользующийся ни жаргоном, ни шарлатанскими приемами приспешников этого факультета, меня очаровал. Его медицинские методы, в основном, касались только режима, но чтобы их применять, ему необходимо было быть большим философом. Это он вылечивал от венерических болезней на легких, используя ртуть, переходящую в молоко ослицы, которую подвергли натираниям в тридцать фрикций руки трех-четырех мощных грузчиков. Я пишу это, потому что мне так говорили, но сам я едва могу этому поверить.
Персона герцога де Вилар привлекла все мое внимание. Наблюдая его поведение и его внешность, я, казалось, видел перед собой женщину лет семидесяти, одетую как мужчина, худую, изможденную и потасканную, которая, возможно, в молодости была красива. У него были щеки в красных прожилках, покрытые румянами, губы карминовые, ресницы черненые, зубы искусственные, и накладные волосы на голове, сильно напомаженные, с запахом амбры, и большой букет в еще больших размеров бутоньерке, которая доходила ему до подбородка. У него были грациозные жесты и говорил он тихим голосом, так что нелегко было понять, что он говорит. Впрочем, очень вежливый, с любезными манерами, весь во вкусе времен Регентства. Мне говорили, что, будучи молод, он был любим женщинами, но став старым, он избрал скромную роль, став женщиной, с тремя-четырьмя красивыми любовниками, которых содержал у себя на службе, из которых каждый в свой черед пользовался привилегией спать с ним. Этот герцог был губернатором Прованса. У него вся спина была в гангрене, и по всем законам природы уже десять лет, как он должен был умереть; но Троншен, с помощью режима, удерживал его в живых, подпитывая рубцы и раны, которые, без этой подпитки, умерли бы и увлекли герцога с собой. Это называется искусственной жизнью.
Я проводил Вольтера в его спальню, где он снял парик и колпак, который он носил поверх него, чтобы уберечься от простуды. Я увидел на большом столе «Summa» — «Сумма теологии» св. Фомы Аквинского и итальянских поэтов, среди прочих — Secchia rapita[45] Тассони.
— Это, — сказал он, — единственная трагикомическая поэма Италии. Тассони — монах, прекрасного ума и гениальной учености в области поэзии.
— Это ему подойдет; но он не ученый, потому что, насмехаясь над системой Коперника, говорил, что следуя ей, невозможно построить теорию лунных фаз и эклиптики.
— Где он говорил эту глупость?
— В «Discorsi academici».
— У меня их нет, но я их достану.
Он записал это название.
— Но Тассони, — снова начал он, — очень хорошо критиковал вашего Петрарку.
— Он опозорил этим свой вкус и свою литературу, как и Муратори.
— Вот, убедитесь, что его эрудиция велика.
– Est ubi peccat[46].
Он открыл дверь, и я увидел архив почти из сотни толстых папок.
— Это, — сказал он, — моя корреспонденция. Вы видите около пятидесяти тысяч писем, на которые я ответил.
— У вас сохранились копии ваших ответов?
— По большей части. Это дело моего слуги, которому я плачу только за это.
— Я знаю издателей, которые заплатили бы большие деньги за то, чтобы стать обладателями этого сокровища.
— Берегитесь издателей, когда передаете что-то публике, если вы еще не начали.
— Я начну, когда буду старым.
И с этим я процитировал ему макаронический стих Мерлина Кокэ.
— Что это?
— Это стих из знаменитой поэмы в двадцати четырех песнях.
— Знаменитой?
— Достойной ею быть более, чем другие; но чтобы ее оценить, надо знать мантуанский диалект.
— Я его изучу. Сделайте так, чтобы она у меня была.
— Я подарю вам ее завтра.
— Буду вам обязан.
Нас вызвали оттуда, и мы провели два часа в общей беседе, где великий поэт развлекал свою публику, осыпаемый аплодисментами, хотя и сатирический и зачастую едкий, но всегда смеющийся, с не покидающей его улыбкой. Он содержал свой дом с необычайным блеском, и у него был наилучший стол. Ему было тогда шестьдесят шесть лет, и у него было сто двадцать тысяч ливров ренты. Те, кто говорил, или будет говорить, что он стал богатым, обманывая книготорговцев, заблуждаются. Книготорговцы, напротив, часто его обманывали, за исключением Крамеров, которых он обогатил. Он подарил им свои труды, и благодаря этому они так расширились. В то время, когда я там был, он передал им в подарок «Принцессу Вавилонскую», очаровательную сказку, которую он написал за три дня.
Мой синдик-эпикуреец зашел за мной в «Весы», как и обещал. Он отвел меня в дом, расположенный правее, на соседней улице, немного в гору. Он представил меня там трем девицам, из которых две были сестры, — все созданы для любви, хотя и нельзя назвать их красавицами. Легкий, грациозный поклон, лица одухотворенные, и, по видимости, веселые без притворства. Полчаса перед ужином прошли в разговорах, приличных, хотя и легких; но во время ужина синдик задал некий тон, и я уже предвидел, что должно произойти после ужина.
Была сильная жара, и под предлогом необходимости освежиться, будучи уверены, что никто нас не побеспокоит, мы дошли, раздеваясь, постепенно до почти натурального вида. Я стал опасаться, смогу ли я последовать примеру остальных четверых. Какая оргия! Мы поднялись в своем веселье до таких высот, что, цитируя непристойную поэму де Грекура, я был вынужден продемонстрировать трем девицам, каждой в свою очередь, по какому случаю произносилась там фраза: Gaudeant bene nati[47].
Я видел, что синдик горд тем подарком, который он сделал в виде моей персоны этим трем девицам, которые, как я видел, должны были с ним питаться весьма скудно, поскольку его сладострастие шло, в основном, от головы. Это чувство заставило их в час после полуночи доставить мне эякуляцию, в которой я безусловно нуждался. Я поцеловал в заключение шесть прекрасных рук, которые опустились до этой работы, всегда унизительной для любой женщины, созданной для любви, которой, однако, не могло быть в том фарсе, который мы разыграли, потому что, желая их любезно поберечь, я оказал им, с помощью похотливого синдика, такую же услугу. Они благодарили меня без конца, и я видел, что они очарованы. Когда синдик пригласил меня на завтра, я сам выразил ему миллион благодарностей, когда он провожал меня домой. Он сказал мне, что это его заслуга, что он один воспитал этих трех девиц, и что я первый мужчина, которого он с ними познакомил. Он просил меня продолжать оберегать их от возможности забеременеть, потому что это несчастье будет для них фатальным в таком городе, как Женева, скрупулезно следящем за нравственностью.
На следующий день я написал г-ну де Вольтеру письмо белым стихом, что мне стоило дороже, чем если бы я писал в рифму. Я отправил ему вместе с этим поэму Теофиля Фоленга, и сделал большую ошибку, отправив его, потому что должен был догадаться, что она ему не понравится. Я спустился затем к г-ну Фоксу, куда пришли два англичанина и предложили мне реванш. Я проиграл сотню луи. Они отправились после обеда в Лозанну.
Узнав от самого синдика, что эти три девицы небогаты, я пошел к золотых дел мастеру и заказал отлить мне шесть золотых дублонов «да охо»[48], заказав ему также три золотых шарика, по две унции каждый. Я знал, каким образом сделать им подарок, не обидев при этом. Я направился в полдень к г-ну де Вольтеру, который не принимал. Но м-м Денис меня развлекла. У нее была ясная голова, множество вкуса, начитанность без претензий, и она была большой враг короля Прусского. Она спросила у меня новости о моей прекрасной служанке и была очень рада узнать, что та вышла замуж за метрдотеля посла. Она просила меня рассказать, как я спасся из Пьомби, и я обещал удовлетворить ее любопытство в следующий раз.
Г-н де Вольтер не вышел к столу. Он появился только в пять часов, держа в руке письмо.
— Знаете ли вы, — спросил он у меня, — маркиза Альбергати Капачелли, сенатора из Болоньи, и графа Парадизи?
— Я не знаю Парадизи, но по виду и по отзывам — г-на Альбергати, но он не сенатор, а «из Сорока», которых в Болонье числом не сорок , а пятьдесят .
— Помилосердствуйте! Это загадка.
— Вы его знаете?
— Нет, но он направил мне «Театр Гольдони», болонских колбасок, перевод моего «Танкреда» и он приедет меня повидать.
— Он не приедет, он не настолько глуп.
— Как глуп? Но это правда, что он совершает эту глупость — приехать меня повидать.
— Я говорю о д'Альбергати. Он знает, что он здесь много потеряет, потому что он лелеет мысль, что вы, возможно, думаете о нем. Он уверен, что если он приедет с вами увидеться, вы разглядите его величие или ничтожество, и — прощай иллюзия. Это, впрочем, добрый джентльмен, который имеет шесть тысяч цехинов ренты и театроманию. Он хороший актер и автор несмешных комедий в прозе.
— Прелестное описание. Но каким образом он одновременно и сороковой и пятидесятый?
— Так же как полдень в Базеле приходится на одиннадцать часов.
— Понимаю. Так же как ваш Совет Десяти состоит из семнадцати.
— Совершенно верно. Но пресловутые сорок в Болонье — немного другое.
— Почему пресловутые ?
— Потому что они не зависят от казны, и поэтому совершают любые преступления, какие захотят, и могут находиться вне государства, где, тем не менее, получают свои доходы.
— Это же благословение, а никак не проклятие; но продолжим. Маркиз Альбергати, без сомнения, человек литературный.
— Он пишет хорошо, на своем языке, который знает; но он утомляет читателя, поскольку слушает сам себя, и отнюдь не лаконичен. Голова его, впрочем, пуста.
— Но он актер, вы мне сказали.
— Превосходный, когда он говорит от себя, особенно в ролях влюбленных.
— Он красив?
— На театре, но не в жизни. Его лицо ничего не говорит.
— Но его пьесы нравятся.
— Отнюдь. Их освистывают, если могут понять.
— А что скажете вы о Гольдони?
— Это наш Мольер.
— Почему он называет себя поэтом герцога Пармского?
— Чтобы дать себе титул, потому что герцог об этом ничего не знает. Он называет себя также адвокатом, и является им только в потенции. Он хороший автор комедий, и это все. Я его друг, и вся Венеция его знает. В обществе он не блещет, он безвкусен и сладок, как алтейный корень.
— Мне о нем писали. Он беден и хочет покинуть Венецию. Это должно расстроить хозяев театров, где играются его пьесы.
— Говорят, что ему хотели назначить пенсион, но отказались. Решили, что, имея пенсион, он не будет больше работать.
— Кумы отказали в пенсионе Гомеру, поскольку опасались, что все слепцы потребуют того же.
Мы провели день очень весело. Он поблагодарил меня за «Макароникон» и пообещал его прочесть. Он представил мне иезуита, которого держал у себя на службе, сказав, что его зовут Адам, но что он не первый из людей, и мне сказали, что, развлекаясь с ним игрой в трик-трак, он при проигрыше часто швыряет тому в нос кости и рожок.
Вечером, едва вернувшись в гостиницу, я получил свои три золотых шарика, и, немного погодя, увидел моего дорогого синдика, который увел меня на свою оргию.
Дорогой он рассуждал о чувстве стыда, которое мешает нам демонстрировать те сцены, которые с детства внушают нам держать втайне. Он говорил, что зачастую этот стыд может происходить от добродетели, но эта добродетель еще более слаба, чем сила воспитания, потому что не может устоять при атаке, когда агрессор знает, как взяться за дело. Самый легкий из всех способов, по его мнению, это не допускать его наличия, не придавать ему никакого значения, полагать его странным; нужно, например, быть резким, преодолевая барьеры стыдливости, и победа будет неизбежна; наглость атакующего заставит мгновенно исчезнуть целомудрие атакуемого.
Клемент Александрийский, сказал он, ученый и философ, говорил, что стыдливость, которая, как кажется, лежит столь глубоко в основе ума женщины, находится лишь на уровне ее рубашки, так как стоит только уговорить снять ее, как от стыдливости не останется и тени.
Мы застали трех девиц легко прикрытыми платьями из тонкого полотна, сидящими на большой софе, и уселись перед ними на сиденьях без поручней. Полчаса до ужина были заполнены только прелестными прибаутками, в духе вчерашних, и обильными поцелуями. Но после ужина началась война. Как только мы уверились, что служанка больше не явится нас прервать, мы принялись за наши радости. Синдик начал с того, что достал из кармана пакет с тонкими английскими чехлами, воздав хвалы этому замечательному презервативу против несчастья, которое может привести к ужасным последствиям. Они его поняли и, казалось, были довольны, смеясь над той формой, которую являет глазам надутое приспособление, когда я сказал, что, разумеется, я люблю их благополучие еще больше, нежели их красоту, но не могу никак решиться обрести с ними счастье, облекшись при этом в мертвую кожу.
— Вот, — сказал я, доставая из кармана три золотых шарика, — то, что гарантирует вас от всех неприятных последствий. После пятнадцатилетних испытаний я в состоянии вас заверить, что, используя эти шарики, вы можете ничего не опасаться, и что на будущее вы не нуждаетесь более в этих грустных футлярах. Окажите мне честь своим полным доверием и примите от венецианца, который вас обожает, этот маленький подарок.
— Мы вам благодарны, — сказала старшая из сестер, — но как следует применять эти красивые шарики, чтобы гарантировать себя от роковой полноты?
— Достаточно, чтобы шарик находился в глубине кабинета любви во время сражения. Антипатическая сила этого металла мешает оплодотворению.
— Но, — заметила кузина, — может легко случиться, что маленький шарик легко выскользнет наружу из этого места перед концом действа.
— Отнюдь, если знать, как его удержать. Есть позиция, которая должна помешать шарику, под действием его тяжести, покидать убежище.
— Покажите же нам это, — сказал синдик, взяв свечу, чтобы посветить мне, когда я стал помещать шарик. Очаровательная кузина слишком много говорила, чтобы осмелиться убежать и уклониться от доказательства, которого желали ее кузины. Я расположил ее в ногах кровати таким образом, чтобы шарик, который я вложил на место, не мог оттуда выпасть; но он выпал после того, как дело было сделано, и она заметила, что я не удовлетворен, но не подала вида. Она снова взяла шарик рукой и убедила своих сестер сделать так же. Они согласились с заинтересованным видом.
Синдик, не испытывая никакого доверия к надежности шарика, не хотел довериться этому методу. Он ограничился удовольствием быть наблюдателем, и на это не жаловался. После получасового отдыха я снова начал праздник, уже без шариков, заверив их, что они ничем не рискуют, и сдержал слово.
В момент расставания я увидел, что три девицы переполнены чувствами, им казалось, что мы связаны близкими отношениями, а они мне ничего не дали. Они спрашивали у синдика, осыпав его сотней ласк, как он смог догадаться, что я именно тот, кто заслуживает быть посвященным в их великую тайну.
Синдик, в момент, когда мы собрались уходить, внушил трем девицам уговорить меня остаться в Женеве еще на день ради них, и я согласился. Он договорился на завтра. Правда, я настоятельно нуждался в дне отдыха. Он проводил меня в мою гостиницу поблагодарив в самых пылких выражениях.
После глубокого десятичасового сна я почувствовал себя в состоянии пойти насладиться замечательным обществом г-на де Вольтера, но этому великому человеку вздумалось пребывать в этот день в настроении едком, язвительном и насмешливом. Он знал, что я должен завтра уезжать.
Он начал за столом с того, что сказал, что благодарен мне за подарок, что я ему сделал — Мерлена Кокэ, очевидно, с самыми добрыми намерениями, но не благодарит за похвалы, которые я сделал этой поэме, потому что я явился причиной того, что он потерял четыре часа на чтение этих глупостей. Мои волосы стали дыбом, но я овладел собой. Я ответил ему достаточно спокойно, что в другой раз, возможно, он найдет его достойным того, чтобы самому воздать ему хвалу еще большую, чем моя. Я сослался на несколько примеров, когда первого прочтения оказывается недостаточно.
— Это так, но что касается вашего Мерлена, я его вам возвращаю. Я ставлю его в один ряд с «Девственницей» Шаплена.
— Который нравится всем знатокам, несмотря на плохую версификацию. Это хорошая поэма, и Шаплен — поэт; его гений мне не чужд.
Мое заявление должно было его шокировать, и я должен был это понять, когда он сказал мне, что ставит в одном ряду «Девственницу» и «Макароникон», который я ему подарил. Я знал также, что грязная поэма с таким названием, ходящая по миру, приписывается его имени; но поскольку он сам это отрицал, я полагал, что он скроет недовольство, которое должно было ему причинить мое объяснение, но как бы не так, он меня раздраженно опроверг, и это меня возмутило. Я сказал, что Шаплен обладал тем достоинством, что сделал свой сюжет приятным без того, чтобы добиваться одобрения читателей с помощью сальностей и кощунств.
— Так думает, — сказал я, — мой учитель г-н де Кребийон.
— Вы приводите мне суждение великого судьи. Но каким образом, скажите пожалуйста, мой собрат Кребийон стал вашим учителем?
— Он учил меня по меньшей мере в течение двух лет говорить по-французски. Чтобы заслужить его одобрение, я перевел его Радамиста на итальянский александрийским стихом. Я — первый итальянец, который осмелился приспособить этот размер к нашему языку.
— Первым, прошу прощения, был мой друг Пьер Жак Мартелли.
— Это вы меня простите.
— Черт возьми! Его работы, напечатанные в Болонье, есть в моей комнате.
— Вы могли прочитать только четырнадцатисложные стихи, без противопоставления мужских и женских рифм. Он счел однако, что сымитировал александрийский стих, и его предисловие вызывает у меня смех. Возможно, вы его не читали.
— Месье, меня раздражает чтение предисловий. Мартелли заверяет, что его стихи звучат для итальянского слуха так же, как александрийские для французов.
— Он грубейшим образом ошибается, посудите сами. Ваш мужской стих имеет только двенадцать слогов, а женский — тринадцать; все стихи Мартелли имеют четырнадцать, кроме тех, которые оканчиваются длинным слогом, который в конце стиха стоит двух. Заметьте, что первая цезура в середине стиха у Мартелли постоянно седьмая, в то время, как во французском александрийском стихе — всегда шестая. Или ваш друг Пьер Жак был вообще глух, или у него что-то со слухом.
— А вы в своих стихах следуете всем нашим теоретическим правилам?
— Всем, несмотря на трудности; потому что почти все наши слова оканчиваются на короткий слог.
— И какой эффект производит ваш новый метр?
— Он не нравится, потому что никто не может продекламировать мои стихи, но когда их произношу я сам, в своем кругу, их ждет триумф.
— Вы помните что-нибудь из вашего Радамиста?
— Пожалуйста, если вам угодно.
Я продекламировал ему ту же сцену, что читал Кребийону белыми стихами за десять лет до того, и он, казалось, был поражен. Он сказал, что затруднения незаметны, и это был самый большой комплимент, что он мог мне сделать. Он прочел мне, в свою очередь, кусок из своего Танкреда , которого, я полагаю, еще не публиковал, и которого в дальнейшем сочли, в полном смысле, его шедевром.
Итак, мы хорошо кончили, но стих Горация, который я привел, чтобы похвалить одну из его мыслей, заставил его сказать, что Гораций был великий мастер в области театра, в отношении приемов, которые никогда не устареют.
— Вы нарушили один из них, — сказал я ему, — но как великий человек.
— Какой же?
— Вы не пишете contentus paucis lectoribus[49].
— Если бы Гораций боролся с суеверием, он писал бы для всего мира, как я.
— Вы могли бы, как мне кажется, избежать страданий, связанных с этой битвой, потому что никогда не добьетесь его разрушения, и даже если вы этого добьетесь, скажите мне, чем вы его замените.
— Это мне нравится. Когда я избавлю род людской от кровожадного чудовища, которое его пожирает, можно ли спрашивать меня, чем я его заменю?
— Оно его не пожирает, оно, наоборот, необходимо для его существования.
— Любя род людской, я хотел бы видеть его счастливым, как я сам, свободным; суеверие не может сочетаться со свободой. С чего вы взяли, что рабство может составить счастье народа?
— Вы, стало быть, хотели бы видеть владычество народа?
— Боже сохрани. Нужен один правитель.
— Таким образом, суеверие необходимо, потому что без него народ никогда не подчинится монарху.
— Никакой монархии, потому что это слово говорит мне о деспотизме, который я должен ненавидеть, как и рабство.
— Тогда чего вы хотите? Если вы хотите, чтобы правитель был один, я не могу его воспринимать иначе, чем монарха.
— Я хочу, чтобы он правил свободным народом, будучи при этом его главой, но его нельзя будет назвать монархом, потому что он не будет арбитром в спорах.
— Адиссон вам скажет, что такой монарх, такой руководитель невозможен. Я на стороне Гоббса. Из двух зол следует выбирать меньшее. Народ без суеверий станет философом, а философы не желают подчиняться. Народ не может быть счастлив, будучи раздавлен, растоптан и на цепи.
— Если вы меня читали, вы нашли там доказательства того, что суеверие — враг королей.
— Если я вас читал? Читал и перечитывал, в основном потому, что не согласен был с вашим мнением. Ваша первейшая страсть — любовь к человечеству. Et ubi peccas[50]. Эта любовь делает вас слепым. Любите человечество, но любите его таким, какое оно есть. Оно не способно пользоваться благами, которые вы ему предоставляете, и, наделив его ими, вы делаете его более несчастным и более злым. Оставьте ему зверя, который его пожирает — этот зверь ему дорог. Я никогда так не смеялся, как тогда, когда увидел Дон Кихота, пытающегося защититься от галерников, которым по величию души он дал свободу.
— Вы считаете, что вы свободны в Венеции?
— Настолько, насколько можно быть свободным под аристократическим управлением. Свобода, которой мы пользуемся, не настолько велика, как та, что существует в Англии, но мы довольны. Мое заключение в тюрьму было, например, жестоким актом деспотизма, но, зная, что я злоупотреблял свободой, я иногда нахожу, что они были в чем-то правы, заключив меня без обычных формальностей.
— В таком случае, никто не свободен в Венеции.
— Может быть и так, но согласитесь, что для того, чтобы быть свободным, достаточно верить, что ты свободен.
— Я не соглашусь с этим так легко. Аристократы, даже члены правительства, не свободны, так как, например, не могут путешествовать без разрешения.
— Это закон, который они приняли сами, чтобы сохранить свой суверенитет. Вы скажете, что житель Берна не свободен, поскольку он подчиняется законам о роскоши? Тот самый, который и является законодателем.
Чтобы сменить тему, он спросил, откуда я еду.
— Я еду из Рош. Я не мог уехать из Швейцарии, не повидав знаменитого Галлера. Я отдаю честь ученым, моим современникам; вы мне остались на закуску.
— Г-н Галлер вам должен был понравиться.
— Я провел у него три прекрасных дня.
— Я вас поздравляю. Следует стать на колени перед этим великим человеком.
— Я тоже так думаю. Вы отдаете ему должное, и мне приятно, что и он отвечает вам тем же.
— Ах, ах! Весьма возможно, что мы оба ошибаемся.
При этом ответе, всем достоинством которого была его быстрота, все присутствующие зааплодировали.
Больше не говорили о литературе, и я остался молчащим персонажем, вплоть до момента, когда г-н де Вольтер удалился, и я подошел к м-м Денис спросить, не нужно ли ей чего в Риме.
Я ушел, вполне довольный моей встречей, в этот последний день, с этим атлетом разума. Но у меня осталось против него предубеждение, заставлявшее меня последующие десять лет критически относиться к тому, что я читал, старого и нового, из того, что этот великий человек выносил и выносит на публику. Сегодня я переосмысливаю это, хотя, когда я читаю то, что опубликовал против него, я нахожу, что был прав в моей критике. Я должен умолкнуть, уважать его и усомниться в моих суждениях. Я должен подумать о том, что без насмешек, из-за которых он мне так не понравился в тот третий день, я бы его совершенно идеализировал. Одно это соображение должно было бы ввергнуть меня в молчание, но человек в гневе полагает себя во всем правым. Потомство, читая меня, занесет меня в число Зоилов, и весьма скромное возмещение, которое я воздаю ему сегодня, возможно, не будет прочитано.
Я провел часть ночи и следующего дня за записью трех бесед, которые я вел с ним, и которые сейчас излагаю в сокращении. Ближе к вечеру за мной пришел синдик и мы отправились ужинать с его тремя девицами.
Те пять часов, что мы провели с ними, мы предавались всем безумствам, что мог измыслить мой ум. Я обещал, покидая, увидеться с ними по моем возвращении из Рима, и сдержал свое слово. Я выехал из Женевы на следующий день, пообедав прежде с моим дорогим синдиком, который провожал меня до Аннеси, где я провел ночь. На следующий день я обедал в Экс-ан-Савой, намереваясь переночевать в Шамбери, но фортуна этому воспротивилась.
Экс-ан-Савой — захудалое местечко, где есть, однако, минеральные воды и где в конце лета собирается бомонд. Я ничего этого не знал. Я очень спокойно и скромно обедал, намереваясь сразу уехать в Шамбери, когда увидел входящую группу людей, очень веселых, приличного вида, мужчин и женщин, которые направлялись занять место за столом. Я смотрю, не двигаясь, возвращая кивком головы реверансы тем, кто мне их оказывает. По разговорам я понимаю, что весь этот народ находится там на водах. Мужчина импозантного вида подходит вежливо ко мне и спрашивает, не направляюсь ли я в Турин; я отвечаю ему, что еду в Марсель.
Их обслуживают, и они все садятся за стол. Я вижу симпатичных женщин и мужчин, по виду могущих быть их мужьями или любовниками. Я решаю, что в этом месте есть чем развлечься. Все эти люди говорят между собой по-французски или на пьемонтском диалекте и держатся непринужденно; я решаю, что если подвернется случай, я легко могу согласиться провести здесь ночь.
Я кончил обедать, когда они еще не приступили к жаркому, а мой кучер мог выехать не раньше чем через час. Я подошел к красивой женщине и сделал ей комплимент по поводу того, какую пользу должно быть принесли ей воды Экса, поскольку аппетит, с которым она ест, пробуждает такой же у тех, кто на нее смотрит. Она бросает мне в ответ, живым тоном, что я могу убедиться, что прав, присев рядом с ней, и в то же время предлагает мне кусок жаркого, которое им подали. Место рядом с ней незанято, я принимаю вызов и ем, как будто еще не обедал.
Тут я слышу голос, который говорит, что это место аббата, и другой голос, который отвечает, что уже полчаса, как тот уехал. Почему уехал? — говорит третий, — он должен был оставаться здесь еще восемь дней. Говорят тихо, шушукаются, но отъезд аббата меня не интересует, я продолжаю есть, занимаясь только дамой, которая подкладывает мне лучшие куски. Я говорю Ледюку, который стоит позади моего стула, заказать мне шампанского; дама его любит, и я оказываюсь прав; весь стол тоже заказывает шампанского. Я вижу, что она развеселилась, я болтаю ей глупости и спрашиваю, всегда ли она требует доказательства правоты у тех, кто с ней заигрывает. Она отвечает, что те несколько не стоят и труда. Красива, с умом — я думаю о том, чтобы найти хороший предлог, чтобы отложить отъезд, и случай мне его предоставляет.
— Вот, — говорит некая дама красотке, что пьет со мной, — вполне, кстати, свободное место.
— Очень кстати, потому что мой сосед меня утомлял.
— У него не было аппетита? — спрашиваю я.
— Ба! У игроков аппетит только на деньги.
— Обычно так; но у вас необыкновенные способности, потому что я в жизни не обедал два раза подряд.
— Это нарочно. Готова поспорить, что вы не будете ужинать.
— Спорим, что буду.
— Спорим на ужин, но я хочу видеть.
— Идет.
Весь стол аплодирует; дама краснеет от удовольствия, и я приказываю Ледюку пойти сказать кучеру, что я уезжаю только завтра.
— Я заказываю ужин, — говорит дама.
— Да, потому что это вы за него заплатите. Мое дело, в нашем споре, держаться стойко. Если я съем больше вас, я выиграл.
С окончанием обеда человек с импозантным лицом спросил карты и составил маленький банчок в фараон. Я подождал. Он положил перед собой двадцать пять пьемонтских пистолей и немного серебра, чтобы развлечь дам. В банке оказалось около сорока луи. В первой талье я оставался только зрителем и увидел, что банкёр играет честно. Когда он смешал карты для следующей тальи, красивая дама спросила меня, почему я не играю. Я ответил ей на ушко, что она заставила меня потерять аппетит к деньгам; она улыбнулась. После этого заявления, сочтя себя обязанным, я достал из кошелька сорок луи, и проиграл их в двух тальях. Я поднялся, ответив на соболезнования банкёра, что я никогда не рискую суммой, большей той, которая составляет банк. Кто-то из компании спросил меня, знаю ли я аббата Жильбера; я ответил, что был знаком с одним по Парижу, он был из Лиона и был должен мне свои уши, которые, соответственно, я ему отрежу повсюду, где его встречу. Спрашивавший мне не ответил, и компания хранила молчание, не показывая вида. Я увидел, что этот аббат Жильбер — это, должно быть, тот, чье место я занял. Увидев мой приезд, он улепетнул. Я доверил ему в моем доме в Малой Польше кольцо, которое стоило мне в Голландии пять тысяч флоринов, и на другой день он скрылся.
Когда все вышли из залы, я спросил Ледюка, хорошо ли я устроен. Он отвел меня в большую комнату без мебели в старом доме, в сотне шагов от гостиницы, в котором все остальные комнаты были заняты. Хозяин гостиницы мне сказал, что у него нет другой комнаты, кроме этой, и что он велит принести сейчас кровать, стулья и столы. Мне пришлось там устроиться. Я сказал Ледюку, чтобы ложился в той же комнате и чтобы принес туда весь мой багаж.
— Что вы сказали об аббате Жильбере? — спросил он. — Я узнал его только в момент, когда он уходил, и мне даже пришла в голову мысль схватить его за жилет.
— Это была мысль, которой нужно было последовать.
— Ну ладно, в следующий раз.
Выходя из этой комнаты, я вижу, что ко мне подходит человек, который говорит, что будет моим соседом, и предлагает проводить меня, если я хочу посмотреть фонтан. Я соглашаюсь. Это был мужчина высокого роста, худой, блондин, в свои пятьдесят лет сохранивший еще свои волосы, который, должно быть, был красив и чья вежливость, слишком навязчивая, должна была бы вызвать во мне подозрения; но мне нужен был кто-нибудь, чтобы немного поболтать. Итак, идя со мной к фонтану, он рассказал мне дорогой о людях, с которыми я обедал. Он начал с того, что сказал, что воды Экса хороши, но что никто из той компании, что я видел, не находится здесь с целью их принимать.
— Я единственный, — сказал он мне, — кто принимает их по необходимости, потому что болен туберкулезом; я худею с каждым днем, и если не найду хорошего лекарства, долго не проживу.
— Все эти господа, стало быть, прибыли сюда, лишь чтобы повеселиться?
— Чтобы играть. Они все пьемонтцы или савояры. Я единственный настоящий француз из Лотарингии. Мой отец, которому восемьдесят лет, — маркиз Дезармуаз. Он живет, чтобы меня бесить, потому что, из-за женитьбы, которую я совершил без его согласия, он лишил меня наследства, но поскольку я единственный сын, я получу все после его смерти, если его переживу. У меня свой дом в Лионе, но я туда не приезжаю из-за моей старшей дочери, в которую я имею несчастье быть влюблен. Моя жена — причина того, что я не могу заставить ее выслушать мои объяснения.
— Это забавно. Без этого, вы полагаете, что она проявила бы сочувствие к своему влюбленному отцу?
— Это могло бы быть, потому что у нее очень добрый характер.
Глава XI
Мои приключения в Экс-ан-Савой. Моя вторая М.М. М-м Z.
Направляясь к фонтану в компании этого человека, который, не зная меня, болтал со мной наилучшим образом, без малейшего опасения, что я приду в ужас, и что он покажется мне первостатейным мерзавцем, я подумал, что, полагая во мне ум того же пошиба, что и у него, он считает, что оказывает мне большую честь. Но, желая узнать его получше, я сказал:
— Несмотря на суровость маркиза, вашего отца, вы живете вполне в достатке.
— Очень плохо. У меня есть пенсион от департамента иностранных дел, как курьера, удалившегося со службы. Я оставляю его своей жене на жизнь, а сам обеспечиваю себя, путешествуя. Я играю действительно хорошо в трик-трак и во все игры на деньги. Выигрывая чаще, чем проигрывая, я живу на это.
То, что вы мне рассказываете, известно ли это здешней компании?
— Всему свету. Зачем мне таиться? Я человек чести и при мне есть опасная шпага.
— Я в этом не сомневаюсь. Допускаете ли вы, что м-ль Дезармуаз имеет любовника? Если она красива…
— Очень красива; я не буду противиться этому; но моя жена набожна. Если вы будете в Лионе, я дам вам для нее письмо.
— Благодарю вас. Я направляюсь в Италию. Могу ли я спросить у вас, кто тот месье, что держал банк?
— Это известный Панкалье, маркиз де Прие со времени смерти своего отца, которого вы, будучи венецианцем, знаете как посла. Тот, кто спросил вас, знаете ли вы аббата Жильберта, это шевалье Z, муж дамы, которая пригласила вас поужинать с ней. Остальные все, кто граф, кто маркиз, — пьемонтцы или савояры; двое-трое из них — сыновья негоциантов, женщины все родственницы или подруги кого-то из компании. Они все профессиональные игроки, и очень умелые; когда иностранец здесь проезжает, если он играет, ему трудно от них ускользнуть, потому что они все в сговоре. Они рассчитывают с вас поживиться, берегитесь.
К вечеру мы вернулись в гостиницу, где нашли всех игроков, занятых азартной игрой. Мой новый друг участвовал на всех столах вместе с графом де Скарнафиш. Не присоединившись ни к какой партии, муж моей красотки предложил мне партию в фараон вдвоем, в одну талью, до сорока цехинов. Я кончил проигрывать эту сумму как раз, когда пригласили к столу. Дама и на этот раз была не менее весела, и честно оплатила свой проигрыш пари. Во время ужина она дала понять, весьма ясно, с помощью подмигиваний, значение которых я понимал очень хорошо, что хочет меня обмануть, так что я почувствовал себя вне опасности со стороны амура, но должен был оберегаться фортуны, всегда дружественной банкёрам в фараон, и это меня уже настораживало. Мне надо было бы уехать, но не хватало сил. Все, что я мог сделать, — это пообещать себе соблюдать осторожность и, располагая большой суммой денег в бумагах и достаточной — в наличности, выработать надежную систему поведения. Маркиз де Прие сразу после ужина составил банк, который, в золоте и серебре, мог стоить три сотни цехинов. Такая скудость показала мне, что я могу много проиграть, а выиграть мало, так как было очевидно, что он составил бы банк из тысячи цехинов, если бы они у него были. Я выложил перед собой пятнадцать золотых «лиссабонцев», сказав скромно, что когда я их проиграю, пойду спать. В середине третьей тальи я снял банк. Маркиз сказал, что добавит еще две сотни луи; я сказал, что хочу уехать рано утром, и ушел.
Когда я уже направлялся спать, Дезармуаз подошел и попросил ссудить ему двенадцать луи, сказав, что отдаст. Я немедленно ему их отсчитал, и, сердечно меня обняв, он сказал, что м-м Z настроена заставить меня остаться в Эксе еще по крайней мере на день. Я рассмеялся. Я спросил у Ледюка, предупрежден ли кучер, и он сказал, что в пять часов утра он будет у моих дверей. Дезармуаз ушел, сказав, что готов спорить, что я не уеду. Я лег, посмеявшись над его уверенностью, и заснул.
На следующий день, на рассвете, пришел кучер и сказал, что одна из его лошадей заболела, и он не может ехать. Теперь я видел, что Дезармуаз сказал правду, но посмеялся и над этим. Я выгнал из комнаты кучера и отправил Ледюка спросить почтовых лошадей у трактирщика. Трактирщик пришел сказать, что у него нет лошадей, и чтобы найти их, понадобится все утро. Маркиз де Прие собрался уезжать через час после полуночи и опустошил его конюшню. Я сказал, что тогда буду обедать в Эксе, но взял с него слово, что смогу уехать в два часа. Я вышел, направившись к фонтану, и, зайдя в конюшню, увидел лежащую лошадь моего кучера и его, плачущего. Я понял, что он невиноват, и утешил его, заплатив и сказав, что он мне больше не нужен. Я пошел к фонтану. Вот, дорогой читатель, событие совершенно из романа, но от этого не менее правдивое. Если вы сочли его выдуманным, вы ошибаетесь.
За двадцать шагов перед входом в помещение фонтана я вижу двух монахинь, выходящих оттуда, обе в вуалях, одна, которую по ее фигуре я определил как молодую, и другая, очевидно старая. Меня же поразила их одежда, которая была такой же, как у моей дорогой М.М., которую я видел в последний раз 24 июля 1755 года, то есть пять лет назад. Это появление не могло внушить мне мысль, что монахиня, которую я вижу, это М.М., но вызвало мое любопытство. Они направились полем, я повернул, чтобы их догнать, увидеть анфас и рассмотреть. Но я вздрогнул, когда увидел молодую, которая, идя впереди старой, приподняла вуаль: я увидел М.М. Невозможно было ошибиться, я не мог ее не узнать. Я направился к ней, она быстро снова накинула вуаль и направилась в другую сторону, явно, чтобы меня избежать. Я мгновенно принял резоны, которые могли у нее быть, и вернулся на свою дорогу, но не теряя ее из вида; Я оставался вдалеке, чтобы видеть, где они собираются остановиться. Через пятьсот шагов я увидел их входящими в один крестьянский дом, стоящий отдельно от других. Этого было достаточно. Я вернулся к фонтану, чтобы все разузнать.
Очаровательная и несчастная М.М., говорил я себе дорогой, убежала из своего монастыря, в отчаянии, быть может, в безумии, — ведь она отчего-то не сменила одеяние своего ордена! Она, возможно, прибыла сюда лечиться этими водами, получив разрешение из Рима, и вот почему с ней другая монахиня, и она не может сменить свое облачение. Но такое длинное путешествие, разумеется, не может быть предпринято иначе, чем под каким-то выдуманным предлогом. Возможно, ее к этому принудило какое-то увлечение, последствием которого стала фатальная беременность? Она, может быть, находится в затруднении, и теперь она будет счастлива встретить меня. Она найдет меня готовым сделать для нее все, что она хочет, и моё дружеское постоянство убедит ее, что я достоин владеть ее сердцем.
Мечтая таким образом, я пришел на воды, где увидел всю компанию из гостиницы. Они, казалось, все были обрадованы, что я не уехал. Я спросил у шевалье Z, как самочувствие его супруги, он ответил, что она любит поваляться в постели, и что я хорошо сделаю, если пойду ее поднять. Я покинул воды, чтобы направиться туда, местный врач подошел ко мне и сказал, что воды Экса удвоят мое здоровье. Я спросил у него без уверток, лечит ли он красивую монахиню, которую я видел. Он ответил, что она принимает воды, но она ни с кем не разговаривает.
— Откуда она?
— Никто не знает о ней ничего; она живет у крестьянина.
Я покидаю врача, и ничто уже не может мне помешать пойти поговорить с крестьянином, у которого она поселилась; но когда я в ста шагах от того дома, я вижу крестьянку, которая выходит из него и идет ко мне. Она говорит мне, что мадам монахиня просит меня вернуться сюда ночью, в девять часов, когда послушница будет уже спать, и что она сможет со мной поговорить. Я заверяю ее, что непременно буду, и даю ей луи.
Я возвращаюсь в гостиницу, уверенный, что буду говорить в девять часов с обожаемой М.М. Я спрашиваю, где комната м-м Z, и, зайдя туда без церемоний, говорю ей, что ее муж отправил меня, чтобы заставить ее встать.
— Я думала, что вы уехали.
— Я уеду в два часа.
Я нахожу эту молодую женщину в постели еще более соблазнительной, чем за столом. Я помогаю ей надеть корсет и пылаю от страсти; но она к этому меня и поощряет. Я усаживаюсь у нее в ногах, я внезапно говорю ей, что ее красота проникла в мою душу, и какое горе, что я должен уехать, не предъявив ей знаки моей страсти; она отвечает мне, смеясь, что только от меня зависит остаться.
— Дайте мне надежду на ваши милости, и я отменю свой завтрашний отъезд.
— Вы слишком торопитесь, прошу вас успокоиться.
Достаточно удовлетворенный тем малым, что она позволила мне делать, показывая при этом, как обычно, что готова уступить насилию, я должен принять во внимание возможность появления ее мужа, который как раз и входит, произведя предварительно некоторый шум. Она говорит ему, что убедила меня отложить свой отъезд на завтра. Он ей аплодирует и, говоря, что должен мне некоторый реванш, берет карты и, садясь по другую сторону от жены, использует ее как игральный стол. Все время отвлекаясь, я могу только проигрывать. Я останавливаюсь, только когда приходят сказать, что накрыли на стол. Мадам говорит, что, не успевая подняться, она будет обедать в кровати; ее муж говорит, что мы будем обедать вместе с ней, и я соглашаюсь. Он идет распорядиться насчет обеда, и, подвигнутый предстоящей новой потерей еще восемнадцати-двадцати луи, я говорю ей прямо, что уеду после обеда, если она не пообещает мне быть доброй в течение дня. Она отвечает, что ждет меня завтракать с ней завтра в девять, и что мы будем одни. Она дает мне достаточно любезные авансы, и я обещаю остаться.
Мы обедаем с ней, сидя рядом с ее кроватью; я отдаю, через Ледюка, распоряжение хозяину, что уеду только завтра после обеда, и вижу, что муж и жена довольны. Мадам желает подняться, я ее оставляю, пообещав, что вернусь через час играть с ней в пикет на сотню. Я отправляюсь к себе, чтобы взять денег, и встречаю Дезармуаза, который уверяет, что моему кучеру дали два луи, чтобы он взял вместо своей лошади больную. Я говорю ему, смеясь, что нельзя выиграть на одном и не потерять на другом, что я влюблен в м-м Z, и что я откладываю свой отъезд до того момента, пока не буду удовлетворен.
Я вернулся к ней и играл партию в пикет, по луи за сотню, до восьми часов. Я покинул их, под предлогом, что болит голова, заплатив десять-двенадцать луи и напомнив ей, что она должна ждать меня в постели в восемь часов, чтобы накормить завтраком. Я оставил ее в большой компании.
Я пошел в одиночестве к дому, где должен был говорить с М.М., при свете луны, волнуясь о результате этого посещения, от которого могла зависеть моя судьба. Испытывая некоторые подозрения о возможной ловушке, я положил в карманы надежные пистолеты и взял шпагу. В двадцати шагах от дома я вижу крестьянку, которая говорит, что монахиня не может спуститься ко мне, я должен сам подняться к ней в комнату, проникнув через окно. Она проводит меня позади дома и показывает лестницу, прислоненную к окну, через которое я должен пролезть. Не видя света, я остаюсь в нерешительности, но слышу голос М.М., говорящей мне: «Идите и ничего не бойтесь», из этого самого окна, которое, впрочем, расположено не слишком высоко, сомнения меня покидают, я поднимаюсь, вхожу и — я сжимаю ее в своих объятиях, осыпая поцелуями ее лицо. Я спрашиваю по-венециански, почему она не зажигает свечи, и прошу удовлетворить мое любопытство, рассказав всю историю этого события, которое кажется мне чудесным.
Но за всю свою жизнь я не был столь удивлен, как в тот момент, когда услышал голос — не голос М.М., — который отвечает мне, не по-венециански, но по-французски, что мне не нужно свечи, чтобы сказать ей то, что решил г-н де Ку сделать, чтобы вытащить ее из фатальной ситуации, в которой она оказалась.
— Я не знаю г-на де Ку; вы не та монахиня, которую я видел этим утром. Вы не венецианка.
— Несчастная! Я обманулась; но я та, что вы видели сегодня утром. Я француженка; я умоляю вас во имя бога хранить тайну и удалиться, потому что мне нечего вам сказать. Говорите тише, потому что если моя послушница, которая спит, проснется, я пропала.
— Не сомневайтесь в моей скромности. Меня ввело в заблуждение ваше поразительное сходство. Если вы не покажете мне свое лицо, я отсюда не уйду; извините меня за дерзкие знаки любви, которые я вам выдал, приняв за другую.
— Вы меня удивили. Значит я не та монахиня, к которой вы стремитесь! Я нахожусь в ужасном лабиринте.
— Если десять луи, мадам, смогут вам помочь, прошу вас принять их.
— Я благодарю вас, мне не нужны деньги. Позвольте даже, чтобы я вернула вам луи, который вы мне отправили.
— Я сделал подарок крестьянке, и вы меня еще больше удивили. Каково же ваше горе, что деньги не могут его излечить?
— Это, должно быть, бог направил вас мне на помощь. Вы, возможно, дадите мне добрый совет. Послушайте меня, это займет всего лишь четверть часа.
— Да, и с большим интересом. Присядем.
— Увы! Здесь нет ни стула, ни кровати.
— Говорите же.
— Я из Гренобля. Меня заставили принять постриг в Шамбери. Два года спустя г-н де Ку меня соблазнил, и я пала в его объятия в саду монастыря, куда он проник, перебравшись через стену. Забеременев, я сказала ему об этом. Мысль родить в монастыре была ужасна, потому что они уморили бы меня в тюрьме, и он придумал помочь мне выбраться, используя заключение врача, предвещавшее мне смерть, если я не поеду принимать здешние воды, единственно способные меня излечить от той болезни, которую тот врач у меня нашел. Нашли врача, и принцесса XXХ, которая живет в Шамбери, посвященная в тайну, уговорила епископа дать мне разрешение на три месяца и сделать так, что аббатиса с ним согласилась. Все подсчитав, я полагала, что выйду на седьмом месяце, но очевидно я ошиблась, потому что три месяца скоро пройдут, а я еще беременна. Я непременно должна вернуться в монастырь, и вы понимаете, что я не могу на это решиться. Послушница, которую дала мне аббатиса для охраны, — самая жестокая из женщин. У нее приказ не давать мне говорить ни с кем и препятствовать, чтобы меня кто-нибудь видел. Это она приказала мне свернуть с дороги, когда увидела, что вы направились навстречу. Я подняла свою вуаль, чтобы вы увидели, что я та, кого, как я полагала, вы ищете; к счастью, она этого не заметила. Гадюка хочет, чтобы я вернулась в монастырь в течение трех дней, моя болезнь, которую она полагает водянкой, по-видимому, неизлечима. Она не захотела согласиться, чтобы я посоветовалась с врачом, которому бы я, возможно, для пользы дела, открыла правду. Я хочу умереть. Мне всего двадцать один год.
— Умерьте ваши слезы. Но каким образом смогли бы вы родить здесь, так, чтобы ваша послушница этого не узнала?
— Крестьянка, у которой я живу, и которой я доверилась, заверила меня, что как только я почувствую первые схватки, снотворное, которое она купила в Аннеси, ту усыпит. Это под воздействием того снадобья она сейчас спит в комнате, находящейся под этим чердаком.
— Почему мне не открыли дверь, чтобы я мог войти?
— Чтобы скрыть вас от крестьянина, ее брата; это тоже злой человек.
— Но на каком основании вы решили, что я послан г-ном де Ку?
— Потому что десять или двенадцать дней назад я написала ему о моей беде в таких красках, что мне кажется невозможным, чтобы он не нашел средство меня от нее избавить. Я приняла вас за его посланца.
— Вы уверены, что ваше письмо достигло его?
— Эта крестьянка отнесла его на почту в Аннеси.
— Надо писать принцессе.
— Я не смею.
— Я сам пойду к этой принцессе, или к г-ну де Ку, или куда угодно, хоть к самому епископу, чтобы обеспечить вам отсрочку, потому что вы не можете вернуться в монастырь в вашем состоянии. Решайте, потому что я не могу ничего делать без вашего согласия. Хотите ли уйти со мной? Хотите поехать со мной? Я завтра принесу для вас одежду и отвезу в Италию, и пока я жив, буду заботиться о вас.
Вместо ответа, слышу лишь грустный звук рыданий. Не зная больше, что сказать, я обещаю ей вернуться завтра, чтобы узнать, что она решила, потому что ей абсолютно необходимо принять какое-то решение. Я спустился по той же лестнице и, дав еще один луи крестьянке, сказал, что вернусь завтра, но она должна найти способ мне войти через дверь, и что она должна удвоить дозу опиума, что дала послушнице.
Я отправился спать, весьма довольный в глубине души, что ошибся, решив, что эта монахиня может быть моей дорогой М.М.; но, увидев ее столь похожей, мне стало очень любопытно рассмотреть ее поближе. Я был уверен, что она доставит мне это удовольствие завтра. Я смеялся над поцелуями, которыми осыпал ее. Тайное предчувствие мне говорило, что я буду ей полезен. Я чувствовал, что, во всяком случае, я не могу ее покинуть, и я радовался, что, делая доброе дело, я не охвачен чувствами, потому что, как только я узнал, что это не М.М. я расточал свои поцелуи, они для меня стали как выброшенные напрасно. Мне даже не пришла в голову мысль обнять ее на прощание.
Дезармуаз сказал мне утром, что вся компания, не видя меня за ужином, сломала к чертям голову, гадая, куда я мог подеваться. М-м Z воздавала самые большие хвалы моей персоне, геройски выступая против насмешек двух других дам, хвалясь, что может заставить меня остаться в Эксе столько, сколько она будет там сама.
Я был этим действительно заинтересован, и мне было бы досадно покинуть это место, не познакомившись с ней, как следует, хотя бы разок.
Я вошел к ней в комнату в девять часов, и нашел ее одетой. Я выразил сожаление, она ответила, что мне это должно быть безразлично, я надулся и принялся за шоколад вместе с ней, не разговаривая. Она предложила мне реванш в пикет на сотню, но я поблагодарил ее и поднялся, чтобы уйти. Она попросила меня проводить ее к фонтану, и я ответил, что если она принимает меня за ребенка, то ошибается, что я не стану притворяться, что доволен ею, когда это не так, и что она может просить проводить ее к фонтану, кого хочет.
— Прощайте, мадам.
Говоря так, я вышел к лестнице, не слушая то, что она говорила, чтобы меня удержать. В дверях гостиницы я сказал портье, что уезжаю в три часа без всяких проволочек, и, находясь возле своего окна, она меня слышит. Я направился прямо к фонтану, где шевалье Z спросил меня, как себя чувствует его жена; я ответил, что оставил ее в ее комнате в добром здравии. Мы увидели ее полчаса спустя, с иностранцем, который только что прибыл, и которому г-н де Сен-Морис оказал хороший прием. М-м Z, как будто ничего не произошло, подошла от него ко мне и приняла мою руку. Посетовав на мое поведение, она сказала, что хотела только меня испытать, и что если я ее люблю, я должен отложить еще мой отъезд и прийти опять к ней завтракать завтра в восемь часов. Я ответил, что подумаю, держась спокойно, но серьезно. Я оставался таким и во время обеда, повторив два или три раза, что действительно уеду в три часа; но поскольку мне нужно было изобрести предлог, чтобы не уезжать, так как я договорился увидеться с монахиней, я дал себя уговорить сыграть в банк фараон.
Я пошел взять все золото, что у меня было. и увидел всю компанию и удивленной, и обрадованной, когда положил перед собой золотом, в испанских и французских монетах, почти четыре сотни луи, и пятнадцать-двадцать серебром. Я объяснил всем, что в восемь часов их покину. Вновь прибывший сказал со смехом, что банк, возможно, столько не проживет. Было три часа. Я просил Дезармуаза быть моим крупье, и начал, со всей необходимой неторопливостью, имея восемнадцать-двадцать понтеров и сознавая, что все они профессиональные игроки. На всякой талье я распечатывал новую колоду.
К пяти часам, когда мой банк был почти разорен, прибыл экипаж. Сказали, что это три англичанина, которые едут из Женевы и меняют здесь лошадей, чтобы направиться в Шамбери. Минуту спустя я вижу их входящими и приветствую их. Это г-н Фокс с двумя друзьями, которые играли со мной партию в пятнадцать. Мой крупье дает каждому из них карту. Они с удовольствием их принимают, и им освобождают место. Каждый понтирует на десять луи, играет на двух и трех картах, делает пароли, семь повторить , и то же — пятнадцать , я вижу, что мой банк в опасности и, приветствуя его наполнение, я их подбадриваю. Если бог нейтрален, они могут только проиграть, — и бог нейтрален. На третьей талье каждый из них опустошает свой кошелек. Их лошади запряжены.
Пока я тасую, самый молодой из них достает из портфеля обменный вексель и, показав его своим двоим друзьям, спрашивает, не хочу ли я принять его за одну карту, не зная, сколько на нем денег.
— Да, при условии, что вы мне скажете, на кого он выдан, и что его величина не превышает моего банка.
Немного подумав и глядя на мой банк, он говорит, что вексель не настолько велик, как мой банк, и что он выдан на Цаппату в Турине. Я соглашаюсь. Он сам снимает, и ставит на туза. Двое других идут в половину. Туз не появляется, я остаюсь при двенадцати картах, и говорю англичанину самым сердечным тоном, что он может уходить. Он не хочет. Я раздаю на две руки; туз не появляется; у меня восемь карт, среди них четыре туза, и моя последняя — не туз.
— Милорд, — говорю я, — могу держать пари два против одного, что туз здесь; Я вас прощаю, уходите.
— Вы слишком щедры, — говорит он; — раздавайте.
Туз появляется, и не в дублете; я беру вексель и кладу его в карман, не разворачивая, и англичане уходят, смеясь и благодаря меня. Минуту спустя Фокс возвращается и просит, громко смеясь, одолжить ему пятьдесят луи. Я немедленно выдаю их ему с большим удовольствием. Он отдаст мне их в Лондоне три года спустя.
Вся компания любопытствует узнать величину векселя, но я доставляю себе удовольствие не удовлетворить их любопытство. Испытывая также любопытство, я узнал, когда остался один, что он был на восемь тысяч пьемонтских ливров.
После отъезда англичан фортуна повернулась к моему банку лицом. Я закончил игру около восьми часов, не имея перед собой никого, кроме дам, которые были в выигрыше. Все мужчины проиграли. Я выиграл свыше тысячи луи, и Дезармуаз получил свои двадцать пять, высказав благодарность. Зайдя к себе, чтобы запереть свои деньги, я направился к монахине.
Добрая крестьянка впустила меня в дверь, сказав, что все спят, и что ей не понадобилось удваивать дозу для послушницы, чтобы ее усыпить, потому что она никогда не просыпается. Чего же я жду! Я поднимаюсь на чердак и при свете свечи вижу мою монахиню, у которой лицо прикрыто вуалью. Крестьянка положила вдоль стены мешок, набитый соломой, который послужил нам канапе, бутылка на земле послужила подсвечником для свечи, которая нам светила.
— Что вы решили, мадам?
— Ничего, потому что произошел несчастный случай. который нас беспокоит. Моя послушница спит уже двадцать восемь часов.
— Она умрет в конвульсиях, либо от апоплексии этой ночью, если вы не позовете врача, который с помощью касториума вернет ее, быть может, к жизни.
— Мы об этом думали, но не осмеливались. Вы видите обстоятельства… Выздоровеет она или нет, он скажет, что мы дали ей яд.
— Святые небеса! Я вам сочувствую. Даже если вы позовете врача в данный момент, я полагаю, что будет слишком поздно, и все будет впустую. Все обдумав, следует во всем положиться на волю Провидения, и оставить ее умирать. Зло сделано, и я не знаю никакого средства спасения.
— Следует, однако, подумать о спасении ее души и позвать священника.
— Священник не может ей быть полезен, потому что она в летаргии; и невежественный священник, желая выставить себя знающим, все выболтает. Никакого священника, мадам, вы вызовете его, когда она будет мертва; вы скажете ему, что она умерла внезапно, вы поплачете, вы дадите ему на выпивку, и он будет думать только о том, чтобы успокоить ваши слезы, далекий от мысли. что вы могли ее отравить.
— Надо, стало быть, ее умертвить?
— Нет, надо оставить все как есть.
— Если она умрет, я отправлю срочное сообщение аббатисе, и она пришлет мне другую послушницу.
— И выиграете по крайней мере дней восемь; в ожидании этого, вы, быть может, разродитесь; вы видите, что ваше счастье может зависеть от этого несчастья. Не плачьте, мадам, положимся на волю Господа; позвольте, чтобы крестьянка вошла сюда, потому что я должен внушить ей необходимость молчания и очень правильного поведения в этом деле, которое может стать фатальным для нас всех, потому что если узнают, что я приходил сюда, меня примут за отравителя.
Вызванная крестьянка поднялась, и все поняла. Она осознала свой собственный риск, и обещала мне, что пойдет за священником, только когда увидит, что послушница мертва. Я заставил ее принять десять луи для того, чтобы использовать их во всех случаях, которые могут случиться в этих жестоких обстоятельствах, в которых мы все оказались. Увидев, что она богата, она облобызала мне руки, заплакала, бросилась на колени и пообещала мне следовать во всем моим советам. Затем она снова спустилась.
Монахиня, войдя в погребальные размышления, возобновила свои рыдания и, осознавая себя виновной в этой смерти, представила себе уже отверстый ад, задохнулась от ужаса и упала в обморок на мешок. Не зная, что делать, я подскочил к лестнице, чтобы позвать крестьянку, которая поднялась и снова спустилась, чтобы найти уксуса. Не имея при себе спиртовой эссенции, я поднял вуаль и поднес к ее носу щепотку нюхательного табака и засмеялся, вспомнив. как кстати я давал понюшку М-м… в Золотурне. Крестьянка поднялась с уксусом, и нюхательный порошок стал оказывать свой эффект, монахиня очнулась; но я остался как окаменелый, когда, повернувшись, она позволила мне взглянуть на свое лицо. Я увидел вылитую М.М., настолько похожую, что я не мог и вообразить, что я ошибаюсь. Я оставался недвижим, пока крестьянка снимала с нее головной убор, чтобы натереть виски своим уксусом. Меня оторвали от изумления ее черные волосы и, минуту спустя, глаза того же цвета, которые сильный порошок заставил открыться. Я, наконец, убедился, что это не М.М., глаза которой были голубые, но я без памяти влюбился в нее. Я заключил ее в мои объятия, и крестьянка, увидев, что она воскресла, вышла. Я осыпал ее поцелуями, и она не могла защититься из-за своего чихания. Она просила меня именем Иисуса уважать ее и позволить, чтобы она снова накинула вуаль, говоря, что без этого она будет предана анафеме, но это опасение отлучения в такой момент меня насмешило. Она клялась, что аббатиса ее проклянет, если она позволит мужчине на себя смотреть.
Я передал ее заботам крестьянки, опасаясь, что усилия при чихании могут вызвать роды. Я пообещал увидеть ее завтра в то же время, и она просила не покидать ее.
В том состоянии, в каком я был, мне невозможно было ее покинуть, но в этом отныне не было никакой моей заслуги; я был влюблен в эту новую М.М. с черными глазами. Я решил сделать для нее все, и, разумеется, не допустить возвращения ее в монастырь в том положении, в котором она находилась. Мне казалось, что в ее спасении следует руководствоваться божьей волей. Бог захотел, чтобы она показалась мне М.М. Бог сделал так, что я получил много денег. Бог послал мне м-м Z, чтобы любопытные не могли догадаться о действительной причине откладывания моего отъезда. Разве не полагался я на бога всю свою жизнь! Несмотря на это, канальи-мыслители все время обвиняют меня в атеизме.
На следующий день, около восьми часов, я нашел м-м Z в кровати и еще спящей. Ее горничная попросила меня входить в комнату на цыпочках и закрыла свою дверь. Двадцать лет назад венецианка, сон которой я пощадил, посмеялась надо мной при пробуждении, и больше меня не хотела. М-м Z хотела сделать что-то подобное, притворившись, что крепко спит, но должна была явить мне очевидные признаки жизни, когда почувствовала себя наполненной, и дело завершилось смешками. Она сказала, что ее муж поехал в Женеву, чтобы купить ей часы с репетиром, и что он вернется только завтра.
— Вы можете, — сказала мне она, — провести всю ночь со мной.
— Ночь создана, мадам, чтобы спать. Если вы никого не ждете, я проведу с вами все утро.
— Ладно. Никто сюда не придет.
Она укладывает мои волосы в ночной колпак своего мужа, и мы быстренько устремляемся в объятия друг друга. Я нахожу ее влюбленной настолько, насколько можно и желать, и она убеждается, что я ей ни в чем не уступаю. Мы проводим четыре прекрасных часа, часто плутуя друг с другом, но лишь с тем, чтобы находить новые поводы для смеха. После последней схватки она просит у меня, в качестве награды за свою любовь, провести в Эксе еще три дня.
— Я обещаю вам, прекрасная Z, оставаться здесь так долго, сколько вы будете давать мне знаки приязни, подобные тем, которые дали нынче утром.
— Поднимемся же и пойдем вниз обедать.
— Вниз! Если бы ты видела свои глаза!
— Пусть догадываются. Две графини умрут от зависти. Я хочу, чтобы весь народ знал, что ты остался здесь только ради меня.
— Это ни к чему, мой ангел, но я с удовольствием удовлетворю твое желание, даже если мне придется за эти три дня потерять все мои деньги.
— Я буду от этого в отчаянии; но если ты откажешься понтировать, ты не потеряешь, несмотря на то, что ты допускаешь, чтобы тебя обворовывали.
— Поверь мне, я позволяю себя обкрадывать только дамам. Ты ведь тоже принимала пароли в этой компании.
— Это правда, но не так, как это делали графини, и мне было досадно, потому что они могли подумать, что ты их любишь. После твоего ухода маркиз де Сен-Морис сказал, что ты ни за что не должен был предлагать англичанину уйти на восьми картах, потому что, если бы он выиграл, он мог подумать, что ты все знаешь.
— Скажи г-ну де Сен-Морис, что человек чести не может допускать таких подозрений, и к тому же, зная характер молодого лорда, я был внутренне убежден, что он не согласится на мое предложение.
Когда мы спустились к столу, нам захлопали. У красавицы Z был вид, как будто она ведет меня на поводке, и мое поведение было из самых скромных. Никто после обеда не осмеливался предложить мне составить банк — все были на мели относительно денег. Затеяли игру в тридцать-сорок, которая длилась весь день. Я проиграл всего двадцатку луи. К вечеру я ускользнул и, зайдя к себе, чтобы известить Ледюка, что во время моего пребывания в Эксе он не должен покидать моей комнаты, я пустился к дому, где эта несчастная должна была в беспокойстве дожидаться моего появления; но, несмотря на темноту, мне показалось, что кто-то за мной следует. Я остановился, меня обошли. Парой минут позже я пошел вновь своей дорогой, и вижу те же две фигуры, которые я бы ни за что не разглядел, если бы они не замедлили шаг. Это могло быть случайностью; я сошел со своего пути, не теряя ориентировки, с тем, чтобы вернуться на дорогу, когда буду уверен, что за мной не следят. Но мое подозрение перешло в уверенность, когда я увидел на некотором расстоянии два призрака; я остановился за деревом и разрядил в воздух один из моих пистолетов. Минутой позже, не видя больше никого, я направился к дому крестьянки, зайдя сначала к фонтану, чтобы убедиться, что не сбился с дороги.
Я вхожу обычным путем и вижу монахиню в кровати, при свете двух свечей, стоящих на маленьком столике.
— Вы больны, мадам?
— Я чувствую себя хорошо, слава богу, после того, как в два часа утра разрешилась мальчиком, которого моя добрая хозяйка унесла, бог знает, куда. Святая Дева вняла моим молитвам. Единственное, что во время родов и четверть часа спустя я еще чихала. Скажите мне, вы ангел или человек, потому что я боюсь, что грешу, вас обожая.
— Вы сообщили мне новость, которая переполняет меня удовлетворением. А ваша послушница?
— Она еще дышит, но мы не надеемся, что она сможет избежать смерти. Она обезображена. Мы совершили большое преступление.
— Бог вам простит. Молитесь вечному Проведению.
— Эта крестьянка уверена, что вы ангел. Это ваш порошок заставил меня родить. Я вас никогда не забуду, при том не зная, кто вы.
Поднялась крестьянка, и, поблагодарив ее за заботы, которые она проявила, помогая родам доброй монахини, я еще раз посоветовал обласкать священника, которого она вызовет, когда послушница перестанет дышать, чтобы избежать подозрений по поводу причины ее смерти. Она заверила меня, что все будет хорошо, что никто не знает ни того, что послушница заболела, ни того, отчего это произошло. Мадам не выходила из постели. Крестьянка сказала, что лично отнесла новорожденного в Аннеси, и что она закупила все, что может понадобиться, заранее до наступления событий. Она сказала, что ее брат уехал накануне и вернется только через неделю, и поэтому нам нечего опасаться. Я дал ей еще десять луи, попросив купить кое-какую мебель и подыскать чего-нибудь мне поесть назавтра; она сказала, что у нее еще осталось сколько-то денег, но когда она услышала, что все, что останется из денег — для нее, я подумал, что она сойдет с ума от счастья. Видя, что мое присутствие беспокоит роженицу, я оставил ее, пообещав навестить завтра.
Мне не терпелось выйти из этого щекотливого дела, но я не мог торжествовать победу до тех пор, пока послушница не будет предана земле. Я дрожал, потому что священник, по крайней мере если он не дурак, должен был счесть очевидным, что покойница умерла от яда.
Я нашел назавтра шевалье Z в комнате жены, рассматривающим с ней прекрасные часы, которые он ей купил. Он радовался в моем присутствии ее способности удержать меня в Эксе. Это был один из тех мужчин, кто готов скорее сойти за рогоносца, чем за дурака. Я оставил его, чтобы пойти к водам с его женой, которая дорогой сказала мне, что будет одна завтра, и что она больше не любопытствует по поводу моей прогулки в восемь часов.
— Это, стало быть, вы направили преследователей за мной?
— Да, я, чтобы посмеяться, потому что там нет ничего, кроме гор. Но я не знала, что ты такой злой. По счастью, твой выстрел оказался промахом.
— Дорогой друг, я выстрелил в воздух, потому что достаточно страха, чтобы наставить любопытных.
— Так что больше тебя не преследовали.
— А если бы они продолжали следовать за мной, я, возможно, оставил бы их в покое, так как моя прогулка была вполне невинна. Я всегда дома в десять часов.
Мы были еще за столом, когда увидели прибывшую берлину, запряженную шестеркой лошадей, и сходящих с нее маркиза де Прие, шевалье де Сен-Луи и двух очаровательных дам, из которых одна, как сказала мне м-м Z, — любовница маркиза. Ставят четыре куверта, весь народ снова усаживается за стол, и в ожидании, пока обслужат, рассказывают вновь прибывшим всю историю с моим банком и с появлением англичан. Маркиз меня поздравляет, говоря, что не думал застать меня еще в Эксе, и м-м Z говорит, что я бы уехал, если бы она мне не помешала. Привыкший к ее легкомысленности, я с этим соглашаюсь. Он говорит, что составит для меня небольшой банчок после обеда, и я соглашаюсь. Он организует его из сотни луи, и я играю, потеряв эту сумму в двух тальях, затем поднимаюсь и направляюсь к себе, чтобы ответить на некоторые письма. С наступлением ночи я направляюсь к монахине.
— Послушница мертва, месье, ее предадут земле завтра, завтра же мы должны вернуться в наш монастырь. Вот письмо, которое я пишу аббатисе. Она отправит мне другую послушницу, если только не велит возвратиться в монастырь с этой крестьянкой.
— Что сказал священник?
— Он сказал, что она умерла вследствие летаргии, произошедшей от ее мозга, погрузившегося в жидкость, что должно было вызвать у нее тяжелый апоплексический удар. Я хотела бы заказать у него пятнадцать месс, вы мне позволите?
— Вы вольны поступать, как хотите.
Я предупредил крестьянку, что мессы следует заказать в Аннеси, и сказать священнику, что он должен служить их соответственно пожеланию персоны, которая отправила пятнадцать пожертвований. Она обещала это сделать. Она сказала, что умершая выглядела ужасно, и что она наняла двух сиделок, чтобы не явились ведьмы, которые могут под видом кошек попытаться выкрасть какие-нибудь ее члены.
— Скажите мне, кто продал вам лауданум?
— Мне продала его очень порядочная акушерка. Мы использовали его, чтобы заставить спать несчастную, когда у мадам начались родовые схватки.
— Когда вы передавали ребенка в больницу, вас кто-нибудь узнал?
— Не бойтесь. Я оставила его у входной башни, так, что никто меня не видел, с запиской, что он не крещен. Погребение стоит шесть франков, которые кюре охотно заплатит, потому что, господи его прости, мы дали ему два луи. Мадам сказала отдать остаток кюре, чтобы тот отслужил мессы.
— Разве мадам не могла со спокойной совестью просто дать ему два луи?
— Мадам говорит, что нет.
Она мне потом сказала, что у них было только по десять савойских су в день на каждую и что они не могли потратить ни су без ведома аббатиссы, под страхом отлучения.
— Теперь, — сказала мне она, — я чувствую себя принцессой, и вы увидите это за ужином. Несмотря на то, что эта добрая женщина знает, что деньги, которые вы ей дали, — для нее, она хочет потратить их на меня. Я вынуждена согласиться.
Я остался с ней наедине, ее очаровательное лицо, слишком напоминавшее мне М.М., зажгло во мне пламя, и я заговорил с ней о ее соблазнителе, сказав, что удивлен тем, что тот не предоставил ей помощь, которая была столь необходима в том положении, в котором он ее оставил. Она ответила мне, что не согласилась бы принять никаких денег из-за обета бедности и повиновения, который она принесла, и что она отдаст аббатисе тот луи, что остался у нее от милостыни, которую предоставил монсеньор епископ; что же касается забвения, в котором она оказалась в момент, когда со мной познакомилась, она не может подумать ничего другого, как то, что он не получил ее письмо.
— Богат ли он, и видный ли мужчина?
— Богат, — да; но очень некрасив, горбат и в возрасте пятнадцати лет.
— Как же вы в него влюбились?
— Я не влюбилась. Он поймал меня на жалость. Он хотел себя убить. Я испугалась. Я пошла ночью в сад, в котором, он известил меня, он должен был быть, чтобы просить его уйти, и он ушел, но перед тем исполнил свой дурной каприз.
— Значит, он вас изнасиловал?
— Отнюдь нет, потому что у него бы не получилось. Он плакал, он так меня просил, что я согласилась, при условии, что он не придет больше в сад.
— И вы не побоялись забеременеть?
— Я об этом ничего не знала, потому что всегда думала, что для того, чтобы забеременеть, девушка должна делать это с мужчиной не менее трех раз.
— Несчастное невежество! Он больше не пытался свидеться с вами в саду?
— Я больше не хотела, потому что наш исповедник заставил меня пообещать, если я не хочу отлучения, больше не встречаться с ним.
— Вы сказали исповеднику, кто был соблазнитель?
— Об этом — нет. Я повинилась в другом грехе.
— Вы сказали исповеднику, что вы забеременели?
— Тем более нет, но он это предположил. Это святой человек, который, наверно, молится за меня, И ваше появление, возможно, плод его молитв.
Я провел четверть часа в молчании, погруженный в раздумье. Все несчастье этой девушки произошло от ее простодушия, от ее невинности и неосознанного чувства жалости, она связалась с чудовищем, влюбленным в нее; доля ее вины была очень мала, потому что она даже не была влюблена. Она была религиозна, но, будучи религиозной скорее по привычке, была очень слаба. Для нее это было, скорее, делом расчета. Она ненавидит грех, поэтому должна очиститься от него исповедью под страхом вечного проклятия, она не хочет осуждения. У нее много здравомыслия, но слишком мало ума, потому что она не научена опытом. Обдумав все, я нашел, что будет слишком трудно уладить это дело с покинувшим ее г-ном де Ку, она слишком раскаивается в содеянном, чтобы вернуться к нему, с тем же или новым риском.
Крестьянка поднялась, поставила на маленький стол два куверта и принесла нам ужин. Все было новым: салфетки, тарелки, стаканы, ножи, ложки, и все очень простое. Вина были очень хороши, и блюда изысканные. Ничего не было домашнего изготовления. Дичь, жаркое, рыба — деликатесные, сыр превосходный. Я провел полтора часа за едой, выпивкой и болтовней. Монахиня не ела почти ничего, но мне это не помешало опустошить две бутылки. Я был весь в огне. Крестьянка, очарованная похвалами, которые я ей расточал, обещала мне такое на каждую ночь, унесла все и спустилась. Я вновь остался наедине с этой женщиной, чье лицо было само очарование, и которая внушала мне желания, которые, после вкусного ужина, я не мог держать в узде. Я заговорил с ней о ее здоровье и о неприятностях, связанных с родами. Она отвечала, что чувствует себя очень хорошо, и что она может отправиться в Шамбери пешком.
— Единственное, что меня немного беспокоит, — сказала она, — это мои груди, но крестьянка заверила меня, что через два дня молоко уйдет и грудь вернется в естественное состояние.
— Позвольте, я взгляну на них.
— Смотрите.
Голая, в постели, она опустила свою рубашку и, полагая, что поступает лишь скромно и вежливо, боясь согрешить гордыней или обидеть меня, предполагая во мне лишь честные мысли, она позволила мне осмотреть всю ее очаровательную грудь и трогать ее во всем объеме и периметре. Оберегая свою порядочность, я овладел собой и спросил ее без малейшего проявления чувств, как она себя чувствует чуть ниже, и, задав этот вопрос протянул туда руку, но она нежно мне воспротивилась, сказав, что ей там еще некомфортно. Я попросил у нее прощения; я сказал, что надеюсь найти ее вполне здоровой завтра; я сказал, что красота ее груди еще больше увеличила интерес, который она мне внушает, и подарил ей нежный поцелуй, на который она сочла себя обязанной ответить своим. Я чувствовал себя совсем растерянным и понял, что либо должен рискнуть потерять все ее доверие, либо немедленно уйти; я покинул ее, назвав нежно своей дорогой дочерью.
Я вернулся в свое жилище весь мокрый, потому что шел дождь. На другой день я поднялся поздно. Я положил в карман два портрета, что у меня были, М.М., одетой монахиней, и обнаженной, чтобы удивить мою монахиню. Я направился к Z и, не застав ее, пошел к фонтану, где она осыпала меня упреками. После обеда маркиз де Прие составил банк, но увидев, что в нем всего сотня луи, я понял, что он хочет отхватить много, рискнув лишь малым. Несмотря на это, я достал из кармана сотню. Он сказал, что, желая развлечься, я не должен ставить все на одну карту. Я ответил, что ставлю тридцать против его одного. Он сказал, смеясь, что я проиграю.
Однако так пошло, что менее чем за три часа я выиграл восемьдесят луи. Я выигрывал на каждой талье «пятнадцать» и «поднять», и несколько раз пару . Я ушел, как делал это каждый день, с началом ночи, и нашел роженицу похорошевшей. Она сказала, что у нее легкая лихорадка, что, согласно крестьянке, так должно быть, и что она будет чувствовать себя завтра уже хорошо и встанет. Когда я протянул руку, чтобы приподнять ее покрывало, она мне ее поцеловала, сказав, что рада оказать мне этот знак дочерней любви. Ей был двадцать один год, а мне тридцать пять. Я испытывал к ней влечение гораздо более сильное, чем отец к дочери. Я сказал, что доверие, которое она питает ко мне, принимая меня обнаженной в постели, увеличивает отцовскую любовь, что я испытываю к ней, и что мне будет грустно, если я увижу ее завтра облаченной в монашеский наряд.
— Я останусь для вас в постели, — ответила она, — и весьма охотно, потому что это жаркое шерстяное платье меня утомляет. Я полагаю, что прилично одетой я понравилась бы вам больше, но мне достаточно того, что это вам безразлично.
Поднялась крестьянка и подала ей письмо аббатисы, которое только что принес из Шамбери ее племянник. Прочитав, она мне его дала. Та писала, что отправит ей двух послушниц, которые проводят ее в монастырь, и что, поправив свое здоровье, она может предпринять маленькое путешествие пешком и сэкономить таким образом деньги, чтобы найти им лучшее применение; однако она добавила, что, поскольку епископ находится в поездке, и ей нужно его разрешение, послушницы смогут выехать не ранее чем через восемь-десять дней. Она велела ей, под страхом полного отлучения, в ожидании не выходить из своей комнаты и не говорить ни с каким мужчиной, даже с хозяином дома, где она находится, у которого должна быть жена. Она закончила, сказав, что та должна заказать мессу за упокой души покойной.
Крестьянка попросила меня отвернуться к окну, так как мадам должна кое-что сделать. После этого я снова сел возле нее на кровати.
— Скажите мне, мадам, — сказал я ей, — могу ли я приходить сюда навещать вас в эти восемь-десять дней, не нарушая вашего доверия, потому что я все же мужчина. Я остаюсь здесь только ради вас, к кому я испытываю самый большой интерес; но если вы имеете отвращение к встречам со мной из-за этого странного запрещения, скажите, и я завтра же уеду.
— Месье, это наказание, которое мне грозит, — я надеюсь, что господь его не одобрит, потому что, вместо того, чтобы меня расстроить, оно делает меня счастливой. Я искренне говорю вам, что ваши визиты составляют теперь для меня счастье жизни, и я сочту себя вдвойне счастливой, если вы делаете их с удовольствием. Но я хочу узнать от вас, если вы можете мне это поведать, не сочтя за бестактность, за кого вы меня приняли в первый раз, когда встретили в темноте, потому что вы не можете себе представить ни мое удивление, ни испуг, который я испытала. Я не представляла себе даже возможности таких поцелуев, которыми вы осыпали мое лицо, которые, однако, не могли отягчить мою вину, так как я на них не соглашалась, и вы сами мне сказали, что думали при этом о другой.
— Мадам, я могу удовлетворить ваше любопытство. Я могу это сделать сейчас, потому что мы с вами знаем, что все мы люди, что плоть слаба, что она вынуждает самые сильные души совершать ошибки, вопреки рассудку. Вы сейчас услышите рассказ о превратностях любви в течение двух лет, с самой прекрасной и самой мудрой из всех монахинь моей родины.
— Месье, расскажите мне все; совершив ту же ошибку, я была бы несправедлива и негуманна, если бы меня скандализовали некие обстоятельства, потому что с этой монахиней вы, очевидно, не могли сделать больше того, что Ку… сделал со мной.
— Нет, мадам. Я был счастлив. Я не сделал ей ребенка; но если бы я его ей сделал, я выкрал бы ее и отвез в Рим, где Святой Отец, видя нас у своих ног, освободил бы ее от ее обетов, и моя дорогая М.М. была бы теперь моей женой.
— Боже! М.М. — это мое имя.
Это обстоятельство, которое, по существу, ничего не значит, обоих нас поразило. Странный и несерьезный случай, который, однако, воздействует с превеликой силой на расположенные к этому умы, и приводит к важным последствиям. Помолчав несколько минут, я рассказал ей все, что приключилось у меня с М.М., ничего не скрывая. При живописных описаниях наших любовных столкновений, я видел, что она взволнована, и когда в конце истории я услышал, как она спросила, действительно ли она настолько на нее похожа, до такой степени, что я мог ошибиться, я достал из портфеля ее портрет в монашеском одеянии и показал ей.
— Это мой портрет, — сказала мне она, — вплоть до глаз и бровей. Это моя одежда! Это чудо. Какое совпадение! Я обязана этому сходству всем моим счастьем. Должно быть, бог судил, чтобы вы не любили меня так, как любили эту дорогую сестру, у которой мое лицо и даже мое имя. Вот две М.М. Неразличимы! Божественное Провидение! Все твои пути замечательны, мы лишь слабые смертные, невежественные и горделивые.
Крестьянка принесла нам ужин, еще более изысканный, чем накануне, но роженица поела только супу. Она обещала мне хорошо есть в следующую ночь. В тот час, что я провел вместе с ней, когда крестьянка убрала со стола, она уверилась, что я испытываю к ней лишь дружеские и отцовские чувства. Она позволила мне сама увидеть свою грудь, которая еще не вернулась к своему естественному состоянию, и позволила трогать ее везде, не считая возможным, что вызывает во мне малейшие эмоции, и приняла, как демонстрацию самой невинной дружбы, все поцелуи, которыми я покрыл ее прекрасные губы и ее чудесные глаза. Она, смеясь, сказала, что благодарит бога за то, что они не голубые. Когда я почувствовал, что не могу больше сдерживаться, я ее покинул и пошел спать. Ледюк передал мне записку от Z, в которой она написала, что мы увидимся у фонтана, потому что она приглашена завтракать с любовницей маркиза.
У фонтана она мне сказала, что вся компания считает, что играя на тринадцати картах, я должен проиграть, потому что это ошибка, что в каждой талье есть карта, которая выигрывает четыре раза, но что маркиз сказал, что, несмотря на это, он больше не позволит мне пользоваться этим методом игры, и что его любовница взялась заставить меня играть как обычно. Я поблагодарил ее.
Вернувшись в гостиницу, я проиграл маркизу в пятнадцать пятьдесят луи до обеда, а после обеда дал уговорить себя составить банк. Я пошел к себе, чтобы взять пять сотен луи, и вот, сижу за большим столом, чтобы испытать фортуну. Я взял в качестве крупье Дезармуаза, заявив, что принимаю только карты, покрытые деньгами, и что прекращу игру в половине восьмого. Я сел между двумя самыми красивыми, и, помимо того, что достал из кошелька семь сотен луи, я попросил сотню экю по шесть франков, чтобы развлечь дам. Но вот помеха. Видя перед собой только вскрытые колоды, я спросил новые. Распорядитель зала мне сказал, что отправил человека в Шамбери, чтобы купить сотню колод. И что он вскоре явится.
— В ожидании, — говорит он мне, — вы можете сыграть талью этими. Они как новые.
— Я не хочу как новые, а лишь новые. У меня есть принципы, дорогой друг, которые весь ад не сможет заставить забыть. В ожидании вашего человека я побуду зрителем. Я чувствую, что должен развлечь этих прекрасных дам.
Никто не посмел возразить мне ни слова. Я покинул место и забрал мои деньги. Маркиз де Прие составил банк и играл очень достойно. Я держал все время сторону м-м Z, которая приняла меня в половину и отдала мне на следующий день пять или шесть луи. Человек, который должен был вернуться из Шамбери, прибыл только в полночь. Полагаю, он ускользнул к красотке, потому что в этой стране есть люди, у которых чудесные глаза. Я пошел положить мои деньги в кофр, и отправился в монахине, которую нашел в постели.
— Как вы себя чувствуете, мадам?
— Говорите лучше: дочь моя, потому что я хотела бы, чтобы вы были мне отцом, и чтобы я могла вас обнять без малейших опасений.
— Ну что же, дорогая дочь, не бойся ничего и открой мне свои объятия.
— Да, обнимемся.
— Мои детки сегодня более хорошенькие, чем вчера. Сделай так, чтобы они меня покормили.
— Какое безумие! Дорогой папа, полагаю, ты глотаешь молоко своей бедной дочери.
— Оно сладкое, моя дорогая подруга, и та малость, что я проглотил, наполнила благоуханием мне душу. Ты не можешь быть настолько жестока, что запретишь мне это удовольствие, потому что ничего не может быть более невинного.
— Нет, конечно, я не запрещаю, потому что ты мне также доставляешь удовольствие. Вместо того, чтобы называть тебя «папа», я буду звать тебя «мой малютка».
— Как мне нравится это прекрасное настроение, в котором я нахожу тебя этим вечером.
— Это потому, что ты сделал меня счастливой. Я больше ничего не боюсь. Мир вернулся в мою душу. Крестьянка мне сказала, что в скором времени я снова стану такой, как была до встречи с Ку.
— Не так быстро, мой ангел, потому что, к примеру, твой живот.
— Молчи. Его не узнать, я сама удивляюсь.
— Позволь, я посмотрю.
— О нет. Прошу тебя. Но ты можешь его потрогать. Это правда?
— Это правда.
— Ох! Мой друг. Не трогай там.
— Почему нет? Ты не можешь отличаться от моей старой М.М., которой сейчас может быть лишь тридцать лет. Я хочу показать тебе ее портрет, она совсем обнаженная.
— Он у тебя здесь? Я погляжу его с удовольствием.
Я достаю его из моего портфеля и вижу, что она в восхищении. Она целует его. Она спрашивает, все ли это с натуры, и находит свое лицо еще более поразительно похожим на нее, чем на портрете в монашеском одеянии.
— Но это ты, — говорит она, — велел художнику придать ей такие длинные волосы.
— Отнюдь нет. Монахини в нашей стране должны лишь не показывать их мужчинам.
— У нас также. Нам их обрезают, и затем мы их снова растим.
— У тебя длинные волосы?
— Как эти; но они тебе не понравятся, потому что они черные.
— Ну что ты говоришь? Я предпочитаю их светлым. Во имя Господа, сделай, чтобы я их увидел.
— Ты просишь у меня преступления во имя Господа, потому что я навлеку на себя новое отлучение, но я тебе ни в чем не могу отказать. Я покажу их тебе после ужина, потому что не хочу, чтобы крестьянка возмутилась.
— Ты права. Я нахожу тебя самым обаятельным из созданий, и я умру от страдания, когда ты покинешь эту хижину, чтобы вернуться в твою тюрьму.
— Я должна туда пойти, чтобы принести покаяние во всех моих прегрешениях.
Как я был счастлив! Я был уверен, что обрету все после ужина. При появлении крестьянки я дал ей еще десять луи. По удивлению этой женщины я понял, что она может меня счесть лишившимя здравого смысла. Я сказал ей, что очень богат, и что я хотел бы, чтобы она убедилась, что для меня ничто не будет сочтено избыточным, чтобы компенсировать ей ее материнские заботы об этой монахине. Она плакала от благодарности. Она подала нам изысканный ужин, который роженица сочла возможным поесть с аппетитом, но удовлетворение моей души помешало мне ей подражать; мне не терпелось увидеть прекрасные черные волосы этой жертвы доброты своей души. В тот момент это был единственный аппетит, который преобладал во мне. И который не мог допустить никакого другого.
Как только крестьянка оставила нас наедине, она скинула свой монашеский клобук, и я положительно увидел М.М. с черными волосами. Она распустила их по плечам, как было на портрете, что я ей показал, и обрадовалась, слыша, что я говорю то, что было неоспоримой правдой: ее волосы и черные глаз, по контрасту, сделали ее более белокожей, чем М.М. Это не было правдой. Это были две белизны, равно ослепительные, но с разным розовым оттенком; это было различие, которое можно заметить только влюбленными глазами. Одушевленный объект, между тем, одолел портрет.
— Ты более белая, — сказал я ей, — более красивая и более яркая в силу контраста черного и белого; но я полагаю, что первая М.М. более нежная.
— Это возможно; но не более добрая.
— Ее любовные желания должны быть более живыми, чем твои.
— Я этому верю, потому что я никогда не любила.
— Это поразительно. Но природа и порывы чувств…
— Эта склонность, мой милый друг, которую мы очень легко утихомириваем в монастыре; мы каемся исповеднику, потому что знаем, что это грех; но он считается ребячеством, потому что его нам отпускают, не накладывая никакой епитимьи; это старый ученый священник, умный и строгого нрава; когда он умрет, мы будем очень сожалеть.
— Но в своих нежных забавах с другой монахиней твоего ранга, разве ты не чувствуешь, что ты любила бы ее сильнее, если бы она могла в этот момент стать мужчиной?
— Ты меня смешишь. Это правда, что если бы моя подруга стала мужчиной, мне бы это не было неприятно; но, по правде говоря, будь уверен, что мы не развлекаемся пожеланием этого чуда.
— Это может быть только вследствие недостатка темперамента. М.М. в этом отношении тебя превосходит; она предпочла меня С.С.; но ты не предпочтешь меня подруге, которая у тебя есть в монастыре.
— Нет, конечно, ведь с тобой я нарушаю свои обеты и ввергаю себя в последствия, которые заставляют меня дрожать каждый раз, когда я об этом думаю.
— Ты меня, значит, не любишь?
— Как можешь ты так говорить? Я тебя люблю. Так что даже сожалею, что ты не женщина.
— Я тебя тоже люблю, но твое желание меня смешит. Я не хотел бы стать женщиной, чтобы тебе понравиться, тем более, что, став женщиной, я уверен, я не находил бы тебя столь прекрасной. Сядь поудобнее, моя любезная подружка, и позволь мне полюбоваться, как твои красивые волосы покрывают половину твоего прекрасного тела.
— Охотно. Надо, наверное, чтобы я спустила рубашку?
— Конечно. Как ты прекрасна! Позволь мне присосаться к сладким хранилищам твоего молока.
Позволив мне это наслаждение и глядя на меня с наибольшей снисходительностью, сжимаемая в моих объятиях, не замечая, или делая вид, что не замечает, того великого наслаждения, которое я испытываю, она сказала, что если бы можно было соединить с дружбой подобные удовольствия, она бы предпочла ее любви, потому что никогда в жизни не испытывала в душе более чистой радости, чем та, которую я причиняю ей, прижимаясь таким образом к ее груди.
— Позволь, — говорит она, — чтобы я сделала тебе так же.
— Ну вот, мой ангел, но у меня там ничего нет.
— Неважно.
Мы смеемся.
Получив удовлетворение, мы проводим с четверть часа, осыпая друг друга поцелуями. Я больше не могу.
— Скажи мне правду, — обращаюсь я к ней. — В огне этих поцелуев, в этих движениях, что мы назвали бы ребяческими, не ощущаешь ли ты желания гораздо более сильного?
— Скажу тебе, что ощущаю, но оно преступно; и я уверена, что ты ощущаешь то же самое, мы должны прекратить эти опасные забавы. Наша дружба, мой дорогой малютка, становится любовью. Не так ли?
— Да, любовью, и любовью непреодолимой. Сделаем ее осознанной.
— Наоборот, мой дорогой друг, прекратим. Впредь будем осторожны, и не станем ее жертвами. Если ты меня любишь, ты должен держаться того же мнения.
Говоря так, она подобрала свои волосы и, убрав их под клобук, с моей помощью подняла свою рубашку, грубое полотно которой мне казалось недостойным нежности ее кожи; я сказал ей об этом, и она ответила, что, привыкнув, она этого не замечает. Моя душа пребывала в наибольшей растерянности, потому что страдание, которое причиняла мне моя сдержанность, казалось мне намного большим, чем та радость, которую я испытывал от этого наслаждения; однако мне надо было быть уверенным, что я не встречу ни малейшего сопротивления, а я в этом не был уверен. Измятый розовый бутон испортил бы наслаждение известного Сминдирида, сибаритянина[51], который любил нежность ее ложа. Мне же казалось лучше страдать от кары и уйти, чем рисковать встретить такой розовый бутон, который не устроил бы сладострастного сибарита. Я ушел, влюбленный до потери сознания. В два часа утра я пришел к себе и проспал до полудня.
Ледюк дал мне записку, которую должен был передать перед тем, как я лег спать. Он забыл. М-м Z мне писала, что ждет меня в девять часов и будет одна. Что она дает ужин, и что уверена, что я ее там увижу, и что потом она уезжает. Она надеется, что я также уеду, или, по крайней мере, я провожу ее до Шамбери.
Хотя я ее еще любил, все три предложения этой записки меня рассмешили. Уже не было больше времени идти с ней завтракать. Я не мог прийти на ужин из-за моей монахини, к которой в данный момент испытывал более сильное чувство, и тем более не мог сопровождать ее до Шамбери, потому что могло случиться так, что я не мог бы удалиться от М.М.
Я застал ее в ее комнате, за минуту до обеда. Она была в ярости. Она ждала меня к завтраку. Я сказал ей, что всего час назад получил ее записку; и она вышла, не дав мне времени сказать, что не могу обещать ей ни ужина вместе с ней, ни проводить ее до Шамбери. За столом она на меня дулась, и после обеда маркиз де Прие сказал мне, что есть новые карты, и что вся компания хочет увидеть меня за тальей. Появились вновь прибывшие утром дамы и господа из Женевы, я пошел взять денег и устроил им банк из пяти сотен. К семи часам я потерял более половины, но, тем не менее, остановился, положив остаток в карман. Метнув грустный взгляд на м-м Z, я вышел переложить мое золото к себе, и затем пошел в хижину, где увидел моего ангела в большой кровати, совсем новой, и другое красивое ложе, по древнеримскому образцу, возле большой кровати, — для меня. Я посмеялся над тем, как контрастировала эта мебель с убожеством помещения, где мы находились. В качестве благодарности, я дал крестьянке пятнадцать луи, сказав, что это за все то оставшееся время, что М.М. будет жить на ее пансионе, но она не должна больше ничего тратить на мебель.
Таков, я думаю, в основном, характер большинства игроков. Я, может быть, и не дал бы ей такой суммы, если бы выиграл тысячу луи. Я же проиграл три сотни, и мне казалось, что я выиграл те две сотни, что у меня остались. Я дал ей пятнадцать, представив, что плачу их на выигравшую карту. Я всегда любил тратить, но никогда не ощущал себя столь щедрым, как когда был захвачен игрой. Я ощущал самое большое удовольствие, давая деньги, которые мне ничего не стоили, кому-то, для кого это являлось счастливым случаем. Я купался в радости, видя благодарность и восхищение на благородном лице моей новой М.М.
— Вы, должно быть, — сказала она, — необычайно богаты.
— Не заблуждайтесь. Я люблю вас страстно, и это все. Не имея возможности ничего дать вам самой, по причине вашего обета, я щедро расточаю то, что получаю, этой доброй женщине, чтобы заставить ее сделать вас более счастливой в те оставшиеся несколько дней, что вы будете жить у нее. Вы должны, если не ошибаюсь, рикошетом любить меня все это время еще больше.
— Я не могу любить вас больше. Я несчастна теперь, лишь когда думаю о том, что должна вернуться в монастырь.
— Вы читали мне вчера, что эта мысль делает вас счастливой.
— И именно в течение вчерашнего дня я стала другой. Я провела очень жестокую ночь. Я не могла спать, не ощущая себя в ваших объятиях, я все время просыпалась, вздрагивая, в момент, когда совершала самый тяжкий из всех грехов.
— Вы так не боролись перед тем, как совершить его с человеком, которого вы не любите.
— Это правда, но это действительно потому, что я его не любила, и не думала поэтому, что совершаю преступление. Представляете себе, мой милый друг?
— Это метафизика вашей чистой души, божественной и невинной, которую я прекрасно понимаю.
— Спасибо вам. Вы переполняете меня радостью и благодарностью. Я счастлива, когда думаю, что вы не находитесь в состоянии ума, сходном с моим. Я теперь уверена, что обрету победу.
— Не стану с вами спорить, хотя это меня и огорчает.
— Почему?
— Потому что вы считаете себя обязанной лишить меня несущественных ласк, которые, однако, составляют счастье моей жизни.
— Я думала над этим.
— Вы плачете?
— Да, и более того, мне дороги эти слезы. Мне надо попросить вас о двух милостях.
— Спрашивайте, и будьте уверены, вы их получите.
Примечания
1
низкопробный кабак с танцами — прим. перев.
(обратно)2
извалявшись в земле — Гораций.
(обратно)3
посла — прим. перев.
(обратно)4
Их Высокопревосходительств — титул Генеральных Штатов Голландии.
(обратно)5
свежую треску.
(обратно)6
эпический жанр VII–VIII в.
(обратно)7
религиозное сообщество — моравские братья
(обратно)8
Выборщик от Баварии на выборах императора Священной Римской империи.
(обратно)9
Будь неприятен другим, чтобы пребывать в уверенности (Тибулл).
(обратно)10
Ариосто: «Неистовый Роланд».
Были явлены самые редкостные красоты Олимпа; не только чело, но и глаза, щеки, волосы были прекрасны; ее рот, ее нос, ее плечи и горло; но ниже грудей, части ее тела, которые обычно прикрывают, были столь совершенны, что, в сравнении со всеми возможными чудесами они выглядели более незапятнанными, чем свежевыпавший снег, более нежными наощупь, чем слоновая кость: небольшие округлые груди сочились молоком…(и т. д.).
(обратно)11
что-то нецензурное — перев.
(обратно)12
освящена богом — перев.
(обратно)13
Вот дверь. Надежда и случай, прощайте. Мне нечего больше делать с вами, играйте с другими. (обратно)14
двухместная коляска.
(обратно)15
четверть су.
(обратно)16
в пьесе Вольтера — прим. перев.
(обратно)17
Казанова — прим. перев.
(обратно)18
имение Вольтера.
(обратно)19
Эта часть Мемуаров, повидимому, была написана уже после Революции — прим. перев.
(обратно)20
русская царица — прим. перев.
(обратно)21
Предположительно, Казанова болел сифилисом два раза — прим. перев.
(обратно)22
легендарные возлюбленные Анакреона, которым посвящены его оды — прим. перев.
(обратно)23
Откажись от короны.
(обратно)24
Роковая старость.
(обратно)25
Однажды, вспоминая о ней, испытываешь удовольствие. Из Вергилия.
(обратно)26
я не нашел перевода — прим. перев.
(обратно)27
разглаживая нахмуренные лбы — Гораций.
(обратно)28
Богу всемилостивейшему и величайшему, армия Шарля, славного и храброго герцога Бургони, который осадил Мюрат и был изрублен швейцарцами, поставила этот монумент в году 1476.
(обратно)29
Основанием для веселья автора послужило, быть может, то, что слово «sui» (его) — родительный падеж местоимения, относящегося к третьей персоне, могло бы быть воспринято злым шутником как дательный падеж единственного числа «sus, suis» — «свинья», откуда получается смысл: «поставил этот монумент свинье» — прим. Издателя.
(обратно)30
Сомневаюсь, что память остается после смерти — Альбрехт фон Галлен.
(обратно)31
Я постараюсь, чтобы тот, кто разоблачает священные тайны Цереры, не жил со мной под одним кровом — Гораций
(обратно)32
«Издали — это нечто, а вблизи — ничто» (Лафонтэн) — замечание Казановы на полях.
(обратно)33
потому что от смерти нет лекарства.
(обратно)34
Все, что красиво — трудно.
(обратно)35
Mesdames de France.
(обратно)36
речь идет о работе Альгаротти «Путешествие в Россию», вышедшей в Париже в 1763 году. Прим. перев.
(обратно)37
персонаж из «Неистового Ролланда» Ариосто. Прим. перев.
(обратно)38
Это происходит лишь между принцами и синьорами.
(обратно)39
игра слов: апофеоз — также приобщение к лику святых. Прим. перев.
(обратно)40
Ариосто, «Неистовый Роланд», песнь XXIII, стр. 122, т. 1: — Поскольку дать свободно течь своему страданию позволено тому, кто остался один и не сдерживается более из уважения к другим, он дал истечь из глаз, пересекая щеки, потоку слез на свою грудь.
(обратно)41
дурно пахнет.
(обратно)42
«так, что, может быть, и проснется однажды в новом облике. — Ариосто, „Неистовый Роланд, песнь XXIV“».
(обратно)43
поместье Вольтера. Прим. перев.
(обратно)44
Белый Зуб — Монблан.
(обратно)45
«Поднятая бадья».
(обратно)46
Поэтому он и ловит рыбу — из Горация.
(обратно)47
Как радуются те, кто хорошо снабжен от рождения
(обратно)48
испанская монета.
(обратно)49
Удовлетворись несколькими читателями — Гораций, Беседы.
(обратно)50
Так ты и ловишь рыбу — из Горация.
(обратно)51
персонаж басен Элиана.
(обратно)
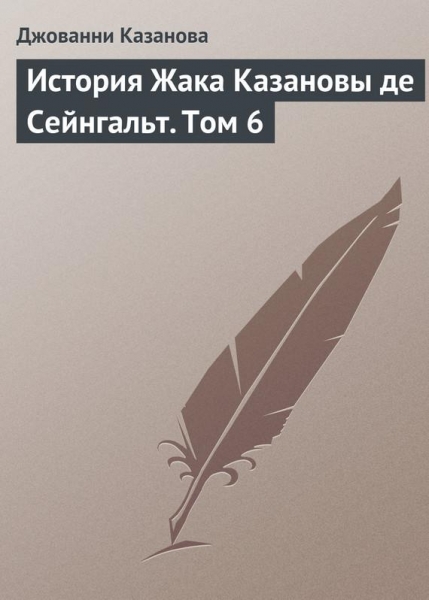



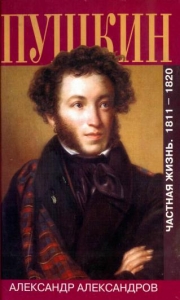
Комментарии к книге «История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 6», Джакомо Казанова
Всего 0 комментариев