"Дай мне точку опоры, и я переверну землю", — говорил Архимед из Сиракуз, разгадавший головоломку ‹определения› положения центра тяжести различных фигур и тел. Грегори Корсо тоже полон яростного желания перевернуть землю, но по совершенно иной причине — он все больше и больше теряет точку опоры в жизни. Алкоголь, а затем наркотики подорвали его организм, подкосили его кошачью живучесть. Помню, несколько лет назад мы катались с ним по ночному нью-йоркскому сабвею — аж от самого Бэттери-парка до Бронкса, — и Грегори читал свои стихи, прогуливаясь на руках по трясущемуся вагону, приводя в ужас запоздалых пассажиров. Полы его рубахи, выбившейся из-под брюк, подметали мусор, накопившийся за день в подземке. Грегори чертыхался. Пыль забивалась ему в глаза, нос, рот, мешала читать.
— Грег, сними рубашку, — сказал я.
Корсо мой совет понравился. Он оголился по пояс, швырнув грязную рубаху на сиденье. Дамочка средних лет в очках с разлетистой оправой и цепочкой-страховкой отскочила в сторону как ужаленная. Смуглое тело Грегори было вышито рубцами и шрамами, как косоворотка, вышитая крестиками. Недаром его называют американским Франсуа Вийоном. Правда, Грег никого не убивал на дуэли, но по воровским притонам и тюрьмам проваландался не один год.
У нечестивца Франсуа был всего один приемный отец — капеллан Гийом де Вийон. У Грегори их было целых четыре. Его родители, несостоявшиеся Ромео и Джульетта — когда Грег появился на свет, отцу было семнадцать лет, а матери шестнадцать, — жили в Гринич-Виллидже на Бликкер-стрит, где сходятся районы итальянской бедноты и артистической богемы. Родители Грега были из числа первых. Мать бросила годовалого малыша и, не найдя работы, вернулась — в Италию. Отец канул в безвестность. Детство Грега прошло в приютах, отрочество — в исправительных колониях для несовершеннолетних, юность — в тюрьмах. Впрочем, хронология эта не совсем точная. Двенадцатилетнего мальчика не назовешь юношей, а Грегу было всего двенадцать лет, когда его заперли в знаменитую нью-йоркскую тюрьму "Тумбз", то есть "Могилы" (Грег украл транзисторный радиоприемник). Название тюрьмы вполне исчерпывающе говорило само за себя. Через некоторое время выходец из "Могил" попал в "Белвью". Это не фешенебельный отель на берегу Женевского озера, в котором обычно останавливаются высокопоставленные дипломаты и туристы-толстосумы, а его тезка — крупнейший дом для умалишенных в Нью-Йорке, место пострашнее любой "Могилы".
Наконец врачи установили, что с башкой у Грега все в порядке, если не принимать всерьез теорию Ламброзо о врожденной преступности и пресловутых "стигматах". Грега выставили из "Белвью" на улицу. Было ему тогда тринадцать лет. Оглядевшись, он примкнул к шайке ирландцев, шуровавших в районе сотых стрит и Лексингтон-авеню. Затем переметнулся в компанию вундеркиндов-мафиози несколько пониже к Ист-Ривер, в кварталы тех же сотых стрит и Третьей авеню. Как-то шатаясь по кабакам Сорок второй улицы, втиснутым между большими, но дешевыми кинотеатрами, Грег познакомился с двумя уголовниками, бежавшими из Техаса. "Это были крупные птицы, и дело, в которое они меня втянули, тоже было крупным", — вспоминал Корсо. Крупное дело — вооруженное ограбление — провалилось. Птицы угодили в клетку, птенец тоже.
Три года просидел Грегори в тюрьме "Клинтон", ставшей его университетом. Здесь он впервые стал читать, писать, а главное, "чувствовать и думать". Прочел "Братьев Карамазовых" Достоевского, "Красное и черное" Стендаля, "Отверженных" Гюго… "Меня и раньше тянуло к бумаге, но там, на воле, люди вокруг говорили, что для поэта нет места в этой жизни. Надо делать дело, а не марать обои. Стишки сочиняют только неудачники… В тюрьме не до бизнеса. В тюрьме ты на социальном обеспечении. Харч к столу твоему поставляет дядюшка Сэм. К тому же, попав за решетку, ты уже автоматически становишься неудачником и можешь позволить себе роскошь карьеры стихоплета".
Харч в "Клинтоне" к столу Грега поставлял дядюшка Сэм. Это, конечно, так. Hо дядюшка Сэм двулик, как Янус, и многорук, как Кришна. Он избивал новорожденного поэта, окунал головой в парашу, требовал душу в обмен на пайку. Hо душа Корсо была уже вне пределов его власти, вне достигаемости его карающей и загребущей десницы. "Она принадлежала маленькой Козетте, большой, как бесконечность. А я был Жаном Вальжаном. Я гордился желтым билетом отверженности, радовался, что обменял украденные серебряные подсвечники на золото света…"
Грегу было двадцать лет, когда его выставили за ворота "Клинтона". "Я вышел на волю, влюбленный а Чзттертона, Марлоу, Шелли…" Неожиданно, невесть откуда вновь материализовался отец Корсо. Однако возвращение блудного сына не состоялось. Пожив дома всего два дня, Грег навсегда покинул его. Днем подрабатывал в "Портновском квартале" Hью-Йорка на Седьмой авеню, а вечерами просиживал в темных и пустых барах Гринич-Виллиджа над своими "тюремными поэмами". Там-то "однажды ночью 1950 года" состоялась первая встреча Корсо с Алленом Гинзбергом. Верлен нашел Рембо. Литературные сейсмологи зафиксировали первые, пока еще очень слабые, еле уловимые толчки зарождения "бит дженерейшн" — поколения битников. В том же 1950 году Джек Керуак опубликовал свой первый роман — "Городок и город". Гинзберг, Керуак, Корсо… Они стали тремя китами, на которых в течение целого десятилетия опиралось движение битников — их литература, философия, образ жизни и… безобразие.
"Аллен был первым человеком, который отнесся ко мне с нежностью и добротой. Он первый открыл мне глаза на социальную безнравственность законов, чеканящихся в Вашингтоне, первым приоткрыв для меня книгу современной поэзии…" В этой книге не было места для "Портновского квартала" на Седьмой авеню, не было места и для андерсеновских портняжек жуликов, обманывавших голого короля и разодетую знать, раздевавшую своих подданных — голь перекатную. Грег перебирается на Западное побережье. Работает репортером в лос-анджелесском "Икззминере", где ведет рубрику о таксистах. Одновременно подрабатывает в городском морге.
Семь месяцев выхлопных газов и трупного смрада. А рядом океан — Тихий, великий. А за океаном неведомые страны и континенты — тихие и бурлящие, великие и малые. Американский Артюр Рембо нанимается на корабль. Это еще не "Пьяный корабль", а вполне респектабельное судно норвежских пассажирских линий. Hо Грегу наплевать на классовое общество корабля, остающегося трезвым как стеклышко даже в девятибалльной качке и в гейзерах блевотины. Он не водит компанию с обитателями кают-компании, не вращается в кругах. Спасательных и душеспасительных.
Корсо долго скитался за морями. Побывал в Южной Америке и Африке. Жил в Англии, Франции, Западной Германии, Италии, Греции. Hо, как бумеранг, неизменно возвращался на родину. Однако в отличие от Рембо, начавшего свое бродяжничество вагабундом, продолжившего его конкистадором и закончившего агентом какой-то торговой фирмы в Эфиопии, познавшего "Озарения", чтобы ослепнуть от пыли конторских книг, прошедшего "Сквозь ад", чтобы стать заурядным коммерсантом, Корсо возвращался на родину тоже побитым, но по-прежнему битником. Впрочем, родина — Соединенные Штаты Америки, горделиво раскинувшиеся от океана до океана, — сжалась, сморщилась для Грега, словно бальзаковская шагреневая кожа, до размеров Гринич-Виллиджа в Нью-Йорке и Хэйт-Эшбери в Сан-Франциско, что по иронии судьбы и чисто географически тоже было "от океана до океана". Корсо возвращался на родину, чтобы "бездельничать, пьянствовать и спать на крышах домов". В Соединенных Штатах писать стихи — значит бездельничать…
Hо поколение битников росло и множилось вопреки и наперекор "золотой эре Эйзенхауэра". Тлевшее до поры до времени в небольших кварталах богемы больших городов, оно, подобно лесному пожару, стало распространяться по всей стране, становясь где потребностью, где привычкой, где просто модой, а где и тем, и другим, и третьим. Есть нечто парадоксально-закономерное в том, что "открытие" Корсо как поэта произошло не в Гринич-Виллидже или Хэйт-Эшбери, а в не Лоуренсом Фирлингетти, ангелом-хранителем почти всей современной "неконформистской" американской литературы, в его знаменитом издательстве "Сити лайтс" в "Карманной поэтической серии", а в "Гарвардском адвокате" за счет частных пожертвований богатых питомцев Гарвардского университета и не менее богатых питомиц Рэдклиффского колледжа, поставляющих Америке президентов страны и корпораций и их интеллектуально-фотогеничных подруг жизни, вернее, — специалистов по рекламе и партнеров по ведению избирательных кампаний. Как говорят у нас в Грузии, "крепость всегда раскалывается изнутри…"
Книга называлась "Леди-весталка". Ею зачитывались. В ней все было ново, свежо, неожиданно. Ведь питомцы Гарвардского университета и Рэдклиффского колледжа никогда не сидели в "Тумбз" или в "Бэлвью", не дневали в моргах (если, конечно, не учились на медиков) и не ночевали на крышах домов (если, конечно, не учитывать "воздушные площадки" пент-хаузов). Так, наверное, ровно пятьсот лет назад слушатели Сорбонны восхищались "Малым завещанием" Франсуа Вийона, сатирической поэмой-пародией, написанной в форме юридического документа-завещания, содержащего исповедь студента-бродяги. В нем всем сестрам доставалось по серьгам: "вывески лавчонок с намалеванными на них жирными гусями — для нищих монахов, мыльные пузыри — для парижских священников".
Хроника свидетельствует, что Вийон принимал участие в поэтических турнирах при дворе герцога Карла Орлеанского. Почему бы Корсо американскому Вийону не заниматься тем же при гарвардском дворе? Зачем поучать, когда можно приручать? Тем более что трубадур "Леди-весталки" еще не читал Дьюи и Киркъегора и никогда не носил галстук? Hо у Вийона, кроме "Малого завещания", было еще и "Большое завещание". В нем было меньше юмора и больше сарказма, меньше веселья и больше горечи. В нем говорилось о злой нужде — "матери всех преступлений". Оно было населено ворами и бродягами, пьяницами и проститутками, которым, конечно, не место при дворе герцога Карла Орлеанского. (Там свои воры, пьяницы, проститутки — титулованные, респектабельные). Hе место ни в буднях, ни в будуарах и уж тем более в поэтических турнирах.
"Большое завещание" зрело и у Корсо. Оно тоже обещало быть испепеляющим. Об этом говорило уже одно его название — "Бензин". От него несло не только горечью, но и гарью. Оно было огнеопасным. "Гарвардский адвокат" при всей своей широте взглядов вряд ли бы осмелился защищать его, а тем более издавать. Презрев пескарскую премудрость Дьюи и Киркъегора и прикладную эстетику галстуков — "нагой, как червь, пышней я всех господ", сказал бы Вийон, — Корсо покидает Гарвард, Кембридж, штат Массачусетс, и отправляется в Сан-Франциско, штат Калифорния, ориентируясь на огонек папаши Фирлингетти.
Календарь показывал 1956 год. В тот год на огонек Лоуренса Фирлингетти, похожего на обедневшего абхазского дворянина-джентльмена, никогда не расстающегося с папахой — и при черкеске, и в европейском костюме, — со всех концов Америки стекались пророки набиравшего силу и темп, но еще не конституировавшегося "бит дженерейшн". В помещении издательства "Сити лайтс" — дом № 261 по Колумбус-авеню — начались поэтические вечера-чтения, в которых принимали участие "киты" — Гинзберг, Керуак, Корсо. Затем к ним присоединились Кэри Снайдер, Филип Уэлен, Вильям Барроуз и другие. Поколение битников заговорило во весь голос и на всю страну. Стало литературным течением и политическими фактором.
"Мы покинули звездное небо, чтобы отдраить палубу земли!" — восклицал Грег. "Тень Джона Фостера Даллеса висит над Америкой, как грязное белье! Если тебя ограбил банкир, не беги за помощью к фараону на перекрестке!" предупреждал Аллен. Битники, не оглядываясь во гневе, яростно трясли древо познания, обрушивая на голову обывателя крупный град искусительных адамовых яблок. Голова обывателя была стерильной, как фильмы с участием "всеамериканской душеньки" — Дорис Дэй, как операционные госпиталя "Маунт Синай" в Нью-Йорке, как песенки, льющиеся из репродукторов Диснейленда под Лос-Анджелесом. Яблони были с червоточинкой.
Подобно тому как "потерянное поколение" вышло из шинели солдата первой мировой войны, поколение битников вышло из льдов "холодной войны". В отличие от "потерянных" битники были задиристыми. Мне не кажется случайностью, совпадением тот факт, что у "потерянных" тон задавали прозаики, а у "бит дженерейшн" — поэты. Первые рефлектировали, вторые агитировали. Первые махнули рукой на жизнь после драки, вторые замахивались кулаками, готовые драться за жизнь. Первые были пацифистами, вторые активистами антивоенного движения. Первых преследовали иприт и фосген, вторые преследовали атомную и водородную бомбы. "Америка тратит деньги, чтобы совершить переворот против Человека с большой буквы", — писал Гинзберг в программном стихотворении "Кто захватит власть над Вселенной?". Он выворачивал наизнанку людоедскую мораль империализма янки, который, шагая по колено в крови, прикидывался идущим по воде Христом. Он костил "Стандард ойл", распространяющую раковый метастаз колониализма на Арабском Востоке, и "Юнайтед фрут", сосущую жизненные соки Латинской Америки; "фарисеев из конгресса и издательских монстров"; Торговую палату, изгнавшую бога из храма вопреки библии, и Боба Хоупа, "юмор которого звучит законспирированной паранойей неандертальца, прикоснувшегося к Фрейду своими суперразвитыми надбровными дугами".
Поэзия Корсо, гремевшая под сводами "Сити лайтс" — дом 261, Колумбус-авеню, Сан-Франциско, штат Калифорния, США, — тоже пахла не фиалками, а бензином. Он эволюционировал от Жана Вальжана к Гаврошу, и хрупкое дитя — Козетта являлась его воображению уже в виде Свободы на баррикадах с бессмертной картины Эжена Делакруа. Он читал стихи о миллиардерах, избравших своим папой римским Бернарда Баруха, и миллиардах голодающих, божество которых — рахит и дистрофия; о том, что духовная жизнь Америки стала газовой камерой для индивидуумов и душегубкой для масс, что он бродит по стране с тенью Д. Эдгара Гувера и электрическим стулом за спиной; об Американской медицинской ассоциации, "изводящей народ патентованными средствами", и телевизионных магараджах, делающих то же самое с помощью "идиотских мыльных опер и шоу — ужасов, населенных коммунистами и франкенштейнами"; об омерзительных ужимках Голливуда, нокаутирующего все человеческое ослепительной белизной своей вставной челюсти и хищных зубов, запломбированных вперемежку Гитлером и Глорией Свенсон, Муссолини и Клодетт Колбер; о Херсте и Маккормике, "сеющих в наши уши семя — стрихнин".
Hо ГЛАВHОЙ мишенью битников была бомба — атомная, термоядерная. Бомба в пятидесятых годах была для Америки тем, чем стал для нее в шестидесятых Вьетнам. "Бит дженерейшн" бросало своего Пегаса на бомбу, как пришедшее ему на смену "рок дженерейшн" штурмовало Пентагон с гитарами наперевес. "Дайте миру шанс" — эта песня Джона Леннона, наиболее левого из четверки "битлзов", стала гимном антивоенных вьетнамских шестидесятых годов. Антивоенным манифестом пятидесятых была поэма Грегори Корсо "Бомба", опубликованная все тем же папашей Фирлингетти во все той же книжной лавке "Сити лайтс".
"Бомба" звучала как заклятие и проклятие одновременно. Бомба, "похититель истории и разрушитель времени", восклицал Корсо, все человечество ненавидит тебя! Я не знаю, как выглядит смерть, которую ты несешь. Я лишь пытаюсь представить себе ее. Представить, как после твоего взрыва гигантские океанские черепахи летят над Стамбулом; как ягуары из джунглей падают бездыханными на арктический снег; как пингвины расшибаются о камни, из которых сложен Сфинкс аравийских пустынь; как шпиль "Эмпайр стейт билдинг", отсеченный от своего стоэтажного лука, вонзается гигантской стрелой в капустные грядки на Сицилии; как Эйфелева башня сгибается буквой "С"; как Софийский собор обрушивается на суданские хижины; как электроны, протоны, нейтроны, словно римская чернь, заполнили амфитеатр Колизея, наслаждаясь последней кровавой схваткой гладиаторов, опуская большой палец вниз обрекая их на смерть.
О бомба, бомба, я ненавижу твое чрево, исклеванное стервятниками, искусанное гиенами. Ненавижу твое чрево-кокон, которому никогда не стать мостом между гусеницей и бабочкой. Ненавижу твое развороченное чрево, из которого вываливаются кишки фантастических достижений технического гения человеческой цивилизации…
Мне не довелось слушать "Бомбу" в авторском исполнении. Лишь отрывки из нее в чтении Гинзберга. И с его комментариями. "Помните, — говорил он, что детонатор бомбы шипит на английском языке с американским произношением… Если когда-либо Америке будет отказано в бессмертии, то это отцеубийство совершит ее собственный сошедший с ума сын — водородная бомба!"
Писать "Бензин" в Соединенных Штатах, над которыми, как грязное белье, висела тень Джона Фостера Даллеса, обезвреживать "Бомбу" в Америке с тенью Эдгара Гувера и электрическим стулом за спиной было небезопасным занятием. Говорят, что саперы ошибаются лишь раз в жизни. Нечто подобное происходит и с поэтами. (И далось же им — на кой черт — это смертоносное "право на ошибку!"). Корсо покидает Соединенные Штаты и перебирается в Мексику. Вскоре к нему присоединяется Гинзберг и Орловски. Hо бежать в Мексику от Эдгара Гувера — это все равно, что бежать от Александра Христофоровича Бенкендорфа на Кавказ. Всевидящие глаза и всеслышащие уши трехбуквенного ФБР — американского "Третьего отделения" не очень-то церемонились с государственными границами страны, приставшей беззащитным коралловым наростом к бортовой обшивке гигантского корабля "Штат Техас". И вот уже другое судно, не знаю каких там еще пассажирских линий, вновь увозит американского Вийона и Рембо за океан, во Францию…
Тема смерти всегда присутствовала в творчестве Корсо. Однако до поры до времени он относился к ней или как к противнику — в социально-политическом плане, или как к объекту насмешки — в плане философском и бытовом. (Вийоновское: "И сколько весит этот зад, узнает скоро шея"). Он был накоротке со смертью, не раз видел ее вблизи, даже состоял с ней в морганатическом браке — сознаюсь, каламбур не из лучших, — и все-таки жажда жизни, присущая молодости неизменно брала верх. Hо игра "младой жизни" у гробового входа — опасная игра. Равнодушная природа становится природой равнодушия. Монолог над черепом Йорика затягивается до бесконечности, и в результате акценты начинают смещаться — взор могильщика превращается в могильный юмор.
Мне не хочется ни гадать, ни тем более заниматься вульгарной социологией. Я просто не знаю, кто победил Грега: бомба или шприц, радиоактивный пепел или щепотка героина. Иногда "мировая скорбь" поэта начинается с болезни, подхваченной на Плас-Пигаль, в Сохо или на Бродвее. Шутки Генриха Гейне, намертво прикованного к постели, уже не сверкали ни весельем путешествий но Гарцу, ни сарказмом зимних Сказок Германии… Поэтому я ограничиваюсь простой констатацией: после "Бензина" и "Бомбы" Корсо выпустил сборник стихов "Счастливый день рождения смерти". В творчестве Грега сборник был переломным. С его страниц вставал и падал, расшибаясь в кровь, сломленный поэт. Тот самый Корсо, который когда-то мог читать свои стихи, лихо прогуливаясь на руках по трясущемуся вагону нью-йоркского сабвея — аж от самого Бэттери-парка до Бронкса, — сейчас аплодировал самому себе лишь за то, что ему удается переходить улицу. Иногда. Он писал о себе, как о безногом поэте в безногом мире, разгадка которого ведома одной только смерти. "Ничто было всегда. Было и будет. Ничто громоздится на ничто в ничто многих ничто, которыми правит ничто". Это страшно. Это из "Вымаранных строк о вымаранной жизни". Он писал о себе, как о безволосом поэте, как о лишенном силы Самсоне, отчаянно скребущемся сломанными ногтями в дверь магазина, торгующего париками.
Он писал о мире, в котором "ампутируют розы" и топят Данте "в медовых лужах"; о мире, в котором девушек водят не в кино, а на кладбище, ибо любоваться звездным небом можно лишь в одном положении — лежа на могильной плите… Он писал о мире, мусорные ящики которого задыхаются от битых пластинок Баха и стен Парфенона, где любовь изнашивают, как башмаки, натянутые на протезы, как башмаки, раскисшие от мочи и блевотины. Он писал о мире, в котором боги приходят в бешенство, когда люди начинают думать, а дети умирают, когда открываются окна. Писал о распятой доброте и об отчаянии, оклеивавшем душу, как театральные афиши, об ортопедических креслах — "основном виде передвижения в наш век научно-технической революции".
Стихи Грега — белые и рифмованные — все более пропитывались трупным смрадом.
Буквально в каждой строке, даже разбитой лесенкой, кто-то обязательно умирал. Умирали слоны и поэты, чайки и клоуны. Двадцать клоунов, пятьдесят клоунов. Наконец все клоуны. Смерть, похожая на хвост макаки, вертела насаженной на него планетой, населенной людьми, которых уже некому было смешить. Да и незачем. Она увековечивала зиму и объявляла вне закона весну.
Смерть! Смерть! Смерть! Смерть! Смерть, заливающая глаза свинцом! В мертвых парках играют мертвые дети. Мертвые лошади жуют мертвое сено. Смерть — король и смерть — королева… Так давайте же все умрем, Чтоб отомстить смерти! Пусть и она побудет в пиковом положении!Стихи Грегори Корсо все больше превращались из литературного феномена в клинический, а их автор…
Я смотрю на Грега сквозь толстое выпуклое стекло студии звукозаписи. Он полулежит на грязном полу, прислонившись спиной к коленям Питера Орловски, беспрестанно балансирующего на грубо сколоченном и некрашеном табурете. Грег пытается приноровиться к вибрации ненадежной точки опоры, подобрать ключ к ее ритмике. Тщетно. Раздосадованный, он чертит пальцем по паркету какие-то бессмысленные фигуры, которые затем исчезают под подошвами непоседы Пита. (Когда легионы Марцелла штурмовали Сиракузы, Архимед в пылу сражения выводил на песке формулы. Он был убит римским солдатом и пал со словами: "Hе трогай моих чертежей!").
Смуглое лицо Корсо совсем почернело. Легкая седина небритой щетины еще больше подчеркивает угольный цвет его кожи. Вены на шее вздулись до размеров веревки, на которой обычно сушат белье итальянские домохозяйки от Неаполя до Нью-Йорка. Глаза сдвинулись вглубь, словно пытаются пробиться в иной мир через затылок. Образовавшуюся пустоту заполняют брови, сросшиеся над переносицей. Hо самое страшное — это рот и челюсть. Беззубый рот старика и отвалившаяся челюсть мертвеца.
Я не слышу, что и как поет Грегори, но я чувствую, что он шамкает. И от этого становится нестерпимо больно. Шамкает запевала и горлодер поколения битников! Он так и не решил задачу об определении количества золота и серебра в жертвенной короне Гиерона, не выскочил из ванны и не побежал домой нагишом с криком: "Эврика!".
Еженедельник "HЕДЕЛЯ",
№ 15 (839), 1976 г.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




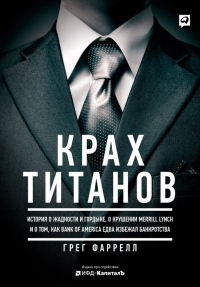

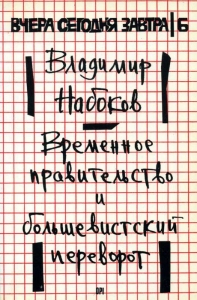
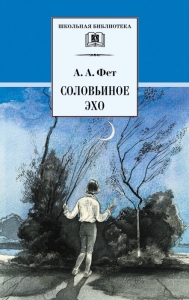
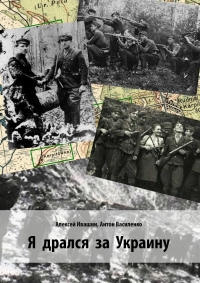

Комментарии к книге «Конец Грегори Корсо (Судьба поэта в Америке)», Мэлор Георгиевич Стуруа
Всего 0 комментариев