Об огнях-пожарищах
Не первая атака
I
Солнце уже высоко поднялось над дымным горизонтом, когда Сергей Деревянкин, голодный, измученный и грязный, вернулся из полка, который с тяжелейшими боями форсировал Дон и занял плацдарм на его западном берегу. Надо бы хоть немного поспать, поесть, обсохнуть, успокоиться… Надо! Даже солдаты, участвовавшие в штурме вражеских позиций, после боя приводят себя в порядок, отдыхают. А он не может. Никак, ни при каких условиях. Журналистский долг требует, чтобы обо всем увиденном и пережитом было сегодня же напечатано в газете. Вся дивизия должна узнать о событиях, происшедших ночью, о наиболее отличившихся солдатах и командирах. О новой победе советского оружия.
Сергей сам это прекрасно понимает. А тут еще редактор стоит над душой, вопрошающе смотрит на него: газету давно пора запускать в печать, а полоса, оставленная для очерка Деревянкина, пуста. Никто, кроме тебя, не напишет.
Ждет машинистка, ждут наборщики, печатники, экспедитор, работники полевой почты…
Ждут тысячи читателей. А ты медлишь…
Деревянкин с трудом разомкнул веки, тяжело опустился на пенек.
Ноги гудят, стучит в висках. Голова словно чугунная. Надо заставить себя вспомнить… От начала и до конца. Со всеми подробностями. Во всех деталях. Вспомнить и написать. Надо, надо!
Деревянкин встряхивает головой, прижимает ладони к вискам. Напрягает память, и перед его мысленным взором оживают картины вчерашнего дня…
II
— Батальон, смирно! — громко скомандовал старший лейтенант. Подчеркнуто четко повернулся направо, стараясь не показать, как болит раненая нога, ступая особенно четко, строевым шагом подошел к командиру полка Казакевичу, комиссару Мурадяну.
Утреннее донское солнце скользнуло по истрепанным, но до блеска начищенным сапогам комбата. Он резко вскинул руку к выцветшей, лихо надвинутой на бровь пилотке:
— Товарищ подполковник, батальон по вашему приказанию построен! Докладывает командир батальона старший лейтенант Даниелян.
— Здравствуйте, товарищи!
— Здравия желаем, товарищ подполковник!
— Вольно!
— Вольно! — обернувшись к поредевшему в недавних боях батальону, по-мальчишески звонко крикнул комбат.
Сам он еще некоторое время оставался в положении «смирно», внимательно и строго глядя на бойцов, на командира роты лейтенанта Антопова, на взводного младшего лейтенанта Германа, на отличившихся в контратаке рядовых Захарина, Бениашвили, Черновола. И они, уловив нечто чрезвычайное и в голосе комбата, и в его блестевших глазах, еще больше подтянулись. И хотя батальон не сдвинулся с места, он стал как бы плотнее, будто и погибшие и раненые заняли свои места в строю, приготовились слушать приказ.
— Товарищи бойцы!
Командир полка начал тепло, задушевно, ощутив слитность бойцов и офицеров, братство, которое исключает строгую официальность. И уж совсем доверительно тихо сказал:
— Дорогие друзья!
Помолчал, справляясь с волнением.
— В недавнем бою вы доказали, что ваш батальон стоит целого полка. Ни один раненый, ни один убитый не упал лицом на восток. Только на запад! Вы смогли выдержать то, чего не смог вынести металл. Броня плавилась, а вы стояли. И наш фланг устоял, потому что ваше мужество было беспримерным. Многие отличившиеся представлены к наградам. Но вы все как один заслуживаете самой высокой похвалы и высокого доверия. Спасибо вам от лица командования!
Подполковник сделал паузу. Вытер платком вспотевшее лицо. Поправил рукой спадавшую на лоб прядь. Ему предстояло довести до бойцов смысл приказа Верховного Главнокомандующего от 28 июля 1942 года. Об этом документе в полку никто, кроме него, пока не знал.
— Но враг еще силен, — продолжал командир полка. — Он прорвался к Северному Кавказу, рвется к Сталинграду, на Кубань… Отступать некуда. Отступать дальше — значит, погибнуть. Ни шагу назад! Таков призыв Родины.
Корреспонденту дивизионной газеты «Красноармейское слово» политруку Сергею Деревянкину показалось, что подполковник посмотрел на него. И будто угадав мысли Деревянкина, командир полка продолжал:
— Еще не смолкли выстрелы, а ваши подвиги уже вошли в историю: листки нашей дивизионной газеты будут в грядущем перечитываться, как страницы летописи. Еще раз сердечное вам спасибо! Обнимаю вас, обнимаю и эту придонскую землю, истерзанную, измученную, окровавленную. Родина и партия могут положиться на нас. Они доверили вашему батальону первым начать форсирование Дона, стать первыми в грядущем всеобщем наступлении, которое будет, клянусь вам своей честью, будет! К этому мы должны быть готовы каждый день и каждый час…
Подполковник уступил место комиссару.
— Партия бросила клич: «Ни шагу назад!» — начал батальонный комиссар Мурадян. — Как ни старался враг, наши бойцы не сдали своих позиций. Близок день, когда прозвучит призыв: «Вперед!». И от того, как будут действовать наши передовые подразделения, зависит исход будущих операций. Форсировать Дон — трудная задача. Нужна группа добровольцев, чтобы провести разведку боем. Я верю, что первыми будут коммунисты и комсомольцы. Требуются не только отличные солдаты, но и отличные пловцы и даже альпинисты. Вон гора Меловая, — он указал рукой вдаль, — которую мы должны будем взять, закрепиться на ней и, господствуя над окружающей местностью, огнем прикрывать переправу. Добровольцы, два шага вперед!
Когда командир роты связи старший лейтенант Горохов шагнул вперед, он увидел, что слева и справа решительно вышли из строя Антопов, Герман, Захарин, Черновол, Бениашвили, работник дивизионной газеты Сергей Деревянкин… «Вот тебе и газетчик, интеллигенция, так сказать. Мне-то это положено по долгу службы: кто же первый протянет связь, если не мои хлопцы…»
Ефим Антопов, командир девятой стрелковой роты, повел глазами, прикинул: человек сорок, не меньше…
А солдаты все выходили и выходили.
Отобрали девятерых лучших. Отобрали, учитывая все: характер, выносливость, умение плавать, преодолевать естественные преграды. Комиссар Мурадян Виктор Асланович приметил, что в первой штурмовой группе оказались и русские, и украинцы, и армянин, и грузин, и татарин… А почему не видно среди добровольцев Чолпонбая Тулебердиева? Уж не ранен ли? Славный парень. Хороший очерк о нем написал Деревянкин…
И когда батальону уже скомандовали разойтись, комиссар увидел Чолпонбая. Раскрасневшийся, бежал он к командиру отделения сержанту Захарину.
— Товарищ сержант, разрешите обратиться к командиру взвода, — прозвучал его голос. Узкие брови сошлись на переносице.
— Разрешаю, — удивленно отозвался Захарин.
Еще больше удивились, когда услышали:
— Товарищ младший лейтенант, разрешите обратиться к командиру роты!
В больших, чуть печальных глазах Германа вспыхнула недоуменная усмешка.
— Обращайтесь.
К командиру роты Чолпонбай подошел строевым шагом.
— Товарищ лейтенант, разрешите обратиться к командиру батальона.
Антопов любил Чолпонбая за храбрость. Серьезно спросил:
— Очень нужно?
— Очень!
— Обращайтесь.
От командира батальона Тулебердиев направился к комиссару полка.
— Товарищ батальонный комиссар! За что так обижать?
— Кого, товарищ Тулебердиев? Кто вас обидел?
— Я же после смены спал: на посту ночью стоял. А меня не предупредили. В строю не был, когда вы говорили…
— О чем?
— О добровольцах, товарищ батальонный комиссар!
— Поздно, Тулебердиев. Уже отобрали.
— Потому к вам и обращаюсь, товарищ батальонный комиссар. Несправедливо это. Неправильно. Я клятву давал!
— Нужны пловцы.
— Я плаваю хорошо! — не задумываясь, похвалился Чолпонбай. Заговорил торопливо: — А по горам ходить я в Тянь-Шане натренировался. Поверьте, очень прошу. Или если мне еще комсомольского билета не выдали, то и доверить нельзя?
Чолпонбай действовал наверняка: только вчера его приняли в комсомол. Это решило исход дела.
— Хорошо, я поговорю с командиром полка, — пообещал комиссар.
III
Ночью, перед рассветом, в районе Селявного группа под командованием старшего лейтенанта Горохова бесшумно и быстро должна была переправиться через Дон.
Дзоты и бронеколпаки, множество траншей и окопов, ряды колючей проволоки, минные поля и организованная система огня — все это ждало их на том берегу…
Наша разведка нащупала наиболее уязвимое место на самом, казалось бы, неприступном участке — у Меловой горы. Против нее на восточном берегу, скрытно перегруппировав свои силы под носом у противника, сосредоточилась наша стрелковая дивизия. Штурмовые подразделения предполагалось переправить через Дон вслед за разведгруппой, составленной из добровольцев.
Пока артиллеристы засекали и уточняли огневые точки противника, группа Горохова скрытно изготовилась к переправе. Раздобыли, спустили на воду и замаскировали рыбацкие лодки. Соорудили плотики из подручных материалов, из плащ-палаток, набитых сеном. Они помогали удержаться на воде бойцу, на них можно было положить оружие и боеприпасы.
Горохов и вся его группа тщательно изучали место высадки, метр за метром прощупывали подступы к Меловой горе. Не отрываясь от бинокля, глядел за Дон и Чолпонбай. Его острые глаза сузились, он мысленно уже был на том берегу. Затаился в пойме, переждал. Начал взбираться на гору. Нащупал ногой выбоину, подтянулся, ухватившись за куст. Встал на камень… Переполз в сторону, наискосок, огляделся. Дзот справа, в расщелине замаскирован. В бинокль разглядел холмик свежей земли, покрытый жухлой травой. Вокруг никакого движения, берег словно вымер. Не дураки же немцы, чтобы обнаруживать свои дзоты…
Горохов именно эту тропку, этот дзот наметил Чолпонбаю. Но вдруг там, за каменистым уступом, может оказаться еще один дзот? В бинокль не разглядишь. Веки дрожат от напряжения. Чудится: синеватый дымок вьется там. И птицы ни разу не сели около этого камня. Не там ли замаскирован второй дзот, который отсечным огнем может преградить путь?
Рядом с Чолпонбаем наблюдает за противником Сергей Деревянкин. Старается держаться как можно беззаботнее. Ничем не выдать то, что мучает его вот уже несколько дней. Нельзя это выдать до времени. Так будет лучше Чолпонбаю…
Губы пересохли, странное оцепенение сковало тело. Солнце зашло за Меловую гору, теперь она казалась черной.
Деревянкин с трудом подавил вздох.
— Переживаете, что вас не пустили? Не в первой группе, так в третьей будете. Все равно дальше вместе пойдем…
— М-да, — неопределенно протянул Сергей.
— Ничего, друг, там, — Тулебердиев указал рукой за реку, — встретимся. Вместе будем, да?
— Да, — повторил Деревянкин, отводя взгляд от внимательных глаз Чолпонбая.
Когда Сергей писал очерк о Тулебердиеве, он многое узнал о его жизни. Рано умер отец Чолпонбая, всю заботу о семье взял на себя Токош, старший брат. Заменил Чолпонбаю отца. Воспитывал его, защищал, кормил, ухаживал, когда тот болел. Разница в возрасте была небольшая, всего несколько лет. Но младший брат не только любил старшего, а преклонялся перед ним, считая его, как и многие в ауле, человеком особенным, рожденным для большой и славной жизни. Об уме Токоша, о его честности и справедливости шла добрая молва. Даже пожилые не считали для себя зазорным посоветоваться с ним…
Сергей завязал переписку с Токошем. Тот воевал на другом фронте и очень беспокоился о брате, просил приглядывать за ним. Открыл его тайну: Чолпонбай с детства мечтал о подвиге.
А несколько дней назад из воинской части, от командира роты, пришло письмо на имя Сергея. «Товарищ политрук, обращаемся к вам как к другу рядового Токоша Тулебердиева и его брата Чолпонбая. В бою под Ржевом рядовой Токош Тулебердиев до конца выполнил свой долг солдата. Из противотанкового ружья он уничтожил два танка противника. Раненый, не оставил поля боя, левой рукой продолжал бросать гранаты. Пал смертью храбрых. Мы нашли в его вещмешке письма и ваш адрес. Просим обо всем сообщить его брату. На родину Т. Тулебердиева мы послали письмо с указанием места захоронения. Скорбим вместе с вами. Мы отомстим врагу за нашего общего друга. Ст. л-т Кругов».
Сергей помнил наизусть это короткое письмо. Сейчас, лежа в окопе и наблюдая за Чолпонбаем, он пропустил мимо ушей его слова: «Что-то брат не пишет… То через день, а то… Уж не случилось ли с ним чего?»
Сергей часто приходил «в гости» к другу. Сегодняшнее посещение не могло насторожить Чоке. Показать письмо лучше после броска через Дон. Завтра, наверно, Сергей в штабе слышал… А какое, собственно, право он имеет скрывать? Право друга, оберегающего… От чего? От правды, хотя бы и страшной?
— У вас есть какая-то тайна? — неожиданно спросил Чолпонбай.
— С чего ты взял?
— Просто никогда вас таким не видел, — он отложил бинокль в сторону.
— Каким?
— Темным, как туча, — и Чолпонбай, по-детски заслоняя глаза ладонью, показал, как темна туча.
— Тебе просто показалось.
— Вы уже несколько дней такой… Будто потеряли близкого человека. Чувствую, что у вас сердце болит. Вон даже губы пересохли. Почему со мной не поделитесь? Беда, если ее разделить с другом, вдвое меньше будет. А может быть, я чем-нибудь и помочь могу?
Сергей чувствовал, как с каждым словом друга горло его сдавливает невидимая рука. Силился улыбнуться, но губы не слушались.
— Почему мне сказать не можете? С девушкой, с Ниной, может, что случилось?
Сергей беспомощно развел руками.
На противоположной стороне раздался орудийный выстрел. Дрогнула земля от разрыва. Чолпонбай поднял к глазам бинокль, оба замолкли, глядя за реку.
IV
Удивительна судьба военного журналиста! Сколько нового, значительного видишь каждый день! Столько судеб людских познаешь на фронтовом пути, что собственные переживания, собственная жизнь вроде бы и не в счет. Вроде и не живешь ты сам, занятый чужими делами. Да разве чужие они, эти жизни и судьбы? Видать, не зря говорят, что у журналиста не одна жизнь — десятки, сотни. Рассказать интересно о человеке возможно только тогда, когда переживешь сам, прочувствуешь то, что пережил и прочувствовал он. Каждый новый очерк — чья-то жизнь, которая стала частью твоей собственной жизни. Твоим поступком, твоим подвигом.
Правду в народе говорят: порою встреча становится судьбой. Конечно, как ее понимать, судьбу. Прошлой зимой Сергей спешил в штаб стрелкового полка. На еще не наезженной, но уже перекопанной бомбами проселочной дороге встретились ему молодые солдаты. Они только что прибыли из запасной кавалерийской дивизии. Все в новеньких шинелях, держатся молодцами. Сергей представил завтрашний день этих веселых молоденьких ребят…
По всегдашней своей привычке торопиться куда-то он, увязая в снегу, по обочине обгонял строй. Больно споткнулся обо что-то под снегом, едва удержался на ногах, сконфуженно оглянулся…
На него с удивительно добрым участием смотрели ясные, черные глаза. Сергей невольно задержал взгляд на этом не по возрасту мудром и добром лице. Только это лицо в тот миг видел Сергей, будто и не было вокруг никого больше.
Позже встретил этого парня в штабе полка. И подивился опять глазам — мудрым, излучающим доброту и покой.
У Сергея было задание написать об отличившихся бойцах второго батальона, который только что выбил немцев из небольшой деревеньки. Уточнив туда путь, заторопился, чтобы засветло успеть дойти до места недавнего боя. Шел и все вспоминал широкоскулое бронзовое лицо, ясные черные глаза человека, знавшего, ради чего он покинул родной очаг, надел солдатскую шинель, пересек огромные, невиданные доселе пространства…
Давно ли и сам он, Сергей, был таким же молодцеватым и юным? Учился в военно-политическом училище в Житомире. Бережно хранил номера «Пионерской правды» (центральная пресса!), где были помещены две его заметки и двенадцатистрочное стихотворение о Пушкине. А потом с двумя кубарями в петлицах был политруком разведроты в танковой дивизии, отрабатывал учебные «бои» на тактических учениях в районе Перемышля. Восторженно читал ночами Пушкина — и в ту ночь, когда началась война. И в один день все было отброшено за какой-то далекий неодолимый барьер — бедное, босоногое и голодное детство, радостная работа в районной, затем в областной газете, куда его пригласили как проявившего способности селькора. И тем ясней встали в памяти слова редактора районной газеты Феофана Евдокимовича Козырева: «Как ты похож на отца, Сережа!» Козырев знал отца, воевал вместе с ним. В первую империалистическую отец заслужил «Георгия». После Октябрьской революции сразу вступил в ряды молодой Красной Армии, стал советским командиром. В боях против Деникина под Воронежем был тяжело ранен и вскоре умер, не успев получить награды за храбрость — уже от Советского правительства…
Сергей шел по вечереющему молчаливому лесу, удивляясь тишине и тому, что не попадалось никого навстречу. И все острее чувствовал тревогу, подстерегающую его беду. Может быть, потому и не сразу вошел в деревню, начинавшуюся за лесом, а предусмотрительно остановился на опушке, долго всматривался в пустынную улицу.
Осторожно, от дерева к дереву, стал приближаться к деревне, уже успокаиваясь и поругивая себя — если не за трусоватость, то уж, во всяком случае, за то, что поддался необъяснимому чувству.
И тут, когда он совсем успокоился и быстрым своим шагом приблизился к крайней избе, в сгущающихся сумерках увидел у четвертого с краю дома немецкую грузовую машину с откинутым задним бортом и гитлеровцев — живых и дюжих. Они передавали из рук в руки какие-то ящики и весело переговаривались.
Сергей опрометью кинулся к лесу…
А тем временем командир полка отдал распоряжение отправить в эту деревеньку бойцов нового пополнения, среди которых находился и Чолпонбай Тулебердиев, тот молодой киргиз, который так запомнился Сергею.
Доклад Деревянкина заставил командира полка отменить свое приказание. Обидно, конечно, было, что немцам удалось вновь потеснить второй батальон, но война есть война…
Вскоре Чолпонбай Тулебердиев стал другом Сергея Деревянкина, привязался к политруку, как брат. Ему первому рассказал о любимой своей девушке Гюльнар, о брате Токоше, дал его адрес: на войне все может случиться. Сергей затеял переписку с Токошем, не дожидаясь случая.
Чолпонбай и Сергей долго молча смотрели на правый берег. Внимательно смотрел Чолпонбай, а Сергей все пытался представить себе, как воспримет его друг известие о гибели брата. Приходила и другая мысль: «А если в бою случится со мной беда? Нет, это нужно сделать не откладывая…»
Не в одной уже атаке побывал вместе с Чолпонбаем. А эта вот самая трудная — беззвучная атака чужой беды, ставшей своей бедою…
А жизнь есть жизнь. Небо, река, лозняки, рыбный запах воды, чебреца… Запах земли в окопе… Чем укрепить друга для новых атак, для завтрашней? Как помочь ему победить горе?
Сергей смотрел на реку.
Медленно поворачиваясь, окатываемая набегающими мелкими волнами, проплыла обугленная оконная рама. Рядом, то прижимаясь, то отставая, плыл обломок наличника. Потом показалось дерево. Ближе, ближе. Береза, вырванная с корнем. Недавним разрывом снаряда или бомбы. На корнях еще держатся комочки земли…
Чуть слышно шумят камыши. Машут прощально березе, клонятся, силясь удержать ее за ветви, за распластанные по воде пряди листвы, за корни, похожие на судорожно скрюченные пальцы. Уцепиться, удержать, вернуть к жизни… Вернуть недавнее былое, покой Дона… Сейчас, в августе сорок второго, этот покой неправдоподобно далек. И шорох камыша исполнен жалобы, упрека, тревоги перед новой артиллерийской канонадой…
А когда-то его шум был музыкой — мелодичной, задушевной. Деревенским ребятам камыш знаком с детства. Каждой весной, бродя вдоль заросших берегов речушки, Сергей вместе с толпой босоногих друзей наблюдал, как острыми белесыми стрелочками всходит он из воды. С каждым днем все заметнее, выше, зеленее. Потом раздваивается, выпускает острые, как лезвия ножниц, листья. К середине лета его стройные гибкие стебли достигают человеческого роста, начинают «колоситься», цвести, в зной склоняясь к воде, будто желая напиться. А осенью, в конце уборочной кампании, ребята жали серпами его пожелтевшие, звенящие, как железо, стебли. Вытаскивали на берег, укладывали в тачанки и развозили по домам для хозяйственных нужд. Одни покрывали им хаты, другие утепляли коровники, третьи скармливали зимой скоту, если случалась бескормица. А сами мальчишки мастерили из него «водяные насосы» и разного рода дудочки, пищалки, на которых, как на свирелях, вытягивали незатейливые мелодии. Вечерами эти самодельные духовые инструменты присоединялись к голосистой уличной гармонике, гитаре, балалайке…
Береза замерла перед окопом, развернулась, будто пытаясь выпростать листву из воды, дернулась, выронила из пальцев-корней комочек земли. Послышался легкий всплеск, Чолпонбай словно очнулся от дремоты, опустил на колени бинокль.
— Такой цвет у березы, как у снегов на наших горах…
Отодвинул назад автомат, будто оружие мешало ему в этот миг увидеть белые горы, мирную Киргизию, свой аул, лица милых, родных людей…
Сергей как бы невзначай тронул локоть друга.
— Увидишь еще свои горы…
Августовская земля еще не остыла, небо безмятежно лучилось, сверкало прозрачной лазурью. Никак не верилось в этот миг, что на этой земле, под этим небом грохочут орудия, движутся танки, проносятся вражеские самолеты, что гитлеровцы рвутся к Волге, к Кавказу, к сердцу Родины — Москве…
Чтобы вернуться к действительности, Деревянкин перевел взгляд на вырванную березу — черно-белые штрихи ее коры слились с блеском волн, вся река представилась березовым лесом, лесом его детства…
Он протер глаза, тряхнул головой.
— А у нас леса…
Перед ним встал могучий сосновый бор с уходящими в небо стройными колоннами, и снова веселая березовая роща, просторная, излучающая радостный свет, потом мшистый, задумчивый ельник, кряжистые дубы-великаны, нежная, всегда нарядная — весной в белых цветах, осенью алеющая тяжелыми гроздьями ягод — рябина… У леса много лиц и одна душа, он добр к человеку, облегчает и украшает его жизнь. Сейчас и лес в страшной беде, его кромсают бомбы, снаряды, пули, беспощадно губят пожары… Бывало, не дождешься воскресенья. С утра — в лес! Дышать его чистым, прохладным воздухом, зачарованно слушать успокаивающий, уносящий в мечты мирный шелест листвы, разноголосое щебетание птиц…
Лес всегда верно служил человеку. Вот и сейчас, сколько у него «профессий»? Укрывать людей от вражеского глаза, от бомбардировок, артиллерийских и минометных обстрелов, от зимней стужи и яростных осенних дождей. Согревать солдат в надежных землянках, преграждать путь врагу завалами. Лес — верный союзник народных мстителей — партизан. Они чувствуют себя в нем как дома, враги же боятся углубляться в леса, где из-за каждого дерева, из-за каждого куста их подстерегает смерть…
Деревянкин неловко повернулся в тесном окопе, задел Чолпонбая. Тот опустил бинокль, взгляды их встретились.
— Все-таки странные у вас глаза, товарищ политрук. То стальные, то темные, а сейчас светлые-светлые! Вы ведь не боитесь, я знаю. Скажите, что с вами?
— Талантливый ты, Чоке! Русский язык как освоил. Прямо поэт! — отшутился Сергей. Пряча взгляд, достал блокнот, стал что-то записывать в него.
Чолпонбай уважительно следил за быстрой рукой Сергея, за карандашом, который точно петлял по невидимой под снегом тропинке, оставляя за собою замысловатый след.
Странное дело: сколько уж рассказал Чолпонбай о себе, а сам ни о чем не расспрашивал Сергея. Не то чтобы стеснялся, но как-то всегда получалось, что говорил он, а Сергей слушал. Чолпонбай точным взглядом охотника и следопыта еще тогда, на зимней дороге, сразу увидел в незнакомом политруке внимательного к другим человека. Журналист умел слушать людей. Мог бы и просто заглянуть в окоп, узнать фамилию, звание отличившегося солдата… Ведь заметки в дивизионной газете очень короткие. А политрук ел с солдатами из одного котелка, хоть вот с ним, с Чолпонбаем, ходил в атаки, дважды выручил его… А после горячего боя, когда все отдыхали, писал, бежал передать заметку в редакцию и снова возвращался на передовую. Когда говорили о трудностях на войне, Чолпонбай всегда вспоминал политрука Деревянкина, и все во взводе с ним соглашались. Чолпонбай рассказал, что Деревянкин был ранен на второй день войны, что нет человека добрей и внимательнее его.
Вот и сейчас что-то пишет. Чолпонбаю очень хочется поговорить с ним.
— Скажите, а Дон — большой?
— Почти две тысячи километров.
Чолпонбай всматривается в медленно текущую реку.
— Знаете, Сергей, на заре мне кажется, что река вся красная, что не вода, а кровь течет в ней…
— Да, много горя видел Тихий Дон, много крови… Здесь в гражданскую и мой отец погиб где-то под Касторной…
Оба смотрят на Дон. На медленно текущую воду, как и на огонь, можно смотреть бесконечно. Сергей думает об отце. Даже хорошей фотографии его не осталось. Была желтая, выгоревшая от времени, на которой едва и просматривались черты лица. Мама хранила ее бережно, временами доставала, долго вглядывалась — она-то видела родного человека, вела с ним нескончаемый разговор. Тяжело было ей, одной с двумя маленькими детьми, накормить их, одеть-обуть надо. С рассвета до позднего вечера на ногах…
Вышла замуж второй раз. Прошли годы. Стало в семье семеро детей. Достатка, конечно же, не прибавилось. Вспомнилось Сергею, как в школу ходил: зимой — в обносках, а чуть снег стаивал — босиком.
Но жажда знаний, таившаяся в сердцах неграмотных прадедов и дедов, наполняла Сережу, бурлила в нем, будила потребность узнать жизнь глубже. Однажды поразился созвучию стиха, затих в изумлении перед волшебством преображения обыкновенных слов в музыку. Повторял недавно прочитанные стихи и не заметил, как произнес свои строчки…
Потом два года не учился, не в чем было ходить в пятый класс: семилетка в соседнем селе, в пяти километрах. Если бы не учитель… Наведался однажды к матери:
— Анна Николаевна, надо Сереже учиться! Способный мальчик, обязательно надо…
— Сама вижу, что надо, да только ничего поделать не могу… — горестно ответила мать.
Все же они с отчимом как-то обернулись, дали закончить ему семилетку. Мать гордилась, когда слышала о сыне:
— Башковитый парень растет. Смотри, чуть не до первых петухов над книжками сидит!
Сидел. Старался отблагодарить мать, ничем не огорчить ее. И в чужие сады лазить за антоновкой перестал, как ни заманивали мальчишки…
Деревянкин очнулся. Ощутимо запахло яблоками.
— Антоновка! Надо же, о чем вспомнил…
— Яблоки такие! Знаю, — сразу отозвался Чолпонбай. — Токош их очень любит… — Узкие глаза его мечтательно сощурились.
Он тоже мысленно только что побывал в детстве.
Медлителен, почти недвижим Дон, глубока вода в нем. Тихо и мягко бьет волной о берег. А Чолпонбай видит горную речку, себя и товарищей. Они возятся, стараясь положить друг друга на лопатки. Вдруг Ашимбек неловко рванулся, не удержался, покатился по склону вниз. Река подхватила его, понесла к водопаду. Ашимбек уцепился за камень, все радостно закричали. Однако радоваться было рано. Мощный поток снова подхватил растерявшегося парнишку. Вдруг все увидели, как Чолпонбай тоже ринулся вниз, в бурлящую стремнину. И хотя плавать почти не умел, расшибая до крови колени и локти, успел перед самым водопадом подхватить обессилевшего Ашимбека. Успел, сумел! Захлебываясь желтой пеной, забившей рот… Потом ребята только его и выбирали командиром, когда играли в войну с басмачами…
Пену бешеной горной речонки часто вспоминал потом. Она срывалась с губ мчащегося коня, когда на скачках в районном центре он, безусый юнец, оставлял позади себя прославленных джигитов. Подобно пене курчавилась отара овец: он пас их каждое лето во время каникул вместе с братом Токошем высоко в горах, у застывших снегов, где расстелены яркие ковры альпийских лугов…
А когда отец, бывало, заводил песню, рассказывал о тяжком бремени байской власти, давившей дехкан, тогда и раздолье и богатство родного колхоза виделись особенно четко, и хотелось сделать что-то такое, чтобы всем вокруг стало хорошо от того, что есть на свете он — Чолпонбай…
Белизной горных снегов отливали глаза сокола. Вот Чолпонбай садится на коня, берет сокола на плечо. И пружинят поля, горы, летят навстречу краски родной земли, сливаясь в радугу счастья, а он — молодой охотник — чувствует, что и сам, как сокол, на плече земли, вот-вот взлетит. А сокол срывался с его плеча, догонял птицу, подлетал под нее, подталкивал, как бы подпирал на миг, потом выныривал вверх и, ударяя под левое крыло, всаживал отлетный коготь и мгновенно распарывал птицу…
А охота на волков… Не думал, что так скоро придется целиться в другого врага, более хищного, чем волк. Вслед за старшим братом Токошем ушел на фронт и он, Чолпонбай, стал воином Страны Советов, приобщился к могучему братству, радовался новым друзьям. Они согревали его, вдохновляли, окрыляли, делали стойким, смелым, мужественным.
V
Тишина… Такая обманчивая тишина, какая может быть только на фронте, на переднем крае. И вдруг разом, будто навылет, прошила ее, прожгла пулеметная очередь.
А помнишь, Чолпонбай, июль 1942 года?
Тогда, превращая день в ночь, а ночь в день, целую неделю потрясал землю и реку огненный смерч. Винтовочные и автоматные очереди тонули в пулеметной пальбе, а непрерывный стук фашистских пулеметов захлебывался в вое артиллерийской канонады.
И так день и ночь, ночь и день.
Всю неделю.
Целую бесконечную неделю.
Реку располосовывали трассы пуль, кромсали мины и снаряды. На землю страшно было смотреть. Вся изъязвленная воронками, запыленная, обожженная, растерзанная, она стонала, но, как родная мать, щедро давала приют бойцам стрелковой дивизии. И когда гитлеровцы бросались на восточный, казавшийся им мертвым, берег Дона, он оживал, чтобы смертью отплатить врагу за смерть наших солдат, за муки самой земли.
Так было до тех пор, пока немцы не выдохлись и не решили переключиться на укрепление «своего», западного берега. Вершины и склоны меловых гор, точно стесанных, круто обрывающихся к реке, быстро усеялись огневыми точками, как крысиными норами.
Наша сторона за это время накопила достаточно сил для броска через Дон. И на острие клинка, который должен был первым вонзиться во вражеский узел обороны, на самом острие, здесь, южнее Воронежа, в районе сел Урыв и Селявное, оказался 636-й стрелковый полк, а в нем — девятая рота.
В девятой роте служил Чолпонбай Тулебердиев. Как-то в один из предгрозовых дней, когда начало темнеть и кто-то из бойцов, глядя на противоположный берег, вздохнул: «Сильны волки! Ох, сильны», — Чолпонбай сказал:
— Мне политрук Деревянкин дал как-то русские народные сказки почитать. В часы затишья это очень душу успокаивает.
— Чолпонбай, и нам он приносит газеты и книги. Не новость это.
— Я не о новости, о старом хочу сказать. Слово маленькое, как муравей, но ведь и муравей на себе прет гору. Вот послушайте сказку.
— Чересчур издалека ты начал, Чолпонбай!
— Только не придирайтесь к мелочам, если я что не так передам. Мысль — главное.
— Ну давай, давай! — оживились бойцы.
— Вот ты сказал, что они волки, — рука Чолпонбая коротким рывком указала на правый берег. — Правильно, волки. Так слушайте. Пришел однажды фазан к замерзшей реке напиться. Нашел прорубь. Начал пить, а крылья ко льду примерзли.
«Какой лед сильный!» — крикнул фазан.
А лед отвечает: «Дождь сильнее: когда он приходит — я таю».
А дождь ему: «Земля сильнее: она меня всасывает».
Тут земля вступила в спор: «Лес сильнее: он защищает меня от зноя и помогает сохранять влагу, корнями мою силу пьет».
Лес не согласился: «Огонь сильнее: как пройдется пламенем, так от меня одни головешки останутся».
Услышал огонь эти слова и говорит: «Ветер сильнее, он меня может погасить».
Ветер вздохнул: «Я и лед могу гнать по реке, и песок тучей мести, и деревья с корнями выворачивать, и пожар погашу, а вот с маленькой травинкой мне не справиться. Травка против урагана устоит. Ей хоть бы что! Она сильней!»
Трава только головкой покачала: «Вот придет баран и съест меня. Баран всех сильней».
А баран с горя чуть рога в землю не воткнул: «Смеетесь надо мной. Волк покажется — и нет меня. Волк всех сильней».
Тут вылез из своего логова серый волчище и только хвостом махнул: «Есть сила посильней моей: она и фазана поймает, и лед растопит, и дождя не боится, и землю переиначит, и лес захочет — срубит, захочет — посадит, и огонь захочет — разожжет, захочет — погасит, и ветер себе подчиняет, и травку скосит, и шашлык из баранины сделает, и с меня, волка, шкуру сдерет. Эта сила — человек. Выходит, человек всех сильней. Это я вам авторитетно заявляю…»
Бойцы сворачивали козьи ножки, собираясь закуривать и ожидая, к чему же клонит рассказчик. А его умные, в этот миг чуть лукавые глаза ярче заблестели. Он помедлил и снова коротким рывком указал на совсем уже потемневший вражеский берег:
— Вот там волки, а мы люди, и мы — сильнее их. Сильней, потому что они, звери, чужое терзают, а мы, люди, свое защищаем. Слышали, как палят из дзота? Беспокоятся, боятся. Нужда их заставляет через голову кувыркаться. Страх им житья не дает. Страх за награбленное и загубленное.
Зашуршали шаги, и в окоп спрыгнул политрук Деревянкин.
— Ну, здесь надежные люди! — окинул он взглядом бойцов, каждого из которых знал не только в лицо, но и по тому тяжкому пути, который прошли вместе. — Надежнее людей нет. Одно слово — фронтовики!
— Да, пролетевший ветер лучше ненадежного человека, — ответил за всех Чолпонбай, принимая из рук политрука свежий номер «дивизионки».
Он кивком головы пригласил всех послушать и впервые подумал о том, что политрук всегда точно описывает события, потому что сам участвует в них. Хотя и не обязан лезть в каждую заваруху. Он правдиво пишет обо всех, ни разу не обмолвившись о цене каждого добытого им слова. А о нем самом, Сергее Деревянкине, ничего не пишется, словно его звание политрука и журналиста — броня от пуль, от осколков и даже от усталости, словно он неуязвим и пули облетают его. Не оттого ли он столько раз разминулся со смертью, что каждый раз думал о других? Чтобы рассказать о каждом так, как было на самом деле, без выдумки и без прикрас.
Старики-киргизы на горных пастбищах толкуют: «Прошлого не вернешь, умершего не оживишь». А правильно ли это — о прошлом? Можно и прошлое оживить, оно стоит перед тобой сейчас, когда держишь в руках газету, видишь былое так, точно все это происходит сию минуту. Это сейчас вроде спится, так глубоко спится после ночного перехода под проливным дождем, после непрерывных артналетов. И в сон врывается низкий гул моторов и крики:
— Тревога!
— Десант!
— Немцы!
Все стремительно вскакивают. Хватают оружие, занимают удобные позиции…
Какое слепящее солнце! Каждая росинка, как маленькое солнце, на ослепительно ярких листьях сверкает, режет глаза. Над деревьями мягкие дымки, как взрывы. Вспыхивают раскрывающиеся парашюты, а вдаль уносятся чужие тяжелые транспортные самолеты. Вон на повороте солнце выхватило крест на фюзеляже. Взгляд останавливается на фигурках, все укрупняющихся по мере приближения к земле. Видно, как один из парашютистов подтягивает стропы и быстрее других опускается на поляну…
Все это длится несколько мгновений. Кто-то сует Чолпонбаю винтовку. Это Сергей — сам он с СВТ, полуавтоматической.
— К поляне! — приказывает он, и солдаты, ведя огонь на бегу в стреляющих в них с воздуха парашютистов, бросаются к поляне.
— Отрезать подход к селу, взять в кольцо лес!
Это уже голос командира.
Тридцать? Сорок? Шестьдесят? Сколько же их, черт возьми, этих парашютистов?
Все потемнело вокруг. Небо — черное, без облаков, без солнца. Небо стреляет… В ответ стреляет земля. Пулемет пытается достать десантников в воздухе. Два наших танка разворачиваются, мчатся к лесу. Все приведено в движение. Все стреляет, грохочет, гудит…
Немецкие парашютисты действуют слаженно, бьют точно, маневрируют стропами и, приземлившись, тут же кидаются в бой. Рослые, плечистые, как на подбор, они смелы и стремительны: видать, прошли большую школу, имеют богатый опыт разбоя. Не успевают прикоснуться к земле, как уже сбрасывают парашютные лямки и выстраиваются в цепи. Рассредоточиваются вдоль опушки. Укрываясь за деревьями, ведут огонь.
Раскинув руки, зашатался и упал взводный. Около тебя падает, как срубленный, твой земляк. Падают замертво другие.
Пуля срезала ветку — тонкий прутик, от которого ты, словно предчувствуя беду, только что отодвинулся самую малость. Подбородок обожгло пламя, и тут же ствол ближнего деревца расщепила разрывная пуля. Вжимаешься, втискиваешься в землю, в какую-то выбоину, будто врастаешь в нее. А руки не слушаются, винтовка дрожит…
Но рядом тщательно целится и, не торопясь, стреляет политрук Деревянкин. Стреляет и не промахивается.
Чоке, Чоке! Возьми себя в руки! Прикажи рукам сжать винтовку, прикажи глазам прицелиться. Рядом с тобой Сергей! Что подумает он, если увидит, как тебя сковал страх? Ты охотник, лучший в ауле стрелок!
Чоке взглянул вперед. Руки направили винтовку, глаз нащупал прорезь прицела, мушку, врага… Целься, целься, плавно дави на спусковой крючок. Ведь ты столько бывал на охоте, столько стрелял, лучше всех поражал цели. И в запасной кавдивизии был лучшим стрелком…
Здоровенный детина, без пилотки, с засученными рукавами, тот самый, в которого целился Чолпонбай, заметил опасность, молниеносно вскинул автомат. Миг… Пуля Сергея Деревянкина оказалась быстрее.
Еще один, за широким пнем. Ну! Есть! Раньше, чем успел подумать Чолпонбай, палец его нажал на спусковой крючок, и враг остался лежать на земле.
Теперь вперед! Не дать парашютистам вырваться из сужающегося кольца. К первой группе десантников примкнула вторая, остатки третьей. Они залегли, образовали круговую оборону.
Танкисты пока бездействовали: гитлеровцы переметнулись в чащобу, недоступную для танков. Но вскоре их выкурили оттуда, и теперь все должен решить ближний бой.
Ближний! Штыковой!
Чолпонбай увидел, как Деревянкин быстро примкнул ножевой штык, плоское лезвие остро блеснуло, две капли росы упали на основание штыка, слились в одну, растеклись, горя в лучах раннего летнего солнца. Да, было солнце, земля, лес, какая-то птаха, певшая несмотря ни на что. Была жизнь. Через несколько секунд придется оторваться от земли, и тогда…
Сергей неожиданно чихнул раз и другой. Чолпонбай оглянулся, услышал, как он сквозь зубы процедил:
— Простыл под дождем…
— В атаку! В штыки! Ура!
— У-р-ра! — прокатилось по рядам.
Еще не смолкли первые крики, а Чолпонбай уже хотел оторваться от земли. Хотел… Но тяжесть, страшная, смертная, которой не испытывал никогда, придавила его, приплюснула к глинистой выбоине. Было трудно, когда он, спасая товарища, сам сорвался и едва выбрался из горной речонки, уже кинувшей его к водопаду. Было трудно во время скачек выжимать из себя и коня последние силы. Трудно было и в школе на экзаменах. Но все это было ничтожной тяжестью перед грузом земли. Казалось, надо оторвать не себя от земли, а землю, всю землю оттолкнуть от себя.
Он глянул на Сергея: лицо с острым, выдвинутым подбородком казалось каменным, застывшим. Жили только глаза, не синие и добрые, а стальные, летящие к цели, вобравшие в себя и напряжение боя, и ненависть, и солдатскую решимость.
— Ур-ра-а! — закричал политрук и, пригнувшись, вынося вперед штык, кинулся к лесу, вперед.
Перед глазами Чолпонбая промелькнула его планшетка. И точно невидимая струна натянулась и вырвала его из выбоины. Обгоняя Сергея, почти не пригибаясь, он побежал навстречу горячему ветру, пулям, наперекор смерти…
Немцы попятились. Попытались уйти в лес, но поняли: они в кольце!
В мгновение скрестились штыки, приклады.
Чоке поскользнулся, упал. Сейчас всадит в него штык вон тот, слева. Замахнулся. Но рядом оказался Сергей. Это прибавило сил Чоке. Он вскочил, и они двое, не сговариваясь, стали прикрывать друг друга.
Бой был скоротечным. Вот уже стихли выстрелы, солдаты устало вытирали пот. Пленных гитлеровцев собрали на опушке. Рослые, сытые атлеты, они нагло смотрят, нагло отвечают.
— Вы в плену! Ведите себя, как положено! — одергивает их кто-то.
— Это вы у нас в плену! — по-русски отвечает немец-лейтенант. — Вы в кольце! Ваша песенка спета!
Наглости их нет предела: война только начинается. «Погодите, скоро вы не так запоете!» — думают наши солдаты.
VI
— О чем мечтаешь, Чолпонбай? — лейтенант Герман неслышно появился у окопа, опытный разведчик.
— О прошлом подумал: сколько жеребенок ни бегай, скакуном не станет, — Чолпонбай горько усмехнулся, вспоминая бой с десантниками.
— Вырастет и станет скакуном, — серьезно возразил взводный, сразу поняв иносказание.
В том бою взводный был справа, заменил убитого пулеметчика, действовал неподалеку от Чолпонбая и Деревянкина. Это он крикнул первым: «Ура!» Первым и поднялся на правом фланге. Да, надежные люди…
— Да, товарищ лейтенант, правильные слова вы сказали: вырастет. Только хочется, чтобы поскорее…
— Много значит слово, — откликнулся подошедший Сергей Деревянкин. — Как это говорится: у мысли нет дна, у слова — предела.
Чолпонбай, довольный, улыбнулся. Приятно, что его друг запомнил киргизскую пословицу, которую раз на политбеседе обронил он, Чолпонбай.
— Товарищ политрук, вы к нашему командиру роты не собираетесь? — спросил взводный.
— Уже побывал. Мы тут с Чолпонбаем потолкуем.
Они опять остались вдвоем. Гибкая ветка лозы над окопом, жужжание осенних мух. Солнце перевалило за полдень, пригревает…
Из котелка Чолпонбая подзаправились пшенным концентратом. Поблагодарив друга, Сергей вытер ложку, спрятал за голенище, сдвинул на колено планшет. Вытащил треугольник письма, развернул, пробежал глазами. Начал читать со второй страницы, про себя. «…Сережа, я часто вспоминаю нашу довоенную жизнь и тебя. Война разметала нас по разным фронтам. Но и вдалеке я ни на минуту не забываю о тебе. Каждый раз, когда в госпиталь прибывают раненые, кажется — ты среди них. Недавно в шестой палате лежал у нас подполковник Козырев, наш земляк, редактор районной газеты. Вот как тесен мир. Оказывается, Козырев с твоим отцом в одном отделении служил и в первую мировую войну, и в гражданскую. Восхищался он его выдержкой, неутомимостью. Говорил, что ты похож на отца — копия. Выходит, ты зря жаловался, что не сохранилась фотография. Возьми зеркало, и увидишь его. Много говорили с ним о твоих первых шагах газетчика. Вспомнил он, как однажды ты положил ему на стол шесть вариантов заметки о весеннем севе. Потом хорошо так посмотрел на меня и говорит: „Повезло вам с Сережей. Если пощадит его пуля, то настоящим журналистом будет!“
Вот, дорогой мой, товарищ политрук, смотри, чтобы тебя пуля пощадила, чтобы ты настоящим журналистом стал. А кем, кстати, собирается быть твой друг Чолпонбай? Что, если попрошу у него адрес Гульнар? Мне хочется переписываться с нею. Кончится война, соберемся вчетвером…
Я часто вижу тебя во сне. Ты с большим-большим, почему-то не заточенным карандашом, пытаешься написать что-то на узком листке картона, а карандаш не пишет. Ты говоришь мне: „Это пока не ладится, а вообще он хороший. После войны я напишу им книгу…“
Ну, милый, мне пора на дежурство. Надеваю халат, смотрюсь в зеркальце — твой подарок, — мысленно целую тебя и бегу в палату.
Твоя Н.
26 июля 1942 г.»
Пока Деревянкин перечитывал письмо, Чолпонбай вертел в руках газету. Едва Сергей оторвал глаза от листка, вздохнул:
— Хорошая жена — половина счастья.
И пояснил:
— Хорошая жена и дурного мужа сделает мужчиной, а дурная и хорошего превратит в дурного. Так старики у нас говорят. Я о своей Гюльнар много думаю. Она мне такой беззащитной кажется, словно пули и осколки, летящие в нас, могут задеть и ее… Странное чувство, правда?
— Я понимаю тебя, — Сергей протянул письмо другу.
Чолпонбай читал внимательно, лицо его светлело. Он заулыбался, точно живой девичий голос услышал.
— Спасибо ей! После такого письма вы мне еще ближе стали, и Гюльнар дороже… А некоторые говорят, что нет любви… Не верю я им!
— А ты веришь в любовь с первого взгляда?
— Да… Только чересчур яркое быстро линяет, чересчур горячее быстро остывает, чересчур жаркое быстро затухает. А у нас с Гюльнар как-то постепенно было, приглядывались… Потом поняли: жить друг без друга не сможем. Только бы с ней ничего не случилось. Глаза закрою, и вот она — в тюбетейке, черными косами ветер играет, глаза счастливые. Гюльнар, Гюльнар…
Он даже привстал, крепко сбитый, мускулистый, широкогрудый, загорелый. И неожиданно смутился.
— Знаете, Сергей, когда мы в запасном кавалерийском полку учились рубить лозу на скаку, мне жалко ее было, лозу. Точно я чувствовал, как ей больно. Наверно, и правда всему живому больно, когда его давят, бьют, рубят. Лоза тоже, наверно, чувствует. Ее жалко, а этих волков, — его глаза потемнели, он кулаком погрозил тому берегу, — этих не жалко! Помните сказку, кто самый сильный? Человек. Только надо быть человеком. Правда?
— Очень правильно говоришь, — в задумчивости проговорил Сергей.
— Всю жизнь я стремился стать настоящим человеком. И когда в запасном учились рубить клинком, в седле подхватывать со снега оброненную вещь, стрелять учились на полном скаку… А погода была! Как будто кто по ушам крапивой хлестал. Порой ноги стремени не чувствовали. Вот, глянь на снимок, — он протянул фотокарточку, — одни скулы остались…
— Не жаловался?
— Я? — обиделся Чолпонбай. — Я перед Гюльнар краснеть не собираюсь за службу. Нет! А еще потом… «Пеший по-конному» называлось. По глубокому снегу не очень разбежишься. А стремительные перебежки делать надо? Надо! И делали! И по-пластунски, и в штыковую учились ходить. Получалось, постепенно стало получаться… Вы уж не сердитесь за тот штыковой…
Сергей сделал вид, что не понял.
— Спасибо, что выручили, если бы не вы…
— Знаешь, хватит! — вспылил Сергей. — Что, и говорить больше не о чем? Еле к тебе выбрался, а ты тут… Скоро поплывем на тот берег. Я попросился, чтобы взяли в первую штурмовую…
— Вот был бы с нами мой брат. Говорят, я хорошо по горам умею лазить, а он куда лучше. Знаешь, сильный какой! Какой смелый! Самые дорогие мне Токош и Гюльнар…
Он присел около Сергея, взял в руки «Красноармейское слово», начал вслух читать:
— «Началось наступление главных сил группы армий „А“ противника на Кавказском направлении. Сосредоточив на захваченных плацдармах на левом берегу Дона в районах Константиновской — Николаевской два танковых корпуса, противник повел наступление на Сальск. Войска Южного фронта оказались вынужденными вести ожесточенные и неравные бои с наступающим врагом. Создалась реальная угроза прорыва противника на Кавказ…»
«…Германское верховное командование перебросило основные силы авиации, действовавшей в Северной Африке, на советско-германский фронт».
«…Продолжались напряженные оборонительные бои советских войск с наступающим противником на всем Южном направлении: в районе Воронежа, в большой излучине Дона и в Луганске».
«…Президиум Верховного Совета СССР принял Указ „Об изменении ст. ст. 1 и 2 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 года „О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в военное время““».
«…Объединенный Путивльский партизанский отряд под командованием С. А. Ковпака во взаимодействии с партизанскими отрядами под командованием А. Н. Сабурова нанес удар по гарнизонам противника в селах Старая и Новая Гута, Голубовка и других в Сумской области. Партизаны разгромили батальон противника, истребив 200 его солдат и офицеров, захватив 11 станковых и ручных пулеметов, 6 минометов и много патронов».
Потом взгляд Чолпонбая остановился на известии о том, что «несколько вражеских лазутчиков обезврежены…»
Поднял глаза на Сергея. Деревянкин понимающе кивнул.
Месяц назад, когда Деревянкин, вооружившись наушниками, бумагой и карандашом, начал по рации принимать последнюю сводку Совинформбюро, Чолпонбай, посланный в редакцию с заметкой командира роты связи старшего лейтенанта Горохова, заметил вдали, у больших стогов, световые сигналы. В мутной предвечерней полумгле с четкой последовательностью дважды коротко вспыхнул свет. Затем вспышки повторились — короткие чередовались с длинными. Сперва подумалось, что кто-то закуривает. Но стало тревожно. Столько спичек на фронте никто тратить не станет. Если же искры высекали кресалом, то опять не похоже. Неужели лазутчики? Значит, не зря предупреждал взводный… И Сергей говорил, что, наверно, неспроста при позавчерашней бомбежке фугаска угодила в редакционную машину…
И, подтверждая опасения, снова — две короткие вспышки, потом три длинные. Точка, потом — тире…
Чолпонбай стремительно влетел в машину.
Политрук Деревянкин сидел с наушниками около рации, напряженно подавшись вперед, стараясь лучше расслышать. Простым карандашом, крупным быстрым почерком писал, повторяя вслух: «…бои шли южнее Воронежа. Несмотря на ожесточенные атаки, врагу не удалось продвинуться…»
Чолпонбай заскользил острым взглядом по быстро бегущим строчкам, названиям населенных пунктов, цифрам сбитых фашистских самолетов, в глазах замелькали истерзанные взрывами дороги, пылающие деревни, горестно торчащие остовы печей; кружилось воронье, и густая черная сажа хлопьями садилась на лица убитых…
— Товарищ политрук! — решился перебить Чолпонбай. — Лазутчики, мне кажется! Там, где стога…
Деревянкин мгновенно сбросил наушники, сунул в карман листок с недописанной сводкой, крикнул шофера Кравцова, еще одного бойца, и они — Чолпонбай, Кравцов, Алексей Бандура и Сергей Деревянкин — кинулись к далекому стогу, откуда опять раз за разом вспыхивали сигналы.
«Так вот почему так быстро налетели бомбардировщики, едва мы расположились на стоянке. Нас выслеживают… Уже потеряли одну редакционную машину», — соображал на бегу Сергей. Чтобы скрытно приблизиться к стогам, поползли по-пластунски. Приблизившись метров на семьдесят, снова увидели, как засветился фонарь. Чолпонбай не выдержал, выстрелил. Фонарь погас. В то же мгновение раздалась автоматная очередь. С Сергея сбило пилотку. Он наклонился за ней, и это спасло его: над головой снова пропели пули.
Все четверо припали к земле, закричали:
— Бросай оружие!
— Сдавайся!
От стога стали бить еще ожесточенней.
Деревянкин боялся, как бы, воспользовавшись темнотой, лазутчики не скрылись, и приказал окружить стог.
— Бросай оружие!
— Сдавайся!
В ответ грохнула граната.
— Чоке! — позвал Сергей. Тот не расслышал. Деревянкин подполз ближе:
— Попробуй подобраться со стороны бурьяна. Мы с Бандурой отвлечем огонь на себя. Надо поджечь стог. Иначе их не взять.
На вершине стога мелькнула тень. Чолпонбай выстрелил. Послышалась немецкая ругань, что-то тяжелое глухо ударилось о землю. Тут же резанула очередь.
Чолпонбай быстро пополз к бурьяну. Сергей ждал в тревоге. Только сейчас Деревянкин впервые со всей ясностью осознал, какое место в его жизни занял Чолпонбай. Друг? Да, друг. Брат? Да, брат. Младший. И он отвечает за него. Перед своей совестью. Сколько вложено в эту дружбу, сколько уже боев связало ее! Сам не подозревал в себе такой щедрости чувства. И ясно как представляешь и его Гюльнар, и Токоша, и снежные горы, и коня, сокола… Всю Киргизию… То, что принадлежит другу, принадлежит и тебе. Это твоя Гюльнар, твой брат Токош, твои родные, твои горы, твой конь, твой сокол. И боль, опасность, подстерегающая друга, теперь — твоя боль, твоя опасность…
Чоке уполз к стогу, его уже не видно.
Трассирующая пуля прочертила огненную линию от стога к тому месту, где должен сейчас быть Чоке… Одна… Вторая… Чоке замер. Или убит? Чоке! Чоке!..
Слышен шорох. Если заметили, не подпустят…
— Сдавайся! — Деревянкин уже не раздумывал, лишь бы отвлечь на себя огонь, вскочил, выстрелил два раза.
Прозвучал ответный выстрел. Как огнем обожгло правое бедро.
— Сдавайся! Второе отделение, зайти справа! Первое отделение, залечь у сарая! Третье отделение — за мной! — громко и четко отдавал команды Сергей.
А сам тем временем зигзагами бежал к стогу. Падал, отползал в сторону, мгновенно вскакивал и снова делал короткую перебежку.
По нему стреляли: пули со свистом пролетали над головой.
— Взять живыми! — командовал Деревянкин.
Он уже подбегал к стогу. Больше всего боялся за Чолпонбая, отвлекал внимание на себя. Но вот огонек мелькнул у основания стога, пламя стало быстро карабкаться вверх. Сергей понял: Чоке жив! Огонь уже подобрался к вершине.
Оттуда вниз метнулась фигура.
Едва незнакомец коснулся земли, его сбили с ног.
Сергей кинулся к месту схватки. Чоке ловко скрутил лазутчика, вывернул ему руки, не давая дотянуться до ножа.
Деревянкин на бегу перезаряжал пистолет: кончились патроны. Неожиданно споткнулся о тело одного из диверсантов: тот был убит в перестрелке. Вскочив на ноги, увидел, что лазутчик вырвался из рук Чоке, выхватил нож. Сергей бросился вперед, схватил у запястья руку лазутчика. Тот с силой вырвал ее, и нож вошел бы в грудь Сергея, если бы не подоспел Чоке.
Пойманного связали ремнем.
— А, мать вашу… — на чистейшем русском языке выругался тот.
В свете пылавшего сена разглядели крестьянскую одежду, загрубевшие черные ладони. На безымянном пальце правой руки блеснуло серебряное кольцо.
— Так ты?.. — Сергей не мог выговорить «русский». За многие дни войны, за долгие тяжкие дни отступления он впервые своими глазами увидел предателя. Рослый, с выпуклой грудью, с выпученными глазами, остроносый и тонкогубый, лазутчик со страхом смотрел на Деревянкина.
Сергей задохнулся от злобы.
— Как ты мог пойти против своих, сволочь?
Тот в ответ лишь оскалился.
— Идем! — подтолкнули его.
Чоке шел с автоматом наготове справа. Предатель повернул голову и точно укололся о ненавидящий острый взгляд бойца-киргиза.
Пламя взметнулось высоко над стогом, ярко озаряя идущих. Во взгляде Чоке, в его сощуренных глазах предатель прочел себе приговор.
В штаб батальона его повел Бандура.
В редакционной машине Чолпонбай передал Сергею заметку, с которой был послан к нему. Тот полез в карман, вытащил залитый кровью листок с недописанной сводкой Совинформбюро.
Чолпонбай с сожалением покачал головой.
— Между прочим, по твоей вине, — улыбнулся Сергей.
Расправил листок. Ясно виделось последнее слово, на котором он несколько минут назад оборвал свою запись — «сражались…»
— Сражались, — вслух прочитал Деревянкин, стараясь вспомнить, что же следовало за этим словом, соображая, как ему быть дальше.
— Сражались, — с другой интонацией повторил Чоке. — Мужчина обязан сражаться! Теперь, когда я этого… увидел, понял, что каждый наш солдат должен быть еще смелее, вдвое сильнее, чтобы из-за таких изменников строй не нарушался! Смелее надо действовать, решительнее, быстрее…
— Ты прав, друг.
— Армия — миллионы, предателей — единицы, — заключил Чоке. Но даже если один… Все равно плохо! Ну, ладно, давайте, товарищ политрук, рану перевяжу вам.
— Да это не рана. Царапнуло просто…
Сергей снова надел наушники, включил рацию. Экономя время, на том же, уже подсохшем листке бумаги продолжал записывать очередную сводку о положении на фронтах. Без этого материала газета выйти не может.
VII
«Сережа, милый! Пишу тебе под впечатлением твоего очерка о Чолпонбае. Я получила ваше „Красноармейское слово“ и несколько твоих заметок о бойцах 9-й роты, о комбате Даниеляне, о командире роты Антопове, командире роты связи Николае Горохове. Так что теперь я полнее представляю себе и окружающих тебя людей и твою работу. Чувствую, какими близкими они стали тебе.
Вспомни, как в одном из писем ты делился со мной мыслью о том, что и война требует таланта, что есть люди, не имеющие высоких званий, но обладающие высоким строем души и интуицией истинного военного. Они оказываются там, где всего нужней в данный момент. Мне кажется, что ты именно такой человек — прирожденный, настоящий воин. И к тому же очень скромный. Знаю, что мои слова смущают тебя, но они верные.
Здесь, в госпитале, я ежедневно, ежечасно слышу разборы атак, схваток. Так что и я постепенно начинаю кое-что понимать. Во всяком случае, образ Горохова мне показался обедненным. Ты недостаточно требовательно отобрал слова для выражения интересных мыслей.
Ради бога не сердись, понимаю, что тебе приходится писать наспех, но и очерк о Даниеляне все-таки какой-то общий. Нет характерных черт. В одном из писем ко мне, еще в мае, ты приводил его любимые выражения. Сейчас не припомню, но парень он остроумный, а в очерке ты так ни разу и не дал ему самому сказать слово.
Ты как-то давным-давно, тысячу или больше лет назад, в августе сорок первого, когда вышел из медсанбата и тебя перевели в газету, писал мне, что „дивизионка“ — это летопись войны. Да, так оно и есть. Но не слишком ли это скупая летопись? Представь, что когда-нибудь, через много-много лет, скажем, году в семидесятом или восьмидесятом, обратится к теме войны молодой историк или писатель. Легко ли ему будет по вашей газете восстановить атмосферу нашего времени, картины боев, представить себе наших людей на войне…
Я бы не говорила так, если бы не видела, что ты сумел о командире роты Антопове написать ярко, словно эта заметка — стихотворение. Еще убедительней, ярче — о твоем друге Чоке. Ты с такой любовью пишешь о нем, что и я, только не ревнуй, начинаю любить его. Тем более, что он, оказывается, дал мой адрес своей Гюльнар, и она мне прислала свою фотокарточку и письмо. Она снята в тюбетейке. Косы густые, толстые, глаза добрые и красивые… Да, наверно, у нее летящая походка. Ты как-то привел мне слова Чоке о ней: „Идет, словно летит“. А письмо! Ее письмо полно не только любви к Чоке, но и к тебе. Не знаю уж, как тебя расписал Чоке, но Гюльнар просто соловьем разливается, когда речь заводит о тебе.
Дорогой Сережа, когда ты пишешь о глубокой вере Чоке в будущее, о невозможности человеческой жизни без такой веры, я тоже проникаюсь уважением и любовью к этому умному и отважному бойцу. Хорошо ты написал, что „у рядового Чолпонбая Тулебердиева незаурядное сердце, и это проявляется в его мыслях, в правдивости и самобытности речи, в искренности его поступков, в его щедрости, он невольно воздействует на окружающих, создает высокую нравственную атмосферу готовности к подвигу, к свершению его без громких слов и без позы“.
Что удивительно, так это совпадение твоего представления о Чоке с его образом, встающим из письма Гюльнар: постоянная готовность помочь другим, выручить, защитить слабых, даже если самому страшно, больно, если самому угрожает смертельная опасность…
Все забываю написать тебе о своей шкатулке. Такой крохотный ящичек, вроде аптечки. В нем я храню твои письма и вырезки из газет. В этой аптечке для меня действительно хранятся лекарства. Пиши!
Сегодня у нас легкий день — отдых за круглосуточные дежурства. Очень хочу, чтобы ты знал: ты у меня единственный, любимый… Верю, что все задуманное сбудется.
Целую тебя. Твоя Н.
Июль 1942 г.»
Письмо Нины лежало в нагрудном кармане рядом с известием о гибели Токоша. Когда Сергей уже решился сообщить эту страшную весть Чолпонбаю, пальцы нащупали письмо Нины. И это остановило его.
Да, она права. Летопись войны… Он будет писать ее, переделывать свои торопливые, несовершенные, написанные по горячим следам заметки. Но разве можно чем-нибудь заменить жизнь, заменить человеку погибшего брата?
Чоке, отстранив бинокль, смотрел на реку, на неторопливое движение воды. Он, казалось, забыл о войне, лицо его было ясным, спокойным. Как оно было не похоже на лицо того же Чоке, бойца Тулебердиева, каким довелось его видеть Сергею в одном из боев.
Это было ранней весной. Снег уже стаял, от подсыхающих полей поднимался пар. В прошлогодних бороздах, через неразорвавшиеся снаряды, через осколки переступали ничему не удивляющиеся грачи.
Тогда на подступах к Воронежу шли ожесточенные бои. Сергею запомнилось, как, стоя в окопе, Чолпонбай кивком указал на срубленную снарядом ветлу. В ней ютился скворечник. Около круглого отверстия виднелась дырка от пули.
— И птиц война не щадит! — покачал головой Чолпонбай. — Даже птиц… Смотри! — и лицо его стало по-детски восторженным. — Живы! — он потянул Сергея за рукав. — Живы! Кормит!
И правда, скворчиха спланировала на крылечко игрушечного домика, держа в клюве сизого червяка. Презирая войну и все, что происходит вокруг, не задумываясь об опасности, сунула в желтый клюв одного из птенцов добычу и снова улетела. Опустилась на гусеницу самоходки, побегала по тракам.
Сергей тяжело вздохнул.
— Жизнь продолжается, Чолпонбай. И нет силы, чтобы остановить ее извечную поступь. Будут новые весны, будет цветение яблонь, войны не будет… Но не каждый доживет до этого. Кто-то должен отдать свою жизнь, чтобы приблизить эти радостные весны…
Бой, который вспомнился Сергею, длился двое суток. Схватки шли за каждый степной холмик, за каждую рощицу, за каждый дом.
Ночью дивизия вынуждена была отойти. Для прикрытия осталась девятая рота. А к рассвету командир роты Антопов так сумел организовать оборону, что первая атака гитлеровцев захлебнулась.
— Зашатались! — торжествующе закричал Чолпонбай.
— Зашатались, гады! — отозвался Сергей Деревянкин. Он остался с прикрытием, чтобы дать репортаж, но пришлось заменить раненого пулеметчика. — Мы их научимся бить, Чоке! Зашатались! — еще раз повторил понравившееся слово.
— Без ветра верхушка тополя не колышется! — азартно отозвался Чолпонбай.
Он по-детски торжествовал, видя, как залегают гитлеровцы, отползают, откатываются, ведут беспорядочную стрельбу.
Сергей любовался, как по-хозяйски действует в окопе Остап Черновол, как хладнокровно ведет огонь Серго Метревели, как хитро Гайфулла Гилязетдинов вдруг вынырнет из траншеи, свалит одиночным выстрелом врага и, пока пули взрывают бруствер в том месте, где только что мелькнула его каска, он уже стреляет из другой ячейки.
Чолпонбай тут же последовал его примеру. Он перебегал по траншее, когда вражеский истребитель прошел над высоткой, развернулся, дал очередь по нашим окопам.
— Посеешь ветер — пожнешь бурю! — закричал Серго Метревели, никогда не унывающий грузин, и метнул гранату. — Бурю! — сорвал чеку со второй гранаты. — Бурю! — швырнул третью.
Деревянкин заметил, что Тулебердиев лежит без движения.
— Чоке! — крикнул. — Тулебердиев!
Голос друга вернул Чолпонбаю сознание.
— Я здесь! — Чоке схватил винтовку. — По каске попала…
И когда гитлеровцы, захлебнувшись собственной кровью, отхлынули от высотки, Сергей увидел, что больше всего поверженных врагов было перед окопом Чолпонбая.
Пользуясь передышкой, наши пополняли боеприпасы, готовились к отражению новой атаки. Взводный Герман и сержант Захарин, пробираясь по траншее, оставили Чолпонбаю две связки гранат.
— Может, развязать? — спросил Чолпонбай. — Больше будет.
— Для танков, — пояснил взводный. — Могут обойти овраг справа. Следи!
И правда, вслед за артиллерийским налетом из леска выскочили на предельной скорости два фашистских танка. Один повернул вправо, другой шел по краю оврага, стремясь подойти к высоте вплотную. За танками — пехотинцы. Несколько человек укрывались за башней на броне.
Бойцы шквальным огнем пытались отсечь пехоту. Молчал только окоп Чолпонбая.
— Что с ним?
Сергей метнул взгляд в его сторону.
— Почему молчит? — встревожился и взводный. Он выскочил из выдвинутой вперед ячейки, побежал по траншее.
Чолпонбай, не отрывая взгляда от надвигающегося танка, нащупал связку гранат, на миг поднялся над бруствером. Гранаты угодили точно под гусеницу. Прогремел взрыв. От подорванного танка отпрянули бежавшие за ним пехотинцы. Атака захлебнулась.
Да, Чолпонбай стал настоящим бойцом!
Сейчас, в окопе у Дона, Чолпонбай Тулебердиев не отрывал от глаз бинокля. Вот он снова приблизил к себе расположенный на правом склоне Меловой горы замаскированный камнями дзот. Взгляд охотника и следопыта исследовал тропинки, их изгибы, препятствия, которые могут стать на пути. Вон о тот камень можно опереться ногой, на следующий положить оружие, потом подтянуться на руках еще выше. А там, кажется, мертвая зона, не простреливаемая вражеским пулеметом. Потом вон за тот валун перебежать броском, упасть за острый камень и оттуда лежа метнуть гранату в амбразуру дзота…
— Все это так, если дзот один, — рассуждал сам с собой Чолпонбай. — А если еще и слева есть? Странно как-то стоит камень… Не специально ли его развернули, чтобы заслониться им от обстрела? На Тянь-Шане так сами по себе камни не стояли. Здесь тоже скатывается вода с горы, и снег тает весной… Если там может быть дзот, значит, надо другую дорогу наметить себе…
Сергей достал из кармана письмо, почувствовал, как вздрагивают пальцы. Чолпонбай весело взглянул на друга:
— А если и слева дзот? — И увидел в руке Деревянкина треугольник.
— Еще письмо получили? — спросил, радуясь за него.
Сергей потупился.
— Нет, давнишнее, — опустил письмо обратно в карман, принялся поправлять гвардейский значок.
— Как блестит… Чем чистили?
— У тебя лучше. Ведь особенный…
Чолпонбай заулыбался. Вспомнил, как вручали ему значок.
Командир полка, преклонив колено, губами прикоснулся к гвардейскому знамени. Член Военного совета фронта громко спросил у него:
— Кто у вас самый храбрый боец в полку?
Стало так тихо, что слышно было, как шелестит листва, как волна набегает на берег. Подполковник внимательно оглядывал строй.
Вот недавно отличившиеся бойцы — Черновол, Бениашвили, Гилязетдинов, Захарин… Отличные, надежные солдаты. Трудно выбрать храбрейшего из храбрых.
— Рядовой Тулебердиев! — решительно доложил командир полка, встретив взгляд черных глаз Чолпонбая.
— Он здесь, в строю? Я хочу вручить гвардейский значок первому среди воинов. — И член Военного совета показал этот первый значок.
Чолпонбай замер, еще не веря, что его так отличили. Ведь в части много бывалых, опытных бойцов.
— Рядовой Тулебердиев, выйти из строя!
Член Военного совета подошел к нему, обнял и сам прикрепил к его выгоревшей гимнастерке значок. Крепко пожал руку.
— Служу Советскому Союзу! — твердо ответил Чолпонбай.
— Вы комсомолец, товарищ Тулебердиев?
— Нет… еще.
— Комсомол гордился бы таким бойцом! Я читал о ваших боевых делах в дивизионной газете. Думаю, что вы вполне достойны стать членом Ленинского комсомола.
Чолпонбай сам давно об этом мечтал. В тот же день он и еще несколько солдат взвода подали заявления секретарю комсомольской организации.
Перед этим Тулебердиев разыскал Сергея в соседней роте:
— Напиши, пожалуйста, заявление, я перепишу. Захарин говорит, чтобы я по-киргизски писал: все равно поймут… Но я ведь вступаю в Ленинский комсомол и хочу сказать об этом по-русски, как Ленин. А если ошибки будут — некрасиво получится. По-русски я говорю хорошо, вы сами хвалили, а вот писать еще плохо научился.
Деревянкин тут же выполнил просьбу друга. Постарался подольше побыть вместе с ним в этот день. Первому прочитал ему текст обращения Военного совета: принес с собой гранки завтрашнего номера.
«Воины Красной Армии! Славные защитники донских рубежей! Вы не раз били здесь, на Дону, прихвостней гитлеровской шайки… В этих боях ваши сердца закалились волей к победе. Вы слышите стоны замученных и обездоленных советских людей: отцов и матерей, жен и детей наших? Ваши сердца преисполнены священной ненависти к фашистской мерзости, отребью рода человеческого. Так же, как и в боях под Москвой, Ростовом и Тихвином, вы ждете приказа — идти вперед на врага, на освобождение наших городов и сел, наших семей.
Наступил грозный час расплаты с лютым врагом…»
Пятого августа состоялось комсомольское собрание роты. Оно проходило в лесу. Командир роты лейтенант Антопов в своем кратком выступлении сказал о месте комсомольцев в бою. Закончил так:
— Когда я вступил в комсомол, то почувствовал себя сильней, смелей. Комсомольский билет вместе со мной идет в бой, я всегда помню о нем, ощущаю его у сердца. Комсомольцы всегда впереди, в самых опасных местах, в одних рядах с коммунистами. Комсомолец — это самый добросовестный, смелый боец, самый надежный и верный друг.
Командир роты закончил, сел. Комсорг приступил к обсуждению. Сначала рассмотрели заявления Остапа Черновола, Серго Метревели, Гайфуллы Гилязетдинова. Все они были единогласно приняты в комсомол.
Когда очередь дошла до Тулебердиева, он уже стоял навытяжку, крепко сжимая автомат. Слушая клятвы однополчан, думал о том, что завтра каждое слово должно подтвердиться делом. За свою двадцатилетнюю жизнь молодой киргиз понял, что у всех народов одинаково ценен и уважаем человек, верный своему слову. Успел повидать и краснобаев, залихватских болтунов, проповедующих одно, но живущих совсем по-другому. Научился и в мирном родном ауле, и на трудном военном пути различать и презирать таких людей, для которых слова были маской. Иногда они и сами в порыве красноречия верили собственным словам, но в трудную минуту о них забывали.
Он знал лишь одно: Родина должна быть свободной. Враг должен быть изгнан с нашей земли во что бы то ни стало! Для этого нет надобности произносить много слов. Просто нужно быть верным солдатом и, если потребуется, без колебаний отдать свою жизнь.
Чолпонбай стоял навытяжку, сжимая автомат. Ему сейчас казалось, что он еще не заслужил право на вступление в комсомол, что и тогда, перед строем полка, ему не по заслугам первому вручили гвардейский значок, при всех назвали храбрым воином. И очень волновался, когда произносил сто раз повторенные про себя слова:
— Клянусь, товарищи, что не подведу вас. Вся моя жизнь до последнего дыхания принадлежит Родине!
— Кто за? — спросил комсорг.
Руки дружно взметнулись над головами.
— Единогласно!
— Поздравляю, гвардии рядовой Тулебердиев! Вы приняты в ряды Всесоюзного Ленинского комсомола.
Своей радостью Чолпонбай поспешил поделиться с родными: в тот же день послал письмо брату Токошу и своей любимой девушке.
«Милая Гюльнар! Радость моя, надежда, мой свет! Я давно не писал тебе: на войне человек себе не принадлежит. Идут жаркие бои. Ребята измотались. Мало спим, мало отдыхаем. Но я, милая Гюльнар, держусь стойко. Твои письма, твоя любовь согревают меня. Сегодня большой праздник, великий день! Можешь поздравить — я комсомолец. Сбылось то, о чем давно мечтал. Теперь буду драться за троих. Мы остановили фашиста, не пускаем его дальше. И не пустим. Вся рота дала клятву — не отступать ни на шаг. Будем идти только вперед. Поклялся и я перед друзьями.
…Скоро в бой пойдем. Очень хочется получить твое письмо. А еще больше — увидеть твои глаза, погладить твои шелковистые косички».
Хотелось о многом написать. Но слов было мало.
Это было вчера, а кажется, что давно. Ведь порой годы короче дня, а день от рассвета до первых вечерних звезд — бесконечен. Чолпонбай думал: позади осталось так много хорошего, что даже воспоминаний — от вручения гвардейских значков до принятия в комсомол — хватило бы на всю жизнь. Как же она прекрасна, жизнь, если дала мне, Чоке, так много, если таким волнением потрясает душу. Чем отплатить за все?
— Послушай, Чоке, — Сергей заговорил так тихо, что Чолпонбай насторожился: примерно так говорил политрук, когда они хоронили друзей, павших смертью храбрых. Но сейчас все вокруг были целы и невредимы. Их группа, в которой Чолпонбай был одиннадцатым, завтра на рассвете, точнее перед рассветом, должна переправиться через Дон и овладеть Меловой горой. И, наверно, будут потери. Завтра, но отчего же сегодня с такой грустью заговорил Сергей? Да и, честно говоря, весь сегодняшний день он старался быть рядом со мной, хотя, наверно, надо было отнести материал в редакцию для завтрашней газеты. А уже вечереет. Солнце спряталось за горизонт… Как-то странно, печально смотрит.
Сергей расстегнул карман, достал письмо, протянул другу.
— Возьми себя в руки, Чоке. Ведь завтра бой. Я буду в третьей штурмовой группе. Всякое может случиться… Тогда некому будет тебе об этом сказать…
Еще ничего не подозревая, Чолпонбай взял письмо, начал читать, быстро шевеля губами.
— Токош, Токош… — повторил вслух. И вдруг… Сергей ожидал всего, только не этого. Над листком, втянув голову в плечи, согнулся худенький, стриженый мальчишка, заплакал навзрыд, вздрагивая всем телом, захлебываясь…
Сергей растерялся. Подавив чувства, как перед атакой, сурово сказал:
— Чоке! Что сказал бы Токош? Разве ему нужны твои слезы? Токош требует мести. Ты слышишь меня? Мести в бою!
Чоке услышал. Перед его мысленным взором, как в кинокадрах, промелькнули солнечные дни детства. В дальней дали остались горы, кони, скачки, школа, сокол… И Токош. Скорей бы ночь, переправа, бой… Токош требует мести…
Фронтовая ночь… Во тьме берега Дона будто ближе придвинулись друг к другу, настороженно прислушиваются. Догадываются ли фашисты, что мы предпримем этой ночью? Или, может быть, сами готовятся к тому же, выжидают, когда скроется луна?
Поползли. Ловко перебирает локтями старший лейтенант Горохов. Рядом — бесшумный Герман. Эх, был бы тут и Сергей… С ним всегда Чолпонбай себя чувствует увереннее, взрослее. В штаб дивизии вызвали. Может, где-то важнее участок есть?..
Всплеск на реке показался неожиданно громким. Что это — рыба? Ну да, что ей война…
С минуту еще переждали. Волна о камень плеснула. Сверчки мирно трещат… Снова поползли. Вот и берег… Лозняк… Сонные камыши. Река тихо бормочет о чем-то…
Бесшумно подтащили лодку. Приказано окопаться на случай, того гляди ракета взлетит в небо…
Лодку замаскировали надежно, в трех шагах не увидишь. Может, и не окапываться? Горохов сказал — надо. Тихо, чтобы лопата не звякнула о камень или осколок… Вот она как раз, здоровая железяка. Хорошо, что нащупал. Осторожней, Чоке… Рядом беззвучно в песке окапываются ребята.
Стоп! Замри!
Отлогой дугой метнулась с того берега ракета.
Мертвенный свет отпечатал, как на гравюре, зубчатый рельеф берегов, черные лезвия камыша и осоки. Ракета с шипением ткнулась в воду.
И снова тьма.
Бойцы продолжали вгрызаться в землю.
Довольно, Чоке. Проверь свой плотик. Надо сено потуже умять, узел пристроить, чтобы держаться…
— Тулебердиев!
— Слушаю, товарищ старший лейтенант.
— В четверку младшего лейтенанта Германа.
Взмыла очередная ракета. Горохов склонился к земле.
— Пойдете с Германом. Вплавь. Ты говорил, Чолпонбай, что отличный пловец. Поплывешь замыкающим. Входи в воду сразу за лодкой!
— Есть, товарищ старший лейтенант.
Горохов еще помедлил, чувствуя, что при всей настороженности у Тулебердиева настроение решительное. Командир роты вспомнил, что Сергей Деревянкин ему говорил о Тулебердиеве много хорошего не только как о бойце. Это тоже важно знать. Доброе расположение духа — это подарок, особенно на войне. Значит, все должно быть хорошо, за этого солдата он спокоен.
Горохов повернулся и пополз к другому окопчику, около которого в камышах спрятали лодку.
Рассыпая искры, с Меловой горы опять взмыла ракета.
Когда она погасла, Горохов и пятеро солдат перебежали в лодку. Оттолкнулись. Только начали выбираться из камышей, как противник осветил местность.
Замерли. Опять после света не видно ничего, хоть глаза выколи.
Наконец лодка неслышно ушла в темноту.
Сапоги Чолпонбая сперва увязали в иле пологого дна, потом он почувствовал гальку. Чем дальше от берега, грунт становился тверже. Холодная вода успокаивала. Вот она уже по пояс, по грудь. Чоке решительно оттолкнулся ногами и, ведя одной рукой плотик, на котором лежало оружие и гранаты, поплыл замыкающим, как и было условлено.
Вскоре почувствовал течение. Но знал: место для спуска на воду выбрано с расчетом, чтобы течением снесло весь их маленький десант к устью Орлиного лога, где легче всего выбраться на берег и скрытно приблизиться к Меловой горе.
Недвижимый с виду Дон упруго и властно сносил пловца, вырывал из рук плотик. Какими медленными кажутся взмахи рук, как тяжело ногам в сапогах, каким бесконечным видится окутанный тьмой и туманом водный простор, несущий тебя в неизвестность…
Лодки не видно. Не слышно и весел. Хорошо, что темно. Скоро середина. Но вот — ракета…
На левом берегу командир полка держал телефонную трубку.
Артиллеристы замерли у орудий — снаряды в стволах. Минометчики ждут приказа. Пулеметчики не отрываются от рукояток: большие пальцы на спусковых рычагах…
Это на случай, если переправляющихся заметит противник. Тогда надо будет прикрывать их огнем.
Струйка пота сбежала с виска подполковника. Оттуда, с той первой маленькой точки, которой надо овладеть, развернется наступление на Острогожск, Белгород, Харьков… И очень многое зависит от первого шага, от горстки храбрецов во главе с Гороховым. И… от судьбы, черт возьми!
Как долго висит эта проклятая ракета…
Подполковник Казакевич, не замечая этого, так шумно дышал в телефонную трубку, что, вероятно, было слышно на линии, тело его окаменело от напряжения. Нет, лучше бы плыть вместе с ними, чем так вот стоять, стоять и чувствовать, что ты бессилен влиять на события, хотя, кажется, сделал все, чтобы их предугадать…
Наконец ракета погасла.
Командир полка отер вспотевшее лицо, шумно выдохнул в трубку…
Плыть становилось все труднее, темнота и туман скрывали оба берега. Чолпонбай услышал сдавленный болью шепот:
— Ногу… судорогой свело.
Это Герман, младший лейтенант. Чолпонбай молча подсунул свое плечо под руку взводного.
Он и сам слабел. Что теперь уж скрывать, пловец Чолпонбай был неважный. Но случившееся с командиром придало ему сил.
— Скоро доплывем, — успокаивал Чолпонбай, а сам, переложив оружие Германа на свой плотик, напрягал последние силы, чтобы не потерять из виду лодку.
Вскоре опять обессилел, налег рукой на плотик. Намокший плотик накренился. Тулебердиев успел схватить автоматы, запас патронов ушел под воду. Остались только набитые диски. Чолпонбай подавил досаду, успокаивая себя, повторил:
— Скоро доплывем. Теперь скоро.
Как-то внезапно забрезжил рассвет. Берег открылся — совсем близко.
Противник ничем не обнаруживал себя. Может, заметил, ждет: подпустить к берегу и расстрелять в упор? Все может быть, ничего нельзя знать, предвидеть…
Послышался всплеск в камышах.
— Щука! — шепнул взводный.
Чолпонбай напряг последние силы, ноги нащупали твердое дно. Увязая в глине, вытащили груженую лодку. На ходу затягивая ремни с патронташами и гранатными сумками, держа наготове автоматы, выбрались на берег, залегли.
Тишина. Только зубы отстукивают пулеметную дробь. Разуться бы, вылить воду из пудовых сапог, глину счистить перед броском на гору…
— Напоминаю, — шепчет командир роты. — Группа Захарина идет слева, Бениашвили — справа. Герман и Тулебердиев со мной.
Молча проводили первую четверку, канувшую в туманную мглу Орлиного лога. Ни шагов, ни звона оружия. Молодцы.
Другая четверка скользнула по берегу вправо.
Горохов кивнул и первым двинулся к еще зыбким в утренних сумерках выступам Меловой горы.
Поползли по склону.
Облепленные глиной сапоги скользили.
Сверху надвинулся выступ, в который врос дзот. Кажется, он вот-вот сорвется с горы, покатится вниз, сорвет крадущихся, карабкающихся людей.
Выше… выше… Метров сто, девяносто, семьдесят…
И все — тишина. Предрассветный сон, или… Шестьдесят метров, пятьдесят… А, дьявол!..
Поскользнулся, покатился сверху Горохов. Подсек Германа. Весь напружинившись, Чолпонбай раскинул руки, врос в камень. Удержал ротного. Тот — Германа. Уф-ф…
И снова тишина вокруг. Не услышали? Подставил плечо Горохову. Тот вскарабкался, подтянулся к выступу. За ним Герман. Горохов подал ему руку, подтащил.
Чолпонбай махнул им, давая понять, что справится сам. Пока помогал Горохову, подсаживал Германа, успел рассмотреть то, что видел вчера в бинокль.
Вдавливая носки в выемки, цепляясь за корневища, выбрался на выступ. Рядом Горохов и Герман. Дальше вверх — козья тропка. Вот и амбразура — видна щель. А может, все-таки наблюдают? Молчат…
Горохов глазами дал понять Герману, чтобы он приготовил гранаты, оставался здесь. Сам с Чолпонбаем неслышно скользнул к двери дзота…
На левом берегу командир полка не отводил бинокля от глаз. Временами он видел группу Горохова, понял, что она поднялась к самому дзоту. Затем пропала…
Шли секунды, минуты… Если все в порядке, если этот дзот будет обезврежен, то они должны дать условный сигнал.
Но не видно ни Германа, ни Тулебердиева, ни самого Горохова.
Почти рассвело. Пора начинать переправу. Теперь все зависело от их сигнала.
Казакевич так долго и напряженно ждал, что чуть не пропустил мгновение, когда, появившись из-за дзота, Горохов трижды поднял над головой автомат.
Самая опасная огневая точка обезврежена!
Подполковник схватил телефонную трубку:
— Всем двадцатым…
Не договорил.
Показалось, над самым ухом застрочил пулемет. Он бил с крайнего выступа Меловой горы. Оттуда, откуда огня не ждали.
Не зря показалось вчера Чолпонбаю подозрительным расположение плоского камня. Дзот контролировал огнем реку, подход к Меловой горе.
Сейчас пулемет в любую секунду может перенести огонь на тех, кто начал форсировать реку.
— Справа обойти! — крикнул Герман.
— Давай! — крикнул Горохов. — Сорвем переправу, если не заткнем ему глотку! Время, время…
Чолпонбай тронул старшего лейтенанта за рукав, попросил:
— Разрешите мне напрямик? Не успеем в обход…
— На-пря-мик? — Горохов протянул это слово. — Верная смерть, Чолпонбай! Ни одного шанса из сотни…
— Напрямик! — уже требовал Чолпонбай. — А вы бегом в обход. Иначе сорвется переправа! Если и не сумею… не успею… так хоть отвлеку на себя… А вы за это время…
И Чолпонбай трижды поднял над головой автомат — продублировал сигнал.
— Ну, давай, дружище! Вот тебе гранаты…
Горохов обнял солдата. Чолпонбай быстро, как кошка, пополз на меловую кручу. Горохов и Герман устремились по каменной террасе в обход, чтобы с двух сторон блокировать злополучный дзот.
Глина давно уже стерлась с сапог, тело стало легким, будто и не было трудной переправы, подъема, рукопашной схватки в первом дзоте…
Был непонятный прилив сил. Сейчас Чолпонбаю помогали все преодоленные им кручи Тянь-Шаня, месяцы тренировок, учений и что-то еще, неуловимое, неосознанное.
Он только видел, что небо уже розовеет, редеет туман, который скрывал от врага наши войска, уже готовые начать переправу. Она должна начаться немедленно, сразу, как только замолчит пулемет дзота.
Ступенька, карниз, еще ступенька… Вот она, амбразура! Сколько до нее? Метров пятнадцать, больше?
Увидел и ствол пулемета: бьет непрерывно, точно задыхаясь от злобы…
Так… Надо осмотреться. Слева не подобраться: круча. И справа кручи… Выступ этот с дзотом — как огромный кулак, занесенный над переправой.
Чолпонбай прильнул щекой к склону. Чебрец или какая-то другая трава, такой приятный запах. Кажется, чебрец…
Путь только один — напрямик, к амбразуре. Другой дороги нет.
Чолпонбай прицелился, метнул в узкую щель амбразуры гранату.
Ствол пулемета, изрыгающий пламя, вздрогнул, сдвинулся… Граната попала в него, перекувырнувшись, отлетела, скатилась и взорвалась неподалеку от Чолпонбая. Осколки известняка просвистели у самых ушей, меловая пыль ослепила глаза. Чолпонбай выхватил вторую гранату, переждал, пока рассеется пыль, бросил.
Грохнул взрыв. Но пулемет продолжал строчить.
Потом смолк. Из амбразуры высунулся ствол автомата, косо направленный на него. Чолпонбай дернулся вбок, пуля задела плечо, кровь потекла в рукав гимнастерки. Левая рука стала неметь.
Желто-оранжевые круги поплыли перед глазами. Послышались голоса, замелькали лица. На миг увидел себя перед комиссаром полка: просит включить в число первых… «Или если мне комсомольского билета еще не выдали, то и доверить нельзя?»
Струйка дыма, белесый туман… Нет, это не Меловая, это снежные горы Тянь-Шаня… И в них летят пули…
Вытаскивает из горной речки товарища — пули летят в него.
Садится на коня, пули — в коня.
Сажает на плечо сокола — пули летят в сокола.
Пасет овец с братом — пули летят в грудь Токоша!
Пули, пули… «Есть сила сильней… Это — человек!»
Сергей Деревянкин… «Здесь люди надежные!» Пули летят в Сергея.
Надо защитить, прикрыть — и комиссара, и друга, упавшего в речку, и Меловую гору, и Тянь-Шань, и коня, брата Токоша, Сергея…
Гитлеровские парашютисты, десант! Вот уже в штыковую кинулись. Спасибо, Сергей! Спасибо, брат, выручил!
Теперь моя очередь вас заслонить! И Гюльнар… Вот она, в тюбетейке: косы по ветру, глаза счастливые… Зачем она здесь? Вокруг пули, и все — в нее! Если он не встанет, тогда упадет она…
Он встанет, встанет… Он спасет Гюльнар!
Чолпонбай на мгновение очнулся. Увидел: плотики отчалили от нашего берега, их все больше и больше, пули летят в них…
Где гранаты? Нет? Но есть я, мое тело, воля… Я могу еще двигаться…
Вот так же бил пулемет из танка, когда он, Чоке, у оврага остановил его связкой гранат. Но теперь гранат нет, он один на один с дзотом, убивающим, огнедышащим…
Есть еще здоровая рука. Чолпонбай ухватился за щербатый край площадки, попытался закинуть колено. Опять желтые круги перед глазами. «Я хочу этот гвардейский значок вручить первому среди первых…»
Чолпонбай ползет вперед. Метр, два, три. Он уже в мертвом пространстве: ни пулемет, ни автомат из дзота достать его не могут. Стебли травы, его кровь… Рука автомат не держит… Как пахнет чебрец! Это я дома… вернулся… Сейчас посплю, потом пойдем с братом в горы…
«…Тулебердиев пал смертью храбрых!» Голос Сергея. «Мы отомстим!»
«Я всегда готов по приказу Рабоче-Крестьянского Правительства выступить на защиту моей Родины… клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни…»
«Первому среди храбрых…»
Родина…
И если не он, Чолпонбай, кто ее спасет?
Встал, сделал несколько неверных шагов вперед.
Из дзота ударил автомат…
С нашего берега командир полка в бинокль видит все.
— Погиб! — не отрывая глаз от неподвижного тела, произнес он.
— Погиб! — повторил комиссар.
И тут увидели: Тулебердиев пошевелился, прополз немного вперед. И вдруг, приподнявшись в броске, кинулся грудью на огненную струю…
Громовое «ура» потрясло левый берег.
8 августа Совинформбюро коротко сообщило о том, что южнее Воронежа наши части форсировали Дон. «Советские бойцы заняли два крупных населенных пункта. Бои идут на улицах нескольких других населенных пунктов…»
Позже с этого плацдарма войска Воронежского фронта развернули широкое наступление на Острогожск, Белгород, Харьков…
* * *
В километре от деревни Селявное Давыдовского района Воронежской области на высоком берегу Дона высится белокаменный обелиск, увенчанный пятиконечной звездой. На нем начертаны слова: «Герой Советского Союза Чолпонбай Тулебердиев. Погиб 6.VIII. 1942 г.»
В ярких лучах солнца обелиск виден на много верст вокруг.
Он будет сиять века.
Внизу плавно несет свои воды тихий Дон — река, повидавшая на своем веку много.
Неуловимые
«Казаки-разбойники»
Третий день осенний воздух и подмороженную воронежскую землю рвали снаряды. Пятна опавших листьев под сапогами и пятна крови почти не отличались друг от друга. А высота еще была не наша.
Такая живописная в мирное время, сейчас эта высота стала смертоносной: противник властвовал над немалым пространством. Мы были как бы обнажены и взяты на прицел. И горько становилось Виктору Колесову оттого, что он, именно он, комсомолец Колесов, не мог ничего придумать. Не раз, не два находил он выход там, где все становились в тупик, не раз побеждал тогда, когда его считали уже погибшим. Но в этот раз, перед этой высотой…
В минуту затишья он развернул армейскую газету. И зябко стало от прочитанных строк:
«В районе Сталинграда продолжались ожесточенные бои… После сильной артиллерийской и минометной подготовки противник силами пехоты и танков вновь атаковал наши позиции в районе заводов…»
Взгляд впился в вечернее сообщение Совинформбюро от 26 октября 1942 года:
«В районе Сталинграда наши войска отбивали атаки танков и пехоты противника».
Ага, отбивали! Отбивали! И, как бы ободряя читающего скупыми строками, газета писала:
«В районе Воронежа, на западном берегу Дона, бойцы подразделения лейтенанта Каныгина ворвались в окопы противника и закрепились в них».
Ну да! Ну, конечно, ворвались! Это Клим Каныгин, вместе они кончали школу лейтенантов. И закрепились! Они смогли! А мы?..
Он прочитал о боях в Африке… И опять на него дохнуло неотвратимой грозой войны, охватившей мир.
Мировая война!
И от того, как он, Виктор Колесов, будет сражаться на своем участке, тоже зависит ее исход…
Ночами, когда на минуту стихала вражеская артиллерия, проступали иные звуки: сурово гудел северо-восточный ветер в ближней роще. Казалось, и роща осуждала Виктора за медлительность.
Вчера Виктор поразился: в канаве увидел цветок колокольчик. Живой лежал он и цвел, хотя его почти засыпала листва. Прозрачное бледно-фиолетовое пламя выбивалось из-под палых листьев клена и ясеня…
И сейчас из-под листвы отгоревших раздумий, из-под завала огорчений и тревог, подобно колокольчику, проступало еще не осознанное ощущение вечности, новизны и яркости жизни. Это никак не вязалось ни с тяжким положением на участке всего батальона, ни с тем, что снова засвистели немецкие мины, ни с тем, как озабоченно и зло посматривали его бойцы на высоту.
Враг подтянул подкрепление, усилил огонь артиллерии и минометов. Наши бойцы вынуждены были залечь. Но, странное дело, вопреки всему в душе Виктора зрела и зрела решимость.
И когда его вызвали в штаб батальона, он пошел так, словно именно его и только его и должны были вызвать. Еще не дойдя до землянки, Виктор уже знал, зачем его вызывают, был рад и готов ко всему.
— Лейтенант Колесов явился по вашему приказанию, — с некоторой даже щеголеватостью отрапортовал он комбату. И тот, человек вдумчивый и строгий, посветлел, почувствовал настроение этого славного парня. Ведь за минуту до его прихода комбат сказал своему замполиту:
— Согласен с тобой! У Колесова определяющее качество — упорство! А это многого стоит. И его любят солдаты, и верят, и, сам слышал, даже гордятся, хотя среди них есть и такие, которые ему в папаши годились бы…
Комбат усадил Виктора на патронный ящик, сел около, положил руку ему на плечо и задумался. Виктор пытливо всматривался в карту, разложенную на только что сколоченном столике. Пламя коптилки, сделанной из стреляной гильзы, покачиваясь, обрисовывало мальчишеское лицо Виктора, его вовсе и не волевой подбородок, чуть припухлые губы, и трудно было поверить даже здесь, на войне, что этот юноша — самый меткий, самый хладнокровный пулеметчик, что он лично из своего «максима» сразил сотни гитлеровцев…
— Твои места? — и комбат совсем как-то мягко посмотрел на Виктора и вздохнул.
Виктор кивнул, почему-то опять вспомнил колокольчик в канаве и повернул ясное лицо к комбату.
— Так вот, Колесов, — и комбат левой рукой провел по губам, которым трудно было выговорить то, из-за чего Виктора вызвали в штабную землянку…
— Задание? — Виктор встал.
— Задание! Садись, садись… — и опять рука комбата легла на плечо Виктора. — Очень важное… И только ты можешь. Говорят, нет незаменимых. Нет, есть незаменимые. Люблю тебя, как сына, ценю, а заменить некем. Или ты выполнишь, или никто…
За стенами землянки взорвалось несколько мин, загремели орудия, пламя коптилки испуганно заметалось. Комбат объяснил Виктору задачу, потом сказал:
— Сколько нужно, столько бойцов и бери. Как сочтешь нужным решить задачу, так и решай. Все в твоей воле.
Да, в его воле было ночью самому пойти в разведку. Он медленно полз к линии вражеской обороны… В его воле… Сбить противника с высоты, закрепиться на ней… Виктор работал локтями, руки его часто касались осколков, усеявших подножие высоты, мягкая трава гладила его лицо и пахла дымом, родиной, и отчего-то щемило в груди. А руки и ноги делали свое дело, уши сторожко ловили ночные шорохи.
В четыре кола проволочное заграждение. Он пополз вдоль проволоки. «Вот один проход. Заминирован. Наверно, оставлен для контратак. Хорошо, что дают ракеты, все-таки смогу получше рассмотреть… Вот еще, да, да, — еще проход. Ох, как близко ракета!.. — Он прижался, втиснулся в высокую густую траву, по которой совсем недавно ходил на прогулку. — Не о том, не о том надо думать. Вот еще проход. Да, значит, все три заминированы и заминированы ловко… Умеют немцы воевать. И как хитро построили окопы», — думал он, пользуясь каждой вспышкой ракет, чтобы запомнить расположение немецких окопов.
Еще в школе учитель по литературе учил развивать зрительную память. «Не раз жизнь устроит вам экзамен, и не раз выручит вас зрительная память», — эти слова тогда не воспринимались всерьез. Но сколько раз в боях и походах Виктор повторял их бойцам! Ведь и сейчас от того, как он все запомнит, зависит исход еще не начавшегося штурма и его, Виктора, жизнь…
Вернувшись, в темноте построил он взвод. Бойцы сливались в одну массу, лиц не было видно, но Виктор знал каждого, знал даже их биографии, знал, о чем пишут и как живут родные каждого бойца. И сейчас, стоя перед бойцами, он очень неторопливо подбирал слова.
— Глухов! Это твои ведь места?
Взвод в ответ сомкнулся еще теснее. А Глухов, стоящий в третьей шеренге, кивнул. И хотя никому не видно не только его кивка, но и его самого, Глухов был уверен, что командир взвода видит его. И правда, сразу же после его кивка лейтенант Колесов еще более сердечно продолжал:
— В казаки-разбойники небось гоняли здесь, на этом пригорке.
По суровым лицам скользнула улыбка. И ее не было видно. Но по тому, как весь взвод, точно один человек, переступил с ноги на ногу и вздохнул, лейтенант понял, что говорит правильно, хотя это не предусмотрено никакими уставами. Здесь высшим уставом был устав предстоящего штурма, почти неминуемой гибели. И, назвав высоту пригорком, командир взвода как бы заранее подчеркнул непрочность немецких позиций, хотя они были крепки.
— Так вот, Глухов, — все так же неторопливо продолжал лейтенант, — надо будет сыграть в казачки-разбойнички, потому что этот пригорок мы сейчас возьмем. Пусть твое отделение проверит автоматы и впрок запасется противотанковыми гранатами. Вашу штурмовую группу поведу я, а вот первое и третье отделения… — И командир взвода уже перешел на деловой, рабочий тон, внушая своим голосом, словами, манерой отдачи приказа твердую уверенность в благополучном исходе боя.
Два отделения по его приказу должны были наступать с флангов. Командирам отделений лейтенант Колесов подробно, метр за метром, кустик за кустиком, бугорок за бугорком, объяснил путь продвижения, посоветовал, в какой воронке лучше затаиться, предупредил, откуда могут взлететь ракеты, откуда можно вести скрытное наблюдение за подползающими фланговыми группами.
— Все понятно?
— Понятно, товарищ лейтенант!
— Повторите!
Когда оба командира отделения повторили, он приказал им точно объяснить каждому бойцу его задачу.
Убедившись, что каждый боец совершенно ясно представляет свою задачу, лейтенант Колесов со своим любимым «максимом» возглавил штурмовую группу.
В полночь пулеметчики начали свой путь ползком. Не зря так долго экзаменовал их лейтенант. Пригодились и трава, и каждый куст, и каждая воронка.
Командир взвода уже подполз к центральному проходу, посмотрел на часы. Двадцать минут после полуночи. 0.20. 0.25. Все тихо. Эти пять минут были контрольными. Раз нет никаких сигналов от фланговых групп прорыва, значит, все на местах. 0.26…
— Огонь! — крикнул лейтенант Колесов.
И одновременно в трех местах, в три прохода, полетели гранаты. Они взрывались вместе с вражескими минами, взрывались, освобождая путь бойцам.
— Ура! — И сквозь еще не рассеявшийся дым, во тьме, оглушенной внезапными дерзкими взрывами, по трем проходам ринулись к высоте пулеметчики.
Бегущий во главе своего отделения младший сержант Алексей Глухов увидел, как немецкий пулемет заговорил из-за двугорбого бугра. Он бил как раз с седловины этого бугра. Сколько раз случалось в детстве, играя в казаки-разбойники, босой Алешка Глухов скрытно подбирался к этому «верблюжонку» днем. Теперь же ночью он первый кинулся, первый достиг седловины и не просто бросил, а перебросил гранату через бугор, чтобы она угодила в углубление, в котором только и мог закрепиться вражеский пулеметчик.
Этот взрыв гранаты и оборвавшийся голос пулемета подхлестнули растерявшихся и уже пятившихся гитлеровцев.
Вот уже Глухов оказался там, куда только что перебросил гранату. Вот он развернул немецкий пулемет и начал косить убегавших…
А лейтенант Виктор Колесов уже перебегал от одного трофейного пулемета к другому. Он поставил своих пулеметчиков к этим исправным, действующим пулеметам.
— Сейчас опомнятся и пойдут в контратаку! — на бегу пояснял он, а сам уже оказался около двух трофейных минометов. — Так, и это в дело! Спасибо, что и сорок ящиков патронов оставили — будет чем обороняться. Ну как пригорок, а? Глухов, как пригорочек?
Лежа у своего «максима», он встречал огнем контратакующих.
Когда первая контратака была отбита, бойцы стали глубже врываться в землю.
А с рассвета гитлеровцы снова устремились к высоте. После восьмой контратаки, потеряв до батальона пехоты, враги оставили надежду штурмом вернуть высоту.
— Спасибо! Спасибо, лейтенант! — сказал по телефону комбат. — Вижу, вижу, что высота твоя. Рад, что жив! А какие у тебя потери?
— Семь раненых.
— Продержишься до вечера?
— Продержимся!
— Ну, добро! — И комбат, выйдя из землянки, глянул на высоту, перевел взгляд на безмерные дали, еще находившиеся в руках противника, помрачнел. Сколько будет еще таких безымянных высоток, сколько таких штурмов, сколько крови и смерти, прежде чем они сбросят врагов с родной земли, как сбросили их ночью с этой высоты…
Смерч
На броне танка идти в атаку… Она прохладна и, когда кладешь руки на темную, чуть шероховатую сталь, успокаивает. Танк вынырнул из рощи. Роща темна. Облетела почти вся. Редкие звезды, как листья, висят на обнажающихся ветвях.
Вот грозная машина набирает скорость, и ночная звезда зависает на стволе орудия.
Рядом с Виктором Колесовым — Дышко и Лихачев. Опытные автоматчики. Он еле видит их силуэты, их автоматы.
Обо всем сказано. Сказано коротко, строго и ясно: немцы переправились через Дон, весь день атаковали наши позиции, а сейчас Виктору Колесову поручили разведку на танке, может быть, разведку боем. Дышко и Лихачев на всякий случай придерживают ящик с гранатами, который втащили на броню: разведка разведкой, а без боя не обойтись.
Танк развивает большую скорость. Покачивает лейтенанта на «стальной высоте». Надо разведать расположение и огневые средства противника. Это значит: ночью увидеть их в действии. Ну, а если превратить разведку, даже разведку на одном танке, — в бой! Ведь ночью особенно не разберешь — сколько машин атакует.
Колесов сосредоточенно думает: «Успеет ли наша пехота изготовиться, если мы на танке сумеем ворваться в расположение врага?»
Дело отчаянное. Но иного пути нет. Надо, надо ворваться!
— Ты ведь левша, — в ухо кричит Колесов Дышко.
Дышко кивает. И показывает гранату, зажатую в левой руке.
— Лихачев, обеспечишь справа!
Лихачев что-то кричит в ответ.
Энергия мчащегося танка вливается в людей, прильнувших к броне.
Виктору чудится, что и он не в гимнастерке, а в броне, он сейчас неотделим от мощи танка.
Главное — не теряться!
Они двигаются все быстрее, навстречу огню, неизвестности. Как покажет себя механик-водитель Георгий Кылымник?
Правда, командир танка лейтенант Матвей Окороков сказал:
— Ребята, Георгий не подведет. Он сквозь сталь чувствует, кто у него на броне. Только держитесь, когда ворвемся, крутиться придется, как чертям на сковородке.
А радист Степанчук только пожал руки всем: Виктору, Дышко и Лихачеву.
Танк мчится, а слова эти оживают, это рукопожатие еще продолжается. И поди пойми, что решает исход боя. Силой наполняют и Колесова, и его автоматчиков недавние взгляды танкистов.
Ночь! Темна, черна! Глянул в небо, а его нет: ни звездочки. И вдруг ракета.
И танк с ходу врывается в расположение противника. Колесов при вспышке ракеты видит, как стремительно разворачивают против них противотанковую пушку, и его граната точно летит в цель.
Главное — не теряться!
Танк утюжит окопы. Георгий ставит его так, что другая противотанковая пушка не может ударить: попадет в своих, а в это время слева поражает ее гранатой Дышко и хватается за автомат. А Лихачев «обеспечивает справа». Хорошо «обеспечивает»: уже отправил на тот свет третью противотанковую. Лихачев так увлекся, что на резком развороте, если бы не поддержал его Виктор, слетел бы и попал в лапы гитлеровцев.
Еще одну, четвертую, пушку просто придавил Георгий танком.
Потом он взял влево, к самому Дону. Фашист вырвал чеку из гранаты и замахнулся, но пули Колесова перебили ему руку.
Танк развернулся, и Виктор не увидел, а только услышал, как враг подорвался на своей гранате.
Танк проутюжил окоп, но, едва миновал его, как оттуда высунулась рука с гранатой.
И снова пули Колесова уберегли танк.
Окопы. Траншеи. Откатившаяся каска. Переломленный автомат, смятый лафет. Вздыбленная земля. Все вращается от бешеного движения танка. Пули звякают о броню и рикошетом разлетаются по сторонам. Танк разведчиков и вправду крутится, как черт на сковородке. Он — неуловим.
«А как там наши? — вспыхивает в мозгу. — Как пехота?»
Сквозь рев моторов доносится:
— Ур-рра!
Ураганное «ура!». Русское «ура!». Кажется, его слышат и в танке: танк утюжит окопы у берега, гремят гранаты.
И танк разворачивается, а пехота наша в ночной атаке уже сбрасывает врагов в Дон…
Во имя жизни
— Мы здесь! Но замаскироваться надо так, словно здесь нас нет, ни одного, — приказывал Колесов пулеметчикам, выдвинув их на фланг, чтобы огнем поддержать наступление пехоты.
Наступление должно начаться через несколько минут.
За эти минуты пулеметные гнезда еще глубже ушли в землю высотки.
— «Высотники», — пошутил рядовой Рудник. — То вы с Дышко и Лихачевым на верхотуре — на танке, то вон на той высоте, а теперь мы все вместе здесь окопались.
Лейтенант улыбнулся. Он всегда старался перед боем не только сосредоточить внимание бойцов на грядущем сражении, но и шуткой, прибауткой, улыбкой вернуть им доброе расположение духа, потому что война — работа, тяжкий, адский труд. И тут необходимы какие-то минуты отдыха. Вот почему он и сейчас сперва шутил, а потом предупредил:
— Вы фильм «Чапаев» видели? Так вот, если нашим удастся опрокинуть гитлеровцев и погнать их к высоте, приказываю не стрелять, не стрелять до тех пор, пока они не подкатятся вплотную. Пока я первый не начну…
Сперва противник ожесточенно огрызался огнем, ни на шаг не сходя с позиций.
Первые атакующие уже подбегали к вражеским окопам, прыгали в них. Завязалась рукопашная в окопах.
Пулеметчики напряженно следили за ходом атаки, нервно поглаживая пулеметные ленты, прицеливаясь и примеряясь, сдерживая себя. Вот новая лавина атаки хлынула и опрокинула противника. Вражеские заслоны еще прикрывали отход огнем, а основные силы гитлеровцев покатились назад по лощине к высоте, где ждали их наши пулеметчики.
Виктор Колесов видел, как в коротких сапогах, с засученными рукавами бегут они, топчут нашу землю. Впервые он физически ощутил боль нашей земли, наших трав, наших листьев, истязаемых сапогами чужеземцев. Следовало сосредоточиться на бое, на точном расчете. И, наверно, какой-то частью своего сознания лейтенант Колесов все это делал точно и привычно, но главная его забота была пронизана этой впервые прочувствованной болью, тоской оскорбленной Родины.
Когда он бросал гранаты, когда стрелял из пулемета, когда бежал по земле, он ни разу не задумывался о ней. Но вот так близко, при свете утреннего октябрьского солнца впервые видел он, что топчут, топчут, как живое, родное, дорогое ему существо, топчут землю. И его душа как бы переселялась в каждый лист, в каждую травинку, в каждый метр поруганной земли. И казалось, что сапогами по его сердцу идут, бегут палачи.
Это сострадание к своим просторам всколыхнуло гнев, и он схватился за рукоятки пулемета и чуть было не нажал на гашетку, краем глаза увидел, что и Глухов и Рудник вот-вот откроют огонь и погубят дело: обнаружат себя.
«Не стрелять!» — хотел крикнуть он вопреки своей жажде стрелять и стрелять.
— Не стрелять! — прошептал он.
Наверно, его и не услышали. А он замер от страха, что кто-нибудь не выдержит и начнет.
Враги накатывались. Это уже не далекая бесформенная масса: уже видны их мундиры, вымазанные в грязи, видны медали, пуговицы, погоны, видны закушенные губы и расширенные от напряжения жесткие глаза.
Еще секунда — и будет поздно!
И тут Виктор нажал на гашетку.
Вся высота резанула пулеметным огнем.
Стреляные гильзы отскакивали в сторону, и, подобно этим гильзам, начали валиться на землю тела врагов.
Пулемет Колесова смолк, и тут же онемела вся высота.
Видимо, решив, что патроны у пулеметчиков кончились, новые ряды гитлеровцев кинулись на высоту. Впереди, почти касаясь друг друга локтями, с пистолетами в руках бежали два офицера. Они почти вплотную добежали до бруствера, когда пулемет Колесова снова заговорил…
После боя, проходя мимо убитых вражеских солдат, Колесов особенно пристально посмотрел на этих двух офицеров, сраженных им почти у самого бруствера.
Солдаты подносили трофейные винтовки, подтягивали пулеметы, отбитые в этой атаке, тащили патронные ящики. А Виктор смотрел на молодые лица офицеров. На них не отражалось сейчас ни злобы, ни отчаяния. Они были, наверно, ровесники Виктора. И ему стало страшно, что за несколько лет фашизм смог, подобно раковой опухоли, разъесть души этих молодых людей, фашизм смог вложить им в руки оружие, сумел бросить их на наших мирных людей и, наконец, заставил их умереть. Во имя чего? За что? Позорная смерть на чужой земле. «Виноваты и они, да, они получили свое, — думал, отходя от убитых и принимаясь за повседневные дела, Виктор. — Но главные виновники еще далеко. Сколько надо будет силы, чтобы дойти и отомстить за все. Сколько раз еще придется убивать во имя жизни!..»
— Лейтенанта Колесова в штаб батальона! — донеслось до него.
Приближался новый бой…
Три танкиста
Выстрел! Выстрел! Еще! Еще!
Ракета!
Ночь исчезла: земля светилась, выпячивая живые бегущие мишени.
Автоматные очереди. Трассирующие пули над шлемофоном, над окровавленной головой, над разорванным комбинезоном. Три человека. Ракета высветила их с такой отчетливостью, так низко повисла над ними, что гитлеровцы, настигавшие наших танкистов, замедлили бег: не уйти, не добежать этим обреченным. Сейчас их скосят, срежут, срубят.
— Быстрей! — задыхаясь от бега, крикнул Матвей и взмахнул правой рукой, как бы подтягивая за собой Георгия и Алексея. — Быстрей!
Конечно, быстрей! Только быстрей! Ведь они вырвались на нейтральную зону, они должны добежать до своих!
Очередь из автомата прожгла ночной воздух над плечом Матвея. Он ощутил на миг огненное дыхание смерти. А Георгий упал лицом вперед.
Матвей и Алексей остановились, а гитлеровцы ускорили бег.
— Живыми, живыми их взять! — долетело до Матвея, знавшего немецкий язык. — Только живыми!
Матвей и Алексей одновременно приподняли друга.
— Простите, ребята, споткнулся! — еле выговорил тот.
Вперед, вперед! А ноги еле передвигаются. Еще несколько секунд, еще секунда, и все трое рухнут. Это было как во сне, точно в эти предсмертные мгновения Матвей увидел себя и своих друзей со стороны, увидел их замедленные усталостью, беспомощные движения, увидел эту летнюю простреленную и ослепленную ненавистью и ракетами ночь, эту истерзанную шрамами траншей и язвами воронок нейтральную полосу, увидел преследователей, тоже усталых, перепрыгивавших через траншеи, огибающих воронки, стреляющих на бегу.
Теперь эти позиции казались недосягаемо далекими, где-то там, по ту сторону жизни, куда надо и добежать самому, и любой ценой дотянуть друзей. По ту сторону… Уже не соображая, в отчаянии Матвей сорвал с себя шлемофон и швырнул его оземь, точно земля виновата в том, что ее кромсали минами и снарядами, в том, что сейчас эти трое тянули по ее лицу три кровавых следа.
— Ложись! Граната! — и самый близкий из настигавших их гитлеровцев первым распластался на земле, приняв шлемофон за гранату. За ним упал еще один. Но сзади прохрипели по-немецки:
— Трусы! Идиоты!
Преследователи вскочили. И все же несколько секунд у смерти выиграно! Несколько секунд, несколько шагов.
И тут с нашей стороны ударил «максим». Погибнуть не от немецкой пули, от своей, за несколько десятков метров от своих…
Но пусть, пусть, лишь бы не от вражьей! Матвей полуобхватил друзей, последний раз ободряя. Но Георгий и Алексей осели от усталости и от потери крови, и рядом с ними упал и Матвей. Плотно прижались они к мокрой, израненной, шершавой ночной земле.
И все поплыло, закачалось, закружилось. Кажется, смолк и «максим»…
* * *
А еще недавно все было наполнено торжествующим гулом наступления. И летние листья тысячами ладоней махали вслед атакующим. И, точно листья, красные флажки на штабной карте передвигались на запад. И танк Матвея Окорокова наматывал на гусеницы горящие пыльные километры. Механик Георгий Кылымник, прищурившись, вглядывался сквозь смотровую щель в проползавшие дома, кирхи, мосты и магазины. Огромные стекла распадались на тысячи слепящих солнц. Брошенные пушки, патронные ящики, скособоченные взрывами чужие грузовики — все это росло, сгущалось, все говорило о нарастающем темпе наступления. И механик Георгий Кылымник забывал об усталости, точно рычаги управления были невесомыми.
И был еще с ними четвертый член экипажа — белокурый весельчак Саша Шаповалов…
И когда на заранее подготовленном рубеже немцы заставили наши части остановиться, экипаж Матвея Окорокова решил, что мы «не остановились, а приостановились, набирая силы для нового прыжка». Примерно так и сказал радист Алексей Степанчук.
— Интуиция у тебя! — пошутил Матвей, когда экипажу поставили задачу выйти на коммуникации врага и тем самым пробить первую брешь в обороне.
— Интуиция, — поддержал командира механик Георгий, помогая пополнить запас снарядов перед выходом на задание.
— Интуиция? — И радист Алексей, точно впервые в жизни, стал рассматривать недра их стального дома. Глаза скользили по лицам друзей, по стенам. Сколько здесь пережито, сколько раз выручал их из беды этот стальной мчащийся дом, грудью своей защищая их жизнь. А сколько раз выдержка и ловкость механика спасала танк: Георгий за какое-то мгновение до вражеского выстрела так разворачивал машину, что снаряд или вовсе пролетал мимо, или только по касательной задевал броню.
А Матвей, их командир, как он точно отдавал приказы! Что и говорить, сжились с металлом, теперь это уже не просто танк, теперь это воистину стальной дом, освященный воспоминаниями, крещенный огнем и свинцом. Все они трое, если бы оказались вне танка, могли бы из разноголосого рева танковых моторов отличить, выделить басовитый, натруженный говор своего «трудяги». И сейчас сперва радист, а вслед за ним и командир и механик так оглядывали танк, точно вопрошали: «Не подведешь?..»
От летнего солнца потеплела броня. А кажется, что согрели ее они втроем. Неожиданные воспоминания осаждают танкистов, будто вовсе они и не танкисты, а просто мирные парни.
Матвею вспомнилась девушка, обещавшая ждать. И теперь кажется, будто от ее ожидания, от ее верности зависит его жизнь и смерть…
Георгий вспомнил предвоенное лето, колосья пшеницы, лицо матери, ее удивительно доброе лицо…
Алексею представилось, что он сидит на берегу под раскидистой липой и удит, у него две удочки самодельные. От жары нет-нет да и сорвется на плечо капелька сока с дерева… Поплавки замерли…
А между тем танк уже в пути. Между тем именно интуиция и только интуиция помогает трем танкистам.
В густом предрассветном тумане сквозь передний край прошли они так неторопливо, что не вызвали никакого подозрения. Деревни и хутора предусмотрительно обходили стороной: теперь уже танк был один.
По данным разведки, оставалось еще пройти две деревни, чтобы достигнуть основного оборонительного рубежа. Однако перед первой же деревней вся земля была изрыта траншеями, окопами, опутана колючей проволокой в три ряда. Еще влажные от утреннего тумана, кое-где мерцали немецкие каски, всюду, на всем протяжении вражеских траншей нервно суетились солдаты. Вот из траншеи высунулся офицер, и первый луч солнца, ударившись о его крест, отпрянул и кольнул глаза Матвею.
Появление нашего танка было столь неожиданным, что высунувшийся по пояс из траншеи офицер так и замер с открытым ртом, забыв произнести какую-то команду.
Между тем Георгий уже на полной скорости ринулся вперед, прорывая завесу колючей проволоки, утюжа окопы и траншеи. Матвей вел огонь, расчищая путь стальной громаде.
— Ворвались в деревню! — успел передать радист Алексей Степанчук. — Вступили в бой! Самоходки!
И точно: ворвавшись в деревню, танк наткнулся на самоходки. Наших танкистов успели заметить раньше, чем они обнаружили «фердинанды». И первая же самоходка круто развернулась, чтобы ударить. Тут-то и всадил ей Матвей снаряд в бензобак. Закачалось, метнулось пламя, и, обожженная страхом, вторая самоходка нырнула за дом. Лишь конец длинного ствола увидел Георгий, рванул к дому, лбом машины толкнул его, и крыша сползла на самоходку. Георгий дал заднюю скорость, а Матвей выстрелил. Крышу и самоходку поглотило пламя.
«Дом-то, как наш! А если в нем люди?» — и Матвей оглянулся.
Дом был пуст.
Только вылетела серым клубком кошка и махнула через улицу, как раз навстречу третьей самоходке, выдвигавшейся из-за большого дома.
Георгий остановил танк, и Матвей с первого же выстрела, как топором, отсек ствол. Самоходка развернулась и на полной скорости пустилась вдоль по улице, но два наших снаряда настигли ее, и теперь три огромных косматых костра пылали, поднимаясь все выше.
Как сейчас необходимо было поддержать напор одного танка! Но другие машины вели бой в пути, вели трудный, долгий, изматывающий бой. И Матвею с экипажем оставалось рассчитывать только на себя. Одни! Но важно выиграть время, важно не давать им опомниться, а там и наши подоспеют.
— На окраину! — приказал Матвей.
Включена четвертая передача, прибавлен газ, и танк пошел, поводя стволом, нащупывая цель.
Из двора, отделенного от танка пятью домами, выехали две автомашины. В руках у немцев, заполнявших кузов первого грузовика, темнели связки противотанковых гранат. Еще несколько секунд, еще десяток-другой метров, и полетят гранаты в сторону нашего танка.
Из орудия Матвей поразил первую автомашину, а вторая была раздавлена гусеницами.
Ни Матвей, ни Георгий, ни Алексей не слышали, как ширился крик, как он, подобно пламени, простирался вдоль деревни: «Русские! Мы окружены! Русские! Русские!..»
Дворами бежали немцы, бросали автомашины, оставляли орудия. Рев танкового мотора подстегивал бегущих, его снаряды уничтожили расчеты двух орудий, его гусеницы вдавили в землю станковый пулемет на окраине. Из-за того что ветер широко разметал пламя горящих подбитых самоходок, грузовиков, из-за высокой скорости летящего танка, появлявшегося то в одной стороне деревни, то в другой, многим немцам и впрямь показалось, что они в стальном кольце наших машин.
Вот сейчас наш танк вырвется на самую окраину деревни и… Но тут он точно столкнулся со скалой. Содрогание корпуса танка оглушило всех. Мотор заглох. Георгий сгоряча стал нажимать на стартер, пытаясь завести мотор. Охваченный порывом атаки, механик все еще чувствовал себя неуязвимым за стальной броней. И не мог понять, что усилия завести мотор напрасны. Георгий подумал, что ему мерещится:
— Танк подбит… Мы горим…
Что? Это голос радиста Алексея Степанчука? Да нет! Это послышалось! Он оглянулся и увидел, что языки пламени проникли уже внутрь танка.
— Где Матвей? Где командир? — крикнул он.
— Вылетел… выбросило его, — послышалось откуда-то издалека.
— Что? — рассвирепел Георгий, ладонями придавливая пламя, въедавшееся в комбинезон. — Серьезно отвечай! Где Матвей?
— Вырвало, — задыхаясь, ответил Степанчук, — вырвало, говорю, и унесло куда-то.
Дымом заполнило танк, дышать стало нечем, огонь впивался в тело.
— Прыгай! Прыгай, — крикнул Георгий, зажмурившись от едкого дыма и вслепую заряжая пистолет. — Прыгай, Леша!
Никто не отозвался.
Каждую секунду можно было ждать взрыва.
Георгий открыл люк, рывком выскочил из танка.
Сейчас грянет взрыв.
Георгий увидел, как трудно поднимается верхний люк.
Минута — и взрыв, будет взрыв!
Георгий кинулся к люку, помог Алексею, вытащил его, уже задыхавшегося. Снял с танка и, взвалив на спину, сам дивясь своей силе, стал быстро удаляться.
Едва они скрылись за домом, как танк, точно крепившийся и ждавший, пока они скроются, взорвался.
Гром взрыва вернул Алексея из забытья. Худое лицо его за эти утренние часы боя обострилось, копоть вычернила узкие скулы, глаза, задымленные болью и чадом, не узнавая, смотрели на друга:
— Ты… Ты?..
— Что ты, Алешка, Алешка, — теребил его Георгий, уже успевший опустить Алексея на землю.
— Да, я — Алешка, я — Алексей… А ты… А где лейтенант? Где командир? Матвей, Матвей Окороков где? — Он выговаривал это мучительно медленно, они теряли драгоценные секунды, отсчитанные им для спасения. Но Георгий знал, что скорей погибнет, чем поторопит Алексея, потому что и в бою, и перед смертью есть мгновения, ради которых живет и умирает человек. И хотя Георгий ничего не мог ответить Алексею, выслушал его до конца.
Алексей приходил в себя, его глаза прояснились, а Георгий только начинал осознавать, что потерян друг, лучший друг — Матвей. Он даже и сам не знал, он только сейчас постигал по нестерпимой внутренней боли, как дорог был ему Матвей. Точно с ним обрывалась и его, Георгия, жизнь, кончалось или уже кончилось что-то большое, самое большое, может быть, молодость.
И вдруг Алексей резко поднялся с земли, схватил за плечи Георгия:
— Где? Где Матвей? Куда его дел? — Глаза радиста исступленно блестели, голос срывался. — Где? Ты виноват! — И тут сознание вернулось к нему, потрясенному и боем, и удушьем, и взрывом. Он закрыл глаза, прижался черной от сажи щекой к щеке друга. — Прости, Георгий, прости…
Георгий бережно опустил на теплую землю ослабевшего Алексея, а сам старался сообразить, как все произошло. Откуда, с какой стороны их танк был поражен? И куда могло выбросить Матвея? Где он сейчас?
— Георгий, — не открывая глаз, как бы в бреду, проговорил радист, — надо искать Матвея, надо найти его, наши все равно подойдут не скоро, может, он еще жив, найти его надо, может, не поздно…
Не поздно? Не поздно?! О, как иногда желание преобразуется в новые силы! Они одновременно подумали о спасении друга, и в благодарность за верность жизнь одарила их новой энергией. А может быть, и правда, главные силы приходят к нам тогда, когда мы думаем не о себе, а о других, о дорогих нам людях…
Георгий и Алексей, где пригнувшись, где по-пластунски, начали пробираться от дома к дому, стараясь отыскать Матвея.
— Видишь? — И Алексей указал на руку, выступавшую из-под обломков.
Подползли ближе. «Погиб. Погиб. Погиб!» — стучало в виски, а сами они начали отбрасывать обломки, стараясь делать это бесшумно. Они лежали на земле, ловя одновременно и звуки шагов, и далекую немецкую речь, и окрики, и ругательства.
Наконец показалась голова.
Нет, не Матвей! Они с облегчением поползли дальше, и вдруг под рукой Георгия оказался шлемофон. Шлемофон их командира. Да, это он, с надорванной правой тесемкой, с зашитой над правым ухом кожей. Сам и зашивал его позавчера Георгий, потому что Матвея вызвали в штаб…
Георгий и Алексей переглянулись. Алексей протянул руку к шлемофону, погладил его, а Георгий в отчаянии поднял глаза и отвернулся от Алексея, чтобы тот не видел его страданий. И тут сквозь слезы у стены соседнего дома он разглядел расплывчатый знакомый силуэт. Он не лежал, он был прислонен к стене или сам прислонился…
Георгий рукавом отер глаза и ясно увидел командира, его смертельно бледное лицо. Увидел Матвея и Алексей.
Забыв об опасности, они в полный рост кинулись к другу.
— Что? Что с тобой? — только и выдохнул Георгий, тронув за руку Матвея и как бы удостоверяясь и все-таки еще не веря, что Матвей перед ними, что он жив.
— Ничего, — скорее угадали, чем услышали они, а командир указал рукой на соседний дом. — Туда… вон выступил из-за угла…
Георгий выхватил из кобуры пистолет, вскинул его и выстрелил в гитлеровца, который с противоположной стороны дороги уже выпустил несколько пуль из автомата. Враг зашатался и осел, но и Матвея, раненного, они опустили на землю: пуля задела ему ногу.
— Наблюдай! — бросил Георгий Алексею, а сам принялся перевязывать командира.
— Да у тебя самого плечо кровью залито, — и Матвей потянулся за бинтом. — Ну-ка, дай половину. — И пока Георгий бинтовал ему ногу, тот перевязал плечо другу, широкое, мощное плечо.
Невысокий радист Алексей стал как бы еще меньше, незаметно изучая улицу и подход к следующему дому, крытому жестью. Алексей напрягся, он старался не только увидеть, но и услышать, по звукам определить близость и количество врагов.
— Ну что, интуиция? — через силу выдавил сквозь зубы Матвей.
Алексей приподнялся, прополз за угол, огляделся зорко, предостерегающе приложил палец к губам и, махнув рукой, позвал за собой друзей. Они сами не поняли, как им удалось под носом у немцев перебраться к следующему дому и юркнуть в сени.
За порогом тяжело процокали подкованные сапоги.
Танкисты затаились: сюда или нет? Пистолеты трех друзей были направлены на дверь.
Георгий краем глаза уже наметил путь их дальнейшего движения.
И едва шаги стали стихать, ловко вскарабкался на чердак. Протянул руки Матвею, начал втягивать и его, а Алексей снизу помог командиру. Тот уже был наверху, когда опять за порогом загрохотали сапоги.
Теперь два пистолета были направлены на дверь с чердака, а третий — пистолет Алексея — находился у самой двери. Шаги замолкли перед дверью, и она начала медленно открываться.
Еще мгновение, и Алексей выстрелит.
— Ганс! Ганс! — прозвучало с той стороны улицы, дверь снова затворилась, и послышались быстрые шаги.
Алексей тыльной стороной ладони отер пот.
Как забраться ему? Ведь он мал ростом!..
— Метла! В углу, — шепнул Георгий.
И вот метла в руках Алексея. Один конец он протянул друзьям, а за второй схватился. Они втащили его на чердак в тот миг, когда дверь распахнулась и два гитлеровца вбежали в избу.
Держа наготове автоматы, они обшарили сени.
— Может, на чердаке? — разобрал Матвей.
— Нет, Ганс! Тебе показалось, не входили они сюда.
— Что я, слепая свинья, по-твоему?! Их трое! Один здоровый, на две головы выше тебя, второй с тебя, а третий вроде мальчишки.
— Правильно! Лейтенант решил поджечь эти дома, где-нибудь они здесь. Пошли за соломой! Мы их выкурим!
— А если дома сожжем, а их нет?
— Лучше что-нибудь, чем совсем ничего! — и оба, засмеявшись, вышли.
Танкисты затаились за трубой. Сквозь пунктир отверстий, вероятно, пулеметной очередью пробитых в жестяной крыше, радостно врывались отвесные солнечные нити.
Эти золотые соломины касались троих друзей, обещая ласку, покой. И трудно было поверить, что рядом, вокруг дома, уже громоздятся охапки соломы, что сейчас чиркнет спичка, и…
Матвей внимательно всматривался в глаза друзей. Они отвечали ему молчаливыми взглядами: в них светилась готовность ко всему. Безотчетным движением Матвей полуобнял их. И так они встретили этот огонь, который карабкался по стенам, красными пятками опираясь о каждый выступ, вползая в каждый проем, в каждую щель.
Георгий смотрит на солнечные соломины, и опять перед ним колосья пшеницы, лицо матери, ее удивительно доброе лицо.
Матвею видится девушка, теплые губы, вспоминаются ее слова, ее вера в его возвращение.
Алексей в мыслях у речушки под липой в жаркий день. Удит рыбу. От зноя с листьев липы нет-нет да и капнет на плечо капля сока…
Огонь подбирается к крыше.
Занялись стропила. Пламенем охвачены деревянные перекрытия. Крашеная жесть в огне. Пышет жаром от стен, от крыши, от перекрытий. Воздух прокаляется, из-за дыма не видно солнечных соломин. Трудно различить лица. Уже глаза друзей не рассмотришь. Дышать нечем.
Матвей глянул из-за трубы на дверь.
В дверях стоял офицер с крестом на груди. Вот он вскинул автомат. Случайно? Или заметил кого?..
Крыша полыхает, листы топорщатся, скручиваются, срываются с гвоздей, скатываются вниз.
С улицы доносятся немецкие фразы.
— Не срывай яблока, пока зелено, созреет и само упадет!
— Сами в мышеловку залезли!
— Потеряешь мужество — значит, все потеряешь!
«Правильно», — думает Матвей и, наклоняясь поочередно к каждому, переводит друзьям эти слова. И у врага надо учиться. Страшный урок.
— Лихо горит квартал, надо бы всю деревню! — Офицер, стоящий у двери, закашлялся от дыма, выругался и отошел от дома.
Георгий тут же спрыгнул в сени, принял на руки Матвея, подхватил Алексея. Вошли из сеней в дом. Что-то лопалось с треском, искры летели в глаза. И тут сквозь дым, уже сквозь спасительный дым, мелькнула фигура офицера. К счастью, дым скрыл от него танкистов.
Георгий ползком добрался до окна и увидел, что вокруг никого: лучший часовой — огонь.
Прыгать?
Прыгать!
Но куда? Частокольная изгородь в огне. Соединенный с домом сарай тоже объят пламенем. Да, вражеский огонь — часовой — держит их под контролем. Все горит вокруг, нет, кажется, места, куда можно ступить, где можно укрыться от огня.
Но ведь только что дым спас их от взгляда и от пуль вражеского офицера. Не спасет ли и огонь, призванный их погубить? Главное, не потерять мужества!
— За мной! — и Матвей первым выбрался из окна. Меж горящим частоколом и сараем, между двумя стенами огня полз он, и вправду надежно укрываемый от немцев огнем. За ним ползли друзья. Жар пламени обдавал их лица, огонь тянулся к их рукам, комбинезонам.
Они уже выбрались за сарай. Одно желание — упасть и уснуть. Даже раны и те отпустили, все застлала усталость, наступило какое-то равнодушие, безразличие… Где-то в страшном кипении боя сгорел день, а когда? «Все произошло мгновенно или продолжалось столетие? Понятие времени? Нет его! Есть понятие боли, усталости, опасности — ими и определяется время», — думал Матвей, как-то стремительно уходя, ныряя в забытье. И вдруг: губы девушки, ее слова. Ее вера в его возвращение. Все это рядом! Да неужели он обманет, не выйдет живым?
Матвей осмотрелся вокруг. Летучая мерцающая дымка вечера окружала их. Вот неподалеку белесый холмик, или он белес в отсветах догорающих домов?
Матвей еще и не сообразил, что надо делать, но руки его и ноги, тело его, распластанное на земле, пришло в движение, точно наше тело тоже умеет думать и порой раньше мозга принимает верное решение. Да, он полз, он, еще не осознавая происходящего, полз к этому холмику. Страшное время, если человек, чтобы выжить и победить, должен ползать!
Он добрался до холмика. И только тут понял, как правильно поступил, что полз: ведь здесь окоп. Настоящий окоп! Матвей осторожно обернулся и подал сигнал друзьям, задев за бурьян, лежавший около окопа. Ага, и этот бурьян — кстати, очень кстати. Просто счастье, что здесь и окоп и бурьян.
Матвей лег на дно, прикрывшись бурьяном.
На него соскользнул Георгий, снял с Матвея бурьян и накрылся им.
Приполз и Алеша.
Теперь они втроем были в окопе, а поверх окопа бугром чернел бурьян.
Секунды и песчинки. Быстрее секунд сыпались песчинки. Всепроникающий песок набивался в уши, в нос, в раны, он заживо погребал друзей, преждевременно обрекая их на смерть. Он забивался в рукава, в карманы, в кобуру, в сапоги. Они были у него во власти, и дышать стало нечем, особенно Матвею, лежавшему на самом дне. Он молчал. Друзья не знали, что в нескольких местах в спине его сидели осколки. Раненая голова гудела, она казалась огромной, занимавшей весь окоп.
Плечо Георгия саднило: рана глубока. Много крови потеряно.
Пользуясь темнотой, радист Алексей поменялся местом с Георгием и, упираясь руками и ногами в стенки окопа, старался поддерживать Георгия на себе, чтобы не давить на Матвея.
Кажется, и десяти минут не пролежать так, а они, ни разу не застонав, не сказав ни слова, лежали свыше двух часов… Наконец решили выбраться, как вдруг отчетливо услышали, а Матвей и понял, немецкую речь:
— Не всякое средство себя оправдывает!
— А я за жестокость! Чем меньше останется русских, тем больше простора нам!
— Мы еще поплатимся за эту жестокость!
— Смотри! Что это за бугор? Днем не было. Не подходи.
Прогремел выстрел. Стреляли по бурьяну.
— Куст какой-то. А ну-ка, пощупай штыком!
И ножевой штык сквозь бурьян, мимо раненого плеча Георгия прошел и остановился у самого лица Алексея. «Нажмет или нет?»
— Ты лучше дай очередь по этой яме!
— Ты меня идиотом считаешь? — и штык исчез.
Все трое забыли о муках: знали, что их ожидает.
Шаги смолкли.
Капли холодного пота с подбородка Алексея скатились на лицо Матвея.
Их лихорадило.
Опять шаги.
Остановились.
Помолчали.
Закурили.
— Чертова зажигалка! Ты слышал, что Ганс говорил о жестокости? А по-моему, это только масла подливать в огонь!
Второй что-то пробурчал.
Ушли.
Совсем стало темно. Пора и выбираться. Но хорошо, что помедлили: тяжело зашаркали сапоги, раздались голоса:
— Тебе не было страшно? Ведь ты его прикончил!..
— А что делать? Раз приказывают, я убиваю!
Стерлись в тишине и эти шаги, и голоса.
Во тьме они вылезли из окопа и ползком потянулись в сторону вспыхивающих ракет…
Нарастающий гул говорил, что они ползут к линии фронта, что за день наши подвинулись вперед, что где-то уже не очень далеко свои!
Однако без конца приходилось сливаться с землей, замирать, задерживать дыхание, подавлять стон: то и дело, на пути вырастали фигуры немецких солдат.
Танкистам удалось добраться до тех самых траншей и окопов, которые они недавно утюжили. Это придало неожиданные силы. В темноте рука Матвея наткнулась на чье-то тело, погоны, грудь, крест. Не тот ли это офицер, уже мертвый? Так, значит, бой был и здесь. Или это другой офицер? Встреча ободрила их. И смерть врага помогла им жить, ускоряя движение.
Навстречу из темноты двигались шесть вражеских солдат.
Лежащим на земле танкистам надвигавшиеся гитлеровцы казались огромными, неотразимыми. Скатиться в траншею — услышат…
Ну, вот и все. Теперь не уйти. К тому же не осталось ни одного патрона.
«Та-та-та-та» — прокатилась пулеметная дробь.
И в этот момент друзья успели скатиться в траншею. Гитлеровцы исчезли.
Друзья чувствовали, что наши где-то совсем рядом.
Вылезли и, не сговариваясь, пошли во весь рост.
— Кто идет? — окликнули их по-немецки.
И Матвей с каким-то усталым спокойствием отозвался по-немецки.
— Свои идут! Свои, что ты, не видишь, что ли?
Ночь рухнула: взмыла ракета и располосовала тьму.
Друзья припали к земле.
— Русские! Русские! — И загремели выстрелы.
— Живыми! Взять живыми!
Матвей, Георгий и Алексей бросились бежать.
Но раны есть раны, потеря крови — потеря, усталость не проходит от того, что смерть за спиной!..
Друзья бежали, а преследователи настигали их.
Навстречу ударил «максим». Давай, «максимушка»! Давай!
Друзья упали на землю, все закачалось, закружилось, поплыло в их сознании.
Не слышали они, что «максим» продолжает бить. Не разобрали они и ночного, ознобившего немцев «ура». Не почувствовали они и света фонарей на своих лицах. И не чаяли друзья, что очнутся среди своих.
Цветы и кровь
Конец лета, а солнце жжет нестерпимо. Но может быть, это только кажется, потому что я иду по дороге своей молодости, по той самой, которая была дорогой войны. Ведь и тогда, в сорок втором, так же пекло солнце. Неужели здесь, под Воронежем, вокруг были окопы, траншеи, дзоты? Неужели не всегда над безбрежной желтизной созревших хлебов простиралась ослепляющая голубизна неба? А как тихо… Очень тихо!
Шепчут колосья… И чем больше я вслушиваюсь в их приглушенные шорохи, тем беспощаднее возникают в моей памяти дни войны. Тем явственнее вспоминаю себя — молодого политрука, крещенного железом и кровью 22 июня 1941 года, вспоминаю пулеметчика Мурзу Хабибулина, погибшего в боях за мой родной Воронеж…
Лето 1942 года. Синее, рассветное небо закрыла пелена рыжей пыли. От жажды сухо во рту. Мурза колеблется: «Выпью остаток воды, а потом? Нет, надо оставить. Как будет сладко на привале! А скоро ли он? Вон ребята совсем устали. Еще бы, сколько идем!.. Закрою глаза, чудится, будто иду я из самого детства, иду от Волги, от своего дома. И кажется, что пить хочется очень давно, от самого родного порога. Но надо терпеть».
Солдаты идут плотно, устало переставляя ноги. Лица у них запыленные, а глаза устремлены куда-то вдаль. Чуть пошатнулся Шумилов. Нет, видно, показалось.
Мурза отстегнул от пояса фляжку и тронул за плечо Шумилова:
— Попей.
Марш продолжается, солдаты идут и идут. И чем ближе к фронту, тем чаще по обочинам дороги — воронки, окопы, тем больше сожженных деревень. Все чаще встречаются толпы молчаливых беженцев, стада коров и овец в тучах знойной пыли. Все движется на восток. И туда невольно летят мысли Мурзы — к дому, к далекому детству.
Навстречу — комья земли, выброшенные из окопа, а он видит землю родного села, богатую и до боли милую сердцу.
Навстречу — кланяется подрубленный снарядом клен, а он видит целый хоровод белостволых, в зеленых косах берез.
Навстречу — догорающая деревня, а перед глазами встает новенький сруб, добротные дома в деревне, где отшумело его детство.
И чем острее воспоминания, чем ярче картины далекого и близкого прошлого, тем жестче взгляд Мурзы, тем плотнее сжимаются губы. Воспоминания будто заставляют забыть о жажде, дают силу, уверенность. И шагает, шагает Мурза…
— Задумался? — вдруг спрашивает его Шумилов.
Мурза не слышит.
— Хабибулин! — не унимается Шумилов. — Мурза! О чем задумался?
А Мурза видит себя семилетним мальчишкой. Вот он выхватывает из воды первую рыбку. Она блеснула на солнце и сорвалась с крючка…
Он у школьной доски. Учитель укоризненно качает головой: «Думать надо, Мурза! Нет безвыходных положений. Раз кто-то задал задачу, значит, есть у нее решение».
Шестнадцатилетний, он в гостях у брата — рабочего завода. «Скоро и ты будешь работать здесь…» — сказал тогда брат.
Мурза стоит за станком и оттачивает гранату. С гордостью несет ее контролеру. Тот бросает на юношу одобрительный взгляд и ставит клеймо. Сделано неплохо. Только вот заусеница…
«Клеймо-то с хвостиком!» — смеется Мурза.
Клеймо контролера действительно с хвостиком — его личное изобретение. Но заусеницу Мурза снять не успевает: вызвали к начальнику цеха.
Девятнадцатилетний Мурза — учитель начальной школы…
И снова родное село. Он прощается с матерью. Последнее свидание с девушкой: она обещает ждать. А поцеловать не разрешила: «Вернешься, тогда…»
Воспоминания, воспоминания… Вдруг их обрывает рев мотора: над бросившейся врассыпную колонной с воем проносится пикирующий фашистский бомбардировщик. Совсем близко от дороги рвутся бомбы. Крики, стоны раненых…
Снова дорога — щербатая от воронок, опаленная, заваленная обломками машин и повозок. Значит, скоро фронт. Все явственнее доносится гул боя…
Наконец показался Дон. Вот он какой, тихий Дон…
Привал. Зачерпнули воды, напились. Попробовал и Мурза: вкусно!
На горизонте поднималось солнце, и лучи его золотили донскую гладь. Река, разлившаяся широко, течет непривычно тихо и мирно. Мурзе припомнились прочитанные когда-то книги о Доне. Он с волнением смотрел вокруг, глубоко задумавшись. Вспомнил родную Волгу.
— Ничего, еще из Эльбы напьемся! — как бы угадав мысли Мурзы, бросает Шумилов. — Доберемся и до их речек…
Солдаты говорят, что скоро бой. «Выдержу ли?» — думает Мурза.
Приказано окопаться. Зазвенели лопаты, ломы, кирки. Рядом роет окоп Мороз — высокий, сухощавый солдат. Иногда он утирает пот, бросает сердитый взгляд на небо и опять копает: по его росту нужен глубокий окоп.
— Жарко, товарищ Мороз? — улыбается Мурза. — Не страшно?
— Страшновато! — признается сосед и, наклонившись к Мурзе, доверительно добавляет: — Даже очень страшно. У меня ведь профессия мирная: до войны был цветоводом. А сейчас увидел кровь на цветах… Понимаешь, цветы и кровь!.. Это же противоестественно. — Мороз положил перед Мурзой две ромашки с темными пятнами крови на белых лепестках и с ожесточением снова заработал лопатой. Время идет, надо спешить. Мурза машинально сунул цветы в карман.
К окопам подошел комбат, старший лейтенант Иськов — коренастый, широкогрудый крепыш с коричневым от загара скуластым лицом. Он осмотрел вырытые ячейки и, присев на корточки, просто сказал:
— Ничего, надежные. Надо держаться крепко! Нельзя дать им форсировать реку. Если день выстоим, ночью сами будем на том берегу.
— Выстоим, — со спокойной деловитостью ответил Мороз.
Мурза с удивлением взглянул на соседа: на лице его не было и тени страха.
Комбат пошел к другим окопам. Ему надо обойти все позиции батальона, сказать солдатам самое главное…
Тишину разорвал огонь артиллерии. Над первой линией фашистских окопов на том берегу прокатилась мощная волна взрывов…
На лодках, на бревнах, просто вплавь солдаты пересекали Дон. Мурза одним из первых вскарабкался на крутой берег и побежал вперед. Вот уже рядом бегут Мороз и Шумилов, чуть правее — Копылов, Анохин, Галимов, Якубовский. Вдруг все, и Мурза тоже, бросились на землю: из-под каменного дома впереди по ним ударил пулемет.
Мурза вскинул винтовку. Нет, он не видел врага, он различал только вспышки… Да, огонь надо гасить огнем. Он вскочил и рванулся к дому, чувствуя за собой тяжелый топот товарищей.
Бой за плацдарм только начался, но грозил затихнуть: слишком мало наших успели форсировать Дон. Фашисты опомнились, открыли огонь по наступающим и перешли в контратаку.
Мурза Хабибулин и его товарищи, которые засели в избе, оказались отрезанными от своих. Метров за семьдесят от дома резко затормозил вражеский бронетранспортер. Из него высыпали гитлеровцы.
— Ахтунг! — донесся выкрик офицера.
— Ахтунг! — неожиданно повторил Мороз и, повернувшись к Мурзе, подмигнул ему.
— Что ты делаешь? — испуганно крикнул Мурза Морозу, который перепрыгнул через подоконник и бросился вперед. На фоне рассветного неба была хорошо видна его бегущая фигура с поднятыми руками.
Шумилов моментально вскинул винтовку, но Мурза успел прижать ее к подоконнику. Все, затаив дыхание, следили за Морозом.
Гитлеровцы, заметив бегущего к ним солдата, выжидали. Вот Мороз уже рядом с ними. В сторону транспортера летит граната. Затем — вторая… Загорелась машина. Упал и Мороз, подкошенный осколком…
Мурза был ошеломлен. С другого конца улицы ударил вражеский пулемет. Хабибулин припал к «максиму», установленному в проеме окна…
Неужели прошло двое суток, как держатся они в этом доме?..
Третьи сутки без сна и еды. Мучит жажда — давно нет воды. Третьи сутки… В голове страшный звон. Глаза воспалились, и перед ними непрерывно мелькают разноцветные мухи…
Решили обмануть бдительность осаждавших. Сделали вид, что покинули дом. Пробежали на виду у врага несколько метров и свернули за угол. Снова влезли в окно, притаились. От нечеловеческой усталости Мурза на секунду задремал у своего пулемета и увидел себя мальчишкой с удочкой. Рыбка сорвалась, зато он напился из Волги. Очнулся от автоматной стрельбы.
Галимов, доставивший патроны, еле переводил дыхание. Шумилов словно окаменел, глядя на приближавшихся гитлеровцев.
«Стреляй, Мурза, стреляй!» — мысленно приказывал он.
Но руки Мурзы недвижно застыли на рукоятках «максима». Может, он в эту минуту вспоминал чапаевскую Анку-пулеметчицу…
Вот один фашист вырвался вперед. Видно даже, как каска съехала ему на глаза. Бежит по-спортивному легко. Мурза нажал на спуск. Гитлеровец упал на спину. Следующая очередь скосила остальных.
— Окружают, гады! — крикнул Шумилов.
Взгляд Мурзы остановился на возвышенности, простершейся в нескольких метрах от домика. По ней с автоматами в руках густой цепью шли немцы. Они шли сюда, к домику.
— Исаев, бегите к комбату и доложите обстановку, — отдал приказание Шумилов.
— Есть, — ответил связной и, пригнувшись, быстро побежал по улице.
— Ребята, — как можно спокойнее сказал Шумилов, — принимаем бой… Мурза, Анохин, Копылов, Галимов, займите огневые позиции у окон. Якубовский и я — будем в сенях.
Шумилов быстро присел у двери, вставил автомат в щель, стал внимательно наблюдать за противником. Фашисты приближались. И когда расстояние сократилось до минимума, скомандовал:
— Огонь!
Длинные очереди автомата и меткие выстрелы Мурзы смешали вражеские ряды. Фашисты падали, как подкошенные. Бежавший впереди гитлеровский офицер как-то неестественно взмахнул руками и грузно опустился на землю, отбросив автомат в сторону.
Пьяные фрицы с гиканьем бросились к домику. Окружили его со всех сторон. Один из них сорвал с петель дверь и забежал в сени. Шумилов прикладом ударил незваного гостя по каске. Фашист распластался на полу.
Гитлеровцы стали простреливать стены дома из автоматов. Шумилов нажал на спусковой крючок и… вздрогнул. Автомат не стрелял. Кончились патроны. Он бросился в избу.
На полу неподвижно лежал Копылов. Кровь заливала его грудь. Он тихо стонал. Шумилов поднял лежавшую рядом гранату и прильнул к стене. Вдруг почувствовал острый запах бензина, смешанный с дымом. «Подожгли», — словно игла, пронзила его сознание догадка.
Широкие огненные языки стали лизать стены дома, пробиваясь внутрь. То и дело раздавались крики:
— Рус, сдавайся!
В разбитое окно втиснулась рыжая морда.
Сильным ударом приклада Анохин раскроил фашисту череп. Едкий дым резал глаза. Огонь подбирался к гимнастеркам и брюкам, жег лицо. Шумилов стиснул зубы и метнул гранату за окно, туда, где столпилась группа торжествующих победу гитлеровцев. Раздался взрыв. Послышались крики и стоны. Шумилов, обессилев, упал на пол, но сознания не потерял. До его слуха донеслась частая пулеметная очередь. Опираясь на руки, встал. «Наши», — подумал он, и перед ним все завертелось, закружилось, понеслось куда-то в пропасть. Он уже не слышал, как яростно стрелял Хабибулин, как из окон дома выпрыгнули его друзья-автоматчики. Завязалась рукопашная схватка. Отстреливаясь, гитлеровцы отступали. Выбежали на улицу. Кинулись к блиндажу, в укрытия. Но всюду настигал их меткий огонь. Уцелевшие бросились наутек.
…Наши перешли в решительную контратаку. Наступал и Мурза со своим пулеметным расчетом, хотя усталость валила с ног. Пулемет казался вдвое тяжелее. Он еще горячий. Он что-то слишком горячий и очень тяжелый, этот «максим»…
Уже бои за Воронежем! И какие бои! Тут забыли о голоде, об усталости. Расчет Хабибулина пристроил пулемет в окопе под сожженным немецким танком. Мурза дал очередь, вторую, и вдруг пулемет осекся, замолк. Гитлеровцы, решив, что он вышел из строя, сперва поползли в сторону Мурзы, потом приподнялись и рванулись бегом.
— В атаку-у! — послышалась протяжная команда и утонула в орудийном залпе…
Трудно пулеметчикам поспевать за пехотой. Силы оставляют Мурзу. Смертельно устали Шумилов, Галимов, а тут еще во фланг ударили вражеские автоматчики. Группами, прячась за танками, прикрытые их броней и огнем, они охватывают наших бойцов с двух сторон.
Но вот случилось страшное: взрывом снаряда разворотило станок «максима». Исчезла последняя надежда на успех. Что делать? Как остановить врага? И вдруг…
— Куда? — закричал Шумилов, видя, как Мурза, сняв с разбитого станка тело пулемета, стремительно бросился к одиноко стоявшему дереву.
Мурза уже не слышал голоса друга. Он падал, вставал, бежал невероятно быстро. Шумилов видел, как Мурза, то и дело оглядываясь на автоматчиков, торопливо доставал из сумки гранату.
В минуты опасности Мурза был сметлив и решителен. Но что это такое? Почему граната царапнула о брезент сумки? Мурза мельком взглянул на нее и не поверил своим глазам. Не может быть! Клеймо с хвостиком?.. Его граната! Он сам когда-то обтачивал этот корпус и не успел снять заусеницу!..
А враги рядом, и граната, высоко взметнувшись, падает к их ногам…
Приближается новая цепь гитлеровцев. Шумилов ведет огонь из винтовки и кричит Мурзе:
— Отходи, я прикрою!
Мурза, привалившись спиной к дереву, ставит кожух пулемета на колени, пытается открыть огонь. Но сил не хватает…
— Мурза! — окрик Шумилова приводит его в себя.
«Ага! Вот они. Еще несколько шагов… Еще!» И тут руки Мурзы нажали на спусковой рычаг. Ударила огненная струя…
Пулемет казался ему живым существом. Он дергался, рвался из рук, судорожно, словно в лихорадке, бился о колени. Мурза, закусив губу, продолжал что было сил яростно жать на гашетку.
От боли мутилось в голове, туманилось в глазах. Но Мурза стрелял, стрелял, стрелял. Он стрелял до тех пор, пока вражеская атака не захлебнулась…
Когда после атаки ему перевязывали обожженные руки, он почему-то вспомнил о ромашках, подаренных Морозом. Ему захотелось преподнести эти цветы сестре в благодарность. Но руки уже были забинтованы. И он, кивнув на ромашки, лежавшие на койке, просительно сказал:
— Сестра, возьмите, пожалуйста, эти ромашки. — И смущенно добавил: — На них попала кровь. Но после войны я подарю вам другие цветы, чистые. Победим, и больше никогда не будет крови на цветах.
* * *
Третьего сентября 1942 года в газете «За честь Родины» было опубликовано приветствие Военного совета и политуправления Воронежского фронта. Оно гласило:
«Военный совет и политическое управление горячо поздравляют отважного патриота нашей Родины пулеметчика Хабибулина, показавшего образец воинской находчивости, беззаветной смелости и выручки товарищей в бою.
Героический подвиг тов. Хабибулина должен стать примером для всех бойцов фронта в нашей борьбе по истреблению фашистских мерзавцев, стремившихся поработить наш народ.
Военный Совет и политуправление».
О замечательном подвиге Мурзы Хабибулина тогда, в том же номере газеты, мне удалось напечатать всего лишь несколько строчек.
Рассказ об ордене
Пожалуй, в суровые годы войны не было на фронте военного журналиста, который не вел бы записок просто так, «для себя», на всякий случай. Был и у меня блокнот. Потертый и повидавший виды, испещренный беглыми карандашными пометками, он сохранился по сей день. Есть в нем записки о подвигах советских воинов, награжденных орденом Отечественной войны I степени. В то время я находился в одном артиллерийском подразделении. Вот эти странички. Они так и озаглавлены — «Рассказ об ордене».
…Теплое весеннее утро. Тишина. Будто и не было жаркого боя. А ведь только что окончился трудный поединок наших артиллеристов с танками врага. Солдаты орудийного расчета, которым командует гвардии старший лейтенант Алексей Смирнов, собравшись в тесный кружок, о чем-то толкуют… В центре, на ящике из-под снарядов, сидит Смирнов — высокий худощавый парень. Его грудь украшают орден Красного Знамени и орден Отечественной войны I степени, полученный им несколько дней назад. Он горд тем, что удостоен этой славной награды в числе первых.
Гвардии старший сержант рассказывает не торопясь, как бы припоминая все детали боя:
— Было их, фашистов, видимо-невидимо. Прут на нас скопом… Позади Дон, отступать некуда. Огневая позиция наша в тени высокого каменного дома. Местность чуть всхолмленная, с хорошим обзором. Едва успели установить орудие, как послышался отдаленный гул моторов. «Танки», — говорит командир. Ладно, пусть танки, будем жечь, уничтожать.
Заняли мы свои места. Я за панораму — наводчиком тогда был. Машины уже показались в соседнем селе, что от нас примерно в двух километрах. Потом двинулись в нашем направлении девять танков. Не в первый раз встречался я с ними. Но на этот раз, признаться, по спине мурашки пошли… Но, думаю, рассуждать теперь некогда. Будем действовать!
Ребята, затаив дыхание, смотрят на меня, ждут, когда начну. А танки приближаются. Прильнул я к панораме и стал наводить на головной. Раздался выстрел — угодил в гусеницу. Не отрываясь от панорамы, выстрелил вторично. Танк загорелся. Ладно, хорошо. Другой стал обходить его слева. С первого выстрела запылал и этот. Двумя выстрелами я подбил и третий. Вот уже подбит четвертый, пятый, шестой… Глядь, из лощины мотоциклист вывернулся и пустился что есть духу по дороге. Крутнул я ручку поворотного механизма, повернул орудие, навел как следует — и пропал мотоциклист, как в воду канул.
Тут гитлеровцы навалились на нас. Один танк продолжал идти прямо, а два из-за кустов стали стрелять из орудий и пулеметов. Пули задзинькали по щиту. Мы пригнулись к земле. Сплошной грохот стоял в ушах. Вдруг осколок вражеского снаряда попал в лафет нашего орудия, покорежил его. Приподнялся я, смотрю: ребята все живы, ствол цел и снаряды есть. Заряжаем — и снова по врагу. Сделали несколько выстрелов — подбили еще два танка. Вот остановился и последний, девятый. Обе гусеницы слетели с него, но орудие стреляло и пулемет строчил.
Опять взрыв. Меня оглушило. Пришел в себя, но подняться не могу. Был на мне противогаз, а осталась одна лямка. Слышу, кто-то стонет. Повернул голову, вижу: Титов, санинструктор наш, около младшего лейтенанта хлопочет. Понял я, что командир взвода ранен.
Боеприпасов больше нет. Да и пушка непригодна к стрельбе — колеса в разные стороны разлетелись. Неужели, думаю, все теперь? Попытался было подползти к командиру, но опять раздался взрыв. Мы только плотнее прижались к земле. А тут вражеские автоматчики подбираться к нам стали.
— Фашисты! — тихо сообщил я младшему лейтенанту, а сам схватил гранату. Уж не знаю, откуда она подвернулась мне в этот момент. Командир вытащил пистолет, а у Титова, санинструктора, ничего не было.
Когда гитлеровцы подошли совсем близко, я пустил в них гранату. И вдруг, как сквозь сон, послышалось громкое «ура». Из деревни на помощь бежали наши бойцы…
За это и был награжден…
Комиссар
Знакомая снежная тропка вела Федю на командный пункт полка. За спиной то и дело полыхали разрывы снарядов. И хотя Федя не относился к робкому десятку, но, так как непрерывно находился на переднем крае, ему нередко доводилось прятать голову от вражеских пуль. Делал он это стыдливо, полагая, что за ним наблюдают товарищи. Бои были жаркие, и он изрядно устал. Устал утюжить животом землю. Устал стрелять из автомата. И вдруг — о, он не думал об этом! — командир роты вызвал его к себе и сказал: «Товарищ Марков, вы назначены ординарцем комиссара полка». Федя был доволен, но вида не подал, что рад, только подумал: «Теперь хоть пулям не буду кланяться». Он полагал, что комиссар полка, которого еще в глаза не видел, чаще бывает на командном пункте, где, конечно, надежная крыша над головой.
…Тропка привела в лощину. Справа бугрился блиндаж. Горел костер. Пожилой человек в новом ватнике и кирзовых сапогах подбрасывал в огонь сухой хворост.
— Погрейся, — предложил он Маркову.
— Мне к комиссару полка, — ответил Федя и, понизив голос, добавил: —Ординарцем назначили к нему.
Собеседник достал из полевой сумки блокнот, раскрыл его и, сощурив свои спокойные большие глаза, сказал:
— Федор Марков, из первой роты?
— Так точно, Марков.
— Хорошо. — Затем поднялся, крикнул в блиндаж: — Командир, я пошел, как договорились, в первый батальон. — И Феде: — Пошли, Марков.
— Мне надо к комиссару, — повторил Федя.
— А я и есть комиссар, Колыванов Иван Михайлович, старший политрук. Пойдем, дорогой познакомимся.
Шли той же извилистой тропкой. Комиссар говорил, что он только позавчера прибыл в полк и что ему не терпится быстрее посмотреть, как люди готовятся к наступлению. И еще он слышал от командира полка, что некоторые храбрецы — он произнес это слово с иронией — недооценивают окопы и маскировку, подставляют шальной пуле головы. А храбрость-то вовсе не в этом.
— Веди меня в свою роту, — сказал Колыванов, пропуская Федю впереди себя…
Долго они ползали по переднему краю, от окопа к окопу. Когда свистели пули, Колыванов замирал, и Федя удивлялся тому, как этот довольно солидный человек ловко использует для маскировки складки местности. Потом они подползли к пулеметной точке, и комиссар, найдя изъяны в маскировке, нашумел на сержанта:
— Голое царство! Немедленно углубить окоп и замаскировать надлежащим образом. — И сам показал, как, не поднимая головы, надо рыть землю…
— Пошли, товарищ Марков, — сказал он, убедившись, что пулеметчики его поняли. Но они не пошли, а опять поползли. На бугорке вражеская пуля пробила Феде шапку. Комиссар это заметил, когда они уже находились в безопасном месте. Колыванов незлобно пожурил ординарца за его оплошность. Смущенный Марков упирался:
— Это не сейчас, это давно, товарищ комиссар.
— Не обманывай, вижу: след пули свежий. И врать вообще нехорошо, товарищ Марков.
Феде стало неудобно перед комиссаром, и он признался:
— Там, на бугорке, не успел пригнуться…
— То-то, брат, не успел… Будь проворнее. Шальной пуле подставлять голову не резон…
Они вернулись на командный пункт ночью. Вместе поужинали. Пришел командир полка. Он раскрыл перед комиссаром карту с нанесенной на ней обстановкой, и они начали о чем-то совещаться. Потом комиссар сказал Феде:
— Товарищ Марков, ложитесь спать.
Федя лег на соломенный матрац, но уснул не сразу: размечтался о том, что наконец ему повезло и что он теперь самый счастливый человек. Едва он сомкнул глаза, его разбудил комиссар.
— Пошли, товарищ Марков. Во второй батальон, — сказал Колыванов, поправляя на груди автомат. — Партийное собрание там.
После собрания они опять ползали от окопа к окопу. На этот раз пуля прошила рукав Фединого ватника. Он прикрыл было дырочку, а комиссар засмеялся. И Марков улыбнулся:
— Не каждая пуля в кость, иная и в мякоть, — сказал Федя, осмелев.
— Точно, — кивнул головой комиссар.
В это время на правом фланге загрохотало. Федя увидел, как на гребне выросла зеленая цепочка гитлеровцев.
— Разведка боем, — сказал комиссар. — Решили попробовать на зуб.
Наше боевое охранение чуть отошло назад. К комиссару подбежал комбат. Он лег рядом с Колывановым и одним духом выпалил свое решение.
— Хорошо! — крикнул комиссар. — Накройте их артиллерийским огнем.
Комбат уполз. А комиссар все лежал на прежнем месте и смотрел, как работали пушкари. Вражеская цепочка то поднималась, то вновь прижималась к земле. Наконец гитлеровцы выдохлись, залегли. Колыванов снял автомат, и снова Федя услышал:
— Пошли, товарищ Марков.
И опять комиссар пополз, пополз и Федя. Потом комиссар поднялся, Марков тоже вскочил на ноги. Они оказались впереди наших окопов.
— За мной, в атаку! — устремился вперед Колыванов.
— Ура-а-а! — отозвалось и справа и слева.
Стремительная волна бойцов катилась прямо на зеленые пятна, разбросанные по снегу на взгорье. Федя еле поспевал за комиссаром. Гитлеровцы дрогнули, начали отступать. Потом все смешалось, и Марков потерял из виду комиссара…
* * *
Вокруг чудесный лес. Тишина. Слышно, как потрескивают сучья в огне. Возле костра сидит со мной Федя Марков, краснощекий девятнадцатилетний паренек. Мы уже познакомились, и я знаю подробности вчерашнего боя, знаю, как он начался и как кончился — отбита у врага важная высота, взято в плен полтора десятка гитлеровцев, комиссар полка Иван Михайлович Колыванов представлен к правительственной награде — ордену Ленина.
Я спрашиваю у Феди:
— Рядом с комиссаром, наверное, легче?
Федя улыбается, затем отрицательно качает головой:
— Он все время там, на передовой…
— А сейчас где Колыванов?
— Там же…
— А почему ты не с ним?
— Выходной получил, — отвечает Федя. — Приказал, вот и греюсь у костра… Комиссар наш… Он какой? Другим говорит, пуля дура, а сам идет напрямую. Скорее бы стемнело… Ночью он возвратится. — Федя смотрит на часы и вздыхает: — Черепашья скорость у этих часов. На ваших-то сколько? — спрашивает он и долго-долго молча смотрит на огонь.
— Придет, — с грустинкой в голосе тянет Федя. — Придет…
Крутовы
Минометчик Владимир Крутов шел в штаб батальона. Хотя уже на исходе был сентябрь, день стоял солнечный и жаркий. Душно и пыльно было на дорогах. И какая-то гнетущая, зловещая тишина: ни выстрела, ни гула моторов. Владимир шел задумчивый и сосредоточенный. Поднялся на высоту, перерезанную грейдерной дорогой. На ней располагались бронебойщики. Длинные стволы противотанковых ружей направлены в сторону противника. Вдруг Владимир резко остановился — его внимание привлекла темно-синяя фуражка-шестиклинка. Такую его отец носил. Владимир невольно отступил назад, чтобы заглянуть в лицо бронебойщику. Он и есть — отец! От радости бешено застучало сердце, кровь ударила в лицо, закружилась голова…
— Папа?! — громко позвал он.
Иван Николаевич вздрогнул от неожиданно прозвучавшего голоса. Он быстро поднял глаза и увидел перед собой сына. Словно невидимая сила выбросила его из окопа. Они крепко обнялись…
— Володя! Сын! — радостно произнес отец.
…Случилось это в дни ожесточенных боев у волжской твердыни, в Сталинграде, в котором родились, жили и работали Крутовы. Здесь знакомы им каждая улица, каждый дом, каждая аллейка.
Еще в годы гражданской войны с оружием в руках защищал эти места Иван Николаевич от белогвардейцев и иностранных наемников. Советская власть сделала их родной город цветущим. Обеспеченной и счастливой жизнью зажили все советские люди и семья Крутовых. А тут война. Пламя ее окутало Сталинград.
— Дело серьезное, — прощаясь с семьей, сказал Иван Николаевич. — Но я твердо верю, что враг будет уничтожен. Все люди поднялись на священную борьбу. А это грозная сила.
Иван Николаевич ушел на фронт. Владимир, семнадцатилетний юноша, комсомолец, заменил его на заводе. Как и отец, он дневал и ночевал в цехе, выполнял две нормы — за отца и за себя.
Вскоре завод эвакуировали в тыл.
— Теперь и мое место на фронте, рядом с отцом, — гордо заявил матери Владимир…
* * *
И вот отец и сын лежат в одном окопе, за одним противотанковым ружьем. По приказу командования их свели в один расчет.
Вражеские полчища рвались к городу. Круглые сутки грохотала артиллерийская канонада. Били залпами минометные батареи, непрерывно трещали пулеметы и зенитные установки. Все поле было изрыто воронками от бомб и снарядов. Земля горела в огне. Больно было видеть все это Крутовым. Каждый, кто защищал тогда священную волжскую землю, понимал, что здесь решается судьба Родины.
В кровопролитных боях с отборной фашистской армией советские воины показали образцы стойкости, самоотверженности и героизма. Простой окоп — два-три квадратных метра. Но это родная земля… И пока в этом окопе был хоть один советский воин, он оставался для гитлеровцев неприступным. Обычный городской дом сопротивлялся врагу намного дольше, чем иные европейские столицы. Знаменитый Дом Павлова выдержал, например, двухмесячную непрерывную вражескую осаду, но не сдался. В боях за этот дом враг понес больше потерь, чем при взятии столицы Франции — Парижа. Нередко одна часть здания находилась в наших руках, другая — в руках противника.
В те дни мир измерял боевые дела сталинградцев не только количеством убитых ими гитлеровцев или уничтоженных танков, но и количеством дней, которые фашисты теряли на Волге.
* * *
«За Волгой для нас места нет!» — эти слова стали девизом каждого советского солдата, офицера и генерала. Они были законом и для Крутовых.
И вот настал час, которого так долго ждали Крутовы, обороняя крохотный кусочек родной земли, — час нашего великого наступления. Оглушительный грохот артиллерии нарушил предрассветную тишину. Сотни советских орудий и минометов били по врагу. Вокруг все гудело и раскалывалось.
С рассветом поднялись в атаку пехотинцы. То там, то здесь вспыхивали ожесточенные схватки… Вот гитлеровцы подбросили свежие силы и стали поливать свинцом нашу пехоту. Наступление подразделения было приостановлено. Создалось критическое положение. Командир поставил Крутовым задачу: выдвинуться вперед и уничтожить вражеские огневые точки на высоте. Это надо было сделать во что бы то ни стало, любой ценой.
…Иван Николаевич полз впереди, таща за собой бронебойку. Владимир следовал за отцом с автоматом. Плотно прижимаясь к земле, пробирались они к высоте с фланга. Вот уже отчетливо видно, как строчат вражеские пулеметы. Крутовы сделали несколько выстрелов, и пулеметы замолкли. По убегающим гитлеровцам Владимир открыл огонь из своего автомата.
— Молодец, сын! Так их, так!.. — одобрительно приговаривал отец.
Снова поднялась в атаку пехота. Иван Николаевич и Владимир шли вместе с наступающими, стреляли по врагу, расчищая путь пехоте. Слава об отважных патриотах прогремела всюду. О Крутовых заговорили не только в полку, но и далеко за его пределами.
Однажды, чуть только забрезжил рассвет, к позициям бронебойщиков подкатила легковая автомашина.
— Кто тут Крутовы? — раздался голос.
Иван Николаевич и Владимир откликнулись, вылезли из окопа.
— Садитесь в машину. Генерал вызывает, — сказал им адъютант.
Генерал пристально поглядел на Крутовых и крепко пожал им руки.
— Молодцы! Настоящие патриоты родного города, своей Отчизны! — И приколол к их гимнастеркам высокую награду Родины — по ордену Красной Звезды, а Владимиру к тому же прикрепил еще и гвардейский значок, сняв его со своего кителя.
— Я… оправдаю это, — взволнованно ответил Владимир. — Буду бить фашистов, бить…
— Бить до тех пор, пока землю свою не освободим от этой нечисти, — добавил Иван Николаевич…
И слово свое Крутовы сдержали. Отец и сын побывали у стен рейхстага и расписались на стенах мрачного здания: «Мы — Крутовы!»
Крутые ступени
Тот, кому приходилось «стоять на часах», знает, как медленно движется время. Особенно ощущается это под утро, когда так крепок солдатский сон. В этот час интересно смотреть на солдат, на их позы, выражение лиц. Одни любят спать, уткнувшись в подушку, другие свертываются в «клубок»… А лица спящих… У одних — суровые и строгие, словно запечатлевшие неудачи прошедшего дня. У других — ласковые и нежные, как у влюбленных.
Скоро подъем. Ночную тишину нарушает легкий стук наружной двери. Дневальный настораживается и поправляет на себе обмундирование: «Старшина идет…» Так и есть.
— Товарищ старшина…
Но старшина жестом руки останавливает дневального и вполголоса говорит:
— Тише. Еще есть время… Пусть солдаты поспят…
Старшина Владимир Калготин прошел, что называется, все крутые ступени нелегкой воинской службы и потому понимает ее и высоко ценит солдатский труд.
Сам он несет службу с большим старанием, с любовью, с творческим огоньком. В обращении с подчиненными он неизменно сердечен, проявляет отеческую заботу о них. Старшина любит песни, широкие и раздольные. «Я мог бы прожить одиноким, без песни прожить не мог», — часто повторял он строки Назыма Хикмета, услышанные как-то по радио. И сам не раз напевал:
Ничего нет чудесней Для хороших друзей, Чем хорошая песня…Песни взбадривают, заставляют задуматься и оглядеться вокруг.
«Судьба военная моя — и лучше не найти…» — так поется в песне о службе военной, и так думал Калготин, оставаясь на сверхсрочную. «Мои знания, опыт и силы пригодятся здесь больше, чем где-либо», — писал он в своем рапорте командованию. Любовь к Родине и готовность мужественно защищать ее в любую минуту — вот что заставило Владимира остаться на сверхсрочную службу.
Каждый год, отслужив положенный срок, уходят из рядов армии и флота молодые люди, разъезжаясь в разные края великой Советской страны. Одни вернутся в родные села и колхозы, другие займут места у фабричных и заводских станков, спустятся в шахты и рудники, встанут у доменных и мартеновских печей, подымутся на леса новостроек.
Но в каждом полку, на каждом корабле есть люди, которые остаются в строю, чтобы продолжить военную службу. Это — сверхсрочники. Уходящие в запас воины крепко пожимают им руки, от всей души благодарят за то, что они, сверхсрочники, под руководством опытных офицеров привили им вкус к военной учебе, возбудили любовь к сложной современной технике и первоклассному оружию, научили быть дисциплинированными.
Сверхсрочник!
Когда произносят это слово, перед глазами встает образ советского воина, закаленного в многочисленных походах и боях, человека, умудренного большим житейским опытом, обладающего широкими военными знаниями. Не одна гимнастерка побелела от обильного солдатского пота, не одна пара сапог изношена им на длинных и трудных путях-дорогах воинской службы. А пути эти не всегда и не у всех одинаковы. Иным приходилось днями идти по выжженной степи, пробираться сквозь непроглядную лесную чащу, ориентироваться без компаса, ползти десятки метров по-пластунски под губительным огнем врага…
Но ничто не может остановить человека, поставившего перед собой благородную цель — верой и правдой служить своему Отечеству. Он всеми силами и во всем добивается образцового выполнения приказов и распоряжений командиров, сам несет службу честно и безупречно, как того требуют присяга и уставы, как повелевает воинский долг.
Таковы воины-сверхсрочники — слава и гордость Советских Вооруженных Сил. Это смелые и отважные люди, всегда идущие в первой шеренге своих подразделений, частей и кораблей. На них, на сверхсрочников, опираются командиры в своей повседневной работе по обучению и воспитанию личного состава. Своим примером они увлекают за собой солдат и матросов, зовут их к новым высотам воинского мастерства.
Таким верным и мужественным защитником Родины и является старшина сверхсрочной службы Владимир Калготин.
На протяжении нескольких лет он задолго до подъема появляется в расположении роты. Внимательно следит за тем, чтобы дежурный вовремя разбудил сержантов и уборщиков, отдает необходимые распоряжения. Придирчиво проверяет, как суточный наряд выполняет уставные требования.
— Подъем!
Солдаты быстро покидают казарму. Последним выходит на улицу старшина.
Утренний осмотр. Калготин, как правило, проводит его лично. Он строго проверяет внешний вид солдат, требует, чтобы у них были чистые подворотнички, до блеска начищенные сапоги.
— У советского воина все должно быть красивым: и дела, и мысли, и внешний вид! — любит говорить старшина.
Заметив в строю аккуратного солдата, он непременно подойдет и с любовью осмотрит его, а потом скомандует: «Три шага вперед, шагом марш!» А рядом для контраста поставит другого — неряшливого солдата. И сразу без слов все становится ясным: одному хочется подражать, а на другого глядеть неприятно.
Владимир Калготин много делает для того, чтобы воины роты всегда выглядели опрятно. Он разъясняет солдатам, особенно молодым, правила и порядок носки обмундирования, советует, как уберечь от преждевременного износа обувь. В старшинском деле нет мелочей: все важно, во всем должен быть порядок.
В роте организован хозяйственный уголок. В нем есть все необходимое для солдатского обихода. Здесь можно произвести легкий ремонт и утюжку обмундирования, найти пуговицы, крючки, железные косячки для сапог, гвозди. За всем этим старшина следит повседневно. И не встретишь в роте солдата, который ходил бы в неопрятном обмундировании.
Особенно внимательно Калготин смотрит за состоянием оружия. По автомату он безошибочно, словно по книге, читает и узнает личные качества солдата — его привычки, прилежание и даже, представьте себе, характер. И в этом нет ничего удивительного. Если, скажем, оружие тщательно вычищено, смазано и бережно поставлено в пирамиду — значит воин, владеющий этим оружием, дисциплинирован, трудолюбив, честно выполняет свой долг. Характер у такого человека наверняка твердый, и есть у него чувство ответственности за порученное дело.
Зорко следит Калготин и за служебными помещениями, территорией двора. Недаром старшины соседних подразделений частенько приходят к Калготину посмотреть на внутренний порядок, на то, как хранится оружие, техника, обмундирование, стремятся перенять все хорошее, полезное и ценное. И Калготин рассказывает, делится всем, что сам знает и умеет.
Большое внимание уделяет старшина строевой подготовке воинов. Высокую требовательность к строевой выучке солдат Калготин проявляет не только на специальных занятиях. Он не допускает ни малейших отступлений от устава в повседневной жизни и службе личного состава. В этой работе он опирается на сержантов — командиров экипажей, лучших механиков-водителей. Они — основная и решающая сила в роте. И это Калготин отлично понимает. Недаром он так настойчиво и кропотливо учит сержантов умелой работе с солдатами.
Однажды, зайдя в парк учебных машин, Калготин заметил, что в экипаже старшего сержанта Кондратенко занятия проходят не по уставу. На вопросы командира солдаты отвечали хором, а когда сержант рассказывал, они перебивали его, старались дополнить друг друга. Калготин хотел было прервать занятие и показать, как надо его проводить. Но тут же передумал. Кондратенко — молодой командир, первый год работает с подчиненными. Старшина решил помочь ему так, чтобы не пострадал авторитет сержанта. Дождавшись перерыва, Калготин отозвал Кондратенко в сторонку, подсказал, как правильно и методически грамотно строить занятие. Спустя некоторое время старшина снова зашел в парк и убедился, что на занятиях у Кондратенко стало больше порядка и организованности. И результаты учебы стали лучше.
В другой раз Калготин присутствовал на строевых занятиях. И здесь старшина дал старшему сержанту ряд советов. На примере одного из солдат он показал, как правильно обучать строевому шагу. Позже старшина не раз поручал комсомольцу Кондратенко водить роту на обед, на занятия, чтобы молодой командир сам учился замечать и устранять недостатки в строевой подготовке солдат. Потом старший сержант Кондратенко стал одним из лучших помощников старшины, сделал свой экипаж отличным, а комсомольцы роты избрали его секретарем комсомольской организации.
Заботливо и умело помогает старшина и другим сержантам. Да иначе и не может быть. Калготин среди них наиболее опытный, подготовленный в военном и методическом отношении командир. Перед вечерней поверкой он собирает их, беседует по вопросам внутренней службы, дает советы и объявляет учебные задания на следующий день. В субботу старшина подводит итоги за неделю и о своих выводах докладывает командиру роты.
* * *
…На трибуну один за другим поднимались участники окружного совещания воинов-отличников. Они рассказывали о том, как сами добились успехов в учебе и службе, призывали других бороться за передовые отделения, расчеты, экипажи. Слово предоставляется старшине роты Владимиру Калготину. Присутствующие тепло приветствуют представителя большой и славной армии воинов-сверхсрочников. На его груди рядом с правительственными наградами красуются знаки, свидетельствующие о прилежной учебе и высокой дисциплинированности.
— Наша рота, — говорит Калготин, — сейчас передовая… Но такой она стала недавно. Еще весной прошлого года мы стреляли ниже своих возможностей. Проверяющие указали нам на ошибки, помогли добрым советом. С помощью коммунистов и комсомольцев, отличников учебы командир роты мобилизовал всех воинов на устранение недостатков, на преодоление трудностей. И что же? За время пребывания в лагерях личный состав научился стрелять при любых погодных условиях, независимо от местности и времени суток только на «хорошо» и «отлично».
Участники совещания аплодируют представителю передовой роты. Они знают, что в этих успехах есть большая доля труда и его, старшины, неутомимого воина-коммуниста.
— Сейчас у нас в подразделении, — продолжал Калготин, — есть немало мастеров вождения и классных специалистов, отработана полная взаимозаменяемость в экипажах. Вы спросите, как мы достигли таких показателей? Объяснить это можно так. Высокая сознательность, чувство личной ответственности за успехи роты — вот что движет всеми делами и помыслами наших людей. Когда партия сказала нам, воинам: неустанно повышайте свою боевую готовность, личный состав воспринял это как нерушимый закон своей жизни. С мыслью о партии, с думой о Родине, связаны все наши дела, вся наша воинская служба…
Калготин сходит с трибуны. Командующий войсками округа горячо пожимает руку отличному старшине, умелому воспитателю подчиненных, заботливому и рачительному хозяину роты.
— Вот таким, как Калготин, должен быть каждый старшина! — говорит командующий, и зал снова горячо рукоплещет.
Эту высокую похвалу старшина заслужил многолетней трудной и напряженной службой.
Калготину вспомнилось, как несколько лет назад он связал свою жизнь с родной армией. Сразу после войны он собирался поехать домой, думал о том, как встретят его в родном колхозе. Но как бы ни была велика тяга к труду на колхозных полях, решающим оказался совет командира:
— Вы, Калготин, хорошо знаете военное дело. Такие люди нужны в армии. Оставайтесь на сверхсрочную. Ваше призвание — быть на страже наших завоеваний…
Вот тогда и написал он свой рапорт…
Так началась сверхсрочная служба Владимира Калготина. С новой энергией принялся он за учебу сам и стал настойчиво учить воинскому искусству других, передавать им свой богатый армейский опыт.
Время шло. Как дисциплинированный и требовательный командир, Владимир Калготин был назначен старшиной подразделения. Круг его обязанностей расширился. Личный пример — вот основной принцип, которым руководствуется Калготин в повседневной службе. Чтобы учить других, надо прежде всего учиться самому — таково его твердое правило. С себя, со своей личной подготовки и начал Калготин деятельность на посту старшины подразделения. Он вникал во все дела, доходил, как говорят, до «мелочей».
Рота в парке — Калготин тоже. Он вместе со всеми обслуживает боевые машины. Все видят, что старшина — настоящий мастер. Он не только требует от солдат, но и сам ловко орудует ключом и отверткой.
Вечерами старшина с головой уходит в учебники, изучает материальную часть оружия, принципы взаимодействия частей, правила стрельбы. Теоретические занятия строго сочетает с практической работой. При очередных выходах в поле становится к орудию за наводчика и тренируется в стрельбе. А однажды, когда проводились ответственные стрельбы, Калготин решил по-настоящему проверить себя, испытать свои силы. Он попросил у старшего начальника разрешения на выполнение упражнения боевых стрельб. И хотя стрельба с ходу условиями задачи не предусматривалась, старший начальник дал согласие.
— Прямой наводкой уничтожить дзот! — поступил приказ.
Поставленную задачу Калготин выполнил успешно. Это была большая победа. Она подняла авторитет старшины. Теперь он решил сделать новый шаг в своей личной подготовке — научиться управлять боевой машиной. С помощью опытных механиков-водителей сравнительно легко и быстро изучил правила вождения, успешно сдал экзамены и получил права механика-водителя третьего класса.
Но и на этом Калготин не успокоился. Овладев всеми видами штатного оружия роты, он неустанно совершенствовал свое стрелковое мастерство. Вскоре ему был присвоен второй спортивный разряд по стрельбе. А на окружных стрелковых состязаниях на личное первенство он занял второе место.
Опытный командир, Калготин хорошо понимает: чем больше имеешь знаний, тем весомее твой авторитет, убедительнее твое слово, сильнее влияние на подчиненных. И солдаты прислушиваются к старшине, с готовностью перенимают его опыт воинской службы. В роте все уважают Калготина. Коммунисты неоднократно переизбирали его секретарем партийной организации.
В письме, посланном родителям Калготина, командующий войсками округа писал:
«С чувством глубокого удовлетворения сообщаем, что Ваш сын, проходящий службу в войсках нашего округа, честно и добросовестно выполняет свой воинский долг перед Родиной.
Трудолюбивый и настойчивый, он не жалеет сил и старания на учебу, изо дня в день совершенствует свое воинское мастерство. Он — отличник боевой и политической подготовки.
Сердечно благодарим Вас за воспитание сына, желаем Вам хорошего здоровья и больших успехов в труде на благо нашего социалистического Отечества».
С волнением и радостью читали в доме Калготиных письмо командующего. В коротких, но теплых, идущих от всего сердца словах родители Калготина в своем ответе поблагодарили командование за то, что армия помогла их сыну стать настоящим патриотом Родины.
* * *
…Мерно постукивают стальные колеса. За окном вагона мелькают леса, поля, реки, города. И стройки, стройки без конца. Словно гигантская карта Родины ожила перед взором воинов. С рассвета дотемна проносились перед ними дымящиеся трубы фабрик и заводов, светлые громады жилых корпусов, огромные элеваторы, колхозные фермы и многое, многое другое. На память невольно приходили слова песни:
Широка страна моя родная, Много в ней полей, лесов и рек, Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек…Завывая, со свистом пронеслась электричка — верная примета приближения большого города. Пассажиры прильнули к окнам: хотелось поскорее увидеть родную столицу.
Вот и Москва. Пересев на автобусы, воины отправились к месту расквартирования — на Красную Пресню. Они ехали через центр, по исторической Красной площади. Перед солдатами открылся величественный вид Кремля. Сияние рубиновых звезд, четкие и ясные очертания куполов Василия Блаженного, строгие, словно выточенные, зубцы Кремлевской стены — все это казалось волшебной сказкой, повествующей о славной истории великого города, знаменосца новой, советской эпохи, надежды всех народов мира.
Тепло и сердечно встретили москвичи посланцев Советской Армии. Многие побывали в театрах, музеях, Колонном зале Дома Союзов, в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова на Ленинских горах, в Музее В. И. Ленина, в Кремле. Все, что они увидели, произвело огромное впечатление. Хотелось учиться и нести службу еще лучше, больше и упорнее работать, чтобы достойно ответить на заботы Родины, на ее материнскую ласку и любовь.
— Вечером, в день приезда, — говорит Калготин, — мы совершили экскурсию в Центральный музей Советских Вооруженных Сил. Долго и внимательно изучали многочисленные экспонаты. Как живые, рассказывали они нам о славном героическом прошлом Советской Армии и Военно-Морского Флота. Мы видели подзорную трубу с крейсера «Аврора», личное оружие героев гражданской войны Чапаева, Пархоменко, героев Великой Отечественной войны Панфилова, Ватутина, Толбухина…
На другой день — новые впечатления. В Центральном Доме Советской Армии воины-отличники повстречались со многими прославленными военачальниками — маршалами, генералами и адмиралами.
В Москву Калготин уезжал прямо с зимнего полигона, где рота выполняла очередные стрельбы. Многие экипажи добились новых успехов — отлично выполнили учебные задачи. Сам Калготин повысил свою классность — сдал экзамены на механика-водителя второго класса. Это был его личный подарок Всеармейскому совещанию отличников.
Перед отъездом в Москву Калготина пригласил командир части. Как родной отец, напутствовал он старшину:
— Внимательно прислушивайтесь, присматривайтесь ко всему, что услышите и увидите, — советовал он, — ведь вам придется обо всем подробно рассказать сослуживцам…
Проводить старшину вышли не только солдаты роты, но и воины других подразделений. Все они от души желали Калготину счастливого пути, передавали сердечные приветы Москве. «Никогда так взволнованно не билось мое сердце, — вспоминал потом Калготин. — Хотелось многое сказать командирам, товарищам, выразить им горячую благодарность за доверие и добрые слова. Я обещал, что буду достойно представлять свою часть».
* * *
В конце первого дня совещания председательствующий объявил, что в одном из залов представитель ЦК ВЛКСМ будет вручать отличникам почетные грамоты.
Зал поднялся, загудел. Все направились к выходу.
— Вам, наверное, тоже надо идти? — осторожно спросил я у Калготина.
— Куда? — не понял он.
— На вручение…
— Что вы! Я, к сожалению, вышел из комсомольского возраста. В партии уже давно…
Но мы все же пошли, как выразился Калготин, «посмотреть на молодежь».
Усевшись в заднем ряду небольшого зала, наблюдали за вручением комсомольских наград и тихо переговаривались. Оказалось, что мы — земляки. Родился Калготин в селе Рождественном, Борисоглебского района, Воронежской области. В седьмом классе Владимир вступил в комсомол. Перед юношей открывались широкие горизонты. По окончании средней школы мечтал поступить в инженерно-строительный институт, чтобы строить дома и заводы. Одна мечта сменялась другой, один воображаемый путь уступал место другому, более широкому и величавому. Страна набирала темп, семимильными шагами поднимаясь в гору. Но вдруг словно оборвалось все…
22 июня 1941 года началась война. Ушел на фронт отец Владимира. В семье остались кроме Владимира еще два младших брата.
Владимир стал трактористом. Братья начали работать в колхозе. И хотя дела в МТС шли хорошо, на душе у Владимира было неспокойно. Скорее бы в армию, на фронт, на помощь отцу… Уже было уговорил райвоенкома, как вдруг пришло из области распоряжение: «До окончания уборки хлебов никого не отпускать».
Только в конце 1943 года Владимир попал в армию. Советские войска были уже за Днепром.
Владимира Калготина зачислили в полковую школу. Молодой солдат горячо взялся за учебу. С огромным желанием изучал он боевую технику, жадно перенимал опыт фронтовиков, показывал пример высокой дисциплинированности и исполнительности.
Окончив школу сержантов, комсомолец Калготин, как отличник учебы, был оставлен при школе командиром учебного отделения. Несколько позже его перевели в ремонтное подразделение. А потом пришлось побывать и в боях…
О многом в тот вечер поведал мне Владимир Калготин: о трудной, но интересной армейской службе, о счастье служить Родине, о беспредельной любви к своему народу, к славной Коммунистической партии, к Советскому правительству. Подробно рассказал он о своих больших, разносторонних старшинских обязанностях. Говорил так горячо и задушевно, что я невольно спросил его:
— Скажите, вам очень нравится ваша профессия?
— Очень! — с гордостью ответил он.
И это действительно так. Калготин по-настоящему влюблен в свое дело. Когда я беседовал с ним, мне невольно вспомнился старшина Добудько — один из персонажей повести Михаила Алексеева «Наследники». Как-то во время одной из бесед к Добудько подошел Петенька Рябов, солдат первого года службы, и робко спросил его:
— Гляжу я на вас, товарищ старшина, и думаю… — Он покраснел. — Гляжу и думаю: давно бы вам, по справедливости, быть офицером, а вы старшина. Отчего это? Простите, если вопрос не совсем… скромный.
— Почему? Вопрос как вопрос. — Добудько задумался. — У вас мать кто? Врач, кажется, по профессии?
— Врач, — подтвердил Петенька.
— Сколько лет она работает врачом?
— О, уже лет двадцать.
— Вот бачишь, — ухмыльнулся Добудько. — А я старшиной пятнадцать лет. Есть, товарищ Рябов, вечные профессии… Ну, как бы сказать?.. Без лесенок, что ли. Врач, учитель, садовод, скажем. Опять же хлебороб, ну и другие — мало ли? Вот и у меня такая профессия. Старшина-сверхсрочник! Стало быть, для меня не определено срока — моя должность всегда требуется…
* * *
Незабываемым был заключительный день Всеармейского совещания. В единодушно принятом обращении участники совещания от имени всех воинов заверили партию, что опыт, накопленный на полях учений и в полетах, на стрельбищах и полигонах, на аэродромах и танкодромах, они сделают достоянием всей армии и флота и под руководством своих замечательных командиров еще выше поднимут боевую выучку войск. Воины-отличники дали твердое солдатское слово, что будут непоколебимо стоять на защите социалистических завоеваний.
Это было слово и Владимира Калготина. Правда, выступить на совещании ему не пришлось. Но Калготину очень хотелось рассказать товарищам по оружию о своем опыте, о том, как личный состав подразделения борется за продление срока службы танков, автомобилей и другой техники, за овладение смежными специальностями, за повышение классности. В роте на каждую боевую машину приходится в среднем по два классных специалиста. Выращено несколько мастеров вождения. Комсомольскому экипажу роты присвоено наименование экипажа меткого огня. Этот экипаж целиком состоит из классных специалистов. И это не единственный в роте экипаж.
* * *
…Вечереет. День напряженной учебы и воинского труда окончен. Солдаты поднялись еще на одну ступень боевого мастерства, обогатились знаниями, приобрели практические навыки, сноровку.
Рота возвращается в казарму. Улыбаясь, впереди строя гордо идет старшина Калготин — требовательный и заботливый начальник, умелый воспитатель и наставник воинов.
…Крепка поступь солдат. Над строем звенит песня — постоянный их помощник и спутник.
Путь далек у нас с тобою. Веселей, солдат, гляди! Вьется, вьется Знамя полковое. Командиры — впереди. Пусть враги запомнят это — Не грозим, а говорим: Мы прошли, прошли с тобой полсвета, Если надо — повторим.О друзьях-товарищах
Волшебный блокнот
Военный журналист… Каждый раз, когда я слышу эти слова, передо мной встают то разбитая бомбами и артиллерийскими снарядами дорога войны, по которой, шлепая кирзой, пробирается на передовую человек с «лейкой и блокнотом»; то дымные, седые кручи Днепра и одинокая лодчонка, вместе с разведчиками спешащая за страницей героизма на тот, еще занятый врагом берег; то залитый водой блиндаж Волховского фронта и воин, склонившийся при свете коптилки над листом бумаги; то бесстрашный солдат, подхвативший из рук убитого знамя и поднявший над головой пистолет с возгласом: «За Родину, товарищи! Вперед!»
Их редко награждали. Они были мало заметны среди героев. Но их уважали, любили и ждали в окопах. Их слово вело вперед, на запад, оно было незримым правофланговым, первым идущим в атаку. И недаром о них теперь пишут книги, ставят кинокартины, поют песни…
И опять же далеко не обо всех. Есть журналисты, о которых уже немало сказано, чьи имена теперь стали широко известны, но есть еще и такие, кого известность обошла стороной. Много раз я пытался написать об одном из старейших военных журналистов — Якове Алексеевиче Ершове. Это человек большой судьбы, отдавший журналистике более сорока лет. Знал я также, что он с «лейкой и блокнотом» прошел на войне многотысячный страдный фронтовой путь, что не раз приходилось ему добывать материал в газету буквально из-под огня. Но для глубокого рассказа о нем у меня не хватало конкретного материала, необходимых штрихов, деталей.
Говорю об этом Ершову. Так, мол, и так, хочу о тебе написать, может, сядем как-нибудь, побеседуем, вспомним фронтовые деньки, походы и бои, друзей-товарищей, ведь как-никак вместе по одним дорогам много верст прошли. Яков Алексеевич только рукой махнул:
— Не стоит. Что обо мне писать? Мало ли нас таких было…
И все же, несмотря на скудность собранного материала (Ершов так почти и не рассказал ничего о себе: пришлось беседовать с его товарищами, изучать подшивки газет, в которых он работал в годы войны, штудировать его книги и письма читателей о них), мне хочется поведать людям об этом удивительном человеке.
Многие писатели начинали свой творческий путь с журналистики. Работа в газете вооружает умением зорко видеть, живо откликаться на требования современности. Но мне кажется, из биографии писателя нельзя выбросить ни детские годы, ни период юности, ни службу в армии и особенно участие в войне. Свое видение жизни рождается не сразу: впечатления юных лет надолго остаются в сознании человека.
Когда я думаю о Якове Алексеевиче Ершове, о том, откуда у него такая любовь к людям, к природе, такое умение изобразить ее неповторимыми красками, я невольно вспоминаю его тяжелое детство.
Родился он на Урале, где собраны не только природные богатства земли, но и где сама природа очень богата красками и контрастами.
В детстве Яков Ершов много путешествовал по горам, прозванным Вишневыми за обилие дикой вишни на них. Каждое лето два-три месяца он непременно жил на пасеке, в лесу. Тогда еще гоняли лошадей в ночное. И ночи, проведенные у костра, полные таинственных шорохов; и зори, застававшие парней где-нибудь на озерах, которые в тех местах тянутся бесконечной лентой на тридцать — сорок километров, переходя одно в другое, соединенные большими и малыми проливами; и солнце, встающее, казалось, прямо из-за кромки воды, — все эти и многие другие чудеса природы очень сильно действовали на впечатлительного юношу. Навсегда западали в его душу, в его сознание, жадно впитывавшее в себя все новое, необычное, яркое. Может быть, поэтому и первое сочинение, и первый рассказ о мальчишке, выручающем подружку из беды, был посвящен именно этой теме. «Случай в лесу» — так назвал его автор. Незатейлив сюжет. Но мальчишка наделен индивидуальными чертами характера, он самобытен, запоминается. И веришь в реальность поступка, в то, что именно он мог спасти девочку, оказать ей первую помощь и нести ее на руках три километра от леса до дома.
Не так-то было просто деревенскому парнишке в те годы осуществить свою мечту. Ведь не было еще ни Литературного института, ни творческих курсов. Молодые литераторы проходили школу у Максима Горького, или сами писали ему, прося совета, либо читали его ответы начинающим писателям и учились по ним.
Вместо Литературного института Якову Ершову пришлось поступить в то учебное заведение, которое имелось в его родном поселке — в техникум по холодной обработке металлов. Может быть, это и к лучшему: позволило полнее узнать жизнь. Ведь надо было не только самому учиться, но и учить других. В стране шла борьба за ликвидацию неграмотности. Приходилось ходить по домам и объяснять домохозяйкам, как буквы слагаются в слова…
А потом Челябинский тракторный завод. Работа в конструкторском бюро техником-конструктором. И опять новые люди, новые впечатления. Казалось, путь определен. Но неожиданное предложение заставило вспомнить о давнишней мечте. Предложение поехать в Ленинград в Коммунистический институт журналистики изменило многое в судьбе Якова Ершова.
С тех пор все его силы были отданы журналистике. После окончания института он возвращается на Челябинский тракторный, но теперь уже сотрудником газеты «Наш трактор». А затем служба в Советской Армии, фронтовые годы… И снова работа в газетах — в дивизионной, корпусной, армейской. О жизни военных журналистов уже немало написано, и в данном случае, может быть, она ничем не отличалась от других. Однако не могу удержаться от того, чтобы не привести всего лишь два фронтовых эпизода.
Многим участникам тех событий памятен контрудар фашистов под венгерским городом Секешфехерваром. Врагу удалось смять наши передовые позиции. Журналистские пути-дороги привели Якова Ершова именно на этот участок. Машина, в которой находились начальник политотдела армии и корреспондент армейской газеты, едва успела проскочить мост через реку, как фашистские самолеты разбомбили переправу. Основная часть политотдела армии оказалась отрезанной от войск, которые вели напряженные бои. И пришлось журналисту исполнять одновременно и функции инструктора политотдела и поставлять материал в газету…
Но вот наши войска отбросили противника, стремительно пошли вперед. Разве может отстать от них газетчик?! Ведь надо успеть побывать на передовой, встретиться с людьми, побеседовать с ними и вернуться в редакцию, написать и сдать материал в набор. Для этого использовался любой транспорт. Однажды Яков Ершов вместе с другими товарищами поехал на редакционной машине на очередное боевое задание. Возвращались ночью. Шофер неуверенно петлял по скользкой дороге. И вдруг — удар. Передние колеса машины провалились в глубокую яму. Сидевшие в кузове полетели на землю. Когда огляделись, увидели напротив еще одну машину. Водитель ее, подойдя, грустно усмехнулся: «Стою одним колесом на мине. Жду саперов. Тут весь участок заминирован». А у журналистов в блокнотах материал для очередной полосы в газете. Пришлось оставить машину и двинуться вперед пешком, как мы тогда часто шутя говорили, форсированным маршем. Успели вовремя. Наутро газета вышла со свежим оперативным материалом. На другой день прибыл и шофер с редакционной машиной. Когда его спросили, почему он так неаккуратно ехал, оказалось, что у парня самая настоящая «куриная слепота». Ночью он не видел.
И так ежедневно. Обычная корреспондентская работа: походы и бои, артобстрелы и бомбежки, рассказы о героях живых и павших, репортажи с переднего края, с линии огня… И где-то в глубине души — поиски своей темы, того, чему можно было бы посвятить свое творчество целиком, в чем проявилась бы самобытность писателя.
В этой связи примечательна встреча, происшедшая на фронте. Газетчик и командир подразделения беседовали о только что закончившемся бое. Разгоряченный майор характеризовал своих солдат: и тех, кто, выдержав бой, остался жив и сейчас готовился к новой атаке, и тех, кто отдал свою жизнь во имя победы, кто, как горячо убеждал майор, больше всего заслужил право быть упомянутым в газете. Только поздним вечером за ужином разговор вдруг перекинулся совсем на другую тему — о детях. И майор рассказал о мальчике, бежавшем вместе с отцом из занятой фашистами Феодосии и укрывшемся в старокрымском лесу. Майор вовсе не одобрял того, чтобы мальчишки участвовали в боях, но что же было делать с пацаном, если в городе его все равно загубили бы фашисты.
— Он был у нас в партизанском отряде разведчиком, — говорил майор. — Мы старались беречь его. Но разве уследишь. Все время просился в бой. Единственное, что его иногда удерживало, — это страсть к рисованию. Как он рисовал! До сих пор простить себе не могу, что не настоял, не отправил его на Большую землю…
Этот разговор запал в душу журналиста, запомнился на годы, не давал покоя. Но надо было еще пройти по полям сражений до дня победы, побывать в Венгрии, Австрии, на Дальнем Востоке, прежде чем удалось попасть в Крым, в Феодосию, побродить по старым партизанским стоянкам в старокрымских лесах. Прошли годы в упорных творческих поисках, во встречах с людьми. Среди них были бывший командир бригады Восточного соединения партизан Крыма Александр Куликовский, бывший командир комсомольско-молодежного отряда Алексей Вахтин, феодосийский подпольщик Николай Богданов. Каждый вспоминал какую-нибудь черточку, дополняющую облик мальчика-художника.
В 1958 году в Крымиздате вышла повесть Якова Ершова «Витя Коробков — пионер, партизан». Военный журналист нашел свою тему. С тех пор он пишет только о детях, только для детей. И в этой теме его привлекают прежде всего истоки мужества, любви к Родине.
Героя своей новой повести «Ее называли Ласточкой» Яков Ершов также увидел на фронтовых дорогах. Как-то в редкую минуту откровенности Яков Алексеевич рассказывал мне о том, как возник замысел повести, где были увидены ее основные герои. И опять мысленно перенеслись мы с ним во фронтовую землянку, где при тусклом мерцании светильника, сделанного из гильзы зенитного снаряда, молодой солдат рассказывал журналисту армейской газеты о своих чувствах, вынесенных из только что закончившегося боя. И не столько полные опасности эпизоды боя волновали солдата, сколько его неожиданная встреча со своей землячкой, со своей школьной подругой, невесть как оказавшейся в этом городке у самой границы, за тридевять земель от родного дома…
Поскольку солдату не спалось, а журналисту на передовой вообще спать не полагается, то и просидели они за интересной беседой всю ночь напролет. И все, что помнил парень о себе и о своей школьной подруге, легло в ту ночь в блокнот военного корреспондента. Тема для очерка вырисовывалась очень заманчивая, и ее автору очень хотелось блеснуть перед коллегами необычностью фактов и таинственностью событий. Поэтому с необычайной энергией принялся он за уточнение деталей и установление подлинности происшедшего. И привели его журналистские тропы в разведуправление фронта. А там сказали, что девушку они такую знают и в районе того населенного пункта она бывала, когда он находился еще за линией фронта. Все это так. Но писать об этом пока рановато. И лучше для пользы дела вообще забыть об этом эпизоде…
Забыть так забыть. А все же в блокноте сохранилась та, нигде не использованная запись, и ждала она своего часа много лет. И хотя трудно в творчестве проводить прямые параллели, но если говорить откровенно, то день рождения повести о девушке-разведчице надо исчислять с той памятной фронтовой ночи и с той не пригодившейся тогда записи в блокноте.
Когда открылись фронтовые архивы, замысел повести был уже готов. Работа в архивах, новые встречи с людьми позволили лишь уточнить, что у Ласточки на фронте было много подружек. Вот почему теперь можно безошибочно сказать, что у героини повести «Ее называли Ласточкой» много прототипов. И хотя сама Надя Курзенкова создана воображением писателя, она неожиданно, как это часто бывает с литературными персонажами, обрела вторую жизнь и начала действовать, помогая нашим современным девчонкам и мальчишкам воспитывать характер.
Когда повесть вышла в свет, в издательство пошли письма. Повесть понравилась. Почему? Я пытался задать этот вопрос писателю. В ответ он только пожимал плечами: так уж получилось. И опять отсылал меня к откликам читателей: дескать, посмотри, может быть, там что-нибудь найдешь.
Перебирая стопки писем, я заметил, что на повесть «Ее называли Ласточкой» откликнулись не только школьники, но и взрослые. И тогда я вспомнил чье-то изречение, ставшее довольно распространенным, что та книжка для детей хороша, которая нравится и взрослым. А об этой читатели писали совершенно определенно и оценку давали ей единодушно высокую. Вот хотя бы письмо от Г. И. Рыжкова из Туапсе. Хочется привести его полностью:
«Недавно соседка принесла мне маленькую книжонку. Признаться честно, я не обратил на нее особого внимания. Ведь для детей. А мне уже полсотни лет. Но так как читать было нечего, я решил взглянуть на первые страницы книжки „Ее называли Ласточкой“. Взглянул, да так без отрыва, залпом, с большим интересом прочел всю повесть. Не мог удержаться, чтобы не написать о своем впечатлении. Я не критик, чтобы с тонкостью анализировать художественное произведение. Но как читатель, могу сказать, что повесть вызвала у меня и у многих моих товарищей большой интерес. Правда, подходя строго, я мог бы сказать, что кое-где пейзажи нарисованы слабо, есть растянутость в главах, но, несмотря на эти погрешности, читается повесть легко и увлекательно. Героев ее видишь, как живых. Чувствуется, что автор глубоко проникает в судьбы, переживания людей».
Комсомолке Зое Рябчиковой 18 лет. Она тоже прочитала повесть. «Книга мне очень понравилась, — пишет Зоя. — Просто невозможно не полюбить смелую, решительную, отчаянную девчонку Надю и упрямого, настойчивого Николая, всех тех, кто помог Николаю в его трудном и благородном поиске.
Я не видела войны и знаю о ней по кинофильмам, рассказам, книгам. Война в каждый дом внесла горе и слезы. У моей матери погиб брат Павел, у отца один брат погиб, а другой, Рябчиков Василий, пропал без вести в первые дни войны. Он служил в Бресте. Война всему народу нашему принесла страдания и муки, и мы, нынешняя молодежь, должны знать о ней всю правду, чтобы беречь мир на земле, чтобы дорожить миром. Книги помогают нам в этом. Мы должны быть похожими на своих ровесников, которые без страха шли в бой за Родину. Мы должны быть такими же смелыми, решительными, выносливыми, готовыми к защите Родины. Я хочу, чтобы было больше книг о борьбе молодежи в годы войны, о жизни в мирное время, о труде, о любви, дружбе».
Мне думается, что читательские письма являются лучшей благодарностью автору за его труд. Но в то же время они и ко многому обязывают. Они повышают ответственность писателя, обращающего свое творчество к взыскательному и отзывчивому юному сердцу. Яков Алексеевич Ершов, продолжая работать в газете, часто посещает военные гарнизоны, школы, детские дома. Тема его творчества теперь определена. Он накрепко привязался к своему юному читателю. Писать о детях и для детей. И где бы он ни был: в воинском ли гарнизоне, в школе или в пионерском лагере — всюду его интересует детская психология, детский характер.
Но все же и в этой, казалось бы узко определенной теме, я выделил бы главное направление, которому писатель, как человек военный, фронтовик, предан всей душой. Это военно-патриотическое воспитание молодежи, подчеркивание в характере своих героев беззаветной любви к советской Родине, к своему народу, готовности отстаивать ее честь и свободу мужественно и умело, не щадя своей крови и жизни. Идейная направленность автора определяет и то, какими будут основные герои его книги. Расхлябанными или собранными, мужественными или трусоватыми, отдающими все на благо народа или заботящимися только о своем благополучии. Яков Алексеевич как-то на вопрос о творческих замыслах ответил, что главного героя книги он выбирает только по любви. Основной герой должен быть ему симпатичен. Остальные персонажи носят уже подсобный характер, служат лишь для того, чтобы лучше, полнее оттенить те или иные стороны в облике главного героя.
Образно, средствами художественной литературы, рассказывать о людях симпатичных, о людях необычных, таких, которые могли бы стать примером для юных читателей! Такой подход писателя к своему творчеству мне кажется вполне оправданным. И он приносит свои плоды.
Этот принцип соблюден и в маленькой документальной повести «Мальчишки в солдатских касках». Я спросил ее автора:
— А как вы узнали о Петре Зайченко? Что дало вам материал для повести?
— Опять же мой журналистский блокнот. Ведь в нем всегда хоть одной строкой отмечено то или иное событие, факт, интересная встреча. Был как-то я на выставке фотографий героев Великой Отечественной войны. Внимание привлекла фотография парнишки — Петра Зайченко. В блокнот легла первая запись. А потом, через много месяцев, на школьном утреннике услышал выступление бывшего партизанского командира Петра Романовича Перминова. Он рассказывал о мальчишке, разведчике партизанского отряда, о его смелости и дерзости в борьбе с врагом. Поразила необычность ситуации, по-мальчишески бесшабашный риск, который, как ни странно, приводил к успеху. И вот вторая запись в блокноте: «Мальчишка — партизан Петр Зайченко. Смел до дерзости».
Не сразу сопоставились эти две записи. А когда все же они легли рядом, захотелось расспросить поподробнее об этом неунывающем пареньке с курчавыми светлыми волосами, беззаботная веселость которого совсем не вязалась с сосредоточенным, вдумчивым взглядом темных глаз. Удивительные вещи о нем рассказывал потом автору будущей книги Петр Романович Перминов.
«Группа партизан встретила Петю в лесу. Паренек сидел у костра и варил суп в солдатской каске. Узнав, с кем он имеет дело, бойко доложил:
— Командир партизанского отряда Петр Зайченко.
Партизаны удивленно переглянулись.
— А где же твой отряд, командир?
— А это я и есть, — без смущения ответил Петр Зайченко.
Оказалось, что он писал и расклеивал по селам листовки, под которыми тоже подписывался: „Командир партизанского отряда Петр Зайченко“.
Долго думали партизаны, как поступить с пареньком. Отправить его домой? Но он уже так насолил фашистам, что в деревне его непременно схватят. Решили оставить Петра при отряде».
Вот те, казалось бы, скупые, но совершенно определенные отправные данные, с которых начался авторский поиск. Потом была поездка на родину Петра Зайченко — в село Коленцы, в соседние села, в районный центр Иванков. Постепенно выяснилось, что у Петра было много помощников, таких же, как и он, вездесущих мальчишек. Это и Вася Кириленко, и Коля Даниленко, и Вася Прокопенко. У каждого свой характер, свое увлечение. Вася Прокопенко, например, любил с техникой возиться, радиоприемники мастерить. А Коля Даниленко дни и ночи пропадал на реке, у него и лодка была. Удалось найти и брата Петра — Василия Зайченко, а от него узнать, как протекало детство партизанского разведчика.
Так постепенно вырисовывались события, восстанавливались характеры персонажей, выведенные впоследствии в повести «Мальчишки в солдатских касках». И хотя написана она о тяжелых годах войны и многие мальчишки погибли в борьбе с фашистами, общий ее оптимистический тон несомненен. Повесть обращена к сегодняшним мальчишкам и зовет их к смелости, отваге, упорству в борьбе с трудностями, зовет любить Родину, жить и трудиться ради нее.
И еще об одной новой повести Якова Алексеевича — «Найден на поле боя». Казалось бы, слишком своенравен, слишком бесшабашен ее герой Ваня Зверев. Но вся обстановка, все окружающие его люди так влияют на него, что Ванина неизбывная энергия каждый раз находит правильный путь, и в мальчике крепнут те жизненные устои, которые позволяют ему крепко стоять на ногах, развивают коллективизм, готовность прийти на помощь товарищу, любовь к труду и к людям труда.
От книги к книге растет мастерство писателя, приумножается богатство используемых им красок, привлекательным и ярким становится язык повествования, стиль письма.
И в повести «Найден на поле боя» главной является тема советского патриотизма, тема военной гордости воинского подвига. Приведу для примера только один эпизод.
Основной герой повести Ваня Зверев встречается с ветераном войны мичманом Паршиным. Мичман рассказывает Ване, что воевал он и на море, и на суше, прошел, можно сказать, огонь и воду и медные трубы. Но вот настала пора увольняться. Куда податься?
«— Я б в Крым поехал, — загорелся Ваня. — Тепло, виноград вволю. Благодать.
— А меня вот сюда потянуло, — качнул головой Валентин Павлович. — Скажешь: чудак.
— Чудак. Ясно, — подтвердил Ваня.
— Это еще разобраться надо, кто чудак, а кто нет, — с обидой отозвался Паршин. — Ты вот недоволен, что мала речка. На середке и с головкой не будет. А для нас, сражавшихся здесь с врагом, она великим подспорьем была, Валюйка-то твоя.
Он задумался, пристально вглядываясь в правый, отлогий берег реки. Молчал и Ваня, понимая, что разговор этот для мичмана не простой и не легкий.
— Так вот, — продолжал Паршин. — Наш батальон морской пехоты зацепился за высотку вон на том берегу. Зацепился крепко. Как ни рвался фашист, не мог перейти реку. Моряки поливали его свинцовым дождем, а тех, кто выбирался на берег, отбрасывали в реку контратаками. Много полегло тут и моих побратимов.
Паршин тяжело опустил на грудь седую голову, с минуту молчал, погруженный в воспоминания.
— Вон видишь обелиск на высоте, — показал он на берег. Там похоронена только часть наших товарищей. „Черной смертью“ прозвали моряков фашисты. И недаром. Они были грозой для врага.
Валентин Павлович подтянул парус, пояснил Ване:
— Давай-ка пристанем к берегу. Поклонимся боевым товарищам.
Они вытащили лодку и молча пошли по лугу к обелиску. На черном мраморе его со всех четырех сторон были высечены имена павших, много фамилий. Валентин Павлович, все так же молча, в угрюмом сосредоточении, опустился на колени и приложился губами к холодному, блестящему на солнце камню.
— Много полегло тут наших товарищей, — повторил он. — Из батальона, считай, не больше взвода осталось. Но враг не прошел.
Тихо шелестели деревья оголившимися ветвями. С каждым порывом ветра отделялись от них пожелтевшие листья и летели, чуть шурша, к кургану и дальше вдоль реки, то поднимаясь вверх, то вновь опускаясь на землю, сердито шелестя, будто хотели рассказать о подвигах героев, но никак не могли обрести дар слова.
— Вот, — показал мичман на небольшую ломаную канавку, петляющую по склону. — Тут проходили наши окопы. Зарылись морячки так, что только вместе с землей можно было нас отсюда выковырнуть. Клятву дали: умрем, а не отступим.
Не впервые слушал Ваня рассказ участника сражений о боях на подступах к Москве, и где-то в этих местах найден был он на поле боя. Его так и подмывало спросить, не известно ли мичману о таком случае. Но он боялся перебить святые для моряка воспоминания неуместным вопросом».
Накрепко врезалась в цепкую мальчишескую память эта встреча. И когда в конце повести мы видим Ваню лейтенантом, моряком-подводником, невольно напрашивается мысль: а не Паршин ли зажег в нем эту негасимую искру служения Родине, не от этого ли разговора и не от этой ли встречи повела свою историю его любовь к морю? А ведь кроме этой встречи были еще и другие. Был капитан 1 ранга запаса Маряхин, который выписан настолько колоритно, что запомнился не только Ване Звереву, а и многим читателям и оставил заметочку в их жизни, была старшая пионервожатая Наташа Орел — дочь моряка, «морячка», как иногда с любовью называли ее. Был Алексей Каганов-Саидов — тоже отзывчивый человек, умеющий повлиять на ребячьи души. Сколько еще людей хороших было — всех не перечесть.
А журналистские тропы вновь выводят писателя на верную цель, помогают найти злободневную, волнующую тему. Для начала в газете появляется информация о походе брянских школьников по местам боев. Потом репортаж о так называемой Таманской мальчишеской дивизии, несколько лет существующей в Брянске. И вот уже в блокноте рождается замысел новой повести, появляются новые наброски. И опять разговор пойдет о военно-патриотическом воспитании школьников, об увлекательных походах и поисках, о разгаданных и неразгаданных тайнах, о связях школы с армией. Легли уже на бумагу первые строки будущей повести. Уже живут в воображении писателя ее герои и готовятся участвовать в занимательных приключениях. Уже можно назвать среди них командира Малой Таманской мальчишеской дивизии капитана запаса В. Волчкова и трех друзей мальчишек — Ваню, Сеню и Вову. И, конечно же, старшую пионервожатую Клаву, получившую прозвище «непобежденный стрелок». Как сложатся судьбы ребят и их взрослых наставников, мы пока не знаем. Да вряд ли знает это и сам автор. Но жизнь их не будет легкой и безоблачной. Трагический случай с хлопцем, утонувшим в реке, многому научит и воспитателей и родителей. Сначала возобладает традиционное в таких случаях мнение: запретить всем купаться. В борьбе родится другое решение и завоюет себе признание: учить ребят плавать.
С той же журналистской спутницей — записной книжкой — Ершов побывал на Брянщине, где живут герои его будущей книги, где создавалась первая в стране Малая Таманская мальчишеская дивизия.
В Брянском райкоме комсомола Ершову предложили два больших альбома фотографий, в которых отображены первые походы Малой Таманской.
— Альбомы — это хорошо. Я их непременно посмотрю, — сказал Яков Алексеевич. — Но мне хотелось бы вначале повидаться с комдивом и комиссаром.
Беседа с комиссаром дивизии — комсомольским руководителем Колей Синим — состоялась в тот же день, а вот командира дивизии Василия Григорьевича Волчкова автору новой книги пришлось ждать три дня. Но зато какая это была встреча! Надо было видеть, с каким любопытством расспрашивал Яков Алексеевич о делах дивизии, ее планах, как пытливо всматривался он в лицо создателя дивизии — бывшего комиссара лыжного батальона Василия Григорьевича Волчкова. Ведь это он будет одним из главных героев новой книги. Надо все запомнить, обо всем узнать, расспросить. Но все ли дает только одна эта встреча? Нет, конечно, этого мало. В душе Ершова живет старая журналистская привычка: всюду побывать, увидеть все своими глазами. И вот к концу беседы Ершов обращается к Волчкову со словами:
— Василий Григорьевич, а нельзя ли мне этим летом побывать с вами в походе?
— Пожалуйста. Будем очень рады.
Серые пытливые глаза Якова Ершова загораются каким-то удивительно радостным, восторженно-счастливым светом. Он, кажется, увидел себя в строю среди ребят, вооруженных деревянными автоматами, шагающим вслед за реставрированным военным броневиком, над которым развевается красное знамя мальчишеской дивизии…
Рядовой газетного фронта
«Со времени великого переселения народов не видела донецкая степь такого движения масс людей, как в эти июльские дни 1942 года» — так писал о суровом военном времени в романе «Молодая гвардия» Александр Фадеев.
…Тяжелые, кровопролитные бои шли под Лисичанском и Краснодоном. По пыльным дорогам и прямо по степи двигались, сопровождаемые угрожающим ревом фашистских самолетов, треском пулеметных очередей и взрывами бомб, колонны автомашин с заводским оборудованием. Двигались вереницы эвакуируемых тракторов с комбайнами и полевыми вагончиками. Тучи пыли несли с собой гурты скота. Все шло на восток… И ничего — на запад.
Над нашей Родиной нависла смертельная опасность. Воспользовавшись отсутствием второго фронта в Европе, немецко-фашистские войска летом 1942 года предприняли крупное наступление на южном направлении.
В те тревожные дни корреспонденты газеты Южного фронта «Во славу Родины» Александр Верхолетов и Сергей Турушин находились в войсках первой линии, информируя редакцию о ходе боев, о героях и подвигах.
Получив приказ вернуться в редакцию, корреспонденты направились в Каменск-Шахтинский, где размещались тогда штаб и Политуправление фронта. Но редакцию они там не застали. Она перебазировалась на новое место. Но куда?
Нежданно-негаданно на бурлящем перекрестке фронтовых дорог корреспонденты встретили редактора — полкового комиссара Дмитрия Александровича Чекулаева. Он был мрачен и молчалив.
— Редакция вчера выехала в район Морозовска, — с трудом выдавливая слова, наконец проговорил Чекулаев. — Я же задержался здесь по вызову члена Военного совета.
После некоторой паузы и раздумий Дмитрий Александрович горестно сообщил:
— В Военном совете меня сегодня известили, что в район Морозовска прорвались немецкие танки… О судьбе наших людей и походной типографии ничего не известно…
— А как же газета? — спросил Верхолетов.
— Будем выпускать, — ответил полковой комиссар. — Пока жив хоть один газетчик-коммунист, будет выходить и газета!
Редактор пожевал губами, окинул взглядом запыленных, измотанных многодневными боями и путешествиями корреспондентов и, сожалеюще покачав головой, распорядился:
— Вижу, устали вы крепко, но отдыхать не придется. Итак, за дело!
И они втроем быстро отыскали помещение маленькой районной типографии, где шрифт был уже подготовлен к эвакуации, принялись готовить здесь базу для экстренного выпуска фронтовой газеты.
Саша Верхолетов сбегал на полевую почту, принес солдатские письма, адресованные редакции, разыскал приемник и тут же записал по радио очередную сводку Советского информбюро.
Отдав самые важные распоряжения работникам районной газеты, редактор сел за передовую статью. Верхолетов и Турушин тут же принялись писать материалы, обрабатывать письма военкоров, отбирать важную и интересную информацию ТАСС. Надо было за несколько часов заново подготовить номер фронтовой газеты, над которым обычно трудится многочисленный коллектив журналистов, полиграфистов и технических работников. Теперь же они выполняли не только свои прямые журналистские обязанности, но и работали за радисток-стенографисток, за корректоров, за выпускающих и экспедиторов.
Вот как иной раз приходилось в условиях фронта… Не было редакции, не было походной типографии, не было положенного штата сотрудников, а фронтовая газета вышла, как всегда, к сроку. И когда на рассвете присланный с полевой почты грузовик повез на аэродром пачки со свежими газетами, Саша Верхолетов не выдержал и уснул за столом, уткнувшись носом в корректорский оттиск полосы.
А потом снова был штурмовой день и штурмовая ночь, и снова редактор с двумя корреспондентами выпускали очередной номер фронтовой газеты.
Так продолжалось несколько дней и ночей.
Но вот под окнами районной типографии зарычали подъезжавшие машины. Саша выглянул и радостно прокричал:
— Ура! Наши вернулись: Грек, Замотаев, Бова…
Они сообщили, что редакция, выезжавшая в район Морозовска, попала в переплет. Казалось, враг отрезал все пути. Но опытные, видавшие виды военные журналисты сумели разобраться в запутанной обстановке и найти брешь во вражеских боевых порядках. Ночью редакция организованно переправилась через реку и выбралась к своим. Была спасена и полиграфическая база…
— Что ж, теперь все в сборе, — заключил полковой комиссар Чекулаев. — Пусть люди отдыхают с дороги. А вы, дорогие товарищи, — обратился он к Верхолетову и Турушину, — отправляйтесь снова в войска, пополняйте свои блокноты. Надо готовить к выпуску очередные номера газеты. Время не ждет…
И хотя в те горячие дни все по-прежнему двигалось на восток, корреспонденты упорно пробирались сквозь встречный людской поток на запад, где наши подразделения вели тяжелые бои за каждую пядь родной земли. Уж такая у них, журналистов, должность: быть там, где бой, видеть все своими глазами.
* * *
Медленно, словно нехотя, занимался рассвет. Над рекой, поросшей осокой и камышом, курился туман. Стояла непривычная, тревожная тишина. Куда ни глянь — пусто, ни души. На проселке появился моложавый, коренастый офицер в видавшей виды шинели, прошел берегом, спустился к реке. Остановившись перед разрушенным мостом, озабоченно сдвинул брови, яростно задымил трубкой: «И здесь неудача!»
Корреспондент газеты Воронежского фронта «За честь Родины» старший лейтенант Александр Верхолетов, Саша, как мы его звали, получил по военному телеграфу приказ редактора: «Дать в номер информацию об освобождении Полтавы. Задержка недопустима».
Саша и без напоминания знал, что «задержка недопустима» и что никакие объективные причины во внимание приняты не будут. В штабе 4-й гвардейской армии, при которой он был аккредитован, ему сказали, что части армии, отличившиеся под Ахтыркой и при форсировании Ворсклы, освободившие Сорочинцы, Диканьку и другие воспетые Гоголем места, наступать на Полтаву не будут. Им приказано лишь содействовать в овладении ею.
— А вот наши соседи из Степного фронта, — добавил оперативный дежурный по штабу, — уже ворвались на окраины Полтавы, завязали уличные бои. Так что спешите туда…
Но как добраться до Полтавы, когда 4-я гвардейская армия идет стороной и весь транспорт устремился по оси ее наступления?
Что говорить, не зря поется в «Корреспондентской застольной»: «Там, где мы бывали, нам танков не давали», и что на «„эмке“ драной лишь с одним наганом мы первыми въезжали в города». «„Эмку“ драную» тоже далеко не всегда удавалось заполучить фронтовому корреспонденту. Сейчас бы она ой как пригодилась Саше Верхолетову! Всю ночь он голосовал на фронтовых дорогах, пересаживаясь с одной попутной машины на другую. Доехал почти до места. И вот — река. Мост через нее взорван. Разрушена и соседняя переправа.
Не долго думая, Саша отыскал какую-то доску, перекинул ее на торчавшие из воды обгоревшие мостовые сваи и, балансируя руками, двинулся на противоположный берег. Доска предательски хрустнула, и Саша очутился в холодной воде. С трудом он выбрался на крутой берег, увязая в илистом дне, чувствуя, как хлюпает в сапогах холодная вода. Прислушался, огляделся. По-прежнему было тихо. От села, раскинувшегося по буграм невдалеке, тянуло гарью.
Расстегнув кобуру пистолета и переложив в карман шинели гранату, Саша вылил воду из сапог, перемотал портянки, тронулся в путь. Тревожила неизвестность обстановки, но ждать он не мог: «Задержка недопустима».
Не успел он сделать несколько шагов, как вдруг в пойменных камышах услышал какой-то шорох, неясный шепот.
— Эгей! — крикнул Верхолетов. — Кто там есть живой? Выходи!..
Никто не ответил. Потом из камышей осторожно высунулась вихрастая мальчишечья голова.
— А ты, дяденька, наш, советский, или чей? — осторожно спросил хлопчик.
— Советский… — Саша поманил мальчугана: — Иди ко мне, не бойся!
— А фашисты и полицаи утекли? — настороженно озираясь, спросил парнишка. — Они не вернутся?
Верхолетов не успел ответить, камыши внезапно ожили, скрывавшиеся там от фашистов жители близлежащих сел бросились к нему. Девушки и женщины обнимали и целовали растроганного и немного растерявшегося от неожиданности Сашу. Слезы радости текли по их лицам. Торопливо, наперебой принялись они рассказывать Саше об ужасах минувшей ночи, о том, как факельщики поджигали дома, как эсэсовцы угоняли людей в неметчину, на каторгу, а тех, кто не повиновался, расстреливали. Какой-нибудь час тому назад по берегам этой реки рыскали полицаи и наугад строчили из автоматов в камыши.
С наступившим рассветом для этих людей навсегда рассеялась тьма фашистской ночи. Своим появлением советский офицер принес им свободу. Окружив его, люди заспешили в свое родное село. Но корреспонденту нельзя было задерживаться, и он зашагал дальше, к Полтаве. Саша отнюдь не был опрометчив и не поступал на авось. Еще в штабе он познакомился с оперативной обстановкой и знал, что судьба этих мест, по которым он сейчас шагал, судьба Полтавы уже решена. Но мало ли бывает случайностей на опасных перекрестках фронтовых дорог!
И вот она, Полтава. Саша успел побеседовать с героями боев, с жителями города — участниками событий, побывал на знаменитом поле Полтавской битвы 1709 года, постоял и перед древней колонной Славы, на которой сейчас полыхал красный флаг, водруженный советским воином — героем Полтавской битвы 1943 года, героем Великой Отечественной войны.
Когда корреспондентский блокнот Верхолетова был заполнен записями, Саша отправился в штаб армии, откуда передал телеграфом оперативную информацию об освобожденной Полтаве.
Он не только сообщал о боях за город, о героизме солдат и офицеров, но и подробно рассказывал о том, почему борьба за этот важный узел обороны гитлеровцев приняла ожесточенный характер: только бои непосредственно за город длились трое суток. За два года своего хозяйничания в Полтаве немецко-фашистские войска превратили его в мощный оборонительный бастион. Руками горожан, которых враг силой выгонял на оборонительные работы, были возведены укрепленные позиции вокруг Полтавы. По мере подхода советских войск к городу его гарнизон был усилен почти вдвое. Особое внимание уделяло гитлеровское командование укреплению рубежа на правом берегу Ворсклы. Все подходы к реке и сама река прикрывались сильным артиллерийским и минометным огнем.
Перед советскими войсками стояла серьезная задача. С каждым днем усиливая удары, последовательно выбивая противника с оборонительных рубежей, наши части вечером 21 сентября подошли к реке. Когда ее берега потонули в осеннем тумане, передовые части начали готовиться к переправе. С наступлением ночи саперы спустили на воду лодки, паромы. Работая в холодной воде, они не останавливались ни перед какими трудностями. Переправа передовых частей осуществлялась севернее и южнее Полтавы. Как только лодки и паромы под огнем неприятеля достигли противоположного берега, подразделения, не задерживаясь, шли в атаку на вражеские окопы.
С рассветом реку форсировали главные силы. Гитлеровцы бешено сопротивлялись. Контратаки следовали одна за другой. Наши дивизии, охватывая Полтаву с севера и юга, неуклонно продвигались вперед. Над вражеским гарнизоном нависла угроза окружения. И противник, неся потери, вынужден был отступить. 23 сентября Полтава была освобождена. На старинном памятнике участникам исторической Полтавской битвы — обелиске Славы — было поднято красное знамя.
Задание было выполнено. Саша Верхолетов знал, что его материал редакция получит вовремя и он будет напечатан в ближайшем номере.
Возвращался Саша прежним путем. Вошел в знакомое село. С пригорка увидел поросшую камышом речку и сверкающий на солнце свежерубленый добротный мост, возле которого продолжали хлопотать труженики-саперы.
Все село, от края и до края, с его многочисленными тенистыми садочками, запружено войсками, машинами, подводами. Весело дымят трубы, снуют, громыхая ведрами, девчата. Веселыми шутками перебрасываются с ними остановившиеся на привал солдаты.
Саша спустился с пригорка, вошел в село. Ему казалось, что никто его не замечает. Но это так только казалось. Вот степенно поздоровался с ним старик, низко поклонилась женщина. И вдруг со всех сторон набежали люди, окружили старшего лейтенанта Верхолетова, наперебой приглашая его в хату. А какой-то хлопчик радостно закричал, показывая на Верхолетова:
— Цей дядька до нас першим прийшов!
Когда провожали Сашу всем селом, и старики, и девчата, и бывалые воины-фронтовики с уважением смотрели вслед старшему лейтенанту Верхолетову, не зная, что он представитель скромной и, может быть, не очень героической на первый взгляд профессии — военный корреспондент.
Биография у Саши тоже, если можно так определить, журналистская. С газетой он связан со школьных лет. Десятилетним пионером был уже юнкором, принимал участие в рейдах «легкой кавалерии», а когда пошел служить в армию, то стал военкором. Еще будучи красноармейцем Московской Пролетарской дивизии и редактором ротной стенгазеты, он стал секретарем полковой многотиражки (были в свое время и такие), потом работал в дивизионной газете, затем перешел в газету Московского военного округа «Красный воин».
Ночь на 22 июня 1941 года застала его дежурным по выпуску воскресного номера «Красного воина», а утром, прямо с дежурства, Александр Верхолетов отправился на окружной склад, за походным обмундированием. От июньских дней сорок первого года, полных невзгод и суровых испытаний, и до победы в Берлине в мае сорок пятого он пробыл на фронтах Великой Отечественной войны, работал в газетах Южного, Сталинградского, Воронежского — 1-го Украинского фронтов.
В отличие от многих других журналистов, Верхолетов вступил в Отечественную войну как умудренный боевым опытом корреспондент. Он уже успел понюхать пороху и познал, несмотря на свой молодой возраст, все превратности журналистской судьбы. В 1939–1940 годах корреспондентом газеты 13-й действующей армии «Во славу Родины» принимал участие в боях с белофиннами на Карельском перешейке.
Летом 1942 года, когда немецко-фашистские полчища остервенело рвались к Волге, к предгорьям Кавказа, заместитель начальника Политуправления фронта бригадный комиссар Л. И. Брежнев в обстановке тяжелых боев вручил А. П. Верхолетову партийный билет, дав наказ высоко держать звание коммуниста, мужественно сражаться с врагами пером и штыком, быть активным бойцом партии.
Еще во времена гражданской войны утвердилось непреложное правило, ставшее законом: «Звание коммуниста налагает много обязанностей, но дает лишь одну привилегию — первым сражаться за революцию». Так было и в Отечественной войне. Вместе с партийным билетом Александру Верхолетову вручили командировочное предписание направиться на только что организуемый Юго-Восточный (Сталинградский) фронт, где шли неимоверно тяжелые бои. На Волге, у стен города-героя, решались судьбы отечества.
Политрук Верхолетов, постоянно находясь на переднем крае, на самых опасных участках, жизни не щадил, выполняя различные служебные задания. 4 ноября 1942 года, там же под Сталинградом, его тяжело ранило. Окровавленного и ослепленного Сашу доставили в госпиталь 62-й армии.
Вспоминается эпизод в этом госпитале. Когда санитары с носилками, на которых лежал Саша, остановились возлег операционной, полковник-танкист из палаты выздоравливающих спросил:
— Кто такой?
Потерявший зрение Верхолетов не видел полковника, но нашел в себе силы ответить:
— Моя фамилия вам ничего не скажет: в газете Сталинградского фронта работаю без году неделя…
Фамилию подсказал офицер, доставивший его в госпиталь:
— Политрук Верхолетов.
Полковник-танкист оживился:
— Так это вы тот самый корреспондент? Читал, читал ваши письма «Рота идет на фронт». Читал и вашу статью о месте командира в бою. Такую сидя в кабинете не напишешь! Дорогой доктор, — обратился полковник к вышедшему из операционной хирургу, — лечите этого парня как следует: очень нужный для армии человек.
* * *
Врачи, делавшие чудеса в годы Отечественной войны, спасли и Верхолетова. Частично вернули даже зрение, хотя правый глаз его с поврежденным хрусталиком навсегда угас. Сашу направили в тыловой военный округ. Но корреспондент переднего края недолго задержался там и в разгар Курской битвы прибыл в редакцию газеты Воронежского фронта «За честь Родины». Он как-то сразу вошел в строй, в наш редакционный коллектив.
Я помню, как в свободные минуты Саша неутомимо тренировался в стрельбе из пистолета с левой руки, целясь левым глазом. И немало преуспел в этом. Когда редакция дислоцировалась в беспокойных местах, где совершали налеты бандеровцы, бульбовцы и тому подобные националистические банды, Верхолетов так же, как и другие офицеры, возглавлял караульную службу. Саша постоянно бывал в частях, много ездил, много печатался в газете, и фронтовые читатели быстро его узнали и запомнили.
На своем веку мне довелось видеть всяких журналистов. Некоторые из них пренебрегали оперативной работой и считали зазорным снизойти до информационной заметки, долго и не всегда удачно «вынашивая» очерки и статьи. Встречались и бойкие репортеры, способные быстро добыть и передать информацию, но не умевшие осмыслить явление. В газетном творчестве Александра Верхолетова хорошо сочетались, на мой взгляд, оперативность репортера с мастерством художника-очеркиста, знание военного дела — со страстностью и глубиной мысли публициста. Печатался он и в нашем сатирическом разделе «Веселый залп».
Многим запомнились его лирические документальные военные новеллы. Тут и рассказ о награжденном медалью старике с бородой — Родионе Корде, водившем советских конников по тылам врага, и о семье патриотов, долгое время скрывавшейся от гитлеровцев в сыром и глубоком подземелье, и о первой свадьбе, зарегистрированной в только что освобожденном селе, и о многом, многом другом.
Встретив маленькую газетную информацию о героях грицевского подполья, Саша вместе с известным украинским поэтом Андреем Малышко, собрав обширный материал, написал документальную повесть о подпольщиках и партизанах, печатавшуюся в газете 1-го Украинского фронта «За честь Родины».
Однажды спросил я его, имея в виду пристальное внимание Саши к определению места командира в бою, что он думает о месте корреспондента в боевой обстановке.
— Место командира в бою, — ответил Верхолетов, — строго регламентировано уставом: кто в цепи отделения, а кто и позади боевых порядков подразделения. Все зависит от ранга. А вот насчет корреспондентов ни в одном уставе не сказано, где им быть. Нет и не может быть такого рецепта.
И Саша вспомнил один давний случай, который многому его научил, заставил глубоко задуматься над сложными и многогранными обязанностями военного журналиста. Было это зимой 1939/40 года на Карельском перешейке, где советские войска штурмовали мощные укрепления белофиннов.
Верхолетов видел, как вражеская мина угодила прямо в артиллерийский наблюдательный пункт, тяжело ранила командира батареи и находившихся там трех красноармейцев. Раненых унесли. Саша подошел к чудом уцелевшей стереотрубе, прильнул к ней. Оказалось, что объективы наведены точно на замаскированный станковый пулемет врага. Можно было заметить даже осторожно копошившихся белофиннов в маскхалатах. А тем временем из телефонной трубки, раскачивавшейся на шнуре, доносился хриплый и тревожный голос: «Алло, алло!»
Корреспондент поднял трубку, сообщил старшему на батарее о происшествии и обнаруженной цели, взял на себя смелость корректировать артиллерийский огонь. Расход снарядов на пристрелку оказался выше нормы, но все же опасная пулеметная точка была уничтожена. Прозвучал сигнал атаки, и Верхолетов с призывом «За Родину!» выскочил из окопа, побежал вместе с пехотинцами.
После того как высота «Груша», имевшая важное значение, была взята, разгоряченный боем Саша примчался в редакцию армейской газеты «Во славу Родины», сел писать информацию. Только здесь он понял, что писать ему, собственно, и нечего. Он не мог назвать героев, которые первыми ворвались на высоту, водрузили там красный флаг. Корреспондент не знал даже тех, с кем рядом бежал в атаку, да и об артиллеристах, что с его помощью уничтожили точку, он тоже ничего не мог сказать. Заметка получилась бледная, безликая, хотя участвовал в этих событиях Саша с оружием в руках.
На редакционной летучке писатель правдист Борис Горбатов, который впоследствии не однажды с похвалой отзывался о материалах Верхолетова, а позже дал ему партийную рекомендацию, на сей раз в пух и прах разнес Сашин опус. А редактор полковой комиссар М. В. Погарский кратко подытожил:
— За храбрость — пять с плюсом, за информацию — два с минусом.
Так молодой газетчик еще в те далекие годы постигал непреложную истину о том, что военный журналист, призванный всеми делами своими оправдывать высокое звание защитника Родины, ни при каких обстоятельствах не может забывать о корреспондентских обязанностях и редакционных заданиях. Должен всегда помнить, что читатель ждет хорошо написанных, интересных, содержательных и злободневных материалов.
В редакцию газеты «За честь Родины» Воронежского — 1-го Украинского фронта Александр Верхолетов прибыл уже достаточно опытным журналистом, неплохо разбирающимся в боевой обстановке, имеющим собственный взгляд на происходящие события. Он хорошо чувствовал, когда надо находиться на переднем крае, среди солдат — героев и непосредственных творцов победы, а когда и побывать на КП, в штабе или политотделе, где можно полнее уяснить общую картину боя, уточнить наиболее важные участки, направления главных событий. Там, где решается судьба боя, операции, должен находиться и корреспондент.
Как-то я спросил Верхолетова, какими видами транспорта ему доводилось пользоваться в боевой обстановке. Он шутливо ответил:
— От У-2 до МУ-2 включительно!
Самолет У-2, или, как его потом стали называть, ПО-2, всем известен. «МУ-2» — пара волов, медленно, но верно тянущих повозку по кисельной жиже проселочных дорог, когда автотранспорт безнадежно увязает в непролазной грязи. Кроме путешествий на автомашинах самых различных отечественных и трофейных марок, на артиллерийских тягачах, бронетранспортерах, на броне танков, Саше приходилось с газетными материалами спешить в метель на лыжах, мчаться верхом на коне, переправляться через реки на лодках, понтонах, плотах.
Как-то в конце января 1942 года редактор газеты Южного фронта полковой комиссар Д. А. Чекулаев сказал Верхолетову:
— Наш кавалерийский корпус успешно совершает рейд по тылам врага. Он уже вплотную подошел к Красноармейску.
Редактор протер руками натруженные, усталые глаза, прислушался к завыванию вьюги за окном.
— Трудно сейчас нашим конникам, — продолжал он, — снегопады, заносы. Плохо у них и с боеприпасами. При первой же возможности будут им сброшены грузы на парашютах. А вот как туда корреспондента заслать, ума не приложу.
Верхолетов поднялся со стула:
— Прошу командировать меня к конникам, действующим в тылу врага. Я — спортсмен-парашютист, имею более двадцати прыжков.
— Вот и чудесно, — обрадовался редактор. И только тут признался: — О том, что вы парашютист, я уже был наслышан, потому и завел с вами этот разговор…
Член Военного совета Южного фронта предложил редактору направить с корреспондентом Верхолетовым письмо — обращение Военного совета.
Но непрекращавшиеся метели не позволили поднять самолет в воздух. Обстановка изменилась, конники, действовавшие по тылам врага, с боями вышли к своим.
Осенью 1941 года по заданию редакции А. П. Верхолетов и А. И. Козев на эсминце «Смышленый» сделали переход из Севастополя в осажденную Одессу, откуда направляли короткие радиограммы, а с нарочными посылали морским путем материалы о героических защитниках города-героя.
Боевой опыт Саши Верхолетова еще раз подтверждал истину, что для инициативных и находчивых корреспондентов непреодолимых преград не существует. Солдаты переднего края, военные журналисты, в любых условиях самоотверженно и беспрекословно выполняют любые задания редакции.
* * *
Вспоминается еще один эпизод, связанный с корреспондентской работой моих фронтовых побратимов. Но было это уже в октябре 1943 года на 1-м Украинском фронте. Тогда Александр Павлович Верхолетов работал в газете «За честь Родины».
Однажды фотокорреспондент Владимир Юдин показал мне снимок, на котором изображен Александр Верхолетов, выползающий из-под танка.
— Зачем он туда забрался? — удивленно спросил я.
— Под сим танком Саша брал интервью, — пояснил Владимир Юдин и рассказал затем такую историю.
Во время боев за Днепр они с Верхолетовым переправились через реку на простреливаемый вдоль и поперек «пятачок» Правобережья. Корреспонденты излазили по буеракам весь плацдарм, разыскивая отличившийся танковый экипаж. Наконец они увидели на броне машины желанный номер и заспешили к ней. Пришельцев, видимо, заметили и фашистские наблюдатели. Раздалось противное и заунывное скрежетание: шестиствольный немецкий миномет «выплюнул» совсем поблизости серию мин.
Корреспонденты вынуждены были залечь. Но тут из-под танка послышался приглушенный голос:
— Эй вы, что там маячите?! Забирайтесь сюда…
Верхолетов и Юдин вняли доброму совету и нырнули под танк. Под стальной громадиной, выполнявшей роль надежного навеса, был отрыт окоп, в котором коротали время свободные от боевого дежурства члены экипажа.
Едва корреспонденты забрались в укрытие, как снова завыл шестиствольный миномет и осколки мин забарабанили по машине. Когда огневой налет стих, из укрытия осторожно выглянул механик-водитель и достал оставленный на броне танка алюминиевый котелок. Он был весь изрешечен осколками.
— Вот и с вами такое могло быть, если бы замешкались.
— А мы вас искали, — ответил Верхолетов и под аккомпанемент разрывов вражеских мин и снарядов начал с танкистами обычный разговор о солдатском житье-бытье. И далеко не сразу члены экипажа догадались, что офицер собирает материал для газеты.
После того как минометы противника поработали особенно интенсивно и наступила пауза, корреспонденты покинули убежище. Фоторепортер Владимир Юдин выскочил первым и не отказал себе в удовольствии запечатлеть объективом Сашу Верхолетова, выбирающегося из-под танка. Такой момент он, разумеется, упустить не мог.
— Для истории журналистики, — пояснил мне Владимир Юдин.
Может быть, он и прав. Когда-нибудь эту историю все-таки создадут. Должны создать!
* * *
Но вернемся к моему главному герою — Саше Верхолетову. От Курска и до Берлина прошагал я с ним вместе. Почти два военных года. В какие только истории не попадали, в каких переплетах не были. Словом, наверняка пуд соли вместе съели, а еще больше каши. Пришлось, как говорится, в полную меру познать почем фунт лиха…
Но не о том сейчас речь. Хочется выделить главное в деятельности фронтового корреспондента — его умение находить материал для газеты, интересно его написать и вовремя доставить в редакцию. Всеми этими качествами боевого журналиста в полной мере обладал Александр Верхолетов.
Однажды в боях за Харьков в 1943 году мы оказались с ним свидетелями, как танкист Рязанов внезапно столкнулся с фашистским «тигром» и молниеносно поджег его.
Давай, говорю, каждый по-своему напишем об этом, потом сравним и лучший материал отошлем в редакцию. Так и порешили.
Я предложил ему вместе побеседовать с танкистами, а затем разойтись и написать каждый свое.
— Иди один — я останусь пока здесь, — загадочно ответил Верхолетов и почему-то направился к пэтэеровцам, которые неподалеку от нас занимали огневую позицию.
«Здесь так здесь», — про себя подумал я и пошел один к танкистам. Разыскал нужный мне экипаж и долго беседовал с ним, выясняя подробности этого необычного боя. Потом так же долго сочинял свою корреспонденцию, стараясь не упустить ни одной важной детали. Получилось длинно и что-то вроде инструкции о том, как и куда надо целиться артиллеристу при внезапной встрече с вражеским танком. Честно говоря, я был недоволен своей корреспонденцией и с кислой миной подошел к Верхолетову, который, как я заметил, уже давно сидел на пне и что-то насвистывал. Узнав от меня фамилию танкиста, он вписал ее в листок тетради и протянул мне написанное. «Конкуренты», — прочитал я заголовок. Потом быстро пробежал глазами по тексту заметки, которая уместилась на одной странице. Ввиду этого я осмелюсь ее здесь полностью привести.
«Вся пехота высказывала свое одобрение танкисту Рязанову (эта фамилия, как я уже сказал, была вставлена при мне), когда на своем танке он лихо перемахнул через лощину и с ходу подбил замаскированный танк „тигр“.
И только два бойца были недовольны.
Волоча противотанковое ружье, они сумрачно подошли к улыбающимся танкистам.
— Безобразие! — возмущенно сказал наводчик. — Мы несколько часов поджидали этот „тигр“, а вы, никого не спросясь, выскочили!..
Его помощник, стукнув себя кулаком в грудь, утверждал:
— Ведь он, товарищи, почти был наш… Мы уж не промазали бы…
— Это что за спор? — спросил подошедший офицер.
И тут один из бойцов пояснил: „Налицо не спор, а здоровая, деловая конкуренция“».
Вот и вся новелла. В ней, как видите, не только танкисты отмечены по заслугам, но и пехотинцы… И суть сказана кратко и выразительно. Я тут же признал свое поражение, и заметка Верхолетова вместе с двумя другими материалами была отправлена через ПСД (пункт сбора донесений) в редакцию. И все они, почти без всякой литературной правки, были напечатаны в газете под общим заголовком «Из фронтового блокнота».
Позже мы не раз выступали на страницах нашей газеты в полном содружестве, то есть в соавторстве. А чаще всего мы пользовались коллективным псевдонимом — «Наш корр. Район боев».
И еще об одной корреспонденции мне хочется рассказать.
* * *
Мы были уже в Германии. Шли напряженные бои за крупный узел сопротивления противника, который тогда именовался одной буквой «Н». Теперь эту букву можно расшифровать. Имелся в виду крупный фашистский опорный пункт в районе Бреслау (ныне польский город Вроцлав). Немцы, занимая господствующие позиции, ожесточенно сопротивлялись. Положение наших подразделений, ведущих бой за этот населенный пункт, было крайне невыгодным. Они вынуждены были действовать на открытой местности и непрерывно подвергались артиллерийскому и минометному обстрелу. Казалось, невозможно было подступиться к вражеским позициям.
Вскоре на этот участок пришли танкисты гвардии старшего лейтенанта Машинина. Они наблюдали за действиями врага, засекали огневые точки и запоминали местность, на которой им предстояло действовать.
В распоряжении Машинина были два танка, одна самоходка и больше десяти автоматчиков.
Как только ночные сумерки спустились на землю, советские воины ползком стали подбираться к вражеским позициям. Немцы чувствовали себя здесь настолько уверенно и прочно, что даже не освещали местность ракетами, без которых они обычно жить не могли. Это обстоятельство во многом облегчало продвижение наших автоматчиков.
Когда советские воины были уже у вражеских траншей, вслед за ними тронулись танки и самоходка.
Услышав шум моторов, немцы насторожились. Но было уже поздно. В воздух взвилась красная ракета, и гвардейцы обрушились на врага всей мощью своего огня. Автоматчики то и дело меняли свои позиции, создавая видимость, что их здесь много. Дерзость и находчивость наших воинов ошеломила противника. Фашисты решили, что русские большими силами перешли в наступление, стали оставлять свои позиции.
В этот момент на левом фланге врага появился танк гвардии лейтенанта Чаусянского. Он обогнул кладбище, где только что сидели гитлеровцы, и теперь шел им наперерез. По машине Чаусянского противник открыл сильный огонь. Однако ночная мгла надежно скрывала танк, и немцы стреляли наугад.
Но вот заработала пушка советского танка. Снаряд за снарядом посылали танкисты в стан врага. Усилили стрельбу и гитлеровцы. Теперь они уже более отчетливо видели цель. Вот справа метнулась длинная струя пламени. За ней последовала вторая, третья. Фаустпатроны угодили в башню. Из строя выведено орудие. Погиб артиллерист. Осколком был сражен и командир. Танк охватило пламенем, но он безостановочно несся вперед.
Механик-водитель гвардии старший сержант Ульянов не выпускал рычаги из рук. Он знал, что останавливаться нельзя: гитлеровцы могут прийти в себя и восстановить свое положение. Ульянов продолжал вести вперед объятую огнем бронированную машину. Едкий дым резал глаза, становилось нестерпимо горячо. С каждой минутой было все труднее дышать…
В этот момент, казавшийся вечностью, Ульянов вспомнил подвиг советского летчика Гастелло и был готов поступить так же. Но перед ним не было ничего, что бы можно было взорвать вместе с танком. Впереди виднелись лишь разбитые здания, за которыми прятались гитлеровцы. И он направил машину на них.
Языки огня лизали танк уже изнутри. Загорелись комбинезоны механика и радиста. Пушка и пулемет были выведены из строя. Танк каждую секунду мог взорваться.
У механика мелькнула мысль, что даже гибелью своей машина может сокрушить врага.
Ульянов до отказа выжал ручную монетку газа, а на ножную педаль положил тяжелый груз. Включив низшую скорость и направив танк между большими зданиями, Ульянов приказал радисту, на котором уже горела одежда, немедленно покинуть машину. Сам Ульянов также выбрался на лобовую часть и спрыгнул в сторону. Никем не управляемый танк, как огромный факел, продолжал двигаться вперед, издавая страшный рев. Гитлеровцы попытались было произвести еще несколько выстрелов, но горящий танк неудержимо двигался вперед. Вот он уже миновал дома и стал пересекать улицу. Гитлеровцы прижались к стенам зданий.
В это время со стороны кладбища бежали уже наши автоматчики. Их вел гвардии старший лейтенант Машинин. Механик-водитель Ульянов и радист гвардии сержант Гусак присоединились к ним.
Раздался оглушительный взрыв. Куски металла, ударяясь о каменные стены, рикошетом разлетались в стороны.
Гитлеровцы в перепуге припали к земле. Подоспевшие автоматчики ударами прикладов и меткими очередями уничтожали их. Многие фашисты были поражены осколками взорвавшейся советской броневой крепости.
Так в коротком, но напряженном ночном бою, проявляя исключительное геройство, дерзость и находчивость, гвардейцы-танкисты малыми силами одолели превосходящего противника. Они очистили квартал, уничтожив при этом много вражеских солдат и офицеров, захватили 13 ручных пулеметов и склад с фаустпатронами. Все это тут же было обращено против врага. Заняв господствующие позиции, гвардейцы-танкисты стали полными хозяевами положения.
А вскоре подошла наша пехота и прочно закрепила занятый танкистами рубеж.
Все это происходило, что называется, на наших глазах, и мы тут же написали и отправили в газету очерк, который назвали просто «Дерзость».
Таких совместных поездок на передовую линию фронта и совместных корреспонденций было много. Память об этих днях, о походах и боях, в которых рождались победа и наша фронтовая дружба, жива и всегда будет жить в наших сердцах.
* * *
21 апреля 1945 года войска 1-го Украинского фронта ворвались с юга в столицу фашистской Германии Берлин.
Через день на Тельтов-канале я встретил Верхолетова с товарищами-журналистами. Мы по-дружески обнялись, так как долгое время не встречались на фронтовых дорогах, и я вручил Саше телеграмму, обрадовавшую как его самого, так и его спутников.
«Приказом Военного совета фронта майор Верхолетов награжден орденом Красного Знамени, капитан Наумов — орденом Отечественной войны 1 степени, красноармеец Ковтун — орденом Красной Звезды. Поздравляю вас и желаю успехов в работе.
Ответственный редактор газеты „За честь Родины“
полковник С. И. Жуков».
Пришлось признаться, что и я получил телеграфное известие о награждении орденом Красного Знамени.
Когда взаимные поздравления утихли, я подошел к «газику» и увидел в крыле свежую пулевую пробоину.
— С того берега канала немецкий снайпер угодил, — сказал Верхолетов. — Недаром начальник издательства Корунов не хотел давать машину. Словно предчувствие у него было. «Разобьют вам фрицы машину, — говорит, — а мне отчитывайся».
Мы договорились меж собой, что Верхолетов, располагавший на этот раз «газиком», доставит в номер нашу первую совместную информацию о боях в Берлине, а я и другие корреспонденты останемся в войсках и будем пополнять изо дня в день наши бездонные газетные страницы.
Нелегко было пробиться сквозь лавину войск, заполнивших дороги, в редакцию, которая, как и штаб фронта, находилась пока еще за рекой Нейсе, более чем в ста километрах от Берлина. У разрушенных мостов, где по оврагам и бродам наспех прокладывались объездные пути, обычно образовывались «пробки», большие заторы. Порой Верхолетов и его спутники шли на риск и отрывались от шоссе, ехали по бездорожью, полям и кустарникам, встречая зловещие надписи на немецком языке: «Внимание! Мины!»
В те горячие дни военный телеграф работал с предельной нагрузкой, и нашему брату, корреспонденту, трудно было передавать в редакцию газетный материал. Все средства связи обеспечивали бесперебойное управление войсками и передавали лишь боевые распоряжения и оперативные донесения. Наши корреспонденции откладывались.
Положение усложнялось и тем, что позади прорвавшихся в Берлин танковых армий оставались недобитые немецко-фашистские дивизии и блуждающие «котлы», которые доставляли нашим войскам, а вместе с ними и нам, корреспондентам, немало хлопот.
Но, преодолев все трудности и невзгоды на своем пути, Верхолетов и его товарищи глубокой ночью доставили в редакцию первую информацию из германской столицы. Время было позднее, и в нашей фронтовой газете «За честь Родины» смогли напечатать каких-нибудь 15–20 строк. Но эти строки, скромно подписанные «Наш корр.», право слово, произвели на читателя гораздо большее впечатление, чем многие подвальные и трехколонные статьи. В заметке сообщалось то, о чем мы мечтали всю войну: «Войска 1-го Украинского фронта ворвались в Берлин».
* * *
Молодой, подвижный и жизнерадостный, Саша Верхолетов стал теперь степенным, убеленным сединой Александром Павловичем. В послевоенные годы он долгое время работал специальным корреспондентом газеты Военно-Воздушных Сил. В родном «Красном воине», где тридцать с лишним лет назад красноармейцем начинал свою военкоровскую деятельность, подполковник А. П. Верхолетов завершил воинскую службу членом редколлегии и начальником отдела. В начале 1959 года он по состоянию здоровья был уволен в запас.
Но нельзя заставить уйти в запас сердце журналиста. Пока оно бьется, это беспокойное сердце, пока рука держит перо, настоящий журналист остается в строю, в рядах борцов идеологического фронта.
Александр Павлович и сейчас продолжает сотрудничать в газете Московского военного округа «Красный воин»: печатает очерки и статьи… Он и дня не может прожить без газетной строки.
Как-то мы встретились в Центральном музее Вооруженных Сил СССР. Верхолетов показал мне хранившуюся под стеклом снайперскую винтовку с иссеченным осколками прикладом, к которому была прикреплена медная пластинка с надписью «Имени Героев Советского Союза X. Андрухаева и Н. Ильина», пояснив:
— Я видел эту винтовку еще новенькой. Как раз при мне под Сталинградом оружейный мастер прилаживал к прикладу эту медную пластинку. Тогда на ней значилась лишь фамилия Андрухаева. Андрухаев погиб как герой, и его винтовку вручили Николаю Ильину. Он тоже стал Героем Советского Союза, знаменитым снайпером, с честью принял боевую эстафету и выполнил до конца свой воинский долг.
В следующем зале музея мы увидели номер нашей родной фронтовой газеты «За честь Родины», открытой на той странице, где была напечатана наша совместная корреспонденция.
С боевым оружием и другими реликвиями в музеях и поныне бережно хранятся фронтовые, армейские, корпусные и дивизионные газеты, «боевые листки» и потрепанные записные книжки, блокноты корреспондентов. Перо, приравненное к штыку, в час суровых испытаний жгло сердца людей, воодушевляло воинов, поднимало их на подвиги, на бой за свободу и счастье Родины.
На самой первой линии
Друзья мои! Перо у нас
Приравнено к штыку.
Не время нам идти в запас —
Мы числимся в полку!
Сергей МихалковМне часто вспоминаются мои товарищи — фронтовые журналисты, с которыми в минувшую войну было исхожено столько нелегких троп и дорог. Об одном из них, Иване Васильевиче Вострышеве, я и хочу рассказать в этом очерке.
…Зима 1941 года. Волховский фронт. Мороз сорок градусов. Немцы под огнем наших батарей поспешно уходят из Тихвина. В эти дни к нам в редакцию армейской газеты «В бой за Родину» пришел сосредоточенно-хмурый, по-граждански мешковатый военный с одной шпалой в петлицах, представился:
— Старший политрук Вострышев! Назначен в вашу редакцию начальником отдела пропаганды.
Я работал тогда литературным сотрудником в этом отделе…
Война застала Ивана Вострышева в дороге. Он ехал из Сочи, где отдыхал в санатории. Рано утром на какой-то небольшой станции возле Харькова он услышал по радио: гитлеровские войска перешли советскую границу. «Значит, на фронт! А как же больная жена? Как дети?» — и сердце больно защемило.
Он и раньше служил в армии. В запас уволен младшим лейтенантом. Не раз проходил переподготовку в военных лагерях. Выходит, не зря проходил!
Дома его ждала повестка из райвоенкомата: «Явиться 22 июня…»
— Повестку принесли четыре дня тому назад, — сказала жена. — Разве там знали, когда начнется война?
Нет, конечно, не знали. Когда в тот же день он явился в райвоенкомат, оказалось, что вызывали на очередную переподготовку. А тут вон как обернулось!
Ему сказали:
— Ждите! Пришлем другую повестку!
Ждать он не стал. Отправил детей с детским садом в город Васильсурск, записался добровольцем в Московское народное ополчение — в 292-ю стрелковую дивизию. Там его назначили командиром взвода противотанковых пушек.
Дивизия отправилась на фронт.
Но стрелять из пушек по вражеским танкам Вострышеву не довелось. Еще в пути неожиданно вызвали в политотдел дивизии и сообщили о новом приказе:
— Пойдете в редакцию дивизионной газеты! Назначаетесь ответственным секретарем. Артиллерийские офицеры у нас есть, прислали молодых из артшколы, а секретаря редакции нет.
На первых порах Вострышеву казалось, что журналист на фронте — неполноценный воин, а ответственный секретарь и тем более: всегда он привязан к типографии, должен верстать номер, вычитывать полосы. С первых же дней пребывания на фронте Иван Васильевич стал пренебрегать своими секретарскими обязанностями, ходил в полки, в батальоны, в роты. Через день-другой возвращался в редакцию со свежими материалами о боевой деятельности подразделений, о жизни и подвигах советских воинов, считая, что главное в газете — было бы что верстать и вычитывать…
Иван Васильевич Вострышев родился в 1904 году в селе Большом Болдине Нижегородской губернии (ныне Горьковской области) в семье бедного крестьянина. С детских лег родители приобщали его к труду. Уже в четырнадцать лет он работал в хозяйстве отца наравне со взрослыми. Он в поле ходил за сохой, литовкой косил луга, серпом жал рожь. Отец и мать надеялись, что их сын станет опорой семьи — землепашцем, хозяином-единоличником.
Но Октябрьская революция круто повернула жизнь, и перед крестьянским парнем открылся другой путь. Активный комсомолец и сельский корреспондент, Иван Васильевич в 1923 году поступил в губсовпартшколу и там в 1925 году был принят в члены Коммунистической партии. Окончив совпартшколу, стал работать в губернской «Крестьянской газете». Позднее, в Москве, он получил высшее образование и работал там сначала в редакции журнала «Спутник агитатора», затем в «Комсомольской правде», откуда и ушел на фронт. Таким образом, к началу войны Иван Вострышев был уже опытным газетчиком.
В августе 1941 года он вместе со своей дивизией был уже на Волхове. Начались его походы на передовые позиции за материалом для газеты. Как-то после войны Иван Васильевич рассказывал мне о своей первой вылазке на передний край:
— Рано утром, положив в карман блокнот и пистолет, я хотел было двинуться в путь. Не тут-то было! Редактор газеты приказал взять с собой карабин, гранату, противогаз… Пришлось нагрузиться. Через полчаса со всем этим вооружением на станции Будогощь я прыгал по канавам под свист и грохот немецких авиабомб…
Тяжелы и опасны дороги корреспондента солдатской газеты. В одном из своих фронтовых очерков Вострышев так об этом рассказывал:
«Шли мы по узкой лесной дороге. Впереди шагал сопровождающий нас красноармеец. За рекой стрекотали пулеметы, громыхали орудийные залпы.
Но вот лес расступился. Выбрались на поляну. Земля изрыта воронками от орудийных снарядов. Кругом — оголенные, избитые осколками деревья с расщепленными стволами, поломанными сучьями.
— Дорога смерти, — сказал боец».
«Я знал, — писал Иван Васильевич, — что здесь каждую минуту может накрыть минами, разорваться снаряд, прошить лес пулеметная очередь». Но по этой дороге шли и шли бойцы — воины Волховского фронта, защитники Ленинграда. Эта дорога — кратчайший путь на передний край, где советские люди сражаются за свободу, за жизнь. И автор справедливо утверждает: «Это „дорога жизни“».
Вот по таким солдатским дорогам и ходили военные корреспонденты, фронтовые газетчики.
Теперь Вострышев удивляется, как он, тогда уже немолодой человек, с больным сердцем, мог выдержать это испытание.
— Бывало, — делился он с друзьями, — вернешься вечером с передовой, сапоги еле стащишь с ног, утром их никак не натянешь — ноги отекли. И снова надо идти за материалом на передовую. Ничего, втянулся. Однажды во время ледохода тонул в реке. Выплыл. Думал, легкие застудил, воспаление будет. Нет, ничего, даже насморка не было. В другой раз на железной дороге под Киришами в крушение попал, из-под обломков вагона выбирался. Обошлось…
На войне Вострышев был рядовым журналистом. Таких, как он, можно было считать не десятками, а сотнями. В опасной обстановке, когда нужно было, они брали в руки винтовки или автоматы, отражали атаки врага, ходили в контрнаступление.
Помню, когда немцы прорвались на Тихвин, 292-я стрелковая дивизия вынуждена была отступить. Редакция дивизионной газеты вместе с медсанбатом стояла на лесном полустанке между Киришами и Будогощью. Из штаба дивизии передали, чтобы редакция и медсанбат выехали в город Волхов. Пока шла эвакуация раненых, надо было выслать на узкоколейку заградительный отряд, так как по этой узкоколейке на полустанок устремилась группа немецких автоматчиков. Начальник медсанбата и редактор наспех собрали человек двадцать своих работников. Командиром отряда назначили Ивана Васильевича Вострышева…
Позднее, при отступлении, было и такое: на марше заглох мотор редакционного грузовика с наборными кассами. Редактор приказал всем ехать дальше, а водителю и секретарю редакции остаться с машиной, отремонтировать мотор и потом догонять колонну. Если покажутся немцы — шрифт рассыпать, грузовик сжечь и уходить в лес.
Всю ночь дежурил Вострышев в лесу на перекрестке дорог возле грузовика, под которым водитель, завешенный брезентом, с лампой «летучая мышь» ремонтировал мотор. Когда на дороге слышались шаги и говор, Вострышев напряженно вслушивался: чья речь — русская или немецкая?
Лишь на рассвете мотор был отремонтирован, и машина смогла выехать вдогонку за колонной.
За четыре года фронтовой жизни Иван Вострышев испытал все тяготы войны, особенно в 1943–1944 годах, когда был редактором газеты 364-й стрелковой дивизии. Редакционный автобус дивизионной газеты не раз попадал под артиллерийский обстрел противника и имел немало осколочных пробоин. Товарищи Вострышева по редакции — ответственный секретарь Володин и литературный сотрудник Громов — были ранены. Вострышев лишь по счастливой случайности остался невредим.
А писать приходилось о разном.
Однажды на берегу Волхова Вострышев разговорился с рядовым бойцом Тихоном Кузнецовым, который перевозил на лодке раненых, боеприпасы и продовольствие. И увидел, что перед ним настоящий герой, незаметный и скромный. Так появился очерк «На переправе».
Трое наших бойцов-пулеметчиков — Тимофеев, Богданов и Андриянов — обороняли важный рубеж, более суток до прихода подкрепления сдерживали яростные атаки целого подразделения немцев. Этот факт лег в основу очерка «Стойкость».
О лучшем подразделении, где опытный, умелый командир личным примером воспитывает у своих солдат стойкость, мужество, отвагу, учит их искусству побеждать, в газете была напечатана статья «Командир Семен Конобеев».
Из подразделения Конобеева была привезена и корреспонденция «Отчего фриц крутится?». Вот как писал Вострышев в этой заметке об отличном снайпере Лаврове, воспитаннике Конобеева:
«Возле насыпи немцы рыли траншею. Видно было, как за снежным валом мелькали их головы и лопаты.
Младший лейтенант Конобеев лег за станковый пулемет и дал по немцам длинную очередь. Фрицы побросали лопаты и залегли, некоторые скрылись за насыпью.
Конобеев позвал снайпера Лаврова.
— Приготовься, будет работа, — сказал он снайперу.
Лавров занял позицию. Вскоре фрицы снова собрались в траншее и заработали лопатами.
Меткая очередь из „максима“ опять вызвала переполох среди немцев. И снова фрицы побежали за насыпь. Наш снайпер только того и ждал. Выстрел. Один фриц взмахнул руками и упал навзничь. Еще выстрел. Другой завертелся юлой и клюнул носом в снег.
— Отчего они крутятся? — спросил Лаврова красноармеец Спицын.
Снайпер ничего не ответил. В это время он третий раз нажал спусковой крючок, и третий гитлеровец отправился на тот свет. Двух секунд Лаврову достаточно было для того, чтобы взять на мушку четвертого, и тот тоже закрутился и упал…
Снайпер встал, стряхнул с себя снег и сказал красноармейцу Спицыну:
— Крутятся фрицы оттого, что бью их без промаха, с первого выстрела».
Просто и ясно, кратко и точно рассказал автор о боевой работе снайпера.
Как-то встретил Вострышев на командном пункте батальона немецкого солдата, добровольно перешедшего на нашу сторону. Из беседы с ним подробно узнал, как зверски расправляются гитлеровцы с советскими пленными. И рассказал об этом в статье «Убийцы».
Позднее он не раз гневно писал о зверствах врага, о воспитании ненависти к фашизму. Писал гневно, всей душой ненавидя гитлеровских захватчиков, которые принесли столько горя советскому народу. Горе нашего народа было личным горем Вострышева: его жена, как и тысячи других советских женщин, умерла, пострадав от немецкой бомбежки. Фашистские изверги заставили бедствовать его детей…
Однажды Иван Вострышев показал мне комплект редактируемой им дивизионной газеты «За Родину», кипу вырезок из армейской газеты. Это все, что он привез в вещевом мешке с фронта. Запомнились заголовки некоторых статей и очерков: «Ротная партийная организация накануне наступления», «Воспитание мужества», «Воспитание ненависти к врагу», «Голос Тани», «Изменнику — смерть!» и др.
Разумеется, это меня не удивило. Еще до войны я читал очерки и статьи Вострышева на темы идейного воспитания в журнале «Спутник агитатора» и в газете «Комсомольская правда». Удивило меня тогда, в 1942 году, другое…
Как-то на совещании редактор армейской газеты «В бой за Родину» справедливо заметил, что нет у нас в газете ни сатиры, ни юмора, ни веселых стихов и злободневных частушек. А они очень нужны были на передовой, в солдатских окопах и землянках.
Сразу же после летучки Вострышев взял у секретаря редактора фотоснимок пленного немца — оборванного, ссутулившегося, хмурого, повязанного по-бабьи платком, ушел в соседнюю комнату и вскоре вернулся со стихотворной подписью:
Греет солнце на полянке, Вылез немец из землянки. Фрица жизнь замучила, Стал похож на чучело…И далее автор просто, без выкрутасов, с тонким и злым юмором высмеял незадачливого немецкого вояку, подписав стихи: «Боец Иван Штык».
С тех пор на страницах армейской газеты с этой подписью стали часто появляться стихи, веселые, колючие, с перцем, высмеивающие немецких горе-вояк: «Как „катюша“ немцу задала перцу», «Как повар Войнов трех немцев накормил», «Песенка фрицев» и др.
В стихотворении «Бравый фриц в поход собрался» Иван Штык потешался над фрицем-мародером:
Фриц в бою горел отвагой. «Хайль» герою-ратнику! Он за курицей со шпагой Бегал по курятнику.Иван Вострышев написал и опубликовал в нашей армейской газете целую серию солдатских частушек («Частушки разведчиков», «Частушки снайперов», «Прямой наводкой» и др.), в которых, как и в упомянутых выше стихотворениях, высмеивались гитлеровские захватчики, битые советскими воинами в боях под Тихвином, в сражениях за Ленинград. Эти частушки отличаются простотой и ясностью, народным юмором. Вот, к примеру, некоторые четверостишия из «Зимних частушек»:
Снежки пали, снежки пали, Пали — не растаяли. Немцы охали, вздыхали — Зимовать не чаяли. Дед-Мороз на немцев злится, Ходит белый — в инее. За рекою мерзнут фрицы — Вшивые и синие. Фриц стоял на карауле, На морозе мучился. Просвистела моя пуля… Он упал и скрючился.Стихи и частушки Ивана Вострышева нравились бойцам подразделений, читателям нашей газеты, и нам, работникам редакции. Тот же редактор газеты на одной из редакционных летучек (Вострышева тогда не было) с удивлением воскликнул:
— Кто бы мог подумать, что в душе этого на вид скучного человека горит искра божия!..
Иван Вострышев как-то показал мне листовку, выпущенную армейской газетой накануне боя за деревню Плавницу. На одной стороне этой листовки под заголовком «Очистим восточный берег Волхова от гитлеровской мрази» разъяснялась задача наступательного боя: «Мы вышибем немчуру из Плавницы… Мы разгромим гитлеровцев на восточном берегу Волхова, погоним их дальше на запад, освободим путь к Ленинграду…» На другой стороне листовки — фотография: наши бойцы атакуют противника; на переднем плане двое со станковым пулеметом ползут вперед под огнем врага. Суровы, мужественны, непреклонны их лица. Эти не дрогнут, не побегут назад! А под снимком стихотворение Ивана Вострышева «Нашей будет Плавница»: четверостишия-лозунги, в которых автор призывает советских воинов сокрушить врага, вышвырнуть фашистскую мразь из нашего села.
Лес сосновый, луг зеленый — Это наше, дедово. Штык вонзи ты свой каленый В горло людоедово! Гнев народный — наша сила. Миной и гранатою Зарывай, боец, в могилу Немчуру проклятую!Советские бойцы читали эти стихи, а затем, спрятав листовку на груди, шли с ней в атаку на врага, чтоб вонзить «штык свой каленый в горло людоедово».
Осенью 1942 года Вострышев с Волховского фронта прислал мне на Воронежский фронт другую листовку (издание той же армейской газеты «В бой за Родину»), в которой был напечатан текст его «Волховской песни» с музыкой М. Рубаненко. Эта песня прочно вошла в репертуар ансамбля армейского Дома Красной Армии. Ее исполняли коллективы красноармейской художественной самодеятельности при дивизионных клубах, в полках и батальонах. Текст песни впервые был напечатан в армейской газете «В бой за Родину» 9 июля 1942 года.
«Любят бойцы песню. Любят старинные, любят и новые песни — наши, советские. В энском соединении сложена своя „Волховская песня“, которую любят бойцы, и в часы затишья с увлечением поют ее» — так писал А. Тимофеев в статье «Запевалы, песню!», напечатанной в газете «Фронтовая правда» 10 ноября 1942 года.
В 1943–1944 годах Вострышев, как я уже упомянул выше, редактировал газету 364-й стрелковой дивизии «За Родину». Дивизия вела тяжелые наступательные бои, преследовала противника, очищая Ленинградскую область, Эстонию и Латвию от фашистской нечисти.
Готовясь к выпуску очередного номера своей газеты, редактор все должен предусмотреть, обо всем позаботиться. Вовремя надо приехать в указанный пункт, вовремя приступить к работе. Часто бывало так, что еще утром в этом городе или селе были немцы, а в полдень, вслед за штабными машинами, сюда вкатывался редакционный автобус — и вот уже наборщики стоят у касс, газета набирается. Была она маленького формата, но выходила ежедневно. Свежий номер должен быть готов к утру, к семи-восьми часам попасть в подразделения. Ничто не должно помешать этому — ни осенняя распутица, ни зимний мороз. Редактор обязан позаботиться, чтобы в номер попала последняя оперативная сводка «От Советского информбюро», последний приказ Верховного Главнокомандующего. И передовую статью надо написать, выбрав тему, чтобы она била в цель, чтобы отвечала главной боевой задаче, поставленной перед дивизией. Просмотреть военкоровские заметки, присланные в редакцию, отобрать из них самые важные и интересные и сдать в набор. Позаботиться, чтобы в номере были рисунки, портреты воинов, отличившихся в боях. А ночью с коптящей гильзой сидеть над гранками, над газетными полосами и вычитывать, вычитывать…
Много работы было у редактора «дивизионки». Трудно ему приходилось. В то же время приятно было сознавать, что и ты, газетчик, тоже боец, помогающий ковать победу над врагом. Бывая в подразделениях, Иван Вострышев не раз убеждался, как солдаты любят свою «дивизионку», с каким нетерпением они ее ждут. И не удивительно, что именно из «дивизионки» они в первую очередь узнавали самые свежие новости о положении на фронтах Великой Отечественной войны, о боевых действиях дивизии, о героических подвигах друзей-однополчан. Видя успех своей газеты, ощущая ежедневно и ежечасно фронтовую солдатскую признательность и дружбу, Вострышев был счастлив. Как-то Иван Васильевич показал мне оригинал одной заметки, опубликованной в новогоднем номере газеты за 1944 год. Пожелтевший от времени листок. Выцветшие чернила. Написана в землянке на переднем крае в последний день 1943 года. Озаглавлена «Подарок 1944 году». Автор — снайпер старший сержант К. Шевелев. Вот что он писал:
«В это утро я встал с особенным настроением и, как только показался утренний свет, я уже был далеко за передним краем, лежал на заранее подготовленной мною огневой позиции. В этот день убить гитлеровца я считал своей почетной обязанностью. Ждать долго не пришлось. Чужеземец выскочил из траншеи для того, чтобы срубить не саженное им дерево. И тут раздался мой выстрел. Фриц упал и больше не поднялся. Это был мой 44-й подарок народу — новогодний. Записав в снайперскую книгу 44-го, я вернулся в землянку, где ожидали меня новогодние сто граммов и вкусный обед».
Этот пожелтевший, почти истлевший листок Вострышев хранит как драгоценную реликвию. К заметке бережно приколота записка снайпера редактору дивизионной газеты: «Тов. Вострышев! Поздравляю Вас с Новым, 1944 годом и желаю Вам самых наилучших успехов в Вашей трудовой деятельности. Жму Вашу руку. Ст. сержант снайпер Шевелев».
Это была награда за тяжкий газетный труд, за опасные военные дороги, за бессонные ночи над газетной полосой.
А вскоре пришла и другая награда…
— На всю жизнь запомнилось ясное майское утро 1944 года, — рассказывал мне позже Вострышев. — После жестоких боев наша 364-я стрелковая дивизия отошла на отдых. Мы лагерем расположились в лесу, залечивали раны, принимали пополнение. В это утро на лесной поляне, в окружении белых берез, выстроились офицеры, младшие командиры, участвовавшие в последних боях. Среди них и я — военный журналист. Ярко светит солнце. Командир дивизии вручает награды. Один за другим подходят к нему командиры рот и батальонов, политруки подразделений, сержанты, солдаты. «Майор Вострышев!» — вызывает комдив. Я подхожу к нему. Он смотрит на меня по-отечески тепло и ласково: «За образцовое выполнение боевых заданий…» И я получаю орден Отечественной войны II степени. Трудно передать чувство, испытанное мною при этом. Это чувство от радостного, счастливого сознания, что здесь, на фронте, в этом боевом товариществе ты равный среди равных и твой ратный труд оценен по заслугам. И тогда я подумал: «Да, осуществилась мечта великого советского поэта — к штыку приравняли перо!»
Кончилась война. В июне 1945 года Иван Васильевич Вострышев демобилизовался, вернулся в редакцию «Комсомольской правды». Съездил в Горьковскую область, привез своих детей. У военного журналиста началась мирная жизнь…
Мирная ли? Характер у Ивана Васильевича беспокойный. Ему перевалило уже за сорок, он решил учиться. Поступил в Академию общественных наук при ЦК КПСС на факультет литературы и искусства. Через три года защитил кандидатскую диссертацию. Заведовал отделом литературы и искусства всесоюзного общества «Знание». Занимался научно-исследовательской работой в Институте мировой литературы имени А. М. Горького Академии наук СССР. Писал статьи и читал публичные лекции о русской художественной литературе…
Болезнь подкосила здоровье Ивана Васильевича, когда он работал в Отделе литературы и искусства ЦК КПСС. Пришлось уйти на пенсию. Казалось, теперь все — на покой…
Но и тут военный корреспондент, старый коммунист не сдался. Прошло некоторое время, и в «Блокноте агитатора», издаваемом Главным политическим управлением СА и ВМФ, стали появляться статьи-беседы Вострышева под рубрикой «Советы агитатору». В них автор писал об искусстве говорить с массами, о силе, ясности и выразительности речи. Затем одна за другой вышли в свет брошюры, пропагандирующие художественную литературу («Художественная литература в агитации», «Великий русский сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин» и др.), статьи в газетах и журналах о русских классиках и советских писателях.
Ивану Вострышеву не сиделось в Москве. Превозмогая свой недуг, он выезжал в колхозы и совхозы Подмосковья, пристально изучал сельскую жизнь. В результате этого в шестидесятые годы одна за другой вышли в свет две его повести — «Зимой в Подлипках» и «Ласкины». В этом литературном жанре И. Вострышев выступал впервые, и надо отметить, что он не ударил лицом в грязь, написал яркие и правдивые книги о советской деревне начала шестидесятых годов. И в этих книгах он оказался верен военной теме: главным героем повестей явился демобилизованный офицер Советской Армии Константин Ласкин, вернувшийся в родное село. Ласкин в самом начале Великой Отечественной войны юношей добровольно ушел на фронт. От Тихвина с боями прошел до Берлина. Был храбрым, отважным солдатом. А хороший солдат, как говорится, и в миру воин. Вернувшись в родное село, Ласкин увидел, что колхоз в беде: во всем бесхозяйственность, низкие урожаи, кругом убытки. И по зову сердца, по долгу коммуниста демобилизованный майор решил остаться в колхозе. Он стал работать на самом отсталом участке колхозного производства — на свиноферме. Не жалел сил, не гнушался грязной физической работы. Вскоре, по заслугам оценив самоотверженный труд Константина Ласкина, колхозные коммунисты выбрали его своим секретарем, затем колхозники оказали ему доверие — он стал председателем колхоза. Ласкин — мыслящий и ищущий человек. Он мобилизует колхозных коммунистов, поднимает всех честных тружеников на преодоление недостатков и трудностей. И колхоз начинает расти и крепнуть у всех на глазах.
Повести И. Вострышева читаются с интересом. Они написаны простым, ясным и точным языком. Радуешься удачным пейзажным зарисовкам. Чувствуешь, что автор хорошо знает и любит сельскую природу.
Ивану Вострышеву далеко за шестьдесят. Казалось бы, теперь-то ему и отдохнуть пора. Но нет! Он еще полон творческих планов. Пишет новую книгу — на этот раз о минувшей войне, которую он прошел от самого начала и до победного конца.
Осенью 1969 года Иван Васильевич выезжал в Ленинградскую область, побывал на берегах Волхова, где летом 1941 года начинал свой путь военного журналиста. Бродил в районе Тихвина по местам боев. Это ему необходимо для будущей книги.
— Нужно еще забраться в архив Министерства обороны СССР и посидеть там недельки две-три, — говорит Вострышев. — Потом в Библиотеку имени В. И. Ленина… Надо читать да читать! А после этого уехать на дачу и писать, писать! — И затем тихо, с еле заметной грустинкой Иван Васильевич добавляет: — Надо спешить! Кажется, я очень поздно понял свое призвание, слишком мало сделал…
Верность теме
Майским днем, выйдя из вестибюля станции метро «Автово», человек в сером военном плащ-пальто, с погонами инженер-подполковника, огляделся. Скользнул взглядом вдоль цепочки киосков, внимательно осмотрел вереницы торопливых ленинградцев, возвращающихся с работы, и, свернув направо, ускорил шаг. Улица Строителей. А вот и дом… Какая-то будет встреча? Шуточное ли дело — пятнадцать лет не виделись!
Поднимался по гулкой узкой лестнице торопливо, перешагивая через две ступеньки. Наконец, вот она, дверь в квартиру. А вдруг в Ленгорсправке ошиблись? Все может быть. Но подполковник решительно нажимает на кнопку звонка.
За дверью ни звука. И вновь звонок. И вновь ни голоса, ни шагов. «Неужели и в самом деле ошибка?»
Во дворе спросил:
— Тут ли живет Волков Владимир Иванович?
— Тут. Скоро вернется с работы.
Присел в скверике, на лавочке. В ожидании томительно прошел час, начинался второй.
Вставал, снова шел к подъезду, поднимался по лестнице, звонил — не пропустил ли? Нет, не пропустил. За дверью молчание. И опять вернулся, стал терпеливо ожидать. Заприметив военного, явно кого-то ожидавшего, подходили сердобольные женщины, заговаривали. Узнав, судили-рядили:
— Надо же так случиться! Может, на работе задержался Владимир Иванович, может, собрание? Может…
А его все нет и нет. Уйти подполковник уже не мог. Решение твердое: должен повидать. В Ленинград приехал в командировку, завтра уезжает назад, в Москву. Другого такого случая не будет.
И вдруг… Он ли? Темная шляпа, синий плащ. Человек еще далеко, только вышел из-за угла дома, идет неторопливо. Но походка военная. Походку эту кадрового, немало послужившего человека узнаешь сразу, пусть на нем и костюм сейчас штатский.
Подполковник решительно поднялся, подошел к подъезду: станет сворачивать, тут и…
Смотрел, не спуская глаз с того, кто приближался. Тот тоже, видно, заметил военного, прогуливающегося у подъезда. Но мало ли кто тут может стоять! Мельком поглядывал и опять отводил глаза. И все-таки странно: так пристально смотрит этот военный. А подполковник уже видел знакомое, хотя и несколько изменившееся лицо: появились складки, кажется, чуть отцвела голубизна глаз, посветлела. Но прежняя орлиность во взгляде, властность — их не сгладило даже время — остались. «Ах, полковник, полковник!.. Владимир Иванович!» — шепчет мысленно подполковник, не спуская глаз, совсем забыв, что вот так, в упор, сверлить идущего на тебя человека неучтиво, бестактно.
А тот продолжает идти. И теперь его уже, кажется, начал беспокоить этот упорный, пристальный взгляд. «Странный подполковник! Странный взгляд!» — подумал человек в плаще и, сердито вскинув глаза на военного, повернул к двери подъезда.
И вдруг внезапно:
— Владимир Иванович!
Человек резко обернулся, на лице сложная гамма — сердитость, недоумение, беспокойство. А подполковник улыбается, вскинув руку к козырьку форменной артиллерийской, с черным околышем фуражки. Подобрался — и по-военному:
— Разрешите доложить? Инженер-подполковник Горбачев, специальный корреспондент газеты «Красная звезда»…
И словно вихрь пронесся по лицу Владимира Ивановича:
— Постой, постой! Горбачев! Ты?! Комбат?! Лейтенант Горбачев?!
И — шаги друг к другу. И объятья — крепкие, мужские.
— Вот не ожидал! Вот случай! История! — в явном замешательстве повторял полковник. — В дом! В дом!.. Без всяких возражений.
Вскоре пришла и жена Владимира Ивановича.
— Лида! Лидия Ивановна, гость у нас! Горбачев, помнишь? Комбат был, молодой… — Но спохватился: — Ах да, конечно же, не помнишь! Война была… Наезжала ты раз-другой. Где уж тебе запомнить…
Подполковник, встав навстречу хозяйке, вновь подумал о времени: были они тогда молодыми лейтенантами, и Лидия Ивановна — жена командира полка — была молодой. Она их могла и не заметить. Ничего удивительного. Но они-то, конечно же, замечали ее в те короткие наезды…
На столе дымился ужин.
— Значит, Николай Андреевич, специальный корреспондент? А инженер? Как же так?!
Николай Андреевич положил на стол две книги:
— Вот вам, Владимир Иванович, на память. От меня…
Тот смотрел на титульные листы книг, читал дарственные надписи.
— И… писатель!
— Да, Владимир Иванович, хотя еще не совсем… — весело проговорил инженер-подполковник. — Словом, путь за эти годы был долгий… Не икалось вам? Я же все эти годы вспоминал вас часто. Вспоминал до шестидесятого года, признаюсь, недобро… Начиная с сорок восьмого, когда вы, Владимир Иванович, не отпускали своего комбата учиться на редакторский факультет… А послали в радиотехническую академию. Помните? Думал, жизнь изломали, не туда подтолкнули…
— Да если бы я знал! — искренне, с горечью произнес полковник. — Если бы! Что так выйдет, знать бы! Разве встал бы поперек пути!
— Нет-нет, Владимир Иванович! Так я думал, повторяю, до шестидесятого года. Потом метаморфоза произошла настоящая: вспоминал добром. Спасибо вам!
И подполковник стиснул сердечно руку Владимиру Ивановичу. Тот смотрел, прищурив голубые глаза.
— Не понимаю тогда, — проговорил он, и в голосе его прозвучало замешательство.
…Победа застала лейтенанта Горбачева и минометную батарею, которой он командовал, в Чехословакии. Еще утром 8 мая немцы сопротивлялись. Батарея вела огонь, и сам Горбачев находился на НП в передовой линии пехоты. А потом весь день гнали фашистов. И вечером — капитуляция! Победа!
Утром к комбату подошел командир взвода младший лейтенант Нифонтов — красивый, с бакенбардами, голубоглазый:
— Товарищ комбат… Вот стихи. Почитайте!
Стихи о победе, о чувствах солдат, и показались они неплохими. Нифонтов уже не впервые доверялся комбату со стихами и всякий раз при этом заливался краской. Но, видимо, догадывался: он будет правильно понят.
— А ведь я тоже писал, — улыбнулся Николай Андреевич. — Было. Даже в прозе себя пробовал…
— Так и думал! А почему же?..
— Не знаю. Война…
— Списала и это, что ли?
— Нет, не совсем так.
И, может быть, действительно, в первый раз вдруг засосало, защемило под ложечкой: «Что же это, верно „списала“? Несерьезно было? Пожалуй, нет — просто не хватало времени…»
…Войска перебазировались своим ходом из Чехословакии в Венгрию. В лесу, в сорока километрах от Будапешта, солдаты жили в полуземлянках. Потом эшелоны потянулись на Родину. Бывалых солдат пригрела родная русская земля. И полк приступил к мирной учебе. Тут же и батарея лейтенанта Горбачева: прыгали с парашютами, учились минометному бою, стрельбе — солдату ратный труд нельзя прерывать ни на минуту.
Но теперь уже в свободное время Горбачев заполняет блокноты наблюдениями, зарисовками боевых дел — вновь «заговорил» тот «червь», что беспокоил его и тогда, когда он учился в Махачкалинском дорожностроительном техникуме и позднее — в Ростовском морском…
Приспело время подавать рапорт на учебу. Теперь уже Николаю Горбачеву представлялось, что другого пути нет, — только на редакторский факультет Военно-политической академии имени В. И. Ленина. Об этом коротко и ясно было написано в рапорте.
…Посыльный из штаба полка, запыхавшись и раскрасневшись, отыскал комбата далеко за чертой города, на полевых тактических занятиях: отрабатывался перенос огня. Сыпались команды, доклады, поправки…
— Товарищ лейтенант, вас командир полка вызывает.
В маленькой приемной перед дверью в кабинет командира полка было пусто и тихо. Спросить даже не у кого: зачем? Действительно, зачем вызывает полковник Волков? Вряд ли так просто, это не в его правилах. По пустякам не приглашал. Провинность? Кажется, ничего особого не случилось.
И вот лейтенант в кабинете. Полковник с виду суровый — красивые усы, темные волосы, голубые глаза смотрят строго.
Комбат подошел, доложил по форме:
— Прибыл по вашему приказанию!
Полковник взял со стола лист бумаги, и лейтенант догадался: его рапорт. И сразу отлегло от сердца. Значит, не происшествие, не ЧП…
— Это серьезно в рапорте? На редакторский факультет? — голос у командира полка густой, глуховатый.
— Да, товарищ полковник! — бодро, уже радуясь, и в то же время соображая: теперь бы только поубедительнее сказать…
— Так вот, — строго, как приказ, объявил командир полка, — делать вам нечего там. Ясно? Вот приказ получил. Новая академия создается… Хотите, подавайте рапорт — отпущу. Инженером станете. Идите, подумайте!..
Рука взметнулась к фуражке, четкий поворот на сто восемьдесят градусов: у полковника Волкова не поговоришь.
Два дня трудных раздумий. Да, радиолокация… Техника будущего. Он знал: только-только в конце войны появились наши РУСы — станции обнаружения самолетов, американские СОНы — станции орудийной наводки в зенитной артиллерии. Читал: техника не временная, не однодневка, у нее перспективы — не окинешь глазом! А может, в самом деле податься в инженерию? Может, то, другое, — блажь? Несерьезно? А дело жизни — тут?
Через два дня снова пришел к командиру. Вскинул полковник голову от стола, от бумаг и строго:
— Ну, как?
Горбачев положил перед ним новый рапорт: «Прошу отпустить на учебу в Военную академию радиолокации…» Полковник тут же молча, но решительно вывел размашистым твердым почерком: «Не возражаю». И расписался.
…Война закончилась совсем недавно, и офицеры съехались сюда, еще по-фронтовому одетые: одни в полевых гимнастерках, другие в неформенных, сшитых из разного материала кителях, третьи — в зеленых «английских» шинелях. Ульем гудели этажи каменного здания дореволюционной судебной палаты. В коридорах, просторных переходах, выложенных скользкой цветной плиткой, в комнатах, отведенных под общежитие, недавние фронтовики в одиночку и группами штудировали забытые за эти годы науки — алгебру, физику, химию. Скверик перед зданием тоже был заполнен людьми. Облепляли густо беседки, устраивались целыми колониями прямо на траве, разложив вороха учебников, тетрадей. Дивились горожане такому поведению военных, терялись в догадках, а иные, осведомленные, шептали не без восхищения: «Будущие академики!»
А они, эти «будущие», действительно жаждали после пороха и гари войны учиться, рвались с фронтовым, еще не остывшим напором через жесткий экзаменационный заслон, желая сесть за парту, а после стать инженерами самой новой, самой таинственной радиолокационной техники. Одни из них уже знали кое-что о ней, прослужив на радиостанциях, на локаторах — РУСах, СОНах, РАПах, для многих же радиолокация была только «вещью в себе», таинственной, но заманчивой. Позже, уже став членом Союза писателей СССР, Николай Горбачев вспоминал:
«…Это были годы, когда всесторонне обобщался и осмысливался опыт войны, опыт использования радиолокационной техники. Всевидящее око локаторов стало неотъемлемой частью системы противовоздушной обороны, неизмеримо выросли задачи радиосвязи, радионавигации. Во всем, что касалось радио, надо было делать ставку на современную технику. Конечно, в ту пору существовали училища, средние военные учебные заведения, они готовили технических специалистов. Но возникла настоятельная необходимость готовить самых высоких специалистов-инженеров. И тогда Высшая школа ПВО была реорганизована в академию. Это-то и привело в движение такую массу офицеров. Лучшие из них, пройдя лабиринт экзаменационного „чистилища“, садились за парты, начинали нелегкий путь в инженеры, и академия им становилась доброй и строгой матерью».
Среди них был и лейтенант Николай Горбачев, комбат.
Строгие и точные науки: математика, физика, механика, радиотехника, электроника, теория электромагнитного поля… И хотя Горбачев был с ними в ладах, однако, возвращаясь после лекций домой, садился к столу — писал рассказы. Потом эта тяга стала каждодневной. В альманахе «Харькив», в украинских газетах стали появляться его очерки, рассказы.
И вот с той поры и стал поминать он недобрым словом Владимира Ивановича: свернул, мол, полковник меня с истинного пути. Все не то и не так…
Но время неутомимо отсчитывало свой бег. Учеба осталась позади, выпускники новой академии пошли в войска: на испытательные полигоны, в радиоэлектронные и другие специальные подразделения. В частях внимательно присматривались к молодым «академикам», на значках-ромбиках которых значились пока еще не известные буквы АРТА. В войсках хорошо знали цену выпускникам других академий с ласковыми и старыми названиями «ленинка», «жуковка», «дзержинка», «куйбышевка»… Но постепенно и «говоровка» — Артиллерийская радиотехническая академия имени Маршала Советского Союза Л. А. Говорова — стала завоевывать прочные позиции и входить в повседневный военный обиход. Выпускники этой новой академии быстро приобретали добрую славу.
В 1953 году у инженер-майора Горбачева началась служба в ракетных войсках: они только-только зарождались тогда, становились на ноги. Сложная, передовая техника! Мощные станции наведения, ракеты — все это было интересно, ново. С желанием отдается Горбачев, но не забывает и литературный труд: рассказы уже появлялись теперь в центральных газетах, в журнале «Советский воин». Служба в ракетных войсках была познанием жизни, проникновением в существо всех сторон армейского организма и вместе — познанием военного человека, того нового воина, которому суждено совершить революцию в военном деле. Однако нет-нет, а та мысль: «Подпортил полковник мне жизнь» — приходила во все эти годы.
А потом работа в Главном штабе — глубокое изучение ракетной техники, инспекционные поездки в войска, на полигоны, активное и непосредственное участие в учениях, боевых стрельбах…
Со всеми своими трудностями, присущими становлению всякого нового дела, развивалась «революция» военного дела, и, естественно, у будущего писателя, видевшего все это, остро ощущавшего пульс событий и явлений, шло осмысление происходившего. На это надо было откликнуться, об этом надо было написать… Тогда-то и появились первые наброски повести «Ракеты и подснежники». Писал ее Горбачев в свободное время, когда приходил со службы, когда уже бывало сделано немало иной сложной и важной работы, писал вечерами, в часы отдыха, в воскресные дни, во время очередных отпусков. Такова уж судьба всех литераторов. Зря им только завидуют некоторые непишущие…
В 1960 году происходила реорганизация газеты «Красная звезда», центрального органа Министерства обороны СССР. Военной печати предстояло учесть новые явления в армии и на флоте. Офицера Горбачева, которого знали уже по выступлениям в прессе, пригласили в штат. Он, конечно, с радостью согласился: еще бы, сбывалась давняя мечта!
Началась новая пора — журналистская, беспокойная, бурная. С подлинным рвением ездил он по ракетным частям и полигонам. Приезжал с заполненными блокнотами, отписывался и вновь уезжал в командировку. Писал о том, что мешало быстрее становиться ракетным войскам на ноги, утверждаться, совершенствоваться, писал о тех, кто шел впереди и кто тормозил движение.
…За столом оба — Волков и Горбачев — помолчали. Каждый думал о своем. Инженер-подполковник улыбнулся:
— Да, Владимир Иванович, произошла метаморфоза в моем отношении к вам… Инженера не получилось — это верно! Но инженерное образование, опыт инженерный… Впрочем, представьте себе такую картину. Приезжает корреспондент в ракетную часть. Идет на ракетную позицию, прямо к технике. Что-то происходит в этих шкафах — горят лампочки, перемигиваются, создавая таинственность происходящих в них процессов. Возле аппаратуры колдуют, чаще молча или только перебрасываясь специфическими фразами, техники и инженеры… А тут корреспондент. Да еще с вопросами: что, да как, да почему? А ну-ка, подкинем ему «ежа». Происходит, однако, невероятное — корреспондент не только раскусил этого «ежа», но в свою очередь, подкидывает вдруг такого, что техник, стыдливо краснея, бормочет: «Нет, мы это не учили. Я ведь только техник». Словом, после этого идет разговор «на равных». Сами понимаете, знания облегчают любую работу, тем более журналистскую.
— Выходит, так решается в литературе проблема «физиков» и «лириков». Надо знать, о чем писать!
— Выходит так, Владимир Иванович.
Выступая с рассказами и очерками на страницах «Красной звезды», Николай Горбачев собирал материал для повести, над которой упорно работал в те дни. Вскоре в Военном издательстве Министерства обороны СССР вышла его первая книга «Ракеты и подснежники» — лирическое, взволнованное повествование о воинах грозного вида оружия.
Не прошло двух лет, и читатель получил еще одну книгу. На этот раз повесть «Звездное тяготение». Героями ее, как и в ранее выпущенной повести «Ракеты и подснежники», являются воины-ракетчики: офицеры, сержанты, солдаты, у кого нелегкая, но интересная и романтическая служба. В этом смысле книга Николая Горбачева открывает новую страницу в литературе, распахивая перед читателем мир людей еще невоспетой профессии. Она вызывает радостное чувство знакомства с этим необычным миром, с его красивыми героями, сильными своими хорошими душевными зарядами и большим внутренним мужеством.
Но судьбы людей, жизненные положения и ситуации рисуются автором не упрощенно, рисуются без скидки на условия воинской специфики, поэтому повести предельно емки по фабуле, глубоко драматичны и конфликтны.
Автор не обходит острых и трудных жизненных проблем, а, наоборот, вскрывает их смело и правдиво и вместе с тем достоверно передает ту общую атмосферу романтической влюбленности, патриотического подъема, глубокого понимания долга, характерных для советских воинов. Индивидуальные судьбы героев повестей включены в общий поток нашей жизни. Основное внимание автор уделяет формированию характера молодых солдат и офицеров.
Гошка Кольцов в повести «Звездное тяготение» — солдат трудный. Читатели знакомятся с ним в госпитале, где он лежит, тяжело обожженный во время спасения ракеты. Повесть — история перестройки характера Гошки, его столкновения с коллективом, которому он поначалу противопоставил себя; история разрыва с любимой девушкой, ошибок и самобичевания и в конце — осознанного подвига. Гошка спасает ракету, отводит, казалось, неминуемую беду от товарищей по расчету.
Путь Гошки нелегок, и читатель, увлеченный его судьбой, стремится разобраться в ней вместе с героем, увидеть тех, кто помог ему стать другим… Повесть утверждает мысль: да, армия, новая техника, новые люди — офицеры, солдаты — перековывают, воспитывают человека.
Повесть «Звездное тяготение» получила заслуженное признание и высокую оценку, а ее автор удостоен премии Министерства обороны СССР за лучшее произведение о современной жизни Советской Армии.
Писем с просьбой рассказать о дальнейшей судьбе героев «Звездного тяготения», так полюбившихся читателям, поступило много. Они идут непосредственно к автору, в редакции газет, в издательство. И автор, горячо влюбленный в своих героев, отложив все срочные дела, снова садится за письменный стол и пишет новое произведение — на этот раз многоплановый роман «Дайте точку опоры».
О чем эта новая книга? Не трудно догадаться — о том же, о ракетных войсках, о тех же славных советских ракетчиках.
И опять — муки творчества, бессонные ночи, годы терзаний, груды исписанной бумаги, душевные страдания и поиски, поиски без конца. Трудно писать о новом, неизвестном, о том, что еще только рождается, возникает. С величайшим усилием пробивает оно себе дорогу. Старое не сдается, не желает уступать свое место, всячески сопротивляется. Так происходит не только в природе, но и в жизни, в творчестве.
Но вот и это все позади. Написан заключительный абзац. Поставлена последняя точка. Первые отрывки нового романа появились в печати накануне пятидесятой годовщины Октября. Писатель спешил. Как и все советские люди, он хотел преподнести Родине к ее славному юбилею свой личный подарок. Как исповедь звучит его письмо воинам-уральцам, которым он послал на читательский суд первый отрывок из нового романа.
«Для меня нет ничего приятнее, как писать о воинах сегодняшней армии, о человеке в серой шинели, о человеке с ружьем, — признается Николай Горбачев. — Этот путь в литературе мною выбран прочно и окончательно, и, как говорится, доказательства тут налицо: вы, вероятно, читали книги „Ракеты и подснежники“, „Звездное тяготение“, „Возвращение“, „Человек и ракета“, „Одна ночь“, „Сказание о ракетчиках“.
Другое „ружье“ сейчас в ваших руках, другими стали и сами воины — морально и духовно, — как и все мы, сыны нашего героического пятидесятилетия. Поэтому и почетно и сложно нам, писателям, создавать литературные произведения о советском солдате. Поэтому-то с чувством волнения предлагаю вашему вниманию отрывок из нового романа…»
Роман «Дайте точку опоры» также получил положительную оценку читателей.
Ежегодно мы видим, как по брусчатке Красной площади следуют в грозном и внушительном шествии ракеты разных калибров и назначений, знаем, что в воздух для нашей защиты может каждую минуту подняться ракетоносная и атомоносная авиация, а моря бороздит наш атомный флот…
Думается, что теперь уже ни у кого не остается сомнений — в военном деле, бесспорно, произошла самая настоящая, самая решительная революция. Однако проявление ее не только в очевидном резком изменении технической оснащенности армии, но и в тех революционных сдвигах в ее главном фонде — человеке.
Современное оружие потребовало не просто солдата, офицера, техника, инженера, человека с высоким техническим кругозором. Того самого «физика», для которого у ракеты, в атомной подлодке возникают нередко условия, когда надо не просто нажимать кнопки, переключать тумблер, крутить штурвалы, — требуется напряженная, высокоумственная, мгновенная по реакции и психологическому взлету работа ученого, работа «физика». Конечно, боевое применение, эксплуатация этой техники максимально автоматизированы, но для сложной техники известен как бы обратный закон: нажимать кнопки, переключать тумблеры можно лишь при ювелирном знании всей «анатомии и психологии» тех самых ракет, с виду безмолвных и ручных, но по существу (ракетчики это знают), каждой из которых присущ свой характер, свой норов.
Однако речь идет не только о «качественных сдвигах» в знаниях нынешнего солдата, офицера, но и о психологических и нравственных сдвигах. Эти сдвиги определяются многими причинами. Человек велик, способен создавать могучую технику, вдохнуть в нее жизнь, отдав ей частицу себя, но вместе с тем техника, своеобразие воинского труда, в свою очередь, оказывают влияние на характер человека, на его эмоциональный арсенал и психологию поступков. Словом, техника принимает участие в формировании человека, его облика, его внутреннего «я». В этом смысле революция в военном деле представляет собой неисчерпаемые кладези тем и находок для литературного проникновения, исполнения благородной писательской миссии.
Техника и человек… Извечная проблема. Сколько ученых, философов, психологов ломали и поныне ломают над этим головы! Но самым строгим и верным ценителем является время — крутое, неумолимое и властное. Оно проверяет и испытывает все в человеке: его духовную и физическую крепость, мужество и талантливость, дружбу и любовь. Круто порой поворачиваются и ломаются в наше время судьбы человеческие…
О людях, кому доверено грозное современное оружие, о создателях могучих ракет, о тех, кто на своих плечах вынес революцию в военном деле, об их самоотверженном труде, о чести и достоинстве советского человека, о глубоком чувстве братства, дружбы и любви, о том, как нелегко и вместе с тем радостно шагать по нашей бурной, наполненной большим смыслом жизни, — обо всем этом и рассказывает Николай Горбачев.
Призвание, рожденное в бою
I
Судьбы журналистские, как и судьбы солдатские, складываются по-разному. Особенно на войне.
Одни журналисты приходили на фронт из редакций газет и журналов, имея за плечами немалый опыт работы. Им было проще: требовалось лишь перейти на военные рельсы, понюхать пороху, заговорить языком фронтовой корреспонденции, привыкнуть к напряженной обстановке. Другие, подчиняясь суровым обстоятельствам времени, выполняли задания своих редакций, хотя до войны не брали в руки пера.
Я же хочу рассказать о журналисте и литераторе, «родившемся» на фронте, хотя из окопов он не послал ни одной строчки в газету. Не послал, пока не кончились бои. И все же берусь утверждать, что как журналист он родился на войне.
Впрочем, призвание пришло раньше…
У самого подножия Кавказских гор приютился живописный город Нальчик — столица Кабардино-Балкарии. Укрытый зеленью садов, он дышит чистым и свежим воздухом. Живописный и солнечный, он сроднился с Эльбрусом и Казбеком, что, чудится, вырастают тут же, у горизонта. За городом — ослепительное серебро горной реки, а за мостом — селение Вольный Аул, в котором живут кабардинцы — отважные и благородные дети гор.
Анатолий Марченко (именно о нем я веду речь) увлекался стихами местных поэтов Али Шогенцукова и Адама Шогенцукова, Алима Кешокова, Керима Отарова и других, вошедших в литературу еще до Великой Отечественной войны. В 1940 году в Нальчике был издан поэтический сборник трех молодых поэтов, одним из которых был Максим Геттуев. Его напевные, публицистически страстные и душевные стихи очень понравились увлекающемуся литературой юноше. Одно из этих стихотворений Анатолий Марченко помнит и сейчас:
Как малахитовое море Без берегов, Без берегов — Средь вечереющих нагорий Разлив лугов, Разлив лугов. Мне плыть по ним в потемках синих Навстречу дню, Навстречу дню. Я серебро ночных росинок В ладонях сомкнутых храню.В конце тридцатых годов улицы Нальчика были тихими, безмятежными. На одной из них стояла школа, похожая на десятки таких же школ. Она носила имя Максима Горького.
Мальчишки и девчонки бегали сюда веселыми, озорными стаями. Здесь учились дети разных национальностей; жили дружной, крепкой семьей русские и кабардинцы, украинцы и балкарцы, белорусы и грузины. Старшеклассники грызли гранит науки, зубрили немецкий язык, не ведая, что многим из них он пригодится уже на будущий год. Ходили на танцы, перебрасывались записками, спорили о поэзии Есенина, Маяковского, огорчались, если получали двойки, и мечтали о подвигах.
Все было, как и в тысячах других школ. Учащиеся этого города со школьной скамьи в сорок первом году почти сразу же окунулись в огненный смерч войны.
Один из старшеклассников — скромный, замкнутый мальчишка, бредивший литературой, — редактировал школьную стенгазету. Он был очень застенчивым. Но однажды, когда классный руководитель, преподаватель литературы Антонина Васильевна Рыжеволова, предложила ему сделать доклад о творчестве Маяковского, преодолел робость и с желанием взялся за порученное дело. Вестибюль, в котором школьники собрались на вечер, стал его первой устной трибуной, с которой он негромко, но проникновенно читал строки великого поэта эпохи:
Партия и Ленин — близнецы-братья, — Кто более матери-истории ценен? Мы говорим — Ленин, подразумеваем — партия, мы говорим — партия, подразумеваем — Ленин.Вдохновенно и увлеченно говорил юный докладчик: — Страна наша в грохоте великих строек. Нам строить социализм. Нам его и защищать. Наш путь после школы — туда, на передний край пятилетки. Как сказал поэт, «будущее не придет само, если не примем мер». Маяковский — с нами, на правом фланге. Он наш запевала, отдающий «всю свою звонкую силу поэта» Родине, народу-созидателю:
Я с теми, кто вышел строить и месть в сплошной лихорадке буден.Затем он читал стихи о счастье созидания, счастье свободного труда. Читал самозабвенно, с юношеской гордостью:
Я знаю — город будет, я знаю — саду цвесть, когда такие люди в стране Советской есть!Ребята громко аплодировали. А кто-то даже крикнул: «Давай еще!»
Не привыкший к трибуне докладчик смутился. Ему очень многое хотелось сказать о любимом поэте. Но вместо этого он снова стал читать стихи:
Отечество славлю, которое есть, но трижды — которое будет!И тут же, не переводя дыхания, прочитал строки, которые всегда жили в его душе и которыми хотелось ему закончить свою первую речь перед такой большой аудиторией:
Читайте, завидуйте: Я — гражданин Советского Союза!Анатолий Марченко и до сих пор с большим уважением и благодарностью вспоминает об Антонине Васильевне Рыжеволовой — кандидате педагогических наук, заслуженной учительнице школы РСФСР, которая и поныне живет в Нальчике. Именно она сумела привить своему воспитаннику любовь к литературе, к журналистике, к книгам.
Однажды Анатолий пришел в редакцию республиканской молодежной газеты «Молодой ленинец». Он принес туда свои первые стихи. Были они еще несовершенны, но подкупали искренностью и романтикой. Сотрудники редакции поддержали его: стихи напечатали в газете. Так Нальчик стал «крестным отцом» начинающего литератора.
Грозный 1941-й позвал мальчишек в боевой поход. Пройдя курс ускоренного военного обучения, Анатолий Марченко стал командиром орудия. На фронт ушли и его сверстники: Миша Ваксин, Ваня Тимченко, Яша Денисенко, Толя Беленов. Им не довелось вернуться с войны…
Тревожной морозной ночью эшелон артиллерийского полка прибыл на станцию Ряжск. Станционные постройки проступали в темноте расплывчатыми, мутными пятнами. Вокруг — ни огонька. Все дышало войной — она была рядом. Только небо не признавало светомаскировки: звезды вспыхивали одна ярче другой и бесстрашно глазели на неспокойную землю, на которой грозно бушевало пламя войны.
На рассвете после недолгих приготовлений батарея походным порядком двинулась к линии фронта. Так началась боевая, тревожная жизнь командира расчета 122-миллиметровой гаубицы младшего сержанта Анатолия Марченко.
В подчинении девятнадцатилетнего паренька волею военных обстоятельств оказались колхозники с Волги, Оки и Дона, совсем недавно надевшие военную форму. В часы затишья эти люди вели степенные разговоры о видах на урожай, об оставленных в тылу семьях, о хозяйских делах. Они были намного старше своего командира, лучше его знали жизнь, и все же безропотно подчинялись безусому мальчишке, отлично знавшему теорию и практику артиллерийской стрельбы и под настроение читавшему вслух стихи Маяковского. С гордостью западали в души людей похожие на клятву слова:
С такою землею пойдешь на жизнь, на труд, на праздник и на смерть!Юноша хорошо понимал, что сейчас, в грозную годину войны, поэзия Маяковского нужна бойцам как дополнительное оружие, как боевой патрон, как бомба и знамя.
Анатолий Марченко не написал на фронте ни одной корреспонденции. Но он уже был журналистом и литератором в душе. С первых дней своей военной биографии он вел дневник. Общая тетрадь бережно хранилась в брезентовой командирской сумке. И все, что звучало в сердце, переливалось в лаконичные, отрывистые строки дневника.
…Шел октябрь 1941 года. Гитлеровцы рвались к Москве. Мечтали о том, как пройдут церемониальным маршем по Красной площади. И чтобы не осуществились замыслы ненавистного врага, стояли насмерть советские воины. Днем и ночью не утихали жестокие, кровопролитные бои. Артиллерийская батарея, которой командовал ленинградец коммунист Федоров, часто меняла огневые позиции, вела по врагу беспрерывный огонь. И здесь на фронтовых дорогах Марченко часто вспоминал о чудесном уголке Родины — о Нальчике, о его трудолюбивых людях, о своих учителях и воспитателях. Воспоминания эти были источником бодрости и веры в победу.
Всецело отдавшийся фронтовым будням Марченко в моменты короткого затишья, у костров, в заснеженных лесах выкраивал минуты для того, чтобы записать в дневник свои впечатления. Это не было прихотью или забавой — так диктовало сердце.
А впечатлений было множество.
…Первый налет фашистских стервятников. Огненные стрелы трассирующих пуль.
…Батарея в ночном лесу. Кони по брюхо утопают в снегу. И жесткий голос догнавшего батарею высокого генерала в бурке: «Если к шести ноль-ноль батарея не будет на позиции…»
…Огневая позиция засечена гитлеровцами. Разбитые орудия, убитые товарищи. Те, с которыми Анатолий Марченко только что говорил, с которыми ел из одного котелка.
…Расчет тащит гаубицу по снежной целине. На рассвете нужно открыть огонь по фашистским танкам, зарытым в землю. Люди валятся с ног от усталости. В эти минуты в душе командира орудия рождаются первые строки о войне.
…Наступление. Батарея едва поспевает за устремившимися вперед пехотой и танками. Обрушив на цепляющихся за населенные пункты гитлеровцев полсотни снарядов, батарея совершает стремительный марш-бросок и снова ведет огонь. Так повторяется изо дня в день, много раз подряд.
…Вслед за тягачами (батарея к тому времени перешла на механическую тягу) орудия перебираются через шаткие мостики, повисшие над оврагами, по косогорам, заросшим ельником, по большакам, вдоль которых в беспорядке валяются брошенные противником автомашины, орудия, повозки, ящики с боеприпасами. Подгоняемые обжигающим ветром, шуршат по снежной корке обрывки немецких газет с фотографиями, прославляющими «подвиги» солдат фюрера. Трупы убитых тут же заметает пурга…
Наши войска движутся по дорогам днем и ночью. Казалось, что в наступление пошла вся страна…
Событий множество — горьких и радостных. Все они одинаково волнуют. Анатолий Марченко не просто был их участником — он пристально всматривался во все происходящее, жадно впитывал фронтовые события, учился у жизни. Он был бойцом. Но бойцом с душой человека пытливого, творческого — с душой журналиста. Недаром впечатления, наспех занесенные в дневник, после войны трансформировались в художественную прозу и ожили на страницах повести «Юность уходит в бой» — произведении светлом, лирически взволнованном, жизнеутверждающем и автобиографичном в своей основе.
Однажды в обороне батарея стояла на окраине деревушки в яблоневом саду. Артиллеристы смертельно устали от предыдущих боев, вповалку спали в только что отрытой землянке. И тут с наблюдательного пункта раздалась команда: нужно было вести пристрелку.
Марченко бросился к гаубице. Пока шла пристрелка, он управлялся со стрельбой сам, без расчета. Расчет был вызван к орудию лишь тогда, когда раздалась команда: «Беглым — огонь!»
А вскоре в телефонной трубке послышался знакомый бас комбата: «Молодцы, ребята! Фрицевской минометной батарее — каюк!»
На следующий день на огневую позицию приехал фотокорреспондент фронтовой газеты. И на ее страницах появился снимок с подписью: «Расчет командира орудия младшего сержанта А. Марченко ведет огонь по фашистским захватчикам».
Встреча с корреспондентом оживила в душе Марченко мечту о журналистике. Сейчас же он был просто бойцом.
Впрочем, не совсем… Фронтовой дневник разрастался. Марченко дорожил им как памятью сердца. На его страницах в торопливых записях умещалось все: раздумья о смысле и цели жизни и боевые эпизоды, мечты о будущем и приметы фронтовых будней. Вот несколько таких записей:
«Главное, как человек сам отнесется к тому, что с ним происходит. Можно сидеть у этого костра и проклинать свою судьбу. И в этом случае человеку будет все равно, настанет ли утро, или вечно будет стоять над лесом вот такая глухая морозная ночь. А можно и сейчас испытывать радость, зная, что ты нужен людям, а они нужны тебе, что и без тебя, какой бы песчинкой ты ни был в этом огромном мире, не будет победы…»
«Слава в вечной зависимости от труда. Упоение славой постепенно проходит, затухает, как свет далекой звезды. Человек, к примеру, создал книгу. Он счастлив, и радости его нет предела. Наверное, первая книга все равно что первая любовь. Но опьянение пройдет, утихнет, и жалок тот человек, который не найдет в себе силы снова творить и создавать…»
«Меня волнует только одно: поймут ли, оценят ли те, кто появится на свет после войны, чего все это нам стоило? Лишь бы они ценили и берегли то, что добыто нами таким трудом…»
В мыслях этих, пожалуй, не так уж много открытий, но они рождались в искреннем сердце юноши, только что вступившего в жизнь, и были созвучны мыслям его поколения. Не случайно уже позже, после войны, Анатолий Марченко вложит их в уста одного из героев своей повести «Юность уходит в бой».
С дневником пришлось расстаться. Не по своей воле. Как-то на большаке гитлеровцы обстреляли батарею из минометов. Одна мина угодила в передок гаубицы. Все, что было сложено на нем: вещмешки, сапоги, плащ-палатки — все разнесло в клочья. Там же лежала и сумка с дневником.
Марченко долго ходил вокруг изуродованного передка орудия, надеясь найти хоть что-нибудь, оставшееся от общей тетради, но тщетно. Весь день он был хмур и неприветлив. Однако с потерей — а их, еще неизмеримо более тяжких, было много на фронте — пришлось смириться.
То, что разнесли в прах осколки мины, сохранилось в сердце. И когда уже после войны в газетах и журналах появились очерки Анатолия Марченко, в них словно бы воскрес тот самый фронтовой дневник.
Как журналист Анатолий Марченко родился на фронте — я повторяю эту мысль, чтобы еще раз подчеркнуть, что даже война не смогла заглушить подлинное призвание. Более того, она отточила его упорство, способности, сделала острее глаза и более чутким сердце. Она приучила, не страшась трудностей, идти к цели, добывать победу ценою большого труда, требующего устремленности, самоотверженности и мужества.
II
После войны Анатолий Марченко пришел в пограничные войска, жизнь которых во многом схожа с фронтовой жизнью. Пограничные тропы, как и фронтовые дороги, не ведают покоя. Затишье на одной заставе, схватка на другой. Напряженная тишина прерывается то автоматной очередью, то бешеным цокотом копыт, то лаем служебных овчарок. Мужественные часовые границ берегут родную землю, политую кровью героев. У них зоркие глаза и горячие сердца патриотов, они постоянно на дозорной тропе государства.
«Друг мой! Если ты идешь сейчас по вечерней улице веселого города и твоя любимая девушка идет с тобой рядом, и оба вы смеетесь от радости, только на миг, хотя бы на один миг, подумайте о далекой пограничной заставе, о том, что именно в эту пору один за другим выходят на границу ночные наряды. И я знаю, вы мысленно пошлете свое „спасибо“ этим простым и скромным людям в зеленых фуражках.
Дозорная тропа! Залитая дождем, утонувшая в рыхлом, по пояс, снегу, потрескавшаяся от нещадного солнца, нырнувшая в черное болото, в лес, куда на ночь заползает туман и где за каждым деревом тебя может подстеречь неожиданность. Непрерывная, нескончаемая тропа… Шестьдесят тысяч километров гранитных валунов, озер, сыпучих дюн и сосновых лесов, морской гальки и непроходимых горных хребтов, жаркой до удушья пустыни, тайги и сопок, тихоокеанской волны, остервенело кусающей хмурый и неприветливый берег…
И пока ты любуешься по-детски нежным восходом, или сидишь на рыбалке, или грузишь вагонетку углем — по этой тропе идут и идут пограничные наряды. Чтобы ты мог варить сталь! Мог любить! Чтобы ты жил! Ни на одну секунду не приостанавливается это движение, ни на один миг не закрываются тысячи зорких глаз, ни на одно мгновение не выпускается из крепких, надежных рук оружие…»
Тепло, с большой любовью и знанием пограничной жизни рассказывает Анатолий Марченко о воинах, денно и нощно бдительно охраняющих неприкосновенность священных советских границ.
В боевой и дружной пограничной семье окреп и возмужал журналистский и писательский талант Анатолия Марченко. Трудно перечислить все пункты на советской государственной границе, в которых он побывал. Всюду поспевает он, сменяя воздушный лайнер на вертолет, а вертолет — на собачью упряжку. Записи в журналистских блокнотах, как когда-то во фронтовом дневнике, переплавляются в рассказы и очерки, в корреспонденции и репортажи о пограничниках — людях трудной и завидной судьбы, сыновьях тех, кто защитил Родину-мать в суровые годы войны.
К боевым наградам Анатолия Марченко прибавилась медаль «За отличие в охране Государственной границы СССР». Очерки и рассказы его часто печатаются в центральных и местных газетах, в «Огоньке», «Советском воине» во многих литературно-художественных сборниках.
III
Очерк об Анатолии Марченко был бы далеко не полон, если бы не сказать о его книгах. Путевку в жизнь им дал ордена Трудового Красного Знамени Воениздат.
«Юность уходит в бой», «Дозорной тропой», «Смеющиеся глаза», «Как солнце дню» — уже названия книг говорят сами за себя. В них глубоко оптимистичный взгляд на жизнь, на судьбы людей, присущий литературе социалистического реализма.
Тема подвига фронтового и подвига пограничного переплавилась в творчестве Анатолия Марченко в единое, нерасторжимое целое. И это закономерно. Подвиг на границе — это подвиг особого рода, подвиг высокого патриотического звучания. Он совершается во имя почетной патриотической цели — во имя защиты советских государственных рубежей. Нередко ту самую пулю, что метит враг в сердце народа, пограничник принимает в свое собственное. Еще в то время, когда над страной мирное, чистое небо, когда страна живет по законам мирной жизни, на границе могут прозвучать выстрелы. В пограничном подвиге отчетливо видны всплески осветительных ракет, слышно яростное стрекотанье автоматных очередей, особенно ощутима схватка двух непримиримых идеологий.
Отрадно, что Анатолия Марченко волнуют не столько внешние приметы границы, сколько нравственный мир ее защитников — мир сложный и многогранный, мир романтической мечты и героических свершений.
Пограничников, как и фронтовиков, роднит любовь к жизни, они защищают ее до конца. Одна из книг Анатолия Марченко названа весьма символично: «Смеющиеся глаза». Это глаза людей, влюбленных в жизнь. Счастливых людей. Глаза тех, кто идет только вперед, к светлой и ясной цели. Повесть «Смеющиеся глаза», написанная в лирико-романтическом ключе, густо населена именно такими людьми. Молодые офицеры Вячеслав Костров и Роман Ежиков, только что окунувшиеся в тревожную атмосферу границы и полюбившие всей душой свою нелегкую профессию. Начальник заставы Туманский — не представляющий себе жизни без заставы. Начальник геологической партии Мурат, считающий, что нет на свете счастья лучше, чем счастье первооткрывателя. Геолог Новелла Гайдай, пожертвовавшая своей жизнью ради того, чтобы подарить людям чудесный минерал, названный в ее честь новеллитом. Писатель Грач с его светлым и чутким духовным миром, оживающим на страницах его книг. Пограничник Теремец, открывший для себя музыку Бетховена, смело вступающий в схватку с нарушителем границы. Все эти герои согреты теплом души автора. Они учат горячо любить жизнь, стойко защищать ее, зовут к подвигу.
Пока что одной из лучших своих повестей Анатолий Марченко считает повесть «Как солнце дню». Ее лейтмотив — верность, священная верность коммунистическим идеалам. «Мы верны тебе, Родина. Как солнце дню, как железо магниту, как земля своему эпицентру». Эти слова советской разведчицы Лельки Ветровой, героини повести, — идейный стержень всего повествования.
Совсем не просто писать о войне в наши дни, когда она отодвинулась от нас чередой лет и когда о ней написано много книг. И чтобы новая книга не потонула в море написанного, автору нужно иметь свой собственный, а точнее, самостоятельный голос. Произведение «Как солнце дню» подтвердило, что такой голос у Анатолия Марченко есть.
Три года напряженного труда отдал он работе над новым своим романом. По крупицам собирал материал для произведения о железном рыцаре революции Феликсе Эдмундовиче Дзержинском и чекистах 1918 года. Название романа «Третьего не дано» говорит само за себя: непримиримость двух миров. Или диктатура пролетариата, или диктатура буржуазии. Середины нет. Третьего не дано. Линия раздела проходит не только через страны и народы, но и через каждую человеческую душу. Таков идейный замысел романа — произведения многопланового, остросюжетного, партийного по своему духу.
Творчество Анатолия Марченко получило высокую оценку на III съезде писателей Российской Федерации. В своем докладе замечательный советский писатель Михаил Алексеев отметил Анатолия Марченко в числе литераторов, успешно разрабатывающих в советской литературе военно-патриотическую тему.
Жизнь и творческий труд продолжаются: «Я думаю о дозорных тропах моей Родины. В сущности, это фронтовые тропы.
…И еще я думаю о том, что у каждого человека есть своя дозорная тропа. Полная опасности и тревог, но приносящая великую, ни с чем не сравнимую радость. Счастлив тот, кто всю жизнь идет по ней, идет гордо и весело, идет, не сворачивая на тихие тыловые тропинки. Счастлив тот, кто любит жизнь, как вечную песню борьбы и труда!»
Эти жизнеутверждающие, полные оптимизма строки взяты из повести Анатолия Марченко «Дозорной тропой». В них кредо автора и основная идея произведения, посвященного жизни советских пограничников. Повесть вызывает чувство уважения и большой любви к воинам в зеленых фуражках, хозяевам пограничных троп, чей ратный труд высоко ценит наш народ.
Заканчивая этот короткий рассказ, я хочу выразить уверенность, что Анатолий Марченко как фронтовик будет снова и снова брать с боя новые творческие высоты. И как пограничник будет в неустанном творческом поиске.
Всегда в походе
Статистика пока не располагает сведениями о возрастном составе участников Великой Отечественной войны. Но одно совершенно очевидно: удар приняло на себя молодое поколение Страны Советов, рожденное Октябрем. Детство рабочих и крестьянских парней было опалено порохом гражданской войны. У них, как и у Советской власти, было все в жизни первым — нэп, индустриализация, ликвидация кулачества, коллективизация сельского хозяйства, ударничество, школы ФЗУ, рабфаки, вузы, втузы…
Им, молодым, отдавали свои знания учителя старой школы, мастеровые, профессура, ставшая на сторону революции и посвятившая себя тому, чтобы создать советскую интеллигенцию.
Фашистское нашествие было для молодых людей покушением на Советскую власть, которая была их собственной плотью и кровью. Они дрались с врагом, не щадя жизни, дрались по зову своего сердца. Они обладали неисчерпаемым зарядом идейной прочности, стойкости, которую не могла поколебать ни фашистская пропаганда, ни зверства гитлеровских выкормышей, ни их бронированные полчища.
Тот, о ком я пишу, как и многие его сверстники, вырос в рабочей среде. В семье было восемь душ. Его братишки и сестренки хорошо знали, что такое голод и нужда, знали, что честный труд на благо Родины — высшее призвание нового человека, воспитанного Ленинским комсомолом, Коммунистической партией.
Детство Жени Петрова было опалено суровыми годами гражданской войны. Вместе со своим закадычным другом Шурой Ивановым он часто ходил к северному семафору. У того загадочного семафора на станции Няндома, расположенной на полпути между Вологдой и Архангельском, высились причудливые холмы. Северный склон их был опоясан окопами, а перед ними — колючая проволока в несколько рядов. «Смотри, брюхо не распори», — предупреждал друга Шура. И с гордостью рассказывал: «Батя мой говорил, что в восемнадцатом, девятнадцатом и двадцатом годах, когда мы с тобой еще и пешком под стол не ходили, вон там, за Няндомой речкой, за один городишко дрались наши не на живот, а на смерть».
Из рассказов отцов и старших братьев узнали ребята, что к концу 1918 года фронт противника в районе Шенкурска сильно вдавался выступом в расположение наших красных частей. Интервенты рвались на соединение с Колчаком. Пристально следил за обстановкой на этом северо-двинском участке фронта Владимир Ильич Ленин. По его указанию прибыл в Няндому из Петрограда Железный батальон в составе четырехсот бойцов да роты рабочих Рождественского района Питера. Из резерва Красной Армии двинулись под Шенкурск десять полевых пушек и тяжелые орудия с крейсера «Рюрик».
В январе 1919 года в сорокаградусный мороз вся Няндома провожала войска, уходящие на штурм Шенкурска. Не помогли интервентам ни окопы с проволочными заграждениями, ни пулеметные гнезда, ни тяжелая артиллерия. Красные войска захватили пятнадцать орудий, пять тысяч снарядов, две тысячи винтовок, шестьдесят пулеметов, три миллиона патронов…
Через рассказы старших укрепились в детском сознании имена командиров и героев гражданской войны на Севере: командующего Северо-Восточным фронтом М. Кедрова, военкома Н. Кузьмина, командира полка, а затем бригады И. Уборевича и многих других.
И какие это были люди! Ребятам очень хотелось быть похожими на них. Позже, из книг, они узнали, что Николай Николаевич Кузьмин с 1903 года в партии. Окончил гимназию и университет. Математик и медик. Сидел в царских тюрьмах.
Это он, Кузьмин, посылал в девятнадцатом году телеграмму Ленину:
«Спешу порадовать победами наших войск на далеком Севере. 14 октября после 3-дневного пехотного и артиллерийского боя под умелым руководством комбрига Уборевича наши малочисленные части взяли, благодаря глубокому обходу, хорошо укрепленную деревню Сельцо, на левом берегу Северной Двины, и, само собой, пал неприступный городок на правом берегу, покинутый в панике англо-американскими войсками, несмотря на полученное ночью подкрепление в 500 штыков».
В феврале 1920 года Архангельск стал советским. Эта победа была рапортом бойцов Севера IX съезду нашей партии.
Слушали ребята разговоры матерей о том, как в гражданскую войну они правдами и неправдами добирались к Белому морю за солью, терпели надругательства от чужеземных солдат; о том, как в одной деревеньке на Онеге читали им вслух письмо американского офицера. Будто бы богатая Америка пришлет крестьянам России муку и что угодно, если они, русские мужики, не будут поддерживать большевиков, а не то разговор короткий. Будто бы Америка разбила Германию, а Россию-то им уничтожить ничего не стоит.
И думали ребята: хоть бы скорее подрасти, чтобы показать, как говорят старшие, кузькину мать той самой Америке!
…А тот скорбный день 1924 года ребята запомнили навсегда.
Январь принес морозы. Густыми узорами заплыли двойные рамы в окнах, припудрились инеем дверные косяки. Над крышами с утра до вечера поднимались стрелы сизых дымов, уносящих в бездонное небо домашнее тепло. В темный, звенящий от стужи вечер тревожно заголосил гудок паровозного депо. А на следующее утро над крылечками домов железнодорожного поселка повисли красные с трауром флаги. Горе словно носилось в воздухе: умер Владимир Ильич Ленин. Суровые, с каменными лицами отец и старшие братья Евгения спозаранку уходили к станкам: работали с самозабвением, не одну смену, будто мстили невидимому врагу, отнявшему у них самое дорогое — Ленина, вождя, учителя и друга всех угнетенных и обездоленных.
Сестренки выполняли домашние задания. С обложки учебника смотрел на них человек с добрым сердцем. Он даже на бумажном листочке был живым, и, казалось, слышался его мягкий отеческий голос: «Учитесь, дети, учитесь! Впереди у вас большие дела».
В тот год ребята пошли в школу. Они любили забираться на горы теплого шлака и с высоты наблюдать за тем, что делается у паровозного дело — этого рабочего царства. Все, что они видели: и корпуса, вытянувшиеся полукругом, и ниточки рельсов, расходящиеся веером в разные стороны, — все это было народное достояние. С замиранием сердца следили они, как паровозы, вернувшиеся из рейса, тихо-тихо вползали на тележку поворотного круга. А потом эти паровозы в клубах пара быстро сходили с тележки и скрывались за массивными воротами депо.
Часами, затаив дыхание, смотрели ребята за тем, как крутились трансмиссии в механическом цехе, как вырывался из трубы котельной пар и пел, наверное, на всю вселенную. Слушали, как заливисто играл гудок, обладающий какой-то магической силой. Он поднимал рабочий люд с постелей, извещал об обеденном перерыве, отпускал в конце смены домой. И не было у ребят выше мечты, чем поскорее побывать под крышей депо, где трудились их отцы и братья.
Вскоре мечта сбылась. После окончания ФЗУ наступила первая рабочая смена. Женя Петров и Шура Иванов меняли тормозные колодки на старых, поизносившихся паровозах, которые ласково называли «овечками». Мелькали их фамилии в стенной газете. Доброе слово слышали они о себе по местному радио.
…Лежали в комодах вырезанные из многотиражки заметки о передовиках соревнования. На паровозах, отремонтированных подростками, устанавливались рекорды скоростного вождения поездов. Что ни день, на привокзальной платформе проводились митинги. Героев-машинистов встречали цветами под звуки духового оркестра. На домах красовались портреты отличившихся. К дверям многих квартир, как мемориальные доски, были прибиты щиты: «Здесь живет лучший машинист СССР».
Накануне семнадцатой годовщины Октября, когда и ребятам исполнилось по семнадцать, в клубе состоялось торжественное собрание. После доклада отличившихся в труде под туш вызывали на сцену. Председательствующий громко и отчетливо называл имя, отчество и фамилию. Дошла очередь до старого мастерового Ивана Васильевича и его напарника — Жени Петрова. Вот он толкает Женю в бок: вставай, мол! А коленки предательски дрожат. Хватит ли сил преодолеть несколько ступенек и подняться на подмосток? Как набраться смелости, выйти на глаза людям, которые знали тебя конопатым, босоногим, а теперь не в шутку, а всерьез вызывают на сцену аплодисментами?
Иван Васильевич как-то неловко, угловато смахивает кулаком слезу и глухим голосом бросает в зал:
— Спасибо, товарищи, за доверие. За такое, если надо, и горы свернем!
И вот в руках у Евгения Петрова первая премия: бобриковое пальто, синее с переливом.
Отныне, как и Иван Васильевич, он — ударник!
Часто Евгений выпускал у себя в цехе стенгазету «Промывка». Не знал, не гадал он, что она, эта «Промывка», круто повернет его судьбу. Робкие шаги в многотиражке. И жадное желание познать тайны родного языка…
Потом комвуз, Государственный институт журналистики и литературный кружок, которым руководил старый профессор — друг Вячеслава Шишкова.
В один из вечеров в гости к литкружковцам приехал сам Вячеслав Яковлевич Шишков. Начал с шутки:
— Уважаемый профессор присвоил мне звание шефа-консультанта вашего кружка. Пусть будет так. Люблю иметь дело с молодыми. И отказать в просьбе профессора не могу. У нас с ним старая дружба. Немалую помощь оказал мне в работе над «Угрюм-рекой», помогает создавать и «Пугачева». Вам, молодые люди, очень повезло. В добрые руки вы попали.
Почти хором прозвучал один и тот же вопрос:
— Как нам научиться писать?
— Рецептов давать не умею. Да их в нашем деле и не может быть.
Вячеслав Яковлевич в тот вечер говорил о том, что писателю необходимо индивидуальное своеобразие, свое лицо, о том, что штамп, шаблон, стандарт — злейшие враги всякого искусства. Что главное в творчестве — правдивое изображение жизни, смелая выдумка, зрительное, образное слово. Будьте беспощадны к себе!
…Зима 1939 года пришла рано — снежная, суровая, злая. Неву и каналы сковало льдом. В небе ни облачка. В звенящем воздухе необычно резко звучали сигналы «эмок», звуки трамваев.
Вокруг свирепствовала стужа. Казалось, что где-то близко сгущаются тучи и вот-вот грянет гром. Первым разрядом неурочной грозы стало короткое известие: на финской границе совершена провокация…
Это совсем рядом. Выходит, что беда подкатилась к порогу нашего дома. В мирную жизнь людей пришло необычное слово: «Война!»
А через год бывшие студенты надели красноармейские шинели. Они совершали многокилометровые марши, ползали до остервенения по-пластунски, хорошо познали суворовское правило: «Тяжело в учении — легко в бою».
Не испытав тягот солдатской службы, не поймешь сердца бойца, не будешь его верным товарищем и другом. Об этом не раз потом думалось Евгению Александровичу Петрову в грядущих боях и походах.
* * *
Великая Отечественная война началась для курсанта Евгения Петрова необычно. Ему только что вручили письмо, в котором жена сообщала о рождении сына. Товарищи по учебе плотным кольцом окружили молодого отца, стали горячо поздравлять его, драть уши, качать: терпи, мол, коль заимел наследника… А закадычный друг Колька Франчук крикнул на всю казарму:
— Сегодня, слава богу, воскресенье. Отметим такое дело, папаша!
«Эти слова Коли перебил горн, — писал позже Е. А. Петров. — Над палаточным городком, раскинувшимся на обрывистом берегу Даугавы, тревожно бился сигнал, сигнал тревоги.
К этим звукам мы привыкли. Без них не обходилась ни одна июньская ночь. Поднимались быстро, без суеты, действовали почти автоматически: на ощупь находили сапоги, ремни, подсумки, саперные лопаты, мчались к стойкам с оружием. Кто брал винтовку, кто изготовлял к походному маршу станковые пулеметы. Проходили считанные минуты. И вот наше военно-политическое училище уже в строю.
Так было и на этот раз. Только недоумевали: „Воскресенье, и вдруг тревога?“
Привычные отрывистые команды: „Равняйсь! Смирно! Направо! Шагом — марш!“
Тот же Франчук закричал:
— Погоняют, как вчера, до первого привала и обратно. Не пропадать же завтраку. Тем более, что сегодня, кажется, вместо чая какао. Чувствуется, как ароматом тянет из столовой…»
Но колонна продолжала ускоренно двигаться вперед. Вот и знакомый поворот. Здесь обычно останавливались. Но никакой команды почему-то не подается. Похоже, что не учебный, а настоящий форсированный марш.
Солнце набрало силу. Палит без пощады. Повлажнели гимнастерки, ка спинах ребят проступила соль. Как награды, ждали вечера.
В хуторах и на пригородных станциях странные картины. У ворот, в подъездах домов — толпы молчаливых, встревоженных людей. В окнах — любопытные лица. Старухи уголками платков утирают повлажневшие глаза.
Колонна шла к Риге, где находилось училище. Курсанты недоумевали: только что обосновались в летних лагерях, корчевали пни, посыпали песком дорожки, натягивали палатки. А тут вновь городские квартиры.
На подступах к городу колонна остановилась. Перед строем комиссар училища объявил о вероломном нападении фашистской Германии…
Обо всем этом по-журналистски спокойно, без надрыва и громких, бьющих на эффект фраз рассказал Евгений Александрович Петров в своей книге «Второй эшелон» (издательство «Знание»), выпущенной в 1970 году.
Рассказал о начале Великой Отечественной войны, о четырехлетней, полной опасности и лишений корреспондентской жизни, о работе многочисленных представителей армейского и дивизионного тыла, которые именовались тогда людьми второго эшелона.
Простота, непосредственность и бесхитростность изложения событий, их абсолютная достоверность и правдивость, предельная, я бы сказал, спрессованность фактов, непосредственным свидетелем и участником многих из которых был сам автор, делают эту книгу интересной и содержательной. В ней повествуется о советских воинах, которые не дрогнули в первые месяцы войны, о том, как обретали они воинскую силу и мудрость в больших и малых делах солдатских. С подкупающей искренностью и достоверностью автор рассказывает о своих боевых друзьях — писателях, журналистах, наборщиках, печатниках. О работниках полевой почты, тех, кто приносил в окопы весточки от родных и близких. О шоферах, доставлявших на фронт боеприпасы и питание. О тех, кто оказывал медицинскую помощь раненым. Словом, о всех, кто был верным другом и помощником воинов в их страдном деле. Как и сам автор, все они трудились день и ночь, в будни и праздники, без выходных, ежечасно ощущая дыхание боя и своим посильным трудом влияя на его исход. Эти люди умели бить врага в обороне и в наступлении. Они перенесли горечь утрат, познали радость успеха, радость победы.
С первого и до последнего дня войны Евгений Петров находился на фронте — сначала рядовым корреспондентом газеты 11-й армии «Знамя Советов», а с 1944 года возглавил редакцию дивизионной газеты «Советский патриот» — самую близкую к солдатам переднего края. По собственному опыту знаю, что фронтовые газетчики были весьма сведущими в боевых делах людьми, к их мнению прислушивались, с ними считались различные категории командного и политического состава. Такая была уж у них работа. Больше и чаще других встречались они с непосредственными участниками боевых операций, глубоко изучали эти операции, анализировали и сопоставляли факты, прежде чем передать эти материалы в свои органы печати. И не раз бывало так, что в один и тот же день корреспондент завтракал в штабе дивизии, обедал на командном пункте полка, а ужинал где-то в роте, вместе с солдатами переднего края. А иногда и вообще оставался без ужина. Таких людей на фронте было не так уж много, и к ним, этим «счастливчикам», как раз и принадлежал Евгений Петров.
«Мы, корреспонденты, — чистосердечно признавался он, — по правде сказать, гонялись в поисках отважных ребят. Однажды я добрался до одной такой батареи. Решил, как говорят, с ходу брать быка за рога, начал расспрашивать, выпытывать боевые эпизоды. Но меня вежливо остановили:
„Завтракал?“
„Нет“.
„Тогда жди. Освободится котелок — испробуешь нашей каши, гречки со свининой. Язык проглотишь!“»
Пришел черед, и повар отвалил полный черпак. Петров достал из кармана алюминиевую ложку с обмотанным черенком. Торопился. Да где там! Каша почти не убывала. Вкусна, да больно горяча.
В этот момент наблюдатель доложил:
— Справа немецкие танки!
— Менять позицию! — приказал командир батареи.
Черепашками, почти бесшумно подкатились к пушкам тягачи на гусеничном ходу. К кухне прирулила полуторка. Никакой суеты. Хладнокровно и деловито.
Корреспондент так и продолжал стоять с дымящимся котелком, не зная, куда податься.
— Становись на крыло, — крикнул ему водитель полуторки. — На новом месте доешь. Не пропадать же добру!
К этому эпизоду относишься с полным доверием. Автор, как всегда, ничего не говорит о себе, о своем участии во внезапно разыгравшемся бое, но мы знаем, что корреспонденты в таких случаях не оставались в стороне. Четыре дня гудела земля под ногами воинов. Части 11-й армии, принявшие первые бои на литовской границе, отбросили гитлеровцев на сорок километров. Враг не ожидал контрудара советских войск. И это его так ошеломило, что 19 июля он вынужден был прекратить наступление и перейти на этом участке к обороне. Тогда же Евгений Петров отметил в своем блокноте: «Исхожена вдоль и поперек земля под Старой Руссой. „Исхожена“, пожалуй, не то слово. Газетчики вместе с солдатами ползали по-пластунски, перебирались через трясины, окапывались. Старыми знакомыми стали отдельные кустики, пригорки, ручейки».
И это далеко не все. Фронтовики знают, что было еще множество неудобств и всяческих военных неприятностей. Не раз корреспонденты попадали под бомбежки и ожесточенные обстрелы врага, месили непролазную грязь, мужественно переносили жару, дожди и морозы, держали оборонительные рубежи и оголенные фланги, ходили вместе с бойцами в атаки, дозоры, разведки, устраивали снайперские засады…
И так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год — всю войну.
Как офицер и журналист, Евгений Петров был участником наступательных боев в первые месяцы войны, в районе озера Ильмень и окружения 16-й немецкой армии в начале 1942 года под Демянском. Тогда, по самым скромным подсчетам, в «котел» угодило около семидесяти тысяч гитлеровцев, сотни орудий, автомашин и другой техники. Журналист был среди тех, кто с боем врывался в города и села Белоруссии. Как освободитель он вошел в братскую Польшу, штурмовал логово врага… Множество боев, сотни и тысячи километров страдного пути — все пройдено, пережито и изведано.
Евгений Александрович с полным правом утверждает, что слово на фронте было таким же оружием, как и винтовка. Оно зажигало ненавистью сердца солдат, поднимало их в атаку, разило врага. Слово в то же время согревало людей, помогало им в трудные дни.
«Однажды редакция решила дать передовую статью о том, что солдат должен беречь себя, — вспоминает Евгений Александрович. — В ней, в частности, говорилось: выиграть бой, победить может тот, кто не жалеет пота, чтобы вырыть окоп, соорудить хорошее укрытие. Очередной номер газеты открывался броской, крупно набранной строчкой: „Люби лопату“.
Через некоторое время начали поступать отклики. Командиры подразделений говорили нам, корреспондентам:
— Деловая статья, вслух читали. Крепко подействовала. Даже лентяи за лопату взялись.
Невозможно, конечно, и приблизительно подсчитать, сколько жизней сберегла такая газетная передовица. А сколько их было, подобных статей? Газетные строчки стреляли по врагу, и мы, журналисты, не жалели сил, чтобы наш огонь был наиболее точным».
Но, разумеется, не все журналисты на фронте в одинаковой степени везли тяжелый корреспондентский воз. Творческий состав своей редакции Евгений Петров шутя делит на «батраков» и «писательскую гвардию». Писатели выступали с рассказами, очерками, стихами. Ставили на страницах газеты проблемные вопросы и решали их художественными средствами.
«Батраками» же назывались те корреспонденты, которые то и дело совершали походы на передовую — к пехотинцам и артиллеристам, к саперам и минометчикам. «Часто мы и ели из котелков вместе с солдатами, и спали среди них на полу землянок, и отбивали вражеские атаки вместе с теми, о ком писали потом свои заметки и очерки.
Снаряжение у „батраков“ нехитрое; револьвер системы „наган“, противогазная сумка, набитая записными книжками и сухарями. Карманы шинели оттянуты патронами и гранатами. Их минимум две; одна для врага, другая, на крайний случай, для себя…
Некоторые наши корреспонденты имели фотоаппараты — то были „батраки“ высшего класса».
В книгах Евгения Петрова убедительно показано, что фронтовые корреспонденты постоянно находились в поиске: искали новые интересные материалы, новых героев, новые формы подачи. Их корреспонденции не только призывали к смелым и решительным действиям, но и учили побеждать врага малой кровью. Журналисты находили бывалых воинов, имеющих личный опыт боев за отдельные строения и улицы городов, в лесах и болотах, на песчаной и гористой местности, и организовывали от их имени материалы: «Газетными строками мы вели разговор с воинами».
Журналисты ежедневно были не столько «на колесах», сколько на собственных ногах. Отдыхали накоротке. Спали в кабинах грузовых машин, на подводах, в блиндажах, укрывались шинелями и плащ-палатками. Они мерили землю своими ногами, двигались вместе с пехотой. Корреспондент, по мнению Петрова, — это прежде всего чернорабочий, способный раскрыть суть солдатского подвига, заметить мелочи, из которых складывается воинское мастерство, увидеть технологию боя, проведенного умным командиром.
Работники дивизионной газеты, возглавляемой Евгением Александровичем Петровым, непрерывно совершали вылазки на передовую, были свидетелями и участниками многих боевых дел и каждый раз привозили в газету интересные материалы о подвигах своих однополчан. В тот же день эти материалы попадали на страницы газеты, и весь личный состав частей и подразделений узнавал имена новых героев.
Точно и коротко, как когда-то делал он это в своей дивизионной газете, описывает Евгений Александрович одну из многих атак.
«19 ноября — мощное контрнаступление под Сталинградом. Не смолкает канонада и у нас. Не забыть одного боя морской пехоты.
Под Старой Руссой есть деревня Пустынка. Она несколько раз переходила из рук в руки…
Потом Пустынка снова оказалась в руках немцев. Все постройки сгорели. Остался, как мы говорили тогда, „населенный пункт на карте“.
Пустынка. Отсюда, как с маяка, хорошо просматривалась местность. Высотка вклинивалась в нашу оборону. От рассвета до заката немцы не давали поднять головы. Зимой, весной и летом атаки не приносили успеха. Не помогала и техника. Танки и самоходные орудия даже при сильном морозе проваливались в болото.
В конце ноября стояла уже настоящая зима. Уснули стройные сосны, припудренные инеем. Из землянок штыками поднимались струйки дыма. Медленно разливалась по небу холодная заря. Безоблачный небосклон не предвещал ничего доброго. Хорошая видимость — помощник для вражеских наблюдателей и воздушных разведчиков.
Утром 23 ноября из-за леса ухнули наши орудия. Канонада нарастала. Похоже, что началась еще одна внушительная артиллерийская подготовка. Но для чего? Солдаты в окопах сидели в шинелях и ватниках, ушанки завязаны под подбородком. В такой одежде рукой пошевелить трудно, не то что наступать.
Нет, на этот раз пехота осталась на своих местах. Выступали моряки. Они выстроились в прифронтовом лесу за первой линией наших окопов. Ребята стояли в бушлатах, с автоматами и ручными пулеметами. В центре — матрос с развернутым Красным знаменем.
Снаряды еще густо ложились на немецкие позиции, а цепь моряков рванулась вперед. Парни легко, пружинисто перепрыгнули через наши окопы, преодолели нейтральную полосу и исчезли в дыму. Снаряды рвались теперь в глубине вражеской обороны. Ухо различало треск автоматов и взрывы гранат.
После грохота наступила тишина. Чем кончилась дерзкая эта атака? Успех или поражение? Медленно рассеивался дым. В просвете на высоте алело знамя.
Пустынка — не Сталинград. Но мужество везде ценится одинаково».
Выразительно рассказывает Евгений Александрович о своих товарищах по перу — рядовых газетчиках Александре Калинаеве, Николае Янтикове, Ваграме Апресяне, Сереже Аракчееве, Семене Аипове, Михаиле Строкове, Николае Лисуне и других. Они частенько совершали походы на передовую, по душам говорили там с солдатами в окопах и траншеях о их житье-бытье, узнавали о тех, кто совершал вылазки в тыл врага, подробно расспрашивали снайперов и саперов и, вернувшись в редакцию, «выкладывали» все это на страницы, которые в тот же день в свежем номере или листовке попадали в окопы. Запоминались и передавались из уст в уста стихотворные шапки: «У победы суровый закон, он проверен в жестоких боях: побеждает тот, кто духом силен, кому в битвах неведом страх».
Евгений Петров стремится сказать доброе слово о каждом своем побратиме.
«Горячий бой, но после него выдается минута, когда солдату особенно хочется шутки, острого слова. Зная об этом, Сергей Аракчеев взялся вести в газете поэтический раздел „Будни Кости Русакова, по профессии стрелка“. Русакову присвоили звание сержанта, и свалились на него тысячи забот. И повел Сергей своего Русакова в атаки, в схватки с танками, в разведку, в вылазки за „языками“. Не было, пожалуй, в нашей дивизии бойца, который не знал и не любил бы этого отважного и веселого сержанта. Костя Русаков представлялся иногда реальным человеком даже нам, его создателям.
Сергей Аракчеев, казалось, мыслил стихами. Он не мог обойтись без рифмы даже тогда, когда газета ставила перед бойцами задачи, далекие от всякой поэзии».
Особенно тепло отзывается Петров о тех, кто работал непосредственно в редакции и походной типографии и обеспечивал выпуск газеты, — наборщиках, печатниках, корректорах, цинкографах, радистах, шоферах…
Вот лишь один штрих из жизни дивизионщиков:
«Ночью стучала наша печатная машина, росла стопа пахнущих типографской краской листков, двое корреспондентов мотались по передовой, на попутных возвращались в редакцию и тут же при свете каганца усаживались за работу, только перья скрипели.
— Эх, есть классный заголовочек! — кричит старшина Иван Казаков.
На него шикали:
— Тише, люди спят!
Но какой там сон, в пяти километрах — окопы. Стены подрагивают от глухих орудийных раскатов, в тишине доносилась пулеметная дробь, и небо на западе вспыхивало желтоватым заревом».
В таких условиях выпускалась многотиражная солдатская газета. Но еще в более тяжелом положении находились ее сотрудники, когда они попадали на передовую, в самое пекло боя. Их не баловали наградами, так как их непосредственные начальники не всегда точно знали, где и чем занимаются их подчиненные. Чаще всего корреспонденты довольствовались солдатской похвалой, идущей в их адрес. А такое случалось нередко.
Нельзя не порадоваться и тем удачным находкам и точным деталям, которые выгодно отличают книги Евгения Петрова от других им подобных по жанру и теме. Он умел видеть на войне то, что многие не видели, хотя неоднократно сталкивались с теми или иными явлениями. Я, например, неоднократно бывал под бомбежками врага, но нигде ни слова об этом не написал. Да и вряд ли смог бы это сделать с такой точностью. Не могу удержаться, чтобы не процитировать это место из книги «Второй эшелон» Евгения Петрова:
«Утром на горизонте появился немецкий разведчик. „Костыль“ то плыл, то зависал. На земле было пустынно: все движение замерло с появлением самолета, и в этот момент какая-то запоздалая машина пересекала линию фронта как раз в том месте, где ночью прошли наши войска. „Костыль“ настороженно бросился вниз, словно коршун пронесся над дорогой. Наш ухарь-шофер торопился проскочить к лесу, где укрылась его часть. „Костыль“ исчез. И, конечно же, бомбардировщики с черной свастикой не заставили себя ждать.
Небольшой участок леса воздушные пираты разбили на квадраты. Действовали педантично и размеренно. От машин с черной свастикой то и дело отделялись черные точки. Свист бомб переходил в сатанинский гул. Взрыв следовал за взрывом. Люди не успели окопаться, они укрывались в ложбинках, пластом лежали в зарослях кустарника. Казалось, что бомбы летят прямо в нас. Еще секунда — и смерть!
Я повернулся на спину. Так было спокойнее. По крайней мере можно отличить „свою“ бомбу от „чужой“.
Освободившись от крепления, бомбы опережали машину и стремительно, как к магниту, неслись к земле. Одна из них оказалась „нашей“. Мы почти оглохли, полузасыпанные земляной крошкой и ветками».
Обе книги — «Второй эшелон» и «Служба слова» — плод зрелого и яркого журналистского творчества Евгения Александровича Петрова. Он смог довольно полно и интересно рассказать о подвижническом труде своих коллег на фронте, воспеть их нелегкое занятие, сумел, что называется, показать их в деле: то главное, как, преодолевая трудности и ошибки, учась и обогащаясь опытом, шли газетчики к желанной победе. Шли через белорусские леса и болота, трясины и топи, о которых работник «дивизионки» Сергей Аракчеев образно писал:
Мы в том болоте сутки спали стоя, Нас допекали мухи и жара. Оно было зеленое, густое, Там от застоя дохла мошкара. Там не хотели рваться даже мины И шли ко дну, пуская пузыри… И если б не было за ним Берлина — Мы б ни за что сюда не забрели.Евгений Александрович Петров воскресил в нашей памяти многие важные моменты и эпизоды войны, создал запоминающиеся портреты людей — солдат, сержантов и офицеров — главных творцов нашей великой победы над фашизмом. Через их судьбы, через повседневные фронтовые дела и подвиги автор как бы изнутри раскрыл благородство души советского человека в наиболее тяжкие дни военных испытаний.
В упомянутых книгах Евгения Петрова идут как бы две параллельные линии: одна — описание боевых операций и подвигов советских людей, свидетелями и летописцами которых были фронтовые корреспонденты, вторая — показ боевой работы самих газетчиков, деятельность редакционного коллектива в самых различных ситуациях, рассказ о многих интересных журналистских поисках и находках, о методах, характере и стиле фронтовой журналистики. И все это объединено, скреплено строгой и точной достоверностью описываемых событий.
Военные газетчики делали на фронте все для того, чтобы помогать своей родной Советской Армии. В этом была их главная гуманная миссия…
Секреты привязанности
I
Есть литераторы, творчество которых самым тесным образом переплетается с их биографией, жизненным и творческим путем. О таких писать и легко и трудно. Легко потому, что даже простое перечисление дел и поступков такого человека создает портрет, его творческое лицо. Трудно потому, что, как правило, биографии таких людей бывают слишком насыщены фактами и событиями, без знания которых нельзя понять секрета их творческой привязанности к той или иной теме.
Николай Иванович Камбулов прожил интересную и богатую событиями жизнь. И стал военным литератором совсем не вдруг.
Родился он в степном казачьем хуторе Ростовской области. В детстве страшно увлекался верховой ездой. И тогда же познал «радость преодоленного страха»…
«…Конь был чужой, и картуз был чужой… Ветер бил в лицо, пузырил на спине сорочку. Страшно боялся за картуз, сорвет с головы упругий степняк — не избежать отцовской выволочки.
Сердце замирало, а конь все нес меня так резво, будто я летел на гнедом по воздуху… Страшно и радостно».
Потом, когда пошел учиться в школу, написал свой первый рассказ на сюжет известной казачьей песни: «Скакал казак через долину…»
«Я очень полюбил этого человека, — писал Николай, — полюбил за то, что он „из сотни одинокий“ скачет через долину, через кавказские края. На пути реки, горы, а он скачет… Смелый человек!»
Судьба так сложилась, что Николай Камбулов попал служить в эти самые «кавказские края» — на пограничную заставу. Удивительное дело: здесь, в горах, среди стремнин и долин, он во многом повторил своего любимого героя из песни. Только на этот раз скакал по долине не один, а вдвоем: он — девятнадцатилетний комсомолец, солдат-первогодок и лейтенант Корчма — опытный пограничник, награжденный орденом.
Шел пятый день поиска: государственную границу перешли особо опасные диверсанты. Высокие горы и жара. Кони покрылись пеной. В горле пересохло. Дышать нечем. Но преследование бандитов прекратить нельзя. Чтобы не оказаться в глазах лейтенанта трусом, молодой пограничник рвется вперед. Корчма злится: «Башку потеряешь, осторожнее. Возьми первый повод!»
Но уже поздно: разгоряченный конь взвился свечой, под ним зияла пропасть. Конь рванул в сторону, и Николай вылетел из седла. Корчма еле успел схватить его за ноги и оттащить от смертельного обрыва.
— Они там!
Увидел нарушителей и Корчма:
— Прикрой, да не торопись…
Корчма подполз к валуну, за которым прятался один из нарушителей. Этот бандюга из любого положения стрелял без промаха. У лейтенанта же последний патрон: много пришлось пострелять.
— Сдавайся! — крикнул Корчма.
— Ха-ха! — засмеялся бандит и взял маузер наизготовку.
Но Камбулов успел опередить его. Нарушитель пошатнулся и упал на спину…
— С твоими нервами только посуду бить! — ахнул Корчма.
Когда подошли к врагу вплотную, осмотрели его оружие, то увидели, что в маузере было еще много патронов.
— Он вас мог бы убить…
— Еще этого не хватало! — обиделся Корчма и вдруг заулыбался: — А вообще-то мог, конечно… Ну, ты — молодец. Рука у тебя крепкая. Не дрогнула. Спасибо.
Этот и многие подобные пограничные дела и случаи были положены в основу пьесы Николая Камбулова, которую он написал, будучи рядовым солдатом. Пьеса так и называлась — «Случай на заставе».
Граница полна неожиданностей, здесь в любое время дня и ночи, в пургу и дождь может прозвучать сигнал боевой тревоги. Здесь нет общего отбоя на сон: люди спят в разное время. Нет и общего выходного дня — пограничники отдыхают в разные дни. Здесь каждый охраняет всю страну — от того пятачка, на котором он несет службу, или от той извилистой тропки, по которой неслышно, как тень, шагает в дозоре, до всех точек — южных, северных, восточных и западных… Здесь он живет в условиях огромной личной ответственности, живет не день, не два — годы! Сами обстоятельства, я даже не говорю о воспитательной системе, выковывают у молодого человека завидную собранность, смелость, мужество и волю к победе. Три года Николай Камбулов служил на границе и, конечно же, отсюда взял начало своей фанатичной привязанности к людям мужественным, смелым, чистым душой и помыслами.
Но это были лишь первые впечатления, которые еще не позволили ему воплотить их в литературные образы, воссоздать картину большой, подлинной правды увиденного и пережитого, картину, в центре которой стоял бы человек в погонах как гражданин Советской страны, как борец за светлое будущее.
Впечатления созрели, оформились через личные переживания, личное прикосновение к трудному, чрезвычайно опасному и ответственному. Произошло это гораздо позже и не сразу — когда Николай Камбулов в 1941 года попал на фронт, в пекло кровавых схваток, в обстановку смертельной опасности.
Всю войну он служил в дивизионной газете. Однако не всегда приходилось ему воевать пером. Были периоды, когда он, в силу сложившихся обстоятельств, надолго исчезал из редакции. Но об этом чуть ниже.
Передо мной фронтовые корреспонденции Николая Камбулова из дивизионных и армейских газет. Они интересны и с точки зрения журналистского мастерства, и с точки зрения широты охвата событий.
Вот газета «К победе». За август 1942 года в ней опубликовано несколько его корреспонденций и статей. В подвальной статье, озаглавленной «Сегодня и Завтра», Николай Камбулов писал:
«Сегодня они топчут нашу землю. Сегодня они табунятся и ржут, как жеребцы, увидев беззащитных русских женщин. Сегодня эти голубоглазые и долговязые уроды горланят: „На восток!“ Сегодня они протаранили еще один рубеж. Они пьяные. Они боятся протрезвиться. Они боятся задержаться на месте, боятся остановиться.
Сегодня им вешают железные кресты.
Но это только сегодня. Мы знаем: это только сегодня. Но пройдет ночь и настанет завтра. Завтра они попятятся. Завтра фашист уже не будет ржать. Завтра он превратится в побитую клячу… Задержать и ударить. Задержать и ударить возле каждого окопа. Задержать и ударить возле каждой траншеи. Задержать и ударить на всем Кавказе!
Удержать, а потом погнать. Неверно, что фашисты не умеют драпать. Они великолепные бегуны. У них так хорошо сверкают пятки, надо только бить в лоб: голова фашиста на шарнире, ее можно повернуть лицом на Запад.
Можно!
Сегодня им вешают железные кресты…
Завтра принесет им гору осиновых кольев!..
Уже светает, уже слышится грозный топот. Это идет наш храбрый солдат товарищ Завтра. Становись рядом с ним. Враг остановится, враг побежит!»
В начале 1942 года поэт Михаил Плотников в окружной газете «Пограничник Азербайджана» опубликовал очерк о Николае Камбулове. В нем он использовал ряд его писем, присланных им с Керченского полуострова. В ту пору Николай Камбулов не работал в газете (при форсировании Керченского пролива типография многотиражной газеты пошла ко дну, а другую еще не успели получить), он сражался на фронте как рядовой солдат, нередко ходил в разведку. Я приведу небольшую выдержку лишь из одного письма Камбулова, которое как бы перекликается с тем, что он писал в статье «Сегодня и Завтра» и вместе с тем подчеркивает уже созревшие и оформившиеся стремления написать книгу о людях подвига, о людях, которых он полюбил на всю жизнь.
«Нас здесь крепко молотят. До того крепко, что иногда думаешь: снесут бомбами полуостров и Черное море соединится с Азовским. Да, сражение идет не на жизнь, а на смерть. Ты, наверное, не поверишь, но удивительное дело — чем труднее, чем больше огня, чем ближе костлявая, тем чаще слышишь разговоры о жизни! Об опасности ни слова…
Когда-то я читал книжку, уже не помню ее название. Там автор рисует бой: солдаты мечутся в траншеях как угорелые, молитвы шепчут, прощаются с подлунным миром. У нас же ничего подобного! Вот только что одному оторвало стопу — парень конопатый и беззубый, — он не стонет, а ругается: „Челт, как перевязываешь!.. Подлюге по самой колешок оттяпаю все конечности. Я его на одной ноге догоню…“
И меня шибануло по башке. Припудрили рану каким-то порошком: зарастет, говорят. Зарастет так зарастет — рана чепуховая, касательная…
Если удастся выбраться на Большую землю, буду писать книгу. Сам бог никогда не видел таких храбрых людей! Их создала наша советская действительность. Боженьке не под силу такая работа. Куда ему, старику, вдохнуть в человека такой боевой дух, который сейчас проявляют наши бойцы!
А Фриц выдохнется, надорвет пуп и лопнет. Когда это случится? Конечно, не сегодня, завтра — вполне возможно! Пусть побыстрее настанет Завтра!»
Керченский полуостров. Справа море, слева море, за спиной четырехкилометровый пролив. Густо падают вражеские бомбы, так густо, что на глазах земля покрывается сплошными воронками. Сдерживая рвущиеся к Керченскому проливу гитлеровские войска, стойко сражаются арьергардные части Крымского фронта. В тесном полковом блиндажике собрались политработники. Старший батальонный комиссар Иван Федорович Гречкасеев, возглавивший одну из групп арьергардных частей, дает задание своим подчиненным. Какое задание он даст младшему политруку Камбулову? Многотиражка давно не выходит, ее редактор теперь чаще всего находится во взводе разведки. И все же? «Идите в батальон капитана Васильченко, — говорит Гречкасеев. — Он сражается на самом горячем месте. Покажите во фронтовой газете, как дерутся арьергардники…»
Камбулов ушел. Вернулся не скоро. Но задание комиссара он все же выполнил. Пройдя через огненный Аджим-Ушкай, темное и глухое его подземелье, Николай Камбулов написал три книги о необыкновенном коллективном подвиге бойцов Крымского фронта. «Жаль, что не смог только доложить старшему батальонному комиссару, — вспоминает он теперь. — Иван Федорович пал смертью храбрых там, в подземелье Аджим-Ушкая».
Камбулов любит работу журналиста, любит видеть собственными глазами то, о чем пишет, любит чувствовать локтем события. И ему просто везло в этом. Едва вышел из аджимушкайского подземелья, он тут же попросил, чтобы его направили литературным сотрудником в дивизионную газету. Это было глубокой осенью в горах Северного Кавказа. Шли ожесточенные бои. Части гвардейской Таманской дивизии отражали бешеные атаки гитлеровцев, рвавшихся в Закавказье. Одно подразделение гвардейцев попало в окружение. Нужно было рассказать через газету всем гвардейцам, как сражается это подразделение, выполняя святой призыв народа: «Ни шагу назад!» Выбор снова пал на Николая Камбулова и на молодого журналиста замполитрука Федора Шуптиева.
…Деревья, сухие листья и свист пуль. Стреляют со всех сторон. Но Шуптиев верит, что идут они правильно. Верит потому, что накануне Камбулов бесстрашно выбрался из самого Аджим-Ушкая. А однажды он, Камбулов, вынес его на своих плечах из вражеского кольца. Тогда гитлеровцы ворвались в город внезапно. Их танки вошли во двор, где располагалась редакция, и огнем из пушек в упор разрушили дом типографии. Многие погибли. Камбулов и Шуптиев, уцелевшие от вражеского огня, успели забраться на крышу дома. Танки вышли на улицу. Пришлось прыгать с крыши в огород. Шуптиев прыгнул неудачно: вывихнул ногу и идти дальше не мог. Камбулов нес его долго — справа, слева и впереди били фашистские танки и самоходки, — и все же им удалось выбраться из этого пекла.
…Теперь тоже стреляют со всех сторон.
— Вот же наши, — говорит Шуптиев, увидев солдат в окопах.
Но это были враги, они обстреляли их плотным автоматным огнем. Кое-как отползли. И снова попали под огонь. Потом, уже утром, когда оказались в роте, выяснилось, что и наши тоже стреляли по ним — двум журналистам, бродившим в лесу.
Написали очерк: «Там, где советская гвардия обороняется, — враг не пройдет».
Потом Камбулов шутил: «А газетчики прошли…»
Был в жизни Камбулова и такой случай. Однажды в редакцию прибыл Коля Радченко, учитель из украинского села. Прибыл в разгар сильных артиллерийских дуэлей. Требовался очерк об артиллерийских разведчиках, сидевших днями и ночами в боевом охранении нашей обороны. Камбулову не хотелось, чтобы Радченко начинал свою журналистскую работу с такого трудного задания. Они пошли вместе.
Шли долго. Ползком миновали опасное место. Потом снова ползли и снова вставали и шли в рост. Радченко был рад тому открытию, что два снаряда не могут упасть в одно и то же место. Корреспонденты часто сидели в воронках от фугасных снарядов, вслушиваясь, как наши артиллеристы-разведчики передают координаты целей. У Камбулова родился заголовок очерка — «На огненной точке». Радченко одобрил его, но писать очерк пришлось Камбулову одному: уже возвращаясь в редакцию, они были накрыты огнем вражеской артиллерии. Радченко оторвало ногу, а Камбулова — контузило.
Как-то, спустя много лет, от Коли Радченко Камбулов получил письмо. Он прочитал роман «Тринадцать осколков» и принял автора за однофамильца Камбулова, ибо все время считал его погибшим тогда под артобстрелом.
Николая Камбулова называют журналистом переднего края. Это действительно так. На фронте его корреспондентский пункт находился в стрелковой роте или батальоне. Он дважды высаживался с подразделениями первого эшелона на Керченский полуостров. Катер, на котором он находился, был взорван вражеским снарядом: пришлось вплавь добираться до берега. Вместе со штурмовым отрядом взбирался на Сапун-гору и в числе первых вошел в Севастополь. В корреспонденции «Сквозь огонь, бетон и железо», опубликованной в газете Приморской армии «Вперед, за Родину», Николай Камбулов в то время писал: «Три раза мы поднимались и три раза залегали под ураганным огнем противника. Перед гвардейцами возвышалась сплошная стена бетона и железа. Казалось, что нет сил, которые могли бы сокрушить, протаранить укрепления врага. Но вот впереди вдруг появился рядовой Аскеров. В руках у него было Красное знамя… И тогда мы поднялись в четвертый раз. „Знамя впереди!“ — раздался зычный голос гвардии старшего лейтенанта Сапожникова. Грозная волна гвардейцев захлестнула вражеские траншеи и доты. А знамя, переходя из рук в руки, развеваясь, плыло все дальше и дальше, туда, на вершину Сапун-горы. Теперь уже никто не мог остановиться, даже раненые продолжали бег, а убитые падали лицом к Севастополю».
И после, когда окончилась война, когда Николай Камбулов работал уже в центральных военных газетах — в «Красной звезде» и «Советской авиации» — он по-прежнему не менял местонахождения своего корреспондентского пункта: летал ночью и днем на самолетах, бывал в самых отдаленных воинских гарнизонах, на учениях, трясся в танках и бронетранспортерах…
Осмысление героического, привязанность к людям, сильным духом, к человеку в погонах продолжались и не слабели.
II
Писать книги Николай Камбулов начал с некоторой робостью: отягощенный увиденным и пережитым, он как бы стеснялся своего богатства. В 1954 году вышли его две маленькие книжки, как бы на пробу. Проба удалась. Обе они получили много хороших откликов читателей и прессы. Но это была все-таки публицистика, хотя и художественная.
И это было все же не то. Не то, что волновало душу, не то, что видел на войне. О первом периоде Великой Отечественной войны создано немало книг. Написал повесть и Николай Камбулов. В основу этого произведения он положил события самого трудного периода и места грозных 1941 и 1942 годов — Крымский фронт, точнее, не весь фронт, а его частичку — бои в районе ныне ставшего легендарным поселка Аджим-Ушкай. Повесть «Подземный гарнизон», пожалуй, была первым художественным произведением в нашей литературе о начальном периоде войны, не считая, конечно, книг, созданных непосредственно в годы самой войны.
Об условиях и обстановке, в которых оказались герои повести, автор рассказал в своей статье, опубликованной в газете «Красная звезда»: «Полгода под землей, сто пятьдесят дней непрерывных смертельных схваток с врагом. Полгода в темноте, без организованного снабжения продовольствием, без воды и под каждодневными взрывами и газовыми атаками… Металл не выдерживал, оружие ржавело и отказывало…»
Кажется, что в таких условиях неизбежны и паника, и неразбериха, и дезертирство. Но в подземном гарнизоне ничего подобного не происходило. Советские люди — бойцы и командиры — вели себя с достоинством, организованно, делали все, чтобы обескровить врага. Перед читателем проходят картины подлинного героизма людей, оказавшихся в чрезвычайно тяжелых условиях. Автор показывает своих героев без нажима, без лишней патетики и выспренности, скупо и в то же время объемно. Вот один из главных героев книги, от имени которого ведется повествование, Николай Самбуров, дежурит у входа в катакомбы.
«…Козырек довольно большой, немцы не могут меня заметить, но им ничего не стоит бросить гранату. Прижимаюсь к стенке: здесь у нас прорыта канавка, узенькая щель — в ней можно укрыться от осколков…
Слышатся шаги… На ровик падает тень гитлеровца. Значит, сейчас вновь полетят гранаты… Потом попытаются ворваться в катакомбы. Хочется, чтобы быстрее начался бой. Граната падает в нескольких шагах от ровика. Невольно прячу голову, потом выпрямляюсь… Тени уже нет, на ее месте, клубясь, колышется черное облачко дыма.
Тишина.
Сегодня что-то они смирные.
Подползает Чупрахин. На помощь политрук прислал — догадываюсь. Он замечает на моей стеганке свежий след осколка, молча снимает с плеча кусочек обожженной ваты, разглядывает его на своей давно немытой ладони.
— Слышал, Микола, кладовщик коней порезал, теперь у нас много мяса будет…
— Ру-у-ус, вода хочешь? — протяжно доносится сверху. — Ха-ха-ха, го-го!
И так бывает: фрицы знают, что в подземелье нет воды, вот и орут.
С шумом падают на землю тяжелые капли воды. Замечаю, как дрогнули у Чупрахина пересохшие губы и широко открылись глаза. А фашисты снова:
— Ру-у-ус, вода хороша.
Скрипя протезом, подходит политрук.
— Опять орет сыч, — говорит он. — Орет он не от того, что ему там, наверху, весело, спокойно… Чует, проклятый: рано или поздно гнездо его будет уничтожено».
Подземный гарнизон насчитывает тысячи людей. Здесь наведен строжайший порядок. Проводятся политические беседы, работает госпиталь — все так, как предусмотрено уставом. Действует гауптвахта, создан военный трибунал. С затаенной болью и гневом рисует автор картину его заседания…
«Приказ дрожит в моих руках, в нем тридцать строк, а Панову тридцать один год: строка — на один год. Небогатую же жизнь ты прожил, Григорий, коль она уместилась на одной страничке тетрадного листка.
Бойко горят плошки. На потолке, в самом высоком его месте, большое черное пятно искрится капельками воды. Через каждую минуту с потолка падает в подставленную жестяную кружку прозрачная слезинка. За сутки потолок „выплакивает“ четыре фляги воды…
Капли отсчитывают минуты. В тишине, как бы отвечая на мои мысли, капли, падая в кружку, выговаривают: „Сколько… сколь-ко…“ Сколько за трусость Панову определит трибунал?..»
А в это время в другом отсеке бойцы, только что возвратившиеся с очередной схватки с врагом, окружили своего любимчика и весельчака матроса Ивана Чупрахина.
— «Да-a, крепко они меня разозлили! — говорит Иван. — До войны, например, у меня никакой злости не было на фрицев. У нас в паровозном депо работал Эрлих…
Человек как человек, дружбу с ним водил, на свадьбе у него гулял. Потом он уехал в Германию. Вот бы встретиться в Берлине.
— Загадываешь далеко, — робко возражает Беленький.
— Далеко? Ты что думаешь, в этих катакомбах они меня похоронят! Никогда! Дед мой три войны прошел и живой остался. А я, что, слабее? Нет, посильнее. Просто гитлеровцы еще не успели как следует рассмотреть меня, какой я есть. Повоюют — поймут, что Ванька Чупрахин не по зубам им. Такого нельзя ни согнуть, ни в огне сжечь, ни в катакомбах уморить. Так куда же я денусь? Нет, я буду жить, и ты, Кириллка, будешь жить».
Такой разговор.
Таковы люди «Подземного гарнизона». Это те солдаты и командиры, с которыми локоть к локтю шел по опаленной войною земле сам автор. Он не мог сказать о них иначе, ибо такими видел их в бою…
Жизненную правду, настоящую правду минувшей войны, а не случайные факты, вырванные на ходу из огромного события, читаем мы и в другом произведении Николая Камбулова — в повести «Тринадцать осколков». В основу ее автор положил штурм Сапун-горы и освобождение города-героя Севастополя от гитлеровских оккупантов.
Когда знакомишься с повестью «Тринадцать осколков», то прежде всего замечаешь умение автора писать просто, объемно лепить образы. Вообще все произведения Николая Камбулова читаются легко, без насилия над самим собой. Повествование плавное, естественное, как будто прикасаешься к самой жизни, к незабываемым дням минувшей войны. И сюжет обычно не сложен: без всяких замысловатостей, крутых изломов, неожиданных поворотов и прочих литературных «красот». И вместе с тем сразу захватывает. Вот отрывок из его повести «Тринадцать осколков»:
«…После многодневного наступления полк, которым командовал подполковник Андрей Кравцов, был наконец отведен во второй эшелон, получил передышку. Его подразделения расположились на окраине небольшого, типичного для Крыма поселка, прилепившегося к рыжему крутогорью, вдоль разрушенной бомбами железнодорожной линии, в редколесье. Кравцов облюбовал себе чудом уцелевший каменный домишко с огороженным двориком и фруктовым садом. Едва разместились — связисты установили телефон, саперы отрыли во дворе щель на случай налета вражеской авиации, — Кравцов сразу решил отоспаться за все бессонные ночи стремительного наступления: шутка ли — в сутки с боями проходили по пятьдесят — шестьдесят километров, и, конечно, было не до сна, не до отдыха. Кравцов лег в темном прохладном чуланчике, лег, как всегда, на спину, заложив руки за голову… Но, увы, — сон не приходил! Кравцов лежал с открытыми глазами и смотрел на маленькую щель в стене, сквозь которую струился лучик апрельского солнца. Слышались тяжелые вздохи боя, дрожа, покачивался глинобитный пол. К этому покачиванию земли Кравцов уже привык, привык, как привыкают моряки к морской качке, и даже не обращал внимания на частые толчки… Старая ржавая кровать слегка поскрипывала, и этот скрип раздражал подполковника. Кравцов перевернулся на бок, подложив под левое ухо шершавую ладонь в надежде, что противный скрип железа теперь не услышит. И действительно, дребезжание оборвалось, умолкло. Минуты две-три командир полка слышал только говор боя, то нарастающий, то слабеющий. Но — странное дело! — сквозь эту огромную и разноголосую толщу звуков Кравцов вскоре опять уловил тонкое металлическое дребезжание кровати, тревожное и тоскливое, как отдаленный плач ребенка… По телу пробежал леденящий душу холодок. Кравцов поднялся. Некоторое время он сидел в одной сорочке, сетуя на старую ржавую кровать. Потом сгреб постель и лег на пол. Лучик солнца освещал сетку, и Кравцов заметил, как дрожит проволока. Теперь он скорее угадывал тоскливое позвякивания кровати, чем услышал его, и спать не мог. Хотел позвать ординарца, чтобы тот выбросил этот хлам из чуланчика, но тут же спохватился: ординарец, двадцатилетний паренек из каких-то неизвестных Кравцову Кром, был убит вчера при взятии старого Турецкого вала… И вообще в этом бою полк понес большие потери. Погиб командир взвода полковых разведчиков лейтенант Сурин… Кравцов успел запомнить лишь одну фамилию: бывает так — придет человек в полк перед самым наступлением, и, едва лишь получив назначение, обрывается его жизненный путь, — где уж тут запомнить, как звали и величали по отчеству. Так случилось и с Суриным. Теперь вот надо подбирать нового командира для разведчиков. А как, кого сразу поставишь на эту должность? Вчера стало поступать новое пополнение. Кравцов попытался вспомнить, которое оно с момента, когда он принял полк там, под Керчью, после своего возвращения из госпиталя… Он точно вспомнил, сколько раз пополнялся полк, и невольно прикоснулся к кровати. Она вздрагивала, покачиваясь. Он опустил голову на холодный, пахнущий сыростью пол и тотчас же уловил гулкие толчки — это вздрагивала земля от тяжелых ударов артиллерии.
— Начальник штаба! — крикнул Кравцов.
За перегородкой отозвались:
— Андрей, ты чего не спишь?
— Ты мне ординарца подбери, сегодня же…
Открылась дверь. В чуланчике сразу стало светло.
— Товарищ подполковник, — официально доложил начальник штаба полка Александр Федорович Бугров. — Ординарец через час поступит в наше распоряжение.
— Подобрал? — Кравцов поднялся, положил постель на кровать, закурил. — Кто такой?
— Ефрейтор Дробязко Василий Иванович. Дня три назад прибыл в полк из госпиталя. Попросился в разведку. Да я думаю, пусть немного окрепнет возле начальства, — полушутя-полусерьезно заключил Бугров и провел ладонью по рыжеватым усам, которые он недавно отрастил для солидности.
— Вот как! — улыбнулся Кравцов. — И эта птичка вчерашняя тоже заявила: „Окончила школу войсковых разведчиков, прошу учесть мою специальность…“ И какой дурень командирские звания девчонкам дает, да еще на передовую посылает!..
Бугров прищурился:
— Это вы про лейтенанта Сукуренко?
— Да, про новенькую… А может, рискнем, начальник штаба, доверим ей взвод?
— Опасно, командир… Дивчина остается дивчиной…
— Значит, не подойдет?
— Да вы что? Вы серьезно? — удивился Бугров.
— Ну ладно, ладно, посмотрим… Глаза у нее большие… — Кравцов рассмеялся как-то искусственно. — А этого Дробязко пришлите ко мне немедленно…
— Послал за ним… — задумчиво ответил Бугров, — сейчас придет. А вам, Андрей Петрович, все же надо поспать, через два дня полк снова пошлют в бой.
Кравцов порылся в карманах, достал папиросы.
— Кровать мешает, не могу уснуть… Вы попробуйте, Александр Федорович, прилягте, ну, на минутку только.
Бугров, смущенно поглядывая на командира и не понимая, шутит ли он или всерьез говорит, прилег на кровать.
— Слышите? — таинственно спросил Кравцов.
Бугров насторожился.
— Ну и что? Стреляют. Привычное дело. Мне хоть под ухом пали из пушки, я усну.
— А стон слышите?
— Какой стон?
— Значит, не слышите, — разочарованно произнес Кравцов и добавил: — Раньше я тоже не слышал, а сейчас улавливаю: стонет, плачет.
Бугров чуть не рассмеялся — ему показалось, что Кравцов затеял с ним какую-то шутку, но лицо командира полка было совершенно серьезно.
— В госпитале я слышал, — продолжал Кравцов, — как бредят тяжелораненые. Это невыносимо… В Заволжье лежал со мной капитан. Ему выше колен ампутировали ноги, гангрена была… Слышу, стонет, потом заговорил… „Мама, — зовет мать, — ты, — говорит, — посиди тут, а я сбегаю в аптеку… Ты не волнуйся, — говорит, — я мигом — одна нога тут, другая там“. Всю ночь он бегал то в аптеку за лекарством, то наперегонки с каким-то Рыжиком, то прыгал в высоту, смеялся, плакал. А утром пришел в сознание, хватился — ног нет и захохотал как безумный… Потом три дня молчал, а на четвертый, утром посмотрел как-то странно на меня и говорит: „Ты слышишь, как стонет кровать? Это земля от бомбежки качается. Чего же лежишь, у тебя есть ноги, беги скорее на передовую, иначе они всю землю обезножат“. И начал кричать на меня…
Кравцов ткнул окурок в стоявшую на столе снарядную гильзу-обрезок, помолчал снова немного и перевел разговор на другое:
— Так, говоришь, не соглашается этот Дробязко в ординарцы?
— Ну, мало ли что, — махнул рукой Бугров. — Если каждый будет… — он прошелся по комнате, соображая, что будет делать каждый, если ему дать волю. Но сказать об этом не успел. На пороге появился ефрейтор Дробязко.
— Вот он, — сказал начальник штаба. — Заходите, подполковник ждет вас. — Бугров подмигнул Кравцову и вышел из комнаты.
На Дробязко были большие кирзовые сапоги, широченные штаны. Из-под шапки, которая тоже была великовата, торчали завитушки волос, и весь он показался Кравцову каким-то лохматым, будто пень, обросший мхом. Стоял спокойно и смотрел на подполковника черными глазами.
— Что за обмундирование! — сказал Кравцов, окидывая строгим взглядом с ног до головы солдата.
— Другого не нашлось, товарищ подполковник, — ответил спокойно Дробязко. — Размер мой, сами видите… мал… Советовали умники надеть трофейные сапоги… Послал я этих умников подальше… В своей одежде, товарищ подполковник, чувствуешь себя прочнее.
— Это верно, — проговорил Кравцов, пряча улыбку. — Только пока ты больше похож на пугало, чем на солдата. Ну, ладно, это мы устроим. Расскажи-ка о себе. В боях участвовал?
— Бывал…
— Где, когда?
— Морем шел на Керченский полуостров третьего октября прошлого года.
— Десантник?
— Разведчик. Был ранен, лежал в госпитале, в свою часть не мог попасть…
— В ординарцы ко мне пойдешь?
— Нет.
— Это почему? — Кравцов пристально посмотрел на солдата. — А если прикажу?
— Ваше дело, товарищ подполковник. Прикажете — выполню. Только лучше не приказывайте…
— Интересно. — Кравцов помолчал. — Но почему все-таки ты не хочешь? Что за причина?
— Нельзя мне служить в ординарцах, — в глазах Дробязко мелькнуло что-то неладное. — Не бойцовское это дело в блиндаже отсиживаться…
„Ах вот оно что… В блиндаже отсиживаться…“ — подумал Кравцов, принимая слова солдата в свой адрес и чувствуя, как закипает в душе злость. Захотелось тут же отчитать этого лохматого парня, отругать последними словами. „В блиндаже отсиживаться…“ Мигом в воображении пронеслись приволжские степи. Пламя, треск автоматов, сугробы… Он ведет батальон в атаку, пошел впереди, потому что не мог поступить иначе: до вражеской взлетной площадки несколько десятков метров, надо приободрить бойцов, и он выскочил вперед… Снег рыхлый, чуть не по пояс, бежать трудно, а остановиться уже не мог, не мог потому, что он командир, тот самый человек, на которого смотрят бойцы, от которого ждут чего-то необычного… И это „необычное“ он совершил: они поднялись молча, и уже потом, когда он упал, поле огласилось простуженными голосами: „Впер-ее-од… А-а-а… Комбат та-ам. А-а-а!“ Потом все стихло, будто вместе с ним провалилось в какую-то страшную пропасть. Острая боль в плече, он увидел копошащегося рядом человека, черные петлицы, перекрещенные кости под черепом на мышином поле шинели… Снова резкая боль в плече и опять стало темно и глухо… Открыл глаза: немец уходил, уходил во весь рост, будто заговоренный от смерти. Нечеловеческим усилием отстегнул гранату, бросил ее вслед врагу и увидел, как пламя разрыва швырнуло фашиста в темноту…
Кравцов тряхнул головой, освобождаясь от тяжелых воспоминаний…»
Даже по этому одному отрывку зримо видишь большие и интересные судьбы людей, меткие и точные штрихи их характеров, богатый внутренний мир героев.
Вот подполковник Андрей Кравцов. Он вместе со своим полком только что вышел из тяжелого многодневного боя. Автор ничего не говорит о них, не рассказывает и о поведении командира полка на поле брани. Он дает лишь небольшую картинку: почему Кравцов, проведший несколько бессонных ночей в бою, не может заснуть. Что его мучает, что слышится ему, о чем и о ком он думает. И это как бы заменяет собой непосредственное описание самого боя и то, как командир организует его, какое личное участие принимает в нем, как ведет себя. Чтобы ответить на все эти вопросы, нам достаточно знать, что вчера, при взятии старого Турецкого вала, погиб неотступно следовавший за Кравцовым ординарец, погиб молодой командир взвода разведчиков лейтенант Сурин, что полк понес большие потери… А такие детали, как многократное пополнение полка, нахождение Кравцова в госпитале и другие — разве они не дают четкого представления о напряженности боев, о личных боевых качествах командира полка?
По незначительным, казалось бы, чертам характера, которые сообщает нам автор, мы легко представляем себе и такие фигуры повести, как ефрейтор Дробязко и девушка-лейтенант Сукуренко. Нужны ли здесь дополнительные данные? Кажется, нет.
Такая, я бы сказал, высокая экономичность и вместе с тем предельная емкость повествования характерна для всего творчества Николая Камбулова — человека большой, сложной и интересной биографии.
В 1964 году в Военном издательстве, а несколько позже — в «Советском писателе» вышла новая книга Николая Камбулова — роман «Разводящий еще не пришел».
Это острое, волнующее произведение о сегодняшней жизни армии и страны, о невиданном техническом прогрессе и революционном скачке, совершенном в Вооруженных Силах СССР. Книга о ратном и трудовом подвиге советского человека, строящего коммунизм. Автор сумел нарисовать масштабные и впечатляющие картины сложной, насыщенной большими событиями жизни и боевой деятельности воинских соединений, подметить наиболее характерные черты современного советского воина. Автор по-прежнему хорошо знает и любит своих героев, так как сам прошел путь от солдата до полковника. Всестороннее знание жизни солдат и офицеров, вдумчивое отношение к вопросам, волнующим нашу армию, глубокое проникновение в человеческие судьбы и умение распорядиться богатым жизненным и человеческим материалом позволили Николаю Камбулову создать интересное и содержательное произведение.
Герои романа — от солдата до генерала — влюблены в свою армию, стремятся сделать ее непобедимой, еще более совершенной, ибо «разводящий», то есть всеобщий мир, «еще не пришел», и армия должна остаться на своем боевом посту.
Уже на первых страницах романа писатель вводит нас в круг сегодняшних дум, забот и дел советских воинов. Свершился поистине революционный скачок в техническом оснащении Вооруженных Сил Советской страны, идет великое перевооружение армии — на смену старой, отслужившей, либо дослуживающей свой век боевой технике приходит новая, самая современная и совершенная. И, как это всегда бывает на крутых поворотах истории, рушатся сложившиеся нормы, навыки, взгляды, возникают острые конфликты, выверяются человеческие характеры — словом, происходит не только внешнее, но и внутреннее «перевооружение» людей.
К тому же делается это, что называется, на ходу, на марше — из вчерашнего дня в сегодняшний и даже завтрашний. Времени на «„остановку“ не дано. Это завод или фабрику на период их реконструкции можно временно остановить. С армией этого не сделаешь. Как говорится, солдаты всегда в пути…» — замечает один из персонажей романа — командующий войсками округа генерал Добров.
Да, это так. С армией и впрямь «этого не сделаешь»: весь ее личный состав — от маршала до солдата — каждый день и каждый час обязан быть начеку, в состоянии ежеминутной боевой готовности.
Но никто, конечно, не поверил бы писателю, если бы сложные процессы, происходящие в армии, он показал как мгновенную техническую и психологическую перестройку. В том-то и достоинство произведения Николая Камбулова, что оно раскрывает перед читателем глубинные явления современной жизни и рисует их во всей сложности и противоречивости.
Нелегко, например, не только старшине Рыбалко и молодому офицеру лейтенанту Узлову, но и умудренному большим опытом командиру артиллерийского полка полковнику Водолазову сразу разобраться в обстановке. У каждого из этих персонажей свои раздумья, сложности и трудности.
Старшина Рыбалко, участник Великой Отечественной войны, прослышав о том, что родной его полк будто бы собираются расформировать, пришел в негодование. Он так и клокочет:
«Товарищ майор, — говорит он секретарю партийного бюро Бородину, — что же это делается?.. Такую боевую часть расформировать!.. А если завтра этот сучий фашист, — Рыбалко потряс кулаком, — снова загрохочет танками?»
Лейтенант Узлов, недавно прибывший в полк из артиллерийского училища, высказывает свое недовольство и обиду тем, что не получает должности, состоит дублером командира огневого взвода; он помышляет подать рапорт об увольнении в запас.
А старый кадровый офицер Водолазов, прошедший со своим полком по дорогам войны весь его боевой путь, уже подал по болезни такой рапорт, но терзается мыслью, что этот шаг могут истолковать неправильно, особенно молодые офицеры, хотя бы тот же демобилизационно настроенный лейтенант Узлов.
«— Нет, секретарь, — „исповедуется“ он перед майором Бородиным, — я не бегу из армии. Я просто соизмерил свои силы и понял: нелегко мне было прийти к такому выводу — понял, что я не имею права больше задерживаться на своем посту. Ведь служба в армии — это не должность, это — деяние, труд, борьба… Ну что ты скажешь, Степан Павлович? Правильно я поступил или… нет?»
Но это еще не вся «исповедь», не вся правда. Водолазова мучает целая череда «проклятых вопросов», на которые он не может прямо ответить даже самому себе. «Не воспринял ли ты усилие многочисленных людей отстоять мир на земле как приход разводящего?» — спрашивает он себя.
Не так-то просто и Бородину помочь этим людям справиться с одолевающими их сомнениями. Он секретарствует лишь несколько месяцев, ему не хватает опыта.
Так с первых же страниц книги завязывается узел проблем и вопросов, над которыми предстоит задуматься главным ее героям, а вместе с ними и читателю. И роман как бы опровергает имеющую хождение среди некоторых литераторов «теорию», будто современная армия и флот вряд ли могут стать интересным объектом для писателя: тесные рамки уставов и воинской дисциплины не позволяют, мол, проследить конфликты между членами армейского коллектива, связанного единой целью служения Родине. Не надуманные, искусственно построенные, а подлинные, зорко и тонко подмеченные писателем в жизни армии проблемы лежат в основе напряженного сюжета романа «Разводящий еще не пришел» — книги интересной, боевой, удостоенной в 1968 году премии и диплома Министерства обороны СССР за лучшее художественное произведение о современной жизни Советской Армии.
Николай Камбулов написал немало книг. В 1969 году вышел новый его роман — «Ракетный гром», а в 1971 году — «Таврида в огне». Сами названия книг говорят о том, что писатель и сегодня остается верен своей теме. Его книги ярко повествуют о сложных проблемах современности, о революционном скачке в техническом оснащении Вооруженных Сил СССР, о воинском и трудовом подвиге советских людей во имя мира и счастья на земле.
Николай Камбулов — писатель с природным дарованием, метким собственным взглядом на окружающую нас действительность, умеющий находить и раскрыть подлинные приметы современной жизни воинских коллективов, умеющий изобразить советских людей интересно, с присущими им беспокойством и глубокими раздумьями. Он создает своих героев с любовью и бережностью, показывает их ярко, выпукло, объемно. Писатель пристально вглядывается в жизненные явления, вскрывает недостатки, которые мешают продвижению вперед, оптимистически рисует наше будущее и сам принимает активное участие в его построении.
Таким писатель предстает в своих книгах. Он постоянно в боевом строю, в походе, начеку, как настоящий солдат.
Память (Вместо послесловия)
Во всех мельчайших подробностях помню раннее утро 22 июня 1941 года. Было это на самой границе, под Перемышлем, где наша танковая дивизия проводила тактические учения. В ту ночь я дежурил по штабу, видел пылающую всеми красками радуги летнюю зарю, наблюдал восход солнца. Оно было прекрасно, то утро. Точь-в-точь как у нас, в моем родном краю воронежском: небо чисто-голубое, воздух напоен ароматом трав, щебетанием птиц, стрекотней кузнечиков… И вдруг, как гром среди ясного неба, загремела артиллерийская канонада, залаяли минометы, затрещали пулеметы, автоматы, солнце померкло от взрывов снарядов и авиабомб.
И продолжало казаться, что это — над ним, над моим родным краем…
Село, в котором я родился, носит несколько необычное имя — Студеное. Откуда оно пошло, трудно сказать, думается, не от прозвания первожителя, как это часто бывало. Вряд ли связано оно и с какими-то историческими событиями, происходившими здесь в далеком прошлом. Скорее всего, это название попросту указывает на состояние погоды в наших открытых всем семи ветрам местах на Воронежчине. Слово «студеный», «стужа», «студа» и им родственные часто употребляются в наших краях. О холодном дне у нас непременно скажут: «На дворе студено». «Студеный родник», «испить студененькой водички», «студеный ветер бьет в лицо», «студеная одежда»… Но студеность как примета наших мест ощущается лишь зимой, поздней осенью, ранней весной. Лета же, как правило, бывают жаркие, нередко засушливые. Тогда по полевым черноземным дорогам каждую подводу и особенно автомашину сопровождает шлейф густой непроглядной пыли. Земля каменеет и становится такой горячей, что нельзя ступить ногой…
В те далекие времена моего детства, когда внутри страны бушевала гражданская война и молодая Красная Армия из последних сил отбивала атаки четырнадцати империалистических держав, объединенных в так называемую Антанту, в деревнях царили разруха, запустение, безмужичье. В каждой семье своими силами велось натуральное хозяйство, все необходимое для жизни люди производили допотопными дедовскими способами, ничего не покупая извне. Не составляло исключения и наше, казалось, забытое людьми и богом сельцо, затерявшееся в юго-восточном углу Центрально-Черноземной области. Длинной, изогнутой чертой вытянулось оно по обеим сторонам безымянной, почти неизменно безводной речушки. Со всех сторон его окружали полосатые, изрезанные межами поля, с севера и юга, уже не махая скрипучими крыльями, как состарившиеся бессменные сторожа, горбились две ветряные мельницы. Ни гор, ни лесов, ни каких-либо водоемов: в засушливые годы негде было скоту напиться. Вода в наших краях родниковая, залегает глубоко и оттого студеная-престуденая. На три-четыре двора сообща рылись колодцы с высоченными деревянными журавлями…
Дети в селе никогда не видели железной дороги, не слышали гудка паровоза, не знали, что такое телеграф, автомобиль, велосипед. Телега, дрожки, возок, сани, в которые впряжены лошади, волы, а иногда и коровы, — вот транспорт тех лет.
Изба наша была одной из самых неприглядных в деревне: полутемная, вросшая по окна в землю, придавленная низким потолком, крытая истлевшей соломой, которую не меняли по нескольку лет. Бывало, как только начинался дождь, на пол выставлялась чуть не вся наличная посуда: ведра, горшки, чугуны, кружки… Половицы лежали прямо на земле, местами прогнили, зияли щелями. По стенам ползали мокрицы и тараканы. Пахло сыростью, а зимой и навозом: спасаясь от стужи, на равных правах с людьми в избе ютились ягнята, кролики, время от времени к ним присоединялся теленок. Спали мы на полу, на свежей соломе, покрытой дерюгой. Укрывались тем, в чем ходили, — овчинными полушубками, дырявыми пиджаками, отжившим свой век тряпьем.
Пишу обо всем этом вовсе не с тем, чтобы похвалиться своим пролетарским происхождением, а просто у каждого человека есть своя родина и каждому хочется о ней рассказать. И если рассказывать приходится с болью в сердце, с состраданием к близким, — так, может быть, и тем более.
Да и не все было так неприглядно.
Запомнились розовые рассветы, вечерние зори, запахи первой весенней борозды и цветения садов, чарующий аромат скошенных трав и убранных полей, вянущей осенней листвы и обмолоченных хлебов. До сих пор ощущаю запах парного молока, вкус ржаного хлеба, испеченного в русской печи из первого урожая. Ничего нет и не было с тех пор вкуснее.
Самым скучным временем года для ребятишек в деревне была зима. Она приходила быстро и длилась невероятно долго. Не успевали мы насладиться летней порой, как наступала осень с дождями, с мокрыми, знобящими ветрами. А там и зима. Она каждый раз заставала нас врасплох, не было во что обуться, одеться, не законопачена изба, не утеплен скотный двор, не починен сарай…
Зима… Снаружи окна на всю зиму покрывались толстой бахромой инея, а с внутренней стороны на стеклах возникали волшебные узорчатые рисунки. Чтобы взглянуть на улицу, надо было долго дышать на стекло и к образовавшемуся пятачку приставлять глаз вплотную.
Зимы в ту пору, помнится, были снежные и морозные, бушевали метели, поднималась такая суматошная круговерть, что люди днями не выходили из своих изб. Нередко выпадало столько снега, что ни проехать, ни пройти. По утрам люди еле выбирались из полузанесенных хат, прорывали дорожки к колодцам, к сараям, чтобы накормить скот, к риге, к соседям… Один буранный день сменялся другим, горизонт надолго заволакивался серо-пепельной пеленой, из-за которой неделями не проглядывало солнце.
Тяжело, зябко и скучно было людям в эту пору в деревне.
Но были у зимы и свои радости. Взрослые знали, что снежная зима — к хорошему урожаю. Мы же, ребятня, думали, конечно, не об этом. Зима радовала нас снежными горками и ледяными катками, самодельными салазками и деревянными с вделанной металлической пластинкой коньками. Мы любили и просто бродить по селу в теплую, безветренную погоду. Особенно в дни, когда шел снег. Он тихо ложился на шапку-треух, на плечи, на нос, с которого тут же стекал каплями воды.
Любил я подолгу стоять и смотреть, как, тихо кружась, падали причудливые снежинки. При слабом ветерке они летели словно с наклонившегося неба. Ветер усиливался, и их будто становилось больше. Кружились, сталкивались, смешивались в сплошное белое месиво, окутывающее тебя. И кажется, что несет тебя в какую-то неведомую даль, которой нет конца и края…
А снежный наст под солнцем! Огромное кипенно-белое искристое одеяло, слепящее своей сказочной красотой. «Мороз и солнце! День чудесный…» И всюду — на земле, на деревьях, на крышах домов, на наличниках окон — причудливые, резные узоры. Еще в раннем детстве я заметил, что снег не всегда одинаковый. То, как песок, твердый и сыпучий, то, как пух, мягкий и нежный, то стекольно-прозрачный, когда пригревает солнце. Но ярче всего снег запомнился голубым — под высоким и бесконечно голубым небом:
Белый снег? Не видал никогда. На заре — он рудой, рудоватый, В полдень — дымчатый, Словно слюда, Ночью кажется серою ватой. То зеленый кружит вьюговей, То пороша лежит золотая… Шапки снежные в гуще ветвей Серебрятся, как мех горностая.Предельно выразительно и сердечно сказал о русской зиме наш сосед и земляк по Дону Михаил Александрович Шолохов. С детства мне полюбились и навсегда запомнились эти строки: «…Кружат, воют знобкие зимние ветры. Они несут с покрытого толызинами бугра белое крошево снега, сметают его в сугроб, громоздят в пласты. Сахарно-искрящаяся на солнце, голубая в сумерки, бледно-сиреневая по утрам и розовая на восходе солнца — повиснет над обрывом снежная громадина. Будет она, грозна безмолвием, висеть до поры, пока не подточит ее из-под исподу оттепель или, обремененную собственной тяжестью, не толкнет порыв бокового ветра. И тогда, влекомая вниз, с глухим и мягким гулом низринется она, сокрушая на своем пути мелкорослые кусты терновника, ломая застенчиво жмущиеся по склону деревца боярышника, стремительно влача за собой кипящий, вздымающийся к небу серебряный подол снежной пыли».
А много лет спустя, когда я прошел через войну и стал литератором, счастливая судьба свела меня с этим великим и необычайно простым человеком. Тогда-то своим твердым, прямым, выразительным почерком написал он на первой книге своего восьмитомного сочинения: «С. М. Борзунову! Полковнику от полковника с соответствующим уважением и дружеским приветом. М. Шолохов. 27.4. 1962 г.».
Потом были новые встречи и новые памятные надписи, но эту я берегу как самую дорогую.
Однако вернемся к зимам. Они пахли дымом и свежей хвоей. Мороз и солнце… Капель и чириканье нахохлившихся воробьев. И всюду березы — песенное русское дерево — светлые и праздничные, как улыбка девушек.
«С чего начинается Родина? — спрашивает поэт в известной песне и отвечает: „С картинки в твоем букваре“». А что на картинке? Родные березки, поля, луга, пашни. Любовь к Родине начинается с родственного чувства к окружающей тебя с детства природе.
Вот какие строки сохранились в моем фронтовом журналистском блокноте. Я привожу лишь начало:
«Лес! Какое это чудо природы! Когда думаешь о нем, то перед тобою встают и могучий бор с уходящими в небо стройными колоннами-стволами, и веселая ослепительно белая березовая роща — краса и гордость наших лесов (родные русские березы всегда излучают радужный свет, и оттого в лесу кажется просторнее), и хмурый, мшистый, задумчивый ельник…»
Это было записано в минуту затишья перед форсированием Дона в августе 1942 года…
Лес тогда был особенно близок нам: укрывал нас, согревал, преграждал путь врагу.
Очень точно и образно скажет потом об этом поэт Анатолий Землянский:
Здравствуй, Лес мой, Друг мой, Брат мой! Ты и я — в союзе ратном. Ты и я — врагу заслоны… Здравствуй, Белый И зеленый!По-особому, по-деревенски, запомнилась и осенняя пора — время горячих полевых работ, уборки хлеба, картофеля, овощей, время молотьбы и зяблевой пахоты. Время праздников урожая, свадеб и песен. В эти дни, которые «кормили год», в желто-бурый ковер одевались поля, в багрянце пылали сады и леса. А потом по утрам на траве появлялся седой иней, потом зеленые стекляшки на лужах.
В другом моем журналистском блокноте, относящемся уже к сентябрю 1943 года, когда наши войска готовились к форсированию Днепра, были записаны такие строки:
«…Осенний лес! Впервые, пожалуй, за фронтовые годы, я так внимательно всматривался в его неповторимый наряд, в игру его красок. Если весенний лес был просто зеленым, так сказать, однотонным, то осенний буквально пылал всеми цветами радуги. Каждое дерево было одето в свой, ему свойственный наряд, имело свой цвет, свои „привычки“. С их вершин, то причудливо кружась, то совершая плавный полет, падали последние пожелтевшие листья, расстилая на пожухлой траве разноцветный ковер. А когда налетал ветер, он целыми горстями бросал золотистые перья на опустевшие, лишь кое-где вспаханные поля…»
Как сельский житель, я всегда был чувствителен и неравнодушен к лесу, к природе вообще. Но в тот вечер мои думы были целиком во власти осеннего леса. Я даже на какое-то время забыл о том, главном, ради чего с таким трудом добирался в эти неизвестные, доселе незнакомые мне, а отныне родные места, которые мы освобождали от врага. Шел, вдыхая целую гамму лесных запахов: то пряный — рябиновый, то сладковатый — березовый, то горьковатый — осиновый, то дурманящий — сосновый… Сколько деревьев, столько и запахов. До чего же богата кладовая природы, как щедро оделяет она человека своими дарами, здоровьем и радостью. От общения с природой человек становится добрее, красивее, сильнее.
Поля у нас черноземные, плодородные, раздольные. Много было сенокосных угодий и выпасов для скота. Но мало, очень мало воды. Теперь построены искусственные водоемы, сооружены оросительные системы. А в ту пору нам, ребятам, приходилось совершать большие пешие переходы, чтобы в жару поплескаться в живительной прохладной воде. Это были так называемые Баратинские пруды. Но там нас ждали стычки с чужими ребятами. Чтобы избежать встреч с ними, мы уходили на хутор Филатов или в Селезневские затоны. Туда, кроме всего, нас влекли камыши. Мы выбирали наиболее толстые, делали из них дудочки-свирели, на которых наигрывали незатейливые мелодии. Вечерами эти «духовые инструменты» присоединялись к голосистой гармонике или звонкой балалайке на деревенской вечерке. Может быть, поэтому так и запомнились песни моего края, знаменитые воронежские страдания и частушки. Не только наше, но и другие села Воронежчины славились высокой певческой культурой. Талантливые певцы-самородки хранили возникшие в глубине веков самобытные русские песни, придавали им своеобразное звучание. Здесь же, на улице, создавались новые частушки и хороводные припевки.
Сидя тихо в сторонке, поджав под себя ноги, мы зачарованно слушали. В песнях было что-то таинственное, доброе, загадочное, увлекательное. Часто я так и засыпал на завалинке, под тихое пение матери…
Родного отца я не помню и никогда не видал его. Мать рассказывала, что он был храбрым солдатом, имел «Георгия». В гражданскую воевал против белых и в боях под Касторной погиб. Отчим мой сложил голову на полях Великой Отечественной, оставив у матери на руках седьмого ребенка. Это о ней, моей старенькой матери, колхознице-пенсионерке Анне Николаевне Шерстняковой написал мой земляк поэт Владимир Иванович Федоров свою «Балладу о солдатке»:
В полынной степи — дальний топот копыт, Горит огонек за буграми. — Скажи мне, земляк, кто в светелке не спит? — Моя терпеливая мама. Заплакала птица родная навзрыд, И свод стал не алым, а черным. — Скажи мне, земляк, где отец твой убит? — Он рухнул с коня под Касторной. В степи табуны бронированных глыб Столкнулись — и травушка в пепле. — Скажи мне, земляк, где твой отчим погиб? — На Курской дуге, в самом пекле. Где конник лихой? Где танкист пожилой? Их сизая степь поглотила. Вдова не прильнет к ним седой головой, Вдова не найдет их могилы. Два горя, два камня всю жизнь поднимать, Глядеть на заре сквозь туманы… — Скажи мне, земляк, где живет твоя мать? — В селенье по имени Анна.У ней доброе, кроткое сердце, бесконечное терпение и удивительная стойкость против всех невзгод и трудностей жизни. Она испытала почти все лишения, тяготы и беды, какие только существуют на земле. Мы никогда не видели ее отдыхающей. Часов в нашем доме не было: их роль выполняла мама, которой помогали горланы-петухи, извещавшие деревню о полночах и рассветах. Ее мозолистые, теплые руки оберегали нас от голода и холода, от болезней и всякой порчи. Для нее не было плохих людей: обо всех она отзывается по-доброму, всем стремится помочь, угодить.
Все хорошее, что есть в каждом человеке, берет свое начало от семьи, из детства, от родного порога. Мое хорошее тогда определялось довольно общим, не очень еще понятным, но поистине волшебным словом «знания». Я еще не ведал тогда, что каждый человек в жизни должен посадить дерево, построить дом, написать книгу. Не знал, но стремился именно к этому. Знания приобретал всеми возможными путями: в школе, из книг, в беседах с образованными людьми, через газеты и кинофильмы…
Окончив начальную школу, я два года сидел дома, так как ближайшая семилетка находилась в пяти километрах от нас. Подождал, пока подрасту, и продолжал учиться. Ходил в дождь и слякоть, в мороз и пургу. Однажды чуть не замерз, укрывшись в буран в стогу сена. К счастью, был обнаружен конюхом, приехавшим за кормами.
Еще в начальной школе бредил о красном галстуке. И когда получил его, не снимал ни днем, ни ночью.
С горном, под барабанный бой маршировали мы около школы, задорно пели «Взвейтесь кострами, синие ночи!» Я не знал тогда ни автора слов, ни композитора. И, уж конечно, не мог предполагать, что много лет спустя мне доведется встречаться с Александром Жаровым и состоять с ним в личной дружбе.
Школьные годы… Играл «взрослые» роли в одноактных пьесах. Сочинял заметки в стенгазету и редактировал ее. Был председателем ученического комитета. Потом комсомол. Через три года возглавил одну из крупнейших в Аннинском районе комсомольских организаций, был членом бюро райкома ВЛКСМ.
До сих пор держу на письменном столе свой комсомольский билет с портретом Владимира Ильича Ленина. Всю войну он вместе с партбилетом находился в моем левом кармане — у сердца.
Рано полюбил военное дело. Вступил в Осоавиахим. И сегодня среди дорогих мне реликвий храню «Почетный знак ДОСААФ СССР» и удостоверение от 11 октября 1969 года за подписью легендарного советского полководца Семена Михайловича Буденного. Совсем недавно к этим реликвиям прибавилась Почетная грамота Центрального Комитета ДОСААФ «За активное участие в оборонно-массовой работе и военно-патриотическом воспитании трудящихся и в связи с 30-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Грамота, врученная мне председателем ЦК ДОСААФ СССР трижды Героем Советского Союза маршалом авиации А. И. Покрышкиным. С этим прославленным асом минувших сражений мне посчастливилось много раз встречаться в дни войны и в послевоенное время.
В юности мы брались за все и стремились каждое начатое дело доводить до конца. Распространяли среди населения лотерейные билеты и займы, собирали лом и макулатуру, принимали участие в ликвидации неграмотности и агитировали единоличников вступить в колхоз, помогали сеять и убирать урожай, собирали колосья, были книгоношами и почтальонами, производили подписку на газеты и журналы, выступали в роли пропагандистов и агитаторов по важнейшим решениям партии и правительства. Горячо отзывались на любой клич и каждое поручение выполняли с присущим молодости огоньком. Мы ничего не требовали от государства, но все отдавали ему и тем были счастливы.
За лето наши руки не раз покрывались кровавыми мозолями, в них при прополке впивались иглы осота и прочей сорной травы, их больно обжигала крапива. Вдоволь надышались мы полынь-травою и густой непроглядной пылью при молотьбе пересохших хлебов. Мы износили до дыр много пропотевших, разъеденных солью и выцветших на солнцепеке рубашек. Бывая в ночном, умели стреножить коня и впрячь его в телегу, познали пастушечье дело, рассветные зори и грозовые разряды, от которых, казалось, раскалывались небо и земля…
Еще учась в школе, я пробовал писать заметки, корреспонденции, стихи и вскоре был взят на работу в аннинскую районную газету. А через некоторое время, в мае 1939 года, в журнале ЦК ВКП(б) «Рабоче-крестьянский корреспондент» была напечатана статья с многообязывающим названием «Путь от селькора до журналиста». Заметка была короткая, но она окрылила меня, поддержала в тот самый момент, когда встал неизменный вопрос: кем быть? Хотя, справедливости ради, следует сказать, что мы тогда не имели возможности выбирать профессии: они нас сами выбирали.
Мы были словно чистый лист бумаги, на котором писалась история.
«В настоящее время тов. Борзунов — секретарь комитета ВЛКСМ при редакции газеты „Коллективный труд“ и член пленума РК ВЛКСМ. В редакции он работает полтора года и за это время был три раза премирован», — так заканчивалась эта статья.
С тех пор, за исключением некоторых перерывов, связанных с учебой и войной, я целиком отдал себя журналистике. В том же 1939 году участвовал в Воронежском областном слете передовиков печати, а перед уходом на действительную военную службу сотрудничал в областной газете «Коммуна». Тогда же впервые напечатался в «Правде». Заметка была чуть ли не короче заголовка. «96 тракторов ждут ремонта» — так тяжеловесно, помню, называлась она.
Встав на журналистский путь, я не ведал тогда, какие трудности он мне готовит, как нелегко быть настоящим журналистом. По роду своей профессии журналист всегда вызывает «огонь на себя». Подвергая критике чьи-то ошибки, берет на себя ответственность осуждать их от имени общества. Когда пишет об успехах человека или коллектива, то берет на себя смелость оценивать их вклад в общее дело. Велика в нашей стране ответственность журналиста за каждое напечатанное слово. И речь не просто о точности и достоверности сообщаемых фактов — это само собой разумеется, — но об авторитете и могучей силе марксистско-ленинской печати.
Добровольно избрав армейскую службу (немалую роль в этом решении сыграло, вероятно, и то обстоятельство, что родился я 23 февраля 1919 года: в молодости и такие случайности обретают порой символическое значение), я в конце 1939 года впервые в жизни пересек границу своей родной области…
На исходе вторые сутки пути. Позади Касторная, Курск, Конотоп… Извиваясь ужом, поезд огибал крутые склоны, преодолевал возвышенные места и, отфыркиваясь паром и дымом, снова вырывался на простор. Юркие солнечные зайчики бежали по траве насыпи, словно стремясь обогнать нас, иногда паровоз протыкал дымчатую сетку дождя или цеплялся трубой за низкие лохматые тучи. Волшебные краски поздней осени, льющиеся с неба теплые лучи солнца, безбрежная синь высокого неба, шапки белоснежных облаков…
У каждого поколения свои пути-дороги.
Вот и Днепр. Перепоясанный длинными красивыми мостами, с богатырским размахом берегов, с горделиво плывущими белыми пароходами, пронзительными гудками буксиров, музыкой прогулочных катеров. Мог ли я знать, что в сентябре 1943 года мне придется форсировать его вместе с разведчиками под ожесточенным огнем врага…
В начале 1940 года я поступил в военно-политическое училище.
Время пробежало быстро, и вот мы, молодые офицеры-политработники, в новенькой, красиво пригнанной форме, с двумя кубиками в петлицах и окаймленной золотом звездой на рукаве, разъехались по гарнизонам страны. Я получил назначение на должность политрука разведроты танкового соединения в Борислав.
Начало нашей офицерской службы совпало с последними предвоенными днями, она началась не с отпуска в родные края, чтобы покрасоваться перед односельчанами в своей новенькой военной форме. Сразу с вокзала, переодевшись в полевое обмундирование, мы отправились на тактические учения, проходившие вблизи западной границы. День и ночь шла напряженная учеба в условиях, приближенных к боевой обстановке, а через несколько дней загрохотала война.
Что пришлось пережить и испытать за четыре военных года? Об этом не расскажешь и в десятках книг. Мне выпала горькая и в то же время почетная доля — среди многих земель, городов и сел отстаивать от врага и освобождать свою милую Воронежчину, свой отчий дом, свою юношескую мечту. И память об этом свежее всего — и в душе, и во всем, что успел написать.
Кончилась война, все людские дороги повернули к мирной жизни. Мы же, кадровые офицеры, продолжали служить в рядах Советской Армии. С войны мы вернулись не только возмужавшими, окончательно повзрослевшими, но и с еще большей жаждой жизни, тягой к знаниям, к тому, к чему стремились с юношеских лет. Об «отдыхе от войны» не было и мысли. Казалось, что потеряно очень много времени — это были длинные годы, — надо наверстывать упущенное.
Началась упорная борьба за знания в стенах одной из старейших в нашей стране орденоносной Военно-политической академии имени В. И. Ленина. Лекции, семинарские занятия, собеседования, диспуты, симпозиумы, различного рода собрания, заседания. Изучение гуманитарных и точных наук чередовалось с тактическими занятиями в поле, на танкодроме, артиллерийском полигоне, стрельбище…
И хотя перед нами уже не вставал вопрос о выборе профессии, мы понимали, что должны окончательно утвердиться в своем выборе, стать достойными этого важного и почетного в нашей стране звания — армейского политработника. Каждый раз, когда я слышал это слово, мне вспоминались легендарные комиссары гражданской войны, славные боевые дела и традиции политруков Великой Отечественной. Душой роты, полка, дивизии называли лучших из них.
И все эти годы меня, как и прежде, питала любовь к родной воронежской земле. Она всегда была и навсегда останется в моем сердце: живая, трепетная, нежная. Каждый год в дни очередных отпусков я непременно стремился побывать в родном городе, в местах, где родился и жил. Повидаться и поговорить с родными и близкими людьми, обнять мать.
И если бы не армейская служба, где человек собой не распоряжается, я давно бы вернулся в милые воронежские края. И в радости и в печали сердце постоянно тянется к ним. И все ближе мне строки поэта:
Но более всего Любовь к родному краю Меня томила, Мучила и жгла.Отсюда, вероятно, и взяла начало другая моя вечная любовь — к живому слову.
Литературным творчеством всерьез стал заниматься лишь с начала семидесятых годов, хотя журналистом считаю себя давно. В разных газетах приходилось работать: в районной и областной, в дивизионной, армейской и фронтовой. По окончании академии возглавлял один из журналов Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота. С 1961 года работаю в Военном издательстве Министерства обороны СССР. Над собственными книгами приходится трудиться, что называется, сверхурочно, поэтому и написано не так много и не так, как хотелось бы.
Иногда спрашивают: какая необходимость, находясь на воинской службе, заниматься еще и литературным трудом? Ответ прост: делаю это потому, что не могу не делать. Потому, что считаю своим долгом — гражданским и воинским — рассказать о тех, кто не щадил своей жизни во имя великой Победы. О тех, кого нет среди нас и кто не может уже ничего о себе поведать людям.
И — о родной земле, которая одарила меня жизнью и питает ее до сих пор.



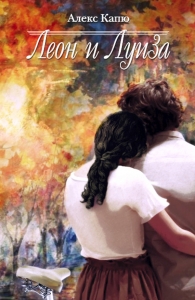




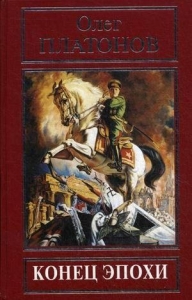

Комментарии к книге «Бойцы, товарищи мои», Семён Михайлович Борзунов
Всего 0 комментариев