Глава I
1770 год. Маргарита. Буонакорси. Герцогиня де Фиано. Кардинал де Бернис. Принцесса де Санта Кроче. Маркуччио и его сестра. Отмена запрещения входа в приемную.
Решившись заранее провести шесть месяцев в Риме в полном спокойствии, занимаясь только тем, что может мне предоставить знакомство с Вечным Городом, я снял на следующий день по приезде красивые апартаменты напротив дворца посла Испании, которым сейчас был монсеньор д’Аспурю; это были те апартаменты, что занимал учитель языка, у которого я брал уроки двадцать семь лет назад, когда был на службе у кардинала Аквавива. Хозяйкой этого помещения была жена повара, который приходил с ней спать только раз в неделю. У нее была дочь шестнадцати-семнадцати лет, которая, несмотря на свою кожу, может быть слишком смуглую, была бы весьма красива, если бы оспа не лишила ее одного глаза. Она носила на этом месте искусственный, который был другого цвета и больше, что делало лицо неприятным. Эта девушка, которую звали Маргарита, не произвела на меня никакого впечатления; но, несмотря на это, я не мог помешать себе сделать ей подарок, дороже которого ей не мог быть никакой другой. Тогда в Риме находился англичанин, окулист, по имени шевалье Тейлор, обитавший на той же площади. Я отвел к нему Маргариту вместе с ее матерью, и, с помощью шести цехинов, заставил его сделать ей глаз из фарфора, подобный другому, так что лучше нельзя было и представить. Эта трата внушила Маргарите мысль, что, сраженный ее красотой в двадцать четыре часа, я влюблен в нее; ее мать, натура набожная, боясь обременить свою совесть, поспешила приписать это легковесное суждение моим намерениям. Я немедленно узнал все это от самой Маргариты, поскольку мы уже свели к этому времени близкое знакомство. Я использовал полученные сведения, чтобы обеспечить себе обеды и ужины, без всякой пышности и излишеств. Обладая богатством в три тысячи цехинов, я принял за правило вести образ жизни, который обеспечивал бы мне возможность жить в Риме, не только ни в ком не нуждаясь, но даже являясь лицом респектабельным.
На следующий же день я нашел письма почти во всех почтовых бюро, и начальник банка Беллони, который знал меня с давних пор, теперь подтвердил обменные письма, которые я ему представил. Г-н Дандоло, мой всегдашний верный друг, отправил мне два рекомендательных письма, написанных столь же знатным венецианцем, г-ном Зулиани, который рекомендовал меня в Мадриде послу Мочениго с согласия Государственных Инквизиторов. Одно из этих писем было адресовано г-ну Эриццо, послу Венеции, оно мне доставило наибольшее удовольствие. Это был брат того Эриццо, что был послом в Париже. Другое было адресовано его сестре, герцогине де Фиано. Я увидел, что вхож во все большие дома Рима; мне доставила истинное удовольствие мысль представиться кардиналу де Бернис, и тогда я буду знаком со всем городом. Я не нанял ни экипажа, ни слуги, это не необходимо в Риме, где можно получить как то, так и другое мгновенно, по мере необходимости.
Первым лицом, которому я представил мое письмо, была герцогиня де Фиано, которая, будучи предупрежденной своим братом, оказала мне самый любезный прием. Это была женщина весьма некрасивая, отнюдь не богатая, но с очень хорошим характером; обладая весьма малым умом, она взяла за обычай весело злословить, так что создавалось впечатление, что ума у нее много. Герцог, ее муж, носивший имя д’Оттобони, так как имел на него право, и женившийся на ней из-за наследства, был импотент, что на римском жаргоне именовалось бабилано; это была первая личная подробность, что она мне сообщила в третий раз, что я ее увидел; но сказала она мне это не тем тоном, который мог бы внушить мне, что она его не любит, и не так, что могло показаться, что она хочет мне понравиться, потому что казалось, что она говорит мне это только, чтобы посмеяться над своим исповедником, который пригрозил отказать ей в отпущении грехов, если она продолжит делать все от нее зависящее, чтобы вернуть ему потенцию. Она давала каждый вечер небольшой ужин для своей компании, состоявшей из семи-восьми персон, к которой я был допущен только восемь-десять дней спустя, когда все были со мной уже знакомы, и каждый оценил мое общество. Ее муж, который не любил компании, ужинал в одиночестве в своей комнате. Кавалером для герцогини служил принц де Санта Кроче, жену которого обслуживал кардинал де Бернис. Эта принцесса, дочь маркиза Фалькониери, была очень молодая, красивая, очень живая и создана, чтобы нравиться всем, кто к ней приближался; но, стараясь располагать кардиналом, она не оставляла надежды никому, кто добивался чести занять его место. Принц, ее муж, был прекрасный человек, наделенный благородными манерами и возвышенным умом; но он использовал его лишь для коммерческих спекуляций, он полагал, и был в этом прав, что совершенно невредно пользоваться знатным рождением, извлекая из него все возможные преимущества, с ним связанные. Не любя тратиться, он служил герцогине де Фиано, потому что это ему ничего не стоило, и при этом не рисковал влюбиться. Не будучи набожным, он был вполне иезуитом по духу, и положительно форменным иезуитом в цивильной одежде, как президент д’Эгий, брат маркиза д’Аржан, которого я знавал в Эксе. Когда, две или три недели спустя после моего прибытия в Рим, он услышал от меня о затруднениях, которые возникают у человека литературы, желающего поработать в библиотеках Рима таких, как, например, библиотека Минервы, и, тем более, библиотека Ватикана, он предложил представить меня главе дома, принадлежащего ордену Иисуса и Св. Игнатия. Один из библиотекарей представил меня для первого раза всем подчиненным, и с этого дня я мог не только ходить в библиотеку каждый день и в любое время, но даже брать с собой любые книги, которые мне могли понадобиться, лишь записав их названия на листке бумаги, который оставлял на столе, где работал. Мне приносили свечи, когда решали, что недостаточно светло, и простерли свою любезность до того, что дали мне ключ от маленькой двери, через которую я мог ходить в библиотеку в любое время, зачастую даже не показываясь служителю. Иезуиты – самые вежливые из всех служителей нашей религии, и даже, если я смею так сказать, единственные вежливые; но в том кризисе, в котором они находились в то время, их вежливость простиралась так далеко, что казалась мне раболепством. Король Испании хотел запретить Орден, и они знали, что папа ему это обещал, но уверенные, что этот удар не разразится никогда, они держались отважно. Они не могли себе представить, что у папы хватит смелости на действие, превосходящее, по их представлению, моральные силы человека. Они решились даже на то, чтобы заявить, косвенными путями, что у него нет власти запретить их Орден без созыва церковного Совета; но все было напрасно. Мучения папы, решившегося на этот поступок, происходили от того, что он сознавал, что, произнося приговор о запрещении Ордена, он произнесет этим свой собственный смертный приговор. Он решился на это лишь тогда, когда увидел, что его честь подвергается огромной опасности. Король Испании, который был самым упорным из всех суверенов, написал ему собственноручно, что если тот не запретит Орден, он напечатает и опубликует на всех европейских языках письма, которые тот писал ему, когда был кардиналом, и на основании которых он сделал его великим понтификом христианской религии. Человек другого ума, чем Ганганелли, мог бы ответить королю, что папа не обязан исполнять то, что обещал, будучи кардиналом, и иезуиты поддержали бы эту доктрину, не самую привлекательную из всех, характерных для сторонников пробабилизма; но Ганганелли в глубине души не любил иезуитов, он был францисканец, он не был джентльмен, его вежливость была деревенская и его ум не был достаточно силен, чтобы пренебрегать стыдом, который он бы испытал, видя, что раскрыты его личные амбиции, и чтобы быть способным пренебречь словом, что он дал великому монарху, чтобы получить возможность воссесть на престоле Святого Петра.
Мне смешно слышать, когда говорят, что этот папа отравился сам от приема слишком сильных противоядий. Факт тот, что, постоянно боясь быть отравленным, он принимал антидоты и предохраняющие средства. Он был невежествен в области физики и мог принять нечто такое; но я смею сказать с моральной убежденностью (если возможна моральная убежденность), что папа Ганганелли умер отравленным, и не своими противоядиями. Вот на чем основана моя уверенность:
В тот же год, когда я был в Риме, и который был третьим годом понтификата Ганганелли, отправили в заключение женщину родом из Витербе, которая бралась делать предсказания, в загадочном стиле и согласно неким приметам. Она предсказывала, в темных выражениях, разрушение Общества Иисуса, не называя времени, когда это должно произойти; но то, что она говорила весьма ясным образом, было следующее: «Общество Иисуса будет разрушено папой, который будет править пять лет, три месяца и три дня, точно столько, сколько Сикст Пятый, ни днем больше и ни днем меньше». Большинство читателей этого пророчества им пренебрегли, и больше не говорили об этой Сивилле, которую, впрочем, заключили в тюрьму. Я прошу читателя сказать мне, разве человек рассудительный, думающий может сомневаться в отравлении этого папы после того, как в его смерти увидели исполнившееся пророчество? Это тот случай, когда моральная уверенность совпадает с физическими основаниями; мысль, которую внушала женщина из Витербе, означала, если вдуматься, что если иезуиты будут запрещены, они наверняка отомстят. Могущественный человек, который отравил папу, смог бы, разумеется, отравить его до того, как тот запретил Орден; но следует понять что он не считал себя способным на это. Очевидно, что если бы папа не запретил Орден, он не был бы отравлен и, таким образом, пророчество было бы опровергнуто. Заметим, что Ганганелли был монахом ордена Св. Франциска, как и Сикст Пятый, и что один был происхождения почти такого же высокого, как и другой. Странно то, что после смерти папы сивиллу выпустили на свободу, сочтя сумасшедшей, и больше о ней не говорили, и что, несмотря на то, что пророчество, о котором я говорил, было общеизвестно, во всех кругах ученых и знати упорно говорили о том, что папа умер отравленный, но отравленный своими противоядиями, которые постоянно принимал сам, и даже в отсутствие своего верного друга Бонтемпи. Я спрашиваю у человека мыслящего, какой был смысл папе, по крайней мере, если он не был сумасшедшим, подтверждать буквально пророчество женщины из Витербе. Те, кто мне скажет, что все это могло произойти и-за простой случайности, заткнут мне этим рот, так как я не могу исключать такую возможность, но я продолжу рассуждать, как я всегда рассуждал. Отравление папы Ганганелли было последним доказательством могущества, которое иезуиты дали миру, даже после своей кончины. Непростительной ошибкой, которую они совершили, было то, что они не заставили его умереть перед запрещением, потому что истинная политика состоит именно в предупреждении и недопущении, и несчастен тот из политиков, кто не знает, что нет ничего в мире, что, в случае возникновения сомнения, нельзя было бы приписать предвидению.
Принц де Санта Кроче, видя меня во второй раз у герцогини де Фиано, спросил ex abrupto [1] , почему я не иду повидать кардинала де Бернис; я ответил, что собираюсь к нему идти завтра.
– Пойдите к нему, потому что я никогда не слышал, чтобы Его Преосвященство говорил о ком-то с таким уважением, как о вашей персоне.
– Я ему бесконечно обязан уже на протяжении восемнадцати лет; и я охотно подвергнусь риску ему наскучить, чтобы убедить Его Преосвященство в том, что я ничего не забыл из того, чем я ему обязан.
– Пойдите же, и мы все будем этому рады.
Кардинал встретил меня назавтра, выражая полнейшее удовольствие увидеть снова. Он похвалил сдержанность, с которой я говорил о нем с принцем Санта Кроче у герцогини, будучи уверен, что я умолчал об обстоятельствах нашего знакомства в Венеции. Я сказал ему, что, за исключением того, что он пополнел, я нахожу его красивым и свежим, как тогда, когда он выехал из Парижа, тому двенадцать лет назад, но он ответил, что считает, что очень изменился, во всем.
– Мне, – сказал он, – пятьдесят пять лет, и я вынужден есть только овощи.
– Не для того ли, чтобы, исключив скоромное, уменьшить склонность к любовным трудам?
– Я хотел бы, чтобы так полагали; но думаю, что не в этом дело.
Он был обрадован, узнав, что у меня есть письмо к послу Венеции, которое я еще не занес. Он заверил меня, что он его предупредит таким образом, что тот встретит меня весьма хорошо.
– А пока, – сказал он, – я займусь завтра тем, что взломаю лед. Вы пообедаете у меня, и он будет об этом знать.
Я сказал ему, что у меня достаточно денег, и видел, что он обрадован этим обстоятельством, и еще больше тем, что, как я ему сказал, я один и намерен жить разумно и без малейшего блеска. Он сказал, что напишет М.М. об этой новости. Я изрядно развлек его, рассказав о приключении с монахиней из Шамбери. Он сказал, что я смело могу просить принца Санта Кроче представить меня принцессе, где мы сможем проводить приятно часы, но отнюдь не во вкусе тех, что мы проводили в Венеции, потому что это совсем другое дело.
– Она составляет, однако, единственное приятное общество для Вашего Преосвященства.
– Да, за отсутствием лучшего. Вы увидите.
Назавтра кардинал мне сказал, когда мы сидели за столом, что г-н Зулиан предупредил посла Эриццо, который выразил большое желание познакомиться со мной; и я был весьма доволен приемом, который он мне оказал. Шевалье Эриццо, брат прокуратора, который был еще жив, был человек большого ума, хороший гражданин, очень красноречивый и большой политик. Он поздравил меня с тем, что я путешествую, и, вместо того, чтобы быть преследуемым Государственными Инквизиторами, пользуюсь их покровительством, потому что г-н Зулиан рекомендовал меня с их согласия. Он удержал меня на обед и сказал, чтобы я приходил к нему всякий раз, когда у меня не будет ничего лучше.
В тот же вечер у герцогини я попросил принца Санта Кроче представить меня принцессе; он мне ответил, что она желает этого, после того, как кардинал провел накануне час, рассказывая обо мне. Он сказал, что я могу приходить туда в любой день, либо в одиннадцать часов утра, либо в два после полудня. Я был там на следующий день в два часа; она была в кровати, где проводила во все дни сиесту, и, поскольку я был человек без претензий, она пригласила меня войти сразу. В течение четверти часа я увидел все, что она из себя представляла: молодая, красивая, веселая, живая, любопытная, смешливая, разговорчивая; она расспрашивала и не имела терпения дождаться ответа. Я увидел в этой молодой женщине настоящую игрушку, созданную, чтобы развлекать ум и сердце чувственного и умного мужчины, у которого на плечах груз сложных дел и которому необходимо рассеяться. Кардинал виделся с ней регулярно три раза в день. Утром, при ее пробуждении, он являлся узнать, хорошо ли она спала, после обеда каждый раз приходил в три часа выпить у нее кофе, и вечером виделся с ней в доме, где бывала ассамблея. Он играл с ней тет-а-тет партию в пикет, проявляя при этом настоящий талант проигрывать каждый раз ровно шесть римских цехинов, не больше и не меньше. Таким образом, принцесса была самой богатой молодой особой во всем городе. Муж, хотя и ревнуя в глубине сердца, не мог, в силу практического склада ума, счесть дурным, что его жена пользуется пенсионом в 1800 цехинов в месяц, не вызывая при этом никаких упреков и не давая поводов для малейшего злословия, потому что это происходило на публике, и это были лишь деньги, законно полученные в игре, которые можно было приписать лишь фортуне. Таким образом, принц де Санта Кроче мог только лелеять и в высшей степени ценить дружбу, которую питал кардинал к его милой принцессе, которая, очень плодовитая, дарила ему дитя не только каждый год, но несколько раз и каждые девять месяцев, несмотря на то, что доктор Салисетти уверял, что он должен проявлять заботу о ее здоровье и не позволять ей беременеть раньше, чем пройдут шесть недель после очищения после родов.
Помимо этого, этот принц пользовался преимуществом получать из Лиона все ткани, что хотел, без того, чтобы главный казначей, которым был тогда монсеньор Браски, теперь папа, мог чего-либо возразить, потому что они были адресованы кардиналу министру Франции. Следует также добавить, что дружба, которую кардинал питал к его дому, гарантировала его от всех тех, кто докучал ему, ухаживая за его женой. Таким был влюбленный в нее в это время коннетабль Колонна, которого он застал в комнате своего дворца за беседой с ней в одну из тех четвертей часа, когда она была уверена, что удар дверного колокольчика не возвещает прихода верного Преосвященства. Едва ушел принц – коннетабль, раздраженный муж заявил принцессе, чтобы она была готова назавтра отбыть с ним в деревню. Принцесса протестовала, заявляя, что этот отъезд, непредвиденный, внезапный и преднамеренный, – всего лишь каприз, с которым ее честь не позволяет ей согласиться; но дело было решено, и она должна была бы подчиниться, если бы сам кардинал, придя и узнав всю историю от наивной невинной красотки, не доказал мужу, что он может, и приданных обстоятельствах даже должен, отправиться в деревню один, оставив свою принцессу в Риме, где она в будущем примет гораздо более разумные меры, чтобы предотвратить такие встречи, которые всегда некстати и порождают ничтожные недоразумения – препятствия для мира в семье.
Менее чем в месяц я стал человеком, не стесняющим никого из трех главных персонажей пьесы. Нимало не вмешиваясь в споры, слушая, наблюдая и, в конце концов, отдавая должное победителю, я стал им почти так же необходим, как маркер игрокам в бильярд. Я заполнял рассказами или комментариями томительные паузы, возникающие в подобных дебатах; они возобновлялись, все чувствовали, что обязаны мне тем, что это происходило так легко, и компенсировали мне это тем, что продолжали свои споры, не считая меня лишним ни в чем и в любое время. Я видел в принцессе, принце и в кардинале три прекрасные души, невинные и лишенные злого умысла, которые продолжали свою игру, никому не мешая и не причиняя никакого вреда миру и добрым нравам общества.
Герцогиня де Фиано, которой было далеко не безразлично, что говорят о ней в Риме, которая располагала мужем той, обладанием которой он делился с кардиналом, она должна была, соответственно, обладать им в избытке, при том, что никто не был обманут, она старалась оставить меня в дураках до такой степени, чтобы я видел все в розовом свете. Она никогда не казалась мне настолько лишенной ума. Она удивлялась тому, что я не считал очевидным, что это проявление обычного чувства ревности, что принцесса де Санта Кроче никогда не приходила к ней; однажды она говорила со мной с таким жаром, стараясь убедить меня, что дело обстоит именно таким образом, что я увидел, что, не согласившись с этим, я потеряю ее милости. Что касается прелестей принцессы, я должен был внушить ей с самого начала, что невозможно понять, каким образом они могли ослепить кардинала, потому что нет ничего незначительней, чем она, и никто среди лиц ее пола не обладает в Риме умом ни более легковесным, ни более непоследовательным. Было, однако, несомненно, что принцесса Санта Кроче – прелесть, созданная, чтобы составить счастье чувственного любовника и философа, такого как кардинал. Я восхищался в некоторые моменты его счастьем, тем, что он обладает этим сокровищем, и еще более тем, с каким высоким достоинством его фортуна продвигала его вверх. Я любил принцессу, но не позволял себе никогда питать какие-то надежды; я всегда держал себя в границах, которые обеспечивали мне место, которое я занимал. Пустившись во все тяжкие, я рисковал бы все потерять, потому что это затронуло бы гордость дамы и не понравилось деликатности ее любовника, которого возраст и священный пурпур заставили воздерживаться, несмотря на всю его философию, от того, что бывало, когда мы обладали сообща М.М. Надо к этому добавить, что кардинал мне все время говорил, что испытывает по отношению к ней лишь отцовскую нежность; этого мне было достаточно, чтобы понять, что он счел бы дурным, если бы я попытался стать чем-то большим, чем самый избранный из ее покорнейших слуг. Я должен был этим удовольствоваться и быть счастлив, что она оберегалась от меня не более, чем от своей горничной. Чтобы доставить ей наибольшее удовольствие, что могло от меня зависеть, я даже делал вид, что не гляжу на нее, когда она знала, что я ее вижу. Дорогу, которой приходится следовать, желая заполучить нежащуюся женщину, нелегко найти, особенно, если у нее к услугам есть король или кардинал.
Жизнь, которую я вел месяц, что был в Риме, была такой, какую можно только пожелать, чтобы жить спокойно. Маргарита смогла привлечь меня своим вниманием. Поскольку у меня не было слуги, она пребывала по утрам и по вечерам в моей комнате; я смотрел на нее, ужасно довольный подарком, что я ей сделал – искусственным глазом, который казался натуральным для всех, кто не знал об ее увечье. Эта девочка обладала большим умом, не имея ни малейшей культуры, и крайним старанием ее приобрести. Я терзал без всякой цели ее ум, держа перед ней длинные беседы, по утрам и по вечерам, для того лишь, чтобы посмеяться, и делал ей маленькие подарки; давая ей денег, я поддерживал ее интерес к украшениям, которые она усматривала в церкви Св. Апостолов, являясь туда во все праздники и по воскресеньям к мессе. Я заметил вскоре две вещи: одна – она удивлялась тому, что, любя ее, я никогда не выражал это словесными декларациями, а только действием, другая – что если я ее любил, победа над ней не составила бы мне труда. Я должен был догадаться об этой последней, когда, понуждаемая рассказывать мне историю всех своих маленьких приключений, что были у нее с ее одиннадцати лет и до теперешних семнадцати-восемнадцати, она рассказывала те, что доставляли мне наибольшее удовольствие и которые она могла рассказывать, лишь попирая всякое чувство стыда. Я добился этого тем, что давал ей три или четыре паоли всякий раз, когда мне казалось, что она искренняя, я говорил ей об этом; и я ничего ей не давал, когда был уверен, что она скрывает от меня самые интересные обстоятельства интриги. Этим способом я заставил ее признаться, что она уже не девственна, что очаровательная девочка, носящая имя Буонакорси и приходящая к ней повидаться всякий праздник, тем более не девушка, и кто этот человек, что торжествовал победу над ними обеими. Она заверила меня также, что она не крутит амуры с аббатом Черути, моим соседом, к которому она должна была ходить всякий раз, когда ее мать была занята. Этот аббат, пьемонтец, был красив, учен и вместе с тем умен, но он был беден, обременен долгами и потерял свою репутацию в Риме из-за весьма скверной истории, которая еще продолжалась, и несчастным героем которой он был. Говорят, что он рассказал англичанину, который любил принцессу Ланти, что она нуждается в двухстах цехинах, и что англичанин дал их ему, чтобы тот ей их передал, но что аббат оставил их себе. Этот ужасный обман был раскрыт в результате объяснения, произошедшего между дамой и англичанином, когда тот заявил, что готов все для нее сделать и считает пустяком те 200 цехинов, что он ей передал. Дама, весьма удивленная, опровергла это заявление, англичанин, будучи благоразумным, не стал настаивать; но неожиданно аббат был изгнан из дома Ланти и англичанин весьма благородно не захотел более его видеть.
Этот аббат, которого Бьянкони использовал для написания римских «Эфемерид», выходивших каждую неделю, стал моим другом сразу, как я поселился в доме Маргариты. Я узнал, что он ее любит, но мне это было безразлично, так как я не был в нее влюблен, но я не верил, что Маргарита к нему сурова. Эта девушка заверила меня, что не выносит его и что она недовольна всякий раз, когда должна заходить в его комнату. Аббат имел передо мной некоторые обязательства. Он одолжил у меня двадцатку экю, пообещав вернуть их через три-четыре дня, но прошло три недели, а он мне их не вернул; однако я их у него не спрашивал и даже готов был одолжить еще двадцать, если бы он попросил, но этого не случилось.
Когда я ужинал у герцогини Фиано, я возвращался поздно, и Маргарита меня ожидала. Ее мать спала, и, желая позабавиться, я удерживал ее у себя часок-другой, не замечая, что наши шалости, довольно шумные, беспокоят аббата Черути, который, будучи отделенным от комнаты, где мы развлекались, лишь дощатой перегородкой, должен был слышать даже наши слова и переживать с большим беспокойством наши веселые проделки, при том, что Маргарита ничего не делала, чтобы хоть немного пригасить огонь, которым он пылал.
Однажды, придя к себе после полуночи, я был очень удивлен, застав в моей комнате вместо Маргариты ее мать.
– А где ваша дочь?
– Моя дочь спит. Я больше не могу позволить, по совести, чтобы она оставалась у вас всю ночь.
– Она остается только до момента, когда я, направляясь спать, говорю ей уходить, и эта новость меня обижает, так как она делает для меня слишком ясными ваши несправедливые подозрения. Что могла вам сказать Маргарита? Если она на что-то жалуется, она вас обманывает, и завтра же я съеду от вас.
– Вы будете неправы. Маргарита мне ничего не говорила, наоборот, она утверждает, что с ней вы только смеетесь.
– Прекрасно. Не считаете ли вы, что смеяться дурно?
– Нет, но вы можете делать и другие вещи.
– И на этой возможности вы, между тем, основываете ваше несправедливое подозрение, которое должно ранить вашу совесть, если вы добрая христианка.
– Боже меня сохрани подозревать моих близких, но мне заявили, что ваш смех, ваши шалости настолько громки, что не позволяют сомневаться в том, что ваши действия не совместимы с добрыми нравами.
– Значит, это аббат, мой сосед, имеет нескромность вас обеспокоить?
– Я не могу вам сказать, от кого я это знаю, но я знаю.
– Тем лучше для вас. Завтра я перееду; этим я оставлю вашу совесть в покое.
– Но не могу ли я послужить вам как моя дочь?
– Отнюдь нет. Ваша дочь меня веселит, и мне это нравится. Вы не созданы для того, чтобы меня смешить. Завтра я уеду, говорю я вам. Вы меня оскорбили, и это не должно повториться.
– Мне это будет неприятно из-за моего мужа, который захочет узнать этому причину, и я не знаю, что ему сказать.
– Меня не заботит, что может сказать ваш муж. Я уезжаю завтра. Прошу вас уйти, потому что я хочу ложиться спать.
– Позвольте мне вам услужить, позаботиться о ваших ботинках.
– Вы ни о чем не будете заботиться. Если вы хотите, чтобы обо мне позаботились, пришлите Маргариту.
– Она спит.
– Разбудите ее.
Она уходит, и через три минуты появляется Маргарита, почти в рубашке, которая, не успев вставить на место глаз, вызывает у меня взрыв смеха.
– Я спала, а моя мать сказала, чтобы я пришла убедить вас не съезжать от нас, потому что это вызовет недовольство моего отца.
– Я здесь останусь, но вы продолжите приходить одна в мою комнату.
– Я сама этого хочу, но мы не должны смеяться, так как аббат на это жалуется.
– Значит, это аббат нажаловался вашей матери?
– А вы сомневаетесь? Наша радость его раздражает. Наше веселье возбуждает в нем страсть.
– Этого прощелыгу следует наказать. Если мы смеялись позавчера, то этой ночью будем смеяться еще больше.
Согласившись на этом, мы принялись шалить со всей возможной веселостью, сопровождая это взрывами смеха, способными привести в отчаяние нескромного. В самый разгар наших дурачеств, которые длились уже более часа, открывается дверь и мы видим мать Маргариты, которая входит, думая застать нас врасплох. Она видит меня, причесанного, в чепце Маргариты, и Маргариту, которой я пририсовал чернилами усы. Она вынуждена была также рассмеяться.
– Ну что ж, – говорю я ей, – вы находите это слишком преступным?
– Нет, и я вижу, что вы были правы; но согласитесь, что ваши невинные оргии мешают спать вашему соседу.
– Пусть он идет спать в другом месте. Меня это не заботит. Скажу вам даже, что вам следует выбирать между ним и мною. Я остаюсь у вас только при условии, что вы его выгоните, и я возьму его комнату себе.
– Я могу его прогнать только в конце месяца; но я предвижу, что он наговорит моему мужу вещей, которые нарушат мир в доме.
– Он не будет говорить с вашим мужем, я уверен в этом. Предоставьте мне позаботиться об этом. Я сам поговорю завтра утром с аббатом, и он покинет ваш дом вполне добровольно, без того, чтобы вам нужно было с ним об этом говорить. Пусть, милая дама, это останется вашей самой большой заботой. На будущее, беспокойтесь о вашей дочери, когда будете знать, что она остается одна в комнате с мужчиной, и они там не разговаривают и не смеются. Тогда вы будете уверены, что там творится что-то серьезное.
После этого заявления она ушла, вполне довольная, и пошла спать. Маргарита, заранее восхищаясь прекрасной операцией, которую я пообещал проделать завтра, так развеселилась, что я не мог помешать себе отдать ей полную справедливость, которой она заслуживала; она провела час в моей постели, без смеха, затем ушла, гордая одержанной победой.
На следующее утро я направился в комнату аббата, где, упрекнув его за нескромность, которую он не мог отрицать, я в ясных выражениях дал ему понять, что он должен искать себе другое жилище, либо я объявляю себя его врагом и начну с того, что потребую двадцать экю, что он мне должен, не обращая никакого внимания на то, что он не может мне их отдать. После некоторых экивоков, он сказал мне, что не может выехать из этого дома, не заплатив некоторую сумму, которую он должен хозяину, и не имея что заплатить за месяц вперед за другую комнату, которую он сразу же пойдет искать; и чтобы устранить эти трудности, я дал ему еще двадцать экю. Так все это дело завершилось добром, я оказался лучше размещен и стал полным обладателем Маргариты, которая ввела меня вскоре и в обладание миленькой Буонакорси, чьи достоинства были намного выше, чем ее собственные.
Эти две девушки познакомили меня с юным героем, который проявил талант, соблазнив их обеих. Это был мальчик портной, пятнадцати лет, с красивым личиком, маленького роста, но одаренный природой настолько основательно, что я вынужден был сказать, что девушки были вполне правы, когда я увидел в действии объект, которому они не имели сил противиться. Этот молодой человек был очень мил; я открыл в нем чувства, которые ставили его выше его состояния. Он не любил ни Маргариту, ни Буонакорси. Встречаясь с ними вместе, он заинтересовал их тем, чего они никогда не видели, и удовлетворил их любопытство. Но, удовлетворенные увиденным, они загорелись желанием чего-то более основательного, мужчина это заметил, и, будучи вежливым и обладая отзывчивой душой, сделал сам первый шаг, предложив им все, что от него зависело. На это предложение две девицы посоветовались между собой и доставили себе эту радость, делая вид, что уступают.
Любя обеих и испытывая к молодому человеку дружеские чувства, я часто доставлял себе удовольствие наблюдать их в их любовных утехах, очень довольный тем, что, вместо ревности к их радостям и их способностям, я ощущал прекрасное их воздействие на меня, так, что я даже участвовал в наслаждениях, и мое наслаждение возрастало при виде этого мальчика, более прекрасного, чем Антиной. Я приодел его в хорошее белье и красивые одежды, и через недолгое время он стал вполне мне доверять, посвятив меня во все, что происходит в его сердце, влюбленном в девушку, от которой зависело все его счастье, и любовь к которой делала его несчастным, потому что она была заключена в монастырь; и, не имея возможности получить ее иначе, чем через женитьбу, он был в отчаянии, потому что, при заработке в один паоли в день, ему едва хватало денег на себя одного. Говоря все время со мной о редкой красоте девушки, которую он обожал, он внушил мне желание ее увидеть, и я увидел ее; но прежде, чем рассказать читателю, как это случилось, я должен подробно описать ему ситуацию, в которой я находился в Риме, когда произошло это знакомство.
Отправившись в один из дней в Капитолий, где должны были распределять призы молодым ученикам живописи и рисунка, я увидел художника Менгса, который должен был называть, как и Помпео Баттони и трое или четверо других, тех, кто заслужил награды. Не забыв, как Менгс отнесся ко мне в Испании, я собрался сделать вид, что его не заметил, когда он меня удивил, подойдя ко мне сам.
– Несмотря на то, – сказал он мне, – что произошло между нами в Мадриде, мы можем все забыть в Риме и разговаривать, без ущерба для нашей чести.
– Почему нет, – ответил я ему, – если не будем касаться существа наших разногласий, потому что, на мой взгляд, этого нельзя будет проделать хладнокровно.
– Если бы вы знали Мадрид, как я, и обязанности, которые я должен был блюсти, чтобы избегнуть злословия, вы бы поняли, что я должен был делать то, что я делал. Знайте, что меня считали лютеранином, и, чтобы это подозрение возросло, мне достаточно было оставаться индифферентным к вашему поведению. Приходите завтра ко мне обедать, и мы заключим мир под ауспициями Бахуса. Мы будем обедать по-семейному; я знаю, что вы не видитесь со своим братом, и я могу вас заверить, что вы его у меня и не встретите, потому что если я его приму, все порядочные люди, посещающие мой дом, меня покинут.
Я не замедлил туда явиться. Мой брат покинул Рим некоторое время спустя вместе с тем князем Белосельским, посланником России в Дрездене, с которым он туда приехал, не получив того, чего хотел, чтобы восстановить свою честь. Сенатор Реццонико был неумолим. Мы виделись с ним только три или четыре раза.
За пять или шесть дней до того, как он уехал, я был удивлен появлением перед моими глазами моего брата аббата, нищего, в лохмотьях, нагло требующего, чтобы я ему помог.
– Откуда ты?
– Из Венеции, где я не мог больше жить.
– И как ты намерен жить в Риме?
– Служа мессу и обучая французскому языку.
– Ты, учитель языка? Ты не знаешь и своего.
– Я знаю мой и французский, и у меня уже есть два ученика.
– Кто они?
– Сын и дочь трактирщика, где я живу; но для начала вы должны меня поддержать.
– Я не дам тебе ни су, уходи с глаз моих долой.
Я оставил его говорить, кончил одеваться и ушел, сказав Маргарите запереть мою комнату. Этот несчастный отправился представиться герцогине Фиано, которая его приняла, чтобы посмотреть, что он такое. Он просил ее заступиться за него передо мной и убедить меня помочь ему, и она отправила его прочь, заверив, что поговорит со мной. Я был пристыжен и раздражен тем, что вечером она заговорила со мной об этом. Я умолял ее больше не говорить со мной о нем и даже больше не принимать его. Я коротко проинформировал ее обо всех мерзостях, на которые он был способен, и о том, чего я могу опасаться, и она больше не хотела его слушать. Он ходил позорить меня по всем моим друзьям и даже к аббату Гама, который снял третий этаж напротив церкви Троицы Монти; все мне говорили, что я должен ему помогать или заставить его покинуть Рим, и это меня угнетало. Аббат Черути через десять-двенадцать дней после того, как выехал из моей гостиницы, чтобы снять апартаменты в другом месте, явился ко мне, говоря, что если я не хочу видеть моего брата просящим милостыню, я должен о нем позаботиться; он сказал, что я могу содержать его вне Рима, и что тот готов уехать, если я буду давать ему по три паули в день. Я на это согласился; но аббат Черути придал делу такой оборот, который понравился мне чрезвычайно. Он поговорил с кюре, который был тогда в Риме и который обслуживал церковь монахов-францисканцев. Этот кюре принял его вместе с моим братом и предложил один тестон [2] в день за то, чтобы тот служил каждый день мессу в его церкви, получая в качестве милостыни тот же тестон и другие доходы, если он будет читать проповеди, что монахи его монастыря любят чрезвычайно. Так что мой брат удалился, и я не старался, чтобы он знал, что эти три паоли в день идут ему от меня. Я передал аббату Черути все свои старые рубашки, чтобы он их ему передал, и старое черное одеяние, и больше не хотел его видеть. Место, куда он направился, было Палестрино – старое Пренесте, где находился знаменитый храм Фортуны. Пока я оставался в Риме, девять экю в месяц передавались ему регулярно, но после моего отъезда он вернулся туда, откуда направился в другой монастырь, где умер скоропостижно тринадцать или четырнадцать лет тому назад. Возможно, он был отравлен.
Медини был в Риме в то время, когда и я там был, но мы не виделись. Он жил на улице Урсулинок у папского рейтара и, живя за счет игры, старался обмануть приезжих иностранцев. Ему везло, и он вызвал из Мантуи свою любовницу с ее матерью и другой дочерью, двенадцати-тринадцати лет. Полагая, что будет пользоваться гораздо большими преимуществами, поселившись в меблированных комнатах, он снял прекрасные апартаменты на той же площади Испании, где жил и я, за пять или шесть домов от меня. Я всем этим пренебрег.
Когда я пошел обедать в воскресенье к послу Венеции, Е.Св. мне сказал, что я буду обедать с графом де Мануччи, который приезжает из Парижа и который обрадовался, узнав, что я в Риме.
– Думаю, вы его хорошо знаете; не будете ли любезны сказать мне, кто этот граф, которого я должен представлять послезавтра Святому Отцу?
– Я познакомился с ним в Мадриде у посла Мочениго; он прилично выглядит, он скромен, красивый мальчик, вежливый – вот все, что я знаю.
– Был ли он в Мадриде представлен ко двору?
– Полагаю, что да.
– Я так не думаю. Вы не хотите мне сказать все, что знаете, но это неважно. Я ничем не рискую, представляя его папе. Он говорит, что он происходит от того Мануччи, знаменитого путешественника тринадцатого века, и известных печатников Мануччи, которые стяжали себе такую славу в литературе. Он показывал мне в своем гербе, о шестнадцати колен, якорь.
Очень удивленный тем, что этот человек, простерший свою месть до того, что хотел меня убить, говорит обо мне, как близкий друг, я решил затаиться, чтобы увидеть, чем кончится дело. Итак, я увидел, как он появился, и не подал никакого знака своего истинного отношения, и, когда, отдав послу дежурные комплименты, он направился ко мне с выражением, будто готов меня обнять, я встретил его с распростертыми объятиями и спросил у него новости о после. Он много говорил за столом, рассказывая, как бы оказывая мне этим честь, множество выдумок о том, что я делал в Мадриде, радуясь, полагаю, тому, что, выдумывая, он заставляет и меня выдумывать, приглашая, таким образом, поступать так же и относительно него. Я проглотил все эти пилюли, достаточно горькие, не имея возможности поступить иначе, но решившись перейти к более серьезным объяснениям не позднее чем завтра.
Тот, кто меня заинтересовал, был пришедший к послу вместе с Мануччи француз, которого звали шевалье де Нёвиль. Он прибыл в Рим, чтобы получить кассацию брака дамы, которая содержалась в монастыре в Мантуе; он был, в частности, рекомендован кардиналу Галли. Рассказывая нам множество историй, он развлекал всю компанию; и, выйдя из дома посла, я не отказался сесть вместе с Мануччи в его коляску, чтобы прогуляться до вечера. На закате он сказал нам, что собирается представить нас одной симпатичной особе, где мы поужинаем и где имеется банк фараон. Коляска остановилась у дома на площади Испании, совсем недалеко от моего, мы поднялись на второй этаж и я оказался перед графом Медини и его любовницей, которой французский шевалье воздавал хвалы и в которой я не нашел ничего особенного. Медини меня дружески приветствовал и благодарил француза за то, что тот заставил меня забыть прошлое и прийти к нему. Француз ответил, что ничего не знал, но я оставил все это без внимания, занявшись наблюдением компании, которая весело развлекалась.
Поскольку понтёров Медини показалось достаточно, он уселся за большим столом, выложил перед собой пять или шесть сотен экю золотом и билетами и начал талью. Мануччи потерял все золото, что имел, Невиль выиграл половину банка, а я не играл. После ужина Медини попросил у француза реванша, и Мануччи спросил у меня сотню цехинов или столько, сколько у меня есть. Я дал ему сотню цехинов, которые он потерял менее чем за час, и Невиль потерял в банке около двадцати-тридцати цехинов. Мы все вернулись к себе. Мануччи жил у дочери Ролана, моей свояченицы. Я увидел его на следующее утро у себя в комнате, в момент, когда я одевался, чтобы идти нанести ему визит, с намерением, опасным для нас обоих. Вернув мне мои сто цехинов, он обнял меня и, показывая крупный кредитный вексель на Беллони, предложил мне денег, сколько мне нужно, и, не давая мне говорить, продемонстрировал, что, забыв все, мы должны быть добрыми друзьями на весь остаток жизни. Мое сердце предало мой разум, как это оно делало во многих других случаях, и я заключил мир, который он мне предлагал и которого просил у меня. На следующий день я отправился обедать с ним тет-а-тет. Французский шевалье явился к концу нашего обеда, а после него – несчастный Медини, который предложил нам троим сыграть, каждому по талье, по очереди. Мы играли до вечера, и победителем был Мануччи. Он выиграл вдвое против того, что проиграл накануне; мой проигрыш был незначительный. Проиграл же 400 цехинов Невиль и Медини, который, проиграв только пятьдесят цехинов, хотел выброситься в окно.
Мануччи несколько дней спустя выехал в Неаполь, выдав две сотни цехинов любовнице Медини, которая в одиночку явилась с ним поужинать; но эти две сотни цехинов не помешали Медини подвергнуться аресту за более чем две тысячи экю долгов, что он наделал. Он писал мне из тюрьмы весьма настойчивые письма, побуждая выручить его; однако единственным эффектом этих писем было то, что они убедили меня позаботиться о том, что он называл своей семьей, благодаря любезностям по отношению ко мне юной сестры его любовницы. В это время прибыл в Рим император вместе с великим герцогом Тосканским, своим братом, и благодаря тому, что кто-то из свиты того или другого из этих принцев свел знакомство с этой девушкой, Медини вышел из тюрьмы и уехал из Рима несколько дней спустя. Мы вернемся к нему через четыре или пять месяцев.
Я придерживался тех же привычек. Вечер у герцогини Фиано, послеобеденные часы у принцессы де Санта Кроче и у меня, где бывали Маргарита, Буонакорси и юный портной, которого звали Меникуччио и который рассказами о своих любовных страданиях внушил мне желание познакомиться с объектом его страсти.
Девушка, которую он любил, состояла в чем-то вроде монастыря, куда была помещена из милости в возрасте десяти лет и откуда могла выйти только с тем, чтобы выйти замуж с разрешения кардинала, который руководил хозяйством и порядком в этом богоугодном заведении. Девушки, которые в нем содержались, получали, по выходе из него, две сотни римских экю, которые они приносили с собой в качестве приданого тем, за кого выходили замуж. У Меникуччио была сестра в этом монастыре, и он ее иногда навещал. Она выходила к решетке с гувернанткой, от которой она зависела и которая заботилась о ее воспитании; несмотря на то, что Менникуччио был ее братом, правила поведения монастыря не позволяли, чтобы она выходила к решетке в одиночку. Эта сестра однажды, пять или шесть месяцев назад, явилась к решетке с молодой подругой, которую Меникуччио до того никогда не видел. В тот день он влюбился в нее. Будучи вынужден оставаться в своей лавке в рабочие дни, он являлся повидать сестру во все праздничные дни, но она появлялась у решетки вместе с объектом его страсти лишь случайным образом. За пять или шесть месяцев он имел счастье видеть ее лишь восемь-десять раз. Его сестра знала, что он обожает эту девушку, и делала для него все, что только можно пожелать, но она не вольна была распорядиться, чтобы та спускалась к решетке, и не смела просить об этой милости у своей руководительницы, которая могла бы ей это предоставить, потому что если бы та могла заподозрить, что тут замешана любовь, она не позволила бы ей вообще спускаться. Итак, я решил пойти с Меникуччио нанести визит его сестре.
– Дорогой он рассказал мне, что этот дом очень бедный, что женщины, которые им управляют, не могут, собственно, называться монахинями, так как не приносили никакого обета и не носят даже форменную одежду, но, несмотря на это, не пытаются выйти из своей тюрьмы, потому что будут вынуждены, для поддержания своего существования, просить на хлеб, либо искать место служанки в каком-нибудь доме… Молодые девушки, достигнув зрелого возраста, спасались бы оттуда бегством, если бы могли, но дом так хорошо охраняется, что оттуда бежать невозможно.
Мы пришли к большому дурно выстроенному дому, стоящему одиноко на пустынной площади близ римских ворот; поскольку не было никакого прохода, пришлось идти напрямик. Я был удивлен, войдя в приемную, увидеть форму строгих решеток. Квадратные отверстия были так малы, что нельзя было просунуть туда руку без риска поранить кожу пясти и запястья, и это было не все: эта варварская решетка, тираническая и скандальная, имела еще одну позади себя на расстоянии шага, которая была буквально той же формы; однако ее едва можно было разглядеть, так как хотя эта приемная была достаточно светлая для нас, пришедших туда навестить этих бедных затворниц, внутренняя сторона, где они принимали визиты, была почти темной. Это заставило меня содрогнуться.
– Как и где, – спросил я у Меникуччио, – вы увидели повелительницу вашего сердца, в то время, как я вижу там внутри только тени?
– С помощью свечи, которую монахиня может зажечь лишь при встрече родственников, под страхом изгнания.
– Значит, она придет сейчас со свечой?
– Сомневаюсь, потому что портье должна была предупредить, что я в компании с кем-то еще.
– Но как вы получили возможность увидеть вашу возлюбленную, не будучи ее родственником?
– В первый раз она спустилась с моей сестрой украдкой, и охранительница моей сестры, женщина добрая, ничего не сказала, и в другие разы она приходила благодаря просьбам моей сестры этой охранительнице.
Факт тот, что они спустились без света и их было трое. Я никак не мог убедить охранительницу пойти взять свет, не столько из-за страха увольнения, сколько из опасения, что ее выследит и накажет начальница. Я оказался причиной того, что мой бедный Меникуччио не увидел своего идола. Я хотел уйти, но он воспротивился. Я провел час в в раздражении, но, несмотря на это, не без интереса. Голос сестры моего юного друга запал мне в душу; я нашел, что должно быть таким образом слепые могут влюбляться, и что эта любовь должна становиться столь же сильной, как и та, что возникает от увиденного. Та, что сопровождала сестру Меникуччио, была девушка, не достигшая и тридцати лет. Она сказала мне, что девушки в возрасте от двадцати пяти лет, делаются гувернантками молодых, и что в тридцать пять они могут выйти из этой тюрьмы и более в нее не возвращаться, но что такие случаи очень редки, потому что они опасаются нищеты.
– Значит, у вас много старых?
– Нас сто человек, и это число не сокращается, так как при каждой смерти набирают новых.
А те, что покидают заведение, чтобы выйти замуж, как они достигают того, чтобы женихи их полюбили?
– В течение двадцати лет, что я здесь, я видела только четверых, которые вышли отсюда замуж, и они познакомились с мужьями, только после того, как покинули этот дом. Тот, кто попросит у кардинала-попечителя одну из нас, – это отчаявшийся дурак, который нуждается в сотне цехинов; но кардинал оказывает ему эту милость, лишь будучи уверен, что у него есть профессия, с которой он сможет хорошо жить со своей женой.
– А что касается выбора?
– Жених называет возраст, которого должна быть девушка, и ее способности, и кардинал связывается с управительницей.
– Я полагаю, что вас хорошо кормят и вы хорошо устроены.
– Ни то, ни другое. Три тысячи экю в год не может быть достаточно для жизни сотни персон, для их одежды и всех надобностей. Те, кто зарабатывает трудом своих рук – самые счастливые.
– И кто это те, что решаются поместить бедную девочку в эту тюрьму?
– Какой-нибудь родственник или отец или мать – богомольцы, что опасаются, что дочь станет добычей греха. По этой причине сюда помещают только девочек, которых находят слишком красивыми.
– Кто судит об их красоте?
– Родственники, священник, монах или кюре и, в конце концов, кардинал, который, если не находит девочку слишком красивой, прогоняет ее от себя, так как полагают, что некрасивая не подвергается никакой опасности, оставаясь в миру. Так что вы можете отсюда понять, что мы, несчастные, проклинаем тех, кто счел нас красивыми.
– Я вам сочувствую. Мне удивительно, что нельзя получить разрешение на то, чтобы приличным образом вас увидеть, чтобы иметь основание просить вас замуж.
– Сам кардинал сказал, что он не волен дать такое разрешение, потому что есть прямой запрет нарушать правила этого общества.
– Тот, кто создал этот дом, должен гореть в аду.
– Мы все так полагаем; и наш владыка папа должен был бы это исправить.
Я дал десять экю этой девушке, сказав, что, при невозможности ее увидеть, я не могу обещать ей снова сюда вернуться, и ушел вместе с Меникуччио, который сожалел, что доставил мне эту неприятность.
– Дорогой друг, – сказал я ему, – я предвижу, что никогда не увижу ни вашу юную возлюбленную, ни вашу сестру, чей голос меня столь сильно заинтересовал.
– Мне кажется невозможным, чтобы десять экю не сотворили чуда.
– Мне кажется невозможным, чтобы не существовало другой приемной.
– Она есть, но существует запрет для всех, кто, не являясь священником, осмеливается туда входить без разрешения Святого Отца.
Я не мог понять, как этот дом может существовать так как понимал большие трудности, которые должны испытывать содержащиеся в нем в том, чтобы найти себе мужей, и мне казалось невозможным, чтобы допускалось его существование, если было известно, что сами правила этого дома, казалось, были созданы специально, чтобы воспрепятствовать этим женитьбам. Я видел, что приданое в 200 экю, предназначенное каждой, для чего собственно был основан этот дом, должно было выделяться по меньшей мере на два брака в год, и что, соответственно, кто-то должен был красть все то, что накапливалось, когда девушки не выходили замуж. Я сообщил свои соображения кардиналу де Бернис в присутствии принцессы, которая, заинтересовавшись судьбой этих несчастных, сказала, что следует представить папе ходатайство, подписанное всеми, в котором они бы просили у святого отца позволения разрешить визиты в приемную по чести и со всей благопристойностью, как это осуществляется во всех сообществах для девушек, существующих в Риме. Кардинал сказал мне написать прошение, дать его подписать девицам и отнести принцессе, и между тем он найдет момент предупредить святого отца, и что он подумает над тем, чтобы кто-то официально представил тому это прошение.
Не сомневаясь в согласии большей части этих девушек подписать прошение, я составил его и во второй раз, когда я пошел к решетке заведения вместе со своим другом, я передал его той же девушке, которая присматривала за его сестрой. Она заверила, что я получу его подписанным всеми девушками в первый же раз, как приду ее повидать. Это ходатайство просило у святого отца только отмены отлучения для тех, кто выходит в светлую приемную, но вкратце я рассказал всю историю этого дома.
Когда принцесса Санта Кроче получила эту бумагу, она обратилась к самому кардиналу Орсини, протектору, который должен был ей пообещать поговорить об этом с папой, который, будучи предупрежден кардиналом де Бернис, распорядился направить послание [3] , отменяющее отлучение. Монастырь был извещен об этом лишь тогда, когда пришли снять с дверей приемной объявление, извещающее о запрете. Местный капеллан обязан был известить управительницу, что она должна в дальнейшем позволять визиты в светлую приемную всем вызываемым девицам, которые, однако, должны сопровождаться своими гувернантками. Сам Меникуччио принес мне эту новость, о которой не знала и принцесса, и она была очарована, узнав ее от меня. Но папа Ганганелли этим не ограничился. Он приказал, чтобы начали гражданский процесс и заставили дать отчет обо всех излишках средств, которые образовались за сто лет и более, что протекли с момента учреждения этого дома. Он сократил количество пансионерок со ста до пятидесяти, увеличил приданое до четырех сотен экю и приказал, чтобы каждая девушка, достигшая возраста двадцати пяти лет, вне зависимости от того, нашла ли она мужа, должна быть отпущена, получив четыре сотни экю, которые ей причитались, если бы она вышла замуж, и чтобы двенадцать матрон, известные своими добрыми нравами, были приняты на службу в качестве гувернанток девушек-пансионерок, по четыре для каждой, и чтобы двенадцать других служанок были наняты для обслуживания этого дома.
Глава II
Ужин в трактире с Армелиной и Эмилией.
Все эти нововведения, которых я добился, произошли на протяжении шести месяцев; то, что было сделано сразу, это отмена запрещения входить в приемную и даже в сам монастырь, где, не принося обета, управительница должна была быть хозяйкой. Меникуччио был оповещен об этом запиской, что написала ему его сестра; он пришел, обрадованный, принеся ее, чтобы позвать меня пойти туда вместе с ним, как о том попросила его сестра, чтобы доставить удовольствие своей гувернантке. Она сказала ему, чтобы он позвал к решетке также и ее молодую подругу, которая спустится, либо вместе с ней, либо со своей собственной гувернанткой – это я должен был ее вызвать. Будучи согласным от всей души на это предложение и в нетерпении услышать речи и увидеть лица этих девушек, я сделал так, чтобы Меникуччио покинул свою лавочку и проводил меня в этот монастырь, который находился недалеко от базилики Св. Павла. Мы вызвали обеих пансионерок в светлую приемную, где, едва войдя, мы увидели обе решетки занятыми, одну – аббатом Гаско, которого я знал в Париже у Жюльетты, году в 1751, другую – русским сеньором по имени граф Иван Иванович Шувалов и отцом Жакье, монахом – францисканцем из церкви Трините-де Монти, знаменитым ученым-астрономом. Я увидел внутри решетки очень красивых девушек.
Наши пришли все четыре к той же решетке, и мы начали весьма интересную беседу, но тихими голосами, потому что нас могли слышать. Мы остались наедине с ними только после отбытия других визитеров. Объект любви моего юного друга была очень красива, но его сестра ее превосходила. Возрастом пятнадцати-шестнадцати лет, весьма крупная и хорошо сформировавшаяся, она меня очаровала. Я решил, что никогда не видел ни более светлой кожи, ни более черных бровей, глаз и волос; силу, которой невозможно было сопротивляться, этим чертам придавали нежность ее взгляда и наивность речей. Ее гувернантка, которой было на десять-двенадцать лет больше, чем ей, была также очень мила и внушала интерес своей бледностью и грустью, происходящей, казалось, из-за множества желаний, которые она вынуждена была подавлять. Она очень мне понравилась, рассказав детально о смущении, которое вызвала в доме отмена запрещения. Их руководительница была этому очень рада, как и все молодые девушки, но старые богомолки были скандализованы. Она сказала нам, что та отдала приказ проделать окна, чтобы осветить темные приемные, несмотря на то, что богомолки говорили, что она не должна выходить за рамки позволения, которое дал ей отец-управляющий. Эта руководительница говорила, и здраво, что если он позволил всем посетителям приходить в светлую приемную, затемнение второй приемной становится нелепым. Она решила также убрать там двойную решетку, потому что в светлой приемной была только одиночная. Ум этой руководительницы внушил мне желание с ней познакомиться, и Эмилия пообещала мне это удовольствие назавтра. Таково было имя грустной подруги Амелии, сестры Меникуччио. Этот первый визит продолжался два часа, которые пролетели для меня очень быстро, в то время, как Меникуччио для удобства удалился поболтать со своей возлюбленной к другой решетке, все время однако в сопровождении ее гувернантки.
Я ушел, дав им на первый раз десять римских экю и поцеловав руки Армелины, которая, дав их мне, вся вспыхнула. Никогда мужчина не касался этих рук, и она была поражена, увидев наслаждение, с которым я покрыл их поцелуями.
Я вернулся домой, влюбленный в Армелину, и тем не менее озадаченный трудностями, которые, как я предвидел, встанут передо мной, если я предамся этой зарождающейся страсти. Но Меникуччио, более влюбленный, чем всегда, купался в радости. Он высказал ей свое признание, и она ответила ему, что не мыслит ничего лучше, чем стать его женой, как только он получит согласие кардинал-президента. Он был в нем уверен, если сможет открыть портняжную лавку; он закончил свое ученичество; ему нужна была только некоторая сумма денег, чтобы обставить маленький дом и обзавестись достаточным числом клиентов. Я пообещал ему сотню экю ко времени, когда они ему будут необходимы. Я поздравил его с той уверенностью, которую он ощущал, что будет счастлив, в то время как я, будучи влюбленным в его сестру и в невозможности жениться на ней, был в отчаянии.
– Значит, вы женаты?
– Увы, да! Но не следует об этом говорить, так как я рассчитываю приходить повидать ее каждый день, и если узнают, что я женат, мои визиты вызовут подозрение.
Это не было правдой, но я вынужден был так говорить.
Я счел, что должен высказать эту ложь, как для того, чтобы быть уверенным, что никогда не решусь совершить глупость жениться на ней, так и для того, чтобы помешать Армелине надеяться, что я вижусь с ней только с этим намерением. Я нашел руководительницу заведения вежливой, благородной, разумной и при том добросовестной. После первого раза, как она спустилась к решетке, чтобы доставить мне удовольствие, она спускалась несколько раз без вызова; она знала, что я был автором счастливой реформы дома, которым она управляла, как по хозяйственным вопросам, так и по внутреннему распорядку, и она дала мне понять обо всех обязательствах, которые она имела передо мной и которые многократно возрастали с каждым днем. Менее чем в шесть недель три из ее девушек благополучно вышли замуж, и ей увеличили содержание на пятьдесят экю в месяц при новой администрации. Она мне поведала, что недовольна доминиканским исповедником, который, в отличие от трех других, заставлял своих подопечных приходить на исповедь во все воскресные и праздничные дни и держал их на исповеди целыми часами, а также понуждал к самоистязаниям и воздержаниям, которые делали их больными и заставляли терять время, нужное для работы. Решившись довести до сведения кардинала ее жалобы, я написал ему о них, и она была удовлетворена, не видя более доминиканца и передав своих подопечных трем другим, которые были священниками разумными и не отягощенными чрезмерной набожностью.
Меникуччио приходил в одиночку навестить свою нареченную во все дни праздников. Я ходил почти каждый день к восьми часам утра повидать его сестру с Эмилией; я завтракал вместе с ними и оставался там до одиннадцати часов в приемной, где была только одна решетка, так что когда я там был, я запирался; внутреннее же помещение монастыря было открыто. Вместо того, чтобы сделать там окно, оставляли дверь открытой, благодаря чему туда проникало достаточно света; это мне весьма мешало, так как я все время видел проходящих за открытой дверью девушек, молодых и старых, которые, хотя и не останавливались, все время посматривали на решетку, что мешало Армелине предоставлять свою руку моим влюбленным губам.
Это было к концу декабря, когда холод стал сильным; Я попросил начальницу позволить мне отправить к ней экран от ветра, который единственно мог защитить меня от простуды, гарантированной мне ветром из постоянно открытой двери. Начальница увидела, что, поскольку она не может позволить, чтобы закрывали дверь, она не может отказать, чтобы поставили экран; таким образом, мы чувствовали себя непринужденно, однако в рамках настолько тесных по отношению к желаниям, которые внушала мне Армелина, что я больше уже не мог терпеть. Я сделал им подарки на первый день нового 1771 года – прекрасную зимнюю одежду и кофе и сахара наилучшего качества, за что они были мне благодарны в высшей степени. Поскольку Амелия выходила часто к решетке на четверть часа раньше, чем Армелина, которая бывала еще не готова, чтобы не заставлять меня ждать в одиночестве, Армелина стала также приходить одна, часто ожидая Эмилию, которая бывала занята другими делами и не могла спуститься с ней вместе. В эти четверть часа наедине нежность Армелины делала меня влюбленным в нее до самозабвения.
Эмилия питала к Армелине столь же дружеские чувства, что и та к ней, но их предрассудки относительно сдержанности, касающейся всего, что относится к чувственным удовольствиям, были столь сильны, что я никак не мог достичь с ними согласия, чтобы они стали выслушивать вольные мои предложения, либо считать заслуживающими извинения все просьбы, что я мог высказать им относительно своих рук, и их рук также, и даже позволения моим жадным глазам видеть, иметь свободу проникать туда, где, как им внушило их воспитание, они должны скрывать это от глаз не только всех мужчин, но даже от самих себя. Они были однажды удивлены, когда я осмелился спросить у них, не спят ли они иногда вместе, для взаимного обмена знаками истинной дружбы. Они покраснели, и Эмилия спросила, что я могу вообразить себе общего между дружбой и неудобством находиться вдвоем в слишком узкой кровати. Я поостерегся уточнять мой вопрос, потому что увидел, что они обе встревожены мыслью, которая должна была привести меня к тому, чтобы учинить им этот вопрос; они обе состояли из плоти и костей, но я был убежден в их искренности; они никогда не были посвящены в тайные мистерии, и они, возможно, никогда не говорили об этом даже со своим духовником, либо от неодолимого стыда, либо потому, что никогда не думали о греховности того, что могли позволять делать своим рукам. Я принес им чулки из белого шелка с опушкой изнутри для зимы, которые они приняли с выражениями самой живой благодарности; но я напрасно просил их примерить их в моем присутствии. Я пытался говорить им, что нет никакой существенной разницы между ногами мужчины и женщины, что это не может считаться даже простительным грехом, что их духовник счел бы их глупыми, если бы они повинились ему в этом как в преступлении, но они отвечали мне, краснея, что это не может быть позволено девушкам, которым были даны юбки, в отличие от мужчин, с единственной целью, чтобы внушить им, что они не должны приподнимать эти юбки над землей. Я мог бы им ответить, что юбки даны лишь для того, чтобы их можно было приподнимать. Стеснение, с которым Эмилия приводила мне эти резоны, которые Армелина подтверждала, показывали мне, что это не было ни притворством, ни кокетством, но воспитанием и чувством порядочности. Я понял, что она полагает, что поступая иначе, она упадет в моих глазах и я возымею о ней очень неблагоприятное мнение. Ей было, между тем, двадцать семь-двадцать восемь лет, и она не была охвачена чрезмерным благочестием. Что же касается Армелины, я видел, что она стыдится быть менее точной в выполнении своего долга, чем ее подруга; мне казалось, что она любит меня, и что, в отличие от многих других девушек, мне будет менее трудно убедить ее ослабить кое-какие требования морали втайне от Эмили, чем в ее присутствии.
Я сделал попытку однажды утром, когда она появилась у решетки, сказав, что Эмилия сейчас спустится. Я сказал ей, что, любя ее, я оказываюсь самым несчастным из людей, потому что, будучи женат, я не могу надеяться жениться на ней и получить этим возможность покрыть ее всю поцелуями.
– Разве это возможно, – говорил я ей, – чтобы я мог жить, не имея иного утешения, кроме как целовать ваши прекрасные руки?
При этих словах, высказанных со всем огнем страсти, она уставила свои прекрасные глаза в мои и, немного подумав, принялась целовать мои руки с такой же страстью, с какой я целовал ее. Я попросил ее приблизить свой рот к решетке; она краснеет, она опускает глаза и ничего не делает. Я горько сетую, но напрасно. Армелина остается глуха и неподвижна вплоть до прихода Эмилии, которая спросила у нас, почему мы не веселы, как обычно.
Этими днями, которые были начальными 1771 года, я увидел в моей комнате Мариуччу, которую я выдал замуж за десять лет до того за того славного парня, который открыл лавку парикмахера. Читатель может вспомнить, как я познакомился с ним у аббата Момоло, прислужника папы Реццонико. Все попытки, что я делал на протяжении трех месяцев, что я был в Риме, чтобы узнать что-нибудь о Мариучче, были безуспешны; я увидел ее у себя с самым большим удовольствием, тем более, что она показалась мне совсем не изменившейся. Она сказала, что видела меня в Сен-Пьетро накануне Нового года на мессе, и, не осмелившись подойти ко мне из-за компании, с которой я был, попросила кое-кого, кто был с ней, проследить за мной и сказать ей, где я обитаю, и что, расплатившись с ним, она пришла меня повидать. Она сказала мне, что живет во Фраскати восемь лет, имея там лавку, и что вполне счастлива со своим мужем и детьми, которых четверо и из которых старшей, девочке, девять лет. Попросив Маргариту составить ей компанию и получив заверение, что она пообедает со мной, я отправился завтракать, как я делал каждый день, с Армелиной, затем вернулся к Марикучче, с которой пообедал и провел превосходно весь день, не делая попыток возобновить с ней отношения былой нежности. Наши приключения были темой наших разговоров, в том числе интересная новость, что мой слуга Коста вернулся в Рим три года спустя, в большом экипаже, и женился на дочери Момоло, в которую был влюблен, когда был у меня на службе.
Она сказала мне, что догадалась, что он меня обокрал, что он бросил свою жену через два года после свадьбы, что неизвестно, где он сейчас, а она находится в Риме в нищете после смерти отца. Я не пытался пойти ее повидать, потому что не мог ей сделать ничего другого, кроме как огорчить ее, заверив, что постараюсь повесить ее мужа всюду, где я его найду. Это намерение я сохранил вплоть до 1785 года, когда я встретил его в Вене, слугой графа Эрдича. Через четырнадцать лет от сей поры, когда мы окажемся там, читатель узнает, что я сделал. Я пообещал Марикучче нанести ей визит в пост и сделать подарки ее детям, и особенно старшей, которая, согласно Марикучче, должна интересовать меня более всех прочих.
Влюбленный в Армелину и несчастный, я внушил жалость принцессе Санта Кроче и кардиналу де Бернис, которых часто развлекал, рассказывая подробно о своих страданиях. Кардинал сказал принцессе, что она вполне могла бы доставить мне удовольствие, получив от кардинала Орсини позволение отвести в оперу или в комедию Армелину, и что в этой прогулке я мог бы своими знаками внимания сделать ее менее суровой. Он сказал ей, что она не должна сомневаться в любезности кардинала, потому что Армелина не была ни монашкой, ни под каким-либо обетом, и что, поскольку надо, чтобы она с ней познакомилась перед тем, как сделать это предложение, это можно будет сделать одномоментно.
– Вам стоит только сказать кардиналу, что вы хотите увидеть устройство этого дома.
– И он даст мне это разрешение?
– Немедленно, так как запрет, который там существует, – это не более чем запрет, относящийся к поведению. Мы пойдем вместе с вами.
– Вы пойдете также? Это будет очаровательная прогулка.
– Попросите у кардинала разрешение, и мы назначим час.
Мне казалось, что я сплю, слыша этот замечательный проект; я увидел, что галантный кардинал любопытствует увидеть прекрасную Армелину, но его любопытство меня не тревожило, потому что непостоянства я за ним не знал. Кроме того, если Армелина ему понравится, я был уверен, что он постарается, как и принцесса, найти для нее мужа, способного сделать ее счастливой, с помощью милостей, которые в Риме имеются в большом количестве.
Три или четыре дня спустя принцесса пригласила меня в ложу в театре Альберти и показала мне записку кардинала, позволяющую посетить дом, вместе с сопровождающими персонами. Она сказала, что мы назначим день и час завтра после обеда. Назавтра с утра начальница пришла к решетке, чтобы сказать мне, что кардинал-патрон дал ей знать, что принцесса Санта Кроче придет осмотреть дом в компании сопровождающих, и это ее очень радует. Я сказал, что я это знаю, и что она увидит меня вместе с принцессой. Она хотела знать, когда это будет, но я этого не знал; я пообещал известить ее, как только узнаю. Она сказала мне оживленно, что эта новость потрясла весь дом и вскружила головы всем тамошним тихоням, потому что, за исключением нескольких священников, врача и хирурга, никто, с самого основания дома, не входил туда из простого любопытства его увидеть… Я сказал ей, что теперь не существует более вопроса об отлучении, и что, следовательно, она не должна более думать об оградах и что она сама может теперь принимать частные визиты без позволения кардинала. Она отвечала мне с улыбкой, что не посмеет.
После обеда мы назначили время назавтра, и я известил об этом руководительницу с утра. Участвовала также герцогиня де Фиано, и мы подъехали туда к трем часам. Кардинал не имел на себе знаков своего достоинства. Он узнал Армелину по моему описанию, и, говоря ей о ее очаровании, он поздравил ее по поводу ее знакомства со мной. Бедная Армелина постоянно краснела, и я думал, что она бросится спасаться бегством, когда принцесса, сказав ей, что в доме нет никого, столь же красивого, как она, одарила ее нежными поцелуями. Бедная Армелина совершенно растерялась и от похвал, которые слышали все остальные девушки, и от поцелуев, которые были воспрещены правилами в этом доме. Приласкав девушку, прекрасная принцесса осыпала любезностями начальницу; она сказала ей, что я информировал ее о том, что она умна, и что это прослеживается в том умении, с которым она руководит этим большим домом; она пообещала ей поговорить о ней с кардиналом, воздав ей всю справедливость, которой она заслуживает. Осмотрев все комнаты и трапезные, она осыпала комплиментами Эмилию, которую я ей представил. Она сказала ей, что знает, что та грустит, и что она подумает о том, чтобы найти ей мужа, который будет способен сделать ее веселой. Руководительница встретила комплимент со смехом одобрения, но я заметил десять-двенадцать престарелых ханжей, состроивших сокрушенные гримасы. Эмилия между тем поцеловала ей руку, как бы подтверждая ее слова.
Меня же наполнило чувство удовлетворения тем, что ни одна пансионерка не могла оспорить первенства Армелины; даже возлюбленная моего юного друга Маркуччио не могла поставить это под сомнение, потому что была маленькая. Когда мы спустились в приемную, принцесса сказала Армелине, что она попросит позволения у кардинала повести ее с собой во время карнавала три или четыре раза в разные театры Рима, и при этом я видел все общество пораженным, за исключением руководительницы, которая сказала, что Его Преосвященство волен упразднять все строгости в доме, где девушки помещены лишь для того, чтобы хорошо выйти замуж. Армелина, охваченная гордостью и радостью, казалась совсем растерявшейся. Она не могла найти слов благодарности принцессе. В момент ухода та рекомендовала руководительнице Армелину и Эмилию, передав ей платежное поручение, чтобы та могла сделать этим девушкам маленькие подарки, в которых они могут иметь наибольшую нужду. Герцогиня де Фиано сказала, что поручит мне передать маленький подарок, который она также хочет сделать этим двум девушкам.
Читатель может вообразить себе все то, что я высказал принцессе, как только мы оказались в коляске, чтобы выразить ей мои чувства. Меня переполняла благодарность. Ни она, ни кардинал ни секунды не сомневались в уме Армелины, несмотря на то, что, оробев, она не смогла блеснуть. Она не могла быть иной, чем ее сделало воспитание. Принцессе не терпелось увидеть ее с собой в театре и на ужине в таверне, как это обычно принято в Риме. Она записала у себя на памятных табличках имена этих двух девушек, чтобы оказать им всю возможную милость. Я думал о возлюбленной моего бедного Меникуччио, но это не был тот случай, когда можно было его рекомендовать; я высказал кардиналу де Бернис на следующий день мою заботу об этом мальчике, и он столь сильно заинтересовался, повидав его, что организовал его женитьбу еще до конца карнавала, с приданным в пять сотен экю, которые, вместе с сотней, которую я дал, обеспечили ему все, чтобы закупить необходимую мебель и открыть лавку.
Но моментом торжества для меня явился следующий день, во время моего визита к решетке, когда руководительница спустилась, чтобы меня поблагодарить. Платежное поручение было на пятьдесят римских экю, с которыми она закупила белья для Армелины и Эмилии. Они были удивлены, когда я им сказал, что толстый аббат был кардинал де Бернис, потому что они не знали, что кардинал может появляться не в пурпуре. Герцогиня де Фиано отправила им бочонок вина; такая щедрость позволила им надеяться на дальнейшее, и поскольку они видели во мне автора их удачи, мне казалось, что я могу рассчитывать на все.
Три или четыре дня спустя принцесса поблагодарила кардинала Орсини, сказав ему, что хотела бы выдать замуж нескольких из этих девушек, и что, желая сначала дать им некоторое представление об обычаях в обществе, хочет получить позволение поводить их с собой несколько раз в театры, обещая при этом возвращать их обратно в их пансион в хорошем сопровождении. Кардинал ответил, что начальница получит для этого все необходимые инструкции. Я сказал принцессе, что скажу ей обо всех приказах, полученных по этому поводу начальницей.
Сама начальница сказала мне назавтра, что аудитор кардинала пришел к ней сказать, что Его Преосвященство доверил ее здравомыслию заботы обо всех девушках, что находятся под ее управлением в доме, и приказал отнестись с наибольшим уважением к принцессе Санта Кроче, предоставив ей возможность выводить девушек в свет, приходя за ними или поручая это надежным людям, ей знакомым. Она получила также приказ направить ему имена тех, кто, превысив возраст в тридцати лет, возымеет желание выйти из заведения, получив при этом две сотни экю. Она не огласила еще этот приказ, но уверена, что избавится таким образом по меньшей мере от двадцати.
Как только я известил принцессу о полученном руководительницей приказе, она сочла, что кардинал и не мог действовать более достойным образом. Кардинал де Бернис сказал ей, что в первый раз, когда она захочет показать этим девушкам оперу или комедию, она должна лично пойти их забрать и известить руководительницу, что она будет их забирать, направляя за ними коляску со своей ливреей. Она так и поступила, и несколько дней спустя явилась в одиночку за Армелиной и Эмилией и отвела их в свой дворец на Кампо ди Фиоре, где я ждал их вместе с кардиналом, принцем – ее мужем и герцогиней де Фиано.
Их радостно приветствовали, с ними разговаривали с добротой, поощряли отвечать, посмеяться, говорить свободно обо всем, что они думают, но все было бесполезно; видя себя впервые в замечательной комнате, в подобной компании, они не находили в себе сил разговаривать, они испытывали стыд и страх сказать глупость. Эмилия не смела отвечать, не поднявшись с места, и Армелина блистала только своей красотой; понуждаемая принцессой возвращать ей поцелуи, подобные тем, что та ей дарила, она никак не могла на это решиться. Армелина, смеясь, извинялась, с жаром целуя ей руку, и когда принцесса прилеплялась своим ртом к ее губам, Армелина, казалось, положительно неспособна была вернуть поцелуй. Кардинал и принц смеялись, герцогиня де Фиано говорила, что такая сдержанность неестественна, и я страдал как проклятый, потому что мне казалось, что такая неловкость доходит до пределов глупости, поскольку Армелине нужно было только поцеловать губы принцессы, как она целовала ее руки. Ей же казалось, что целуя таким образом, она оказывает ей неуважение, и что она не должна допускать такой свободы, несмотря на позволение принцессы.
Кардинал сказал мне по секрету, что ему кажется невозможным, чтобы я инициировал эту девочку менее чем в два месяца; но он должен был этому поверить и осознать силу воспитания. В этот первый раз принцесса захотела отвести их на комедию в театр «Торе ди Нонна», где они вынуждены были посмеяться, и это внушило нам надежду. После комедии мы отправились ужинать в харчевню, и за столом, то ли благодаря аппетиту, то ли из-за упреков, которые я им делал, они вышли из оцепенения. Они дали уговорить себя выпить вина и набрались смелости. Эмилия забыла свою грусть, и Армелина, наконец, выдала отличные поцелуи прекрасной принцессе и, поднявшись из-за стола, наградила ее ими в изобилии, и аплодисменты убедили ее в том, что она не сделала ничего плохого.
Именно мне принцесса дала замечательное поручение проводить их в обратно монастырь. Вот момент, в который я должен совершить первый шаг, чтобы достичь того, к чему стремится всякий любовник.
Это была двухместная коляска с откидным сиденьем; однако едва коляска тронулась, я убедился, что не следует никогда спешить. Когда я хотел дать поцелуй, отворачивали голову, когда я хотел протянуть руки, отворачивались, когда я настаивал, меня отталкивали, когда я жаловался, осмеливались утверждать, что я неправ, когда я начинал сердиться, не обращали внимания, когда я грозил, что не захочу больше видеть, мне не верили.
Мы прибыли в монастырь, служанка открыла маленькую дверь, и видя, что она ее не закрывает после того, как девушки вошли, я прошел вперед и, видя, что мне не препятствуют, я прошел вместе с ними на третий этаж, к начальнице, которая была в постели и, казалось, не удивилась, увидев меня. Я сказал, что счел своим долгом доставить ей ее учениц лично; она поблагодарила меня; она спросила у них, хорошо ли они повеселились и вкусно ли поужинали, и после этого попросила меня делать как можно меньше шума, когда буду уходить. Я пожелал ей доброй ночи и ушел, дав цехин служанке, и другой – кучеру, по приезде домой. Я нашел Маргариту заснувшей в кресле; проснувшись, она начала меня упрекать, но сменила тон, когда мои нежные ласки дали ей понять, что я не виновен ни в какой неверности. Я отослал ее два часа спустя, убедив, что я люблю единственно только ее. Я проспал до полудня и, пообедав с ней, направился в три часа к принцессе, где встретил кардинала. Они ожидали рассказа о маленьком триумфе, и были удивлены, услышав обратное, и при том, видя меня спокойным.
Возможно, я таким казался, но отсюда не следует, что я им был. Будучи не в том возрасте, чтобы притворяться ребенком, я придал комический окрас моей неудаче, закончив тем, что, не любя разных Памел [4] , я решил отказаться от предприятия. Кардинал сказал, что поздравит меня с этим через три дня.
Армелина, не видя меня в этот день, решила, что я поздно встал; но когда она не увидела меня на следующий день, она вызвала своего брата, чтобы узнать, не болен ли я, потому что я никогда не пропускал двух дней, ее не видя. Меникуччио пришел сказать о беспокойстве своей сестры, и обрадовался, что может пойти ей сказать, что я себя хорошо чувствую.
– Да, друг мой, идите сказать ей, что я продолжаю настраивать в ее пользу принцессу, но что она меня больше не увидит.
– Почему же?
– Потому что я хочу попытаться излечиться от своей несчастной страсти. Ваша сестра меня не любит, и я в этом слишком убедился. Я уже не молод и не расположен стать жертвой добродетели. Любовь не позволяет девушке, столь добродетельной, как она, заходить далеко. Она не дала мне даже единого поцелуя…
– Я бы этому не поверил.
– Поверьте. Я должен на этом кончить. Ваша сестра слишком молода, и она не знает, чему она подвергается, поступая таким образом с мужчиной влюбленным и моего возраста. Скажите ей все это, не пытаясь давать ей советов.
– Вы не поверите, насколько это меня огорчает. Может быть, ей мешает присутствие Эмили.
– Нет, потому что я часто уговаривал ее, будучи тет-а-тет. Я должен, наконец, излечиться, и если она меня не любит, я не хочу ее добиваться ни с помощью обольщения, ни из благодарности. Упражнения в добродетели ничего не стоят в девушке, которая не любит; она может почувствовать себя неблагодарной, но ей нравится приносить себя в жертву из благодарности; но это предрассудок. Как вы оцениваете свое будущее?
– Очень хорошо, с тех пор, как она уверилась, что я на ней женюсь.
Мне было досадно, что я начал с того, что выдал себя за женатого, потому что, будучи охваченным чувством, я пообещал бы ей жениться, даже без намерения ее обмануть. Меникуччио ушел, огорченный, и я направился в Ассамблею Аркад в Капитолии, где маркиза д’Ау должна была представлять свою пьесу. Это была молодая француженка, которая находилась в Риме вместе со своим мужем, славным и обаятельным, как она, значительно уступающим однако ей по части ума. Эта маркиза обладала даже гениальностью; я завязал с этого дня с ней близкое знакомство, однако без малейшей мысли об амурах; я охотно отдавал это место французскому аббату, который был до безумия влюблен в нее и ради нее забросил все свои дела.
Принцесса Санта Кроче говорила мне все время, что даст мне ключ от своей ложи, когда я захочу отвести в оперу этих девушек, даже без нее самой, но когда она увидела, что прошла неделя без того, что я туда приходил, она начала верить, что я совершенно сломлен. Кардинал полагал, что я влюблен, и одобрял мое поведение; он предупредил меня, что руководительница мне напишет, и оказался прав. Она написала мне на восьмой день записку, короткую и учтивую, в которой просила меня прийти и вызвать ее в приемную. Я счел, что не могу отказаться.
Поскольку я вызвал ее одну, она спустилась в одиночку в десять часов утра. Она начала с того, что спросила меня, почему я так внезапно прекратил свои визиты.
– Потому что я люблю Армелину.
– Эта причина была единственной, что заставила вас оказывать нам честь своими визитами; иначе трудно понять, как это же соображение может привести к противоположным результатам.
– Так и должно быть, мадам; потому что, когда любят, испытывают желания, и когда желают понапрасну, страдают, и продолжительное страдание делает человека несчастным; так что вы видите, что я должен делать все, от меня зависящее, чтобы прекратить это положение.
– Я вам сочувствую и вижу, что вы поступаете разумно; но если дело обстоит так, как я думаю, позвольте вам сказать, что вы должны уважать Армелину и не должны, бросая ее подобным образом, давать повод всем девушкам этого дома выносить суждение, прямо противоположное действительности.
– Что могут подумать?
– Что ваше отношение было не более чем каприз, и что вы бросили ее, как только получили удовлетворение.
– Это было бы верхом злопыхательства; но я не знаю, что здесь поделать, потому что для того, чтобы мне справиться с моим безумием, у меня есть только это единственное средство. Или вы знаете другое? Будьте добры назвать мне его.
– Я не слишком хорошо знакома с этой болезнью, но мне кажется, что постепенно любовь переходит в дружбу и во всяком случае люди успокаиваются.
– Это верно, но для того, чтобы любовь стала дружбой, она не должна быть внезапно прерванной. Если объект любви ее не бережет, любящий приходит в отчаяние, и объект становится для него либо ненавистным, либо безразличным. Я не хочу ни приходить в отчаяние, ни начать ненавидеть Армелину, которая есть ангел красоты и добродетели. Я хочу быть ей полезным, несмотря ни на что, и более не видеть ее, и я уверен, что это не может ей не нравиться, потому что она должна была понять причину моего гнева. Это не должно повториться.
– Вот как обстоят дела; я была в неведении. Они меня все время заверяли, что ни в чем вам не отказывали, и что они не могут догадаться о причинах того, что вы не хотите более приходить с ними повидаться.
– Либо из-за застенчивости, либо из осторожности, либо из боязни меня огорчить, они вас обманывали; но вы заслуживаете того, чтобы знать все. Моя честь требует, чтобы я вам все рассказал.
– Я этого хочу, и я заверяю вас в своей скромности.
Я рассказал ей в деталях все дело и видел, что она прониклась сочувствием. Она сказала мне, что ее принцип – не думать никогда о дурном без явной очевидности, но, зная о людской слабости, она никак не могла поверить, что мы держим себя в столь жестких рамках почти три месяца, что мы видимся каждый день.
– Мне кажется, – сказала мне она, – что меньше зла в поцелуе, чем в скандале, который причиняет ваш уход.
– Но я уверен, что Армелину он не беспокоит.
– Она плачет каждое утро;
– Эти слезы могут происходить из тщеславия или, возможно, от огорчения, которое ей может причинять мысль о моем возможном непостоянстве.
– Это не так, потому что я пустила слух, что вы больны.
– И что говорит Эмилия?
– Она не плачет, но она очень грустна, и мне кажется, что, говоря мне все время, что если вы не приходите, то это не ее вина, она хочет сказать, что это вина Армелины. Доставьте мне удовольствие прийти завтра; они умирают от желания увидеть оперу Алиберти и оперу-буффо в Капраника.
– Хорошо, мадам, я приду завтра утром завтракать, и завтра вечером они увидят оперу.
– Я очень рада, я благодарю вас. Могу я сообщить им эту новость?
– Я даже прошу вас сказать Армелине, что я решился вернуться, чтобы ее увидеть, лишь в силу того, что вы мне здесь сказали.
Как же была рада принцесса, когда я передал ей эту новость после обеда! Кардинал знал, что так и должно было быть. Она сразу дала мне билет в свою ложу на завтра, и отдала приказ на конюшню прислуживать мне в ее ливрее.
На следующий день, когда я вызвал Армелину, Эмилия спустилась первая, чтобы успеть сделать мне упреки относительно моего поведения; она мне сказала, что мужчина не может так поступать, когда любит, и что я дурно поступил, рассказав все начальнице.
– Я бы ей ничего не сказал, если бы опасался каких-либо последствий этого.
– Армелина несчастна с тех пор, как вас узнала.
– Отчего же?
– Потому что она не хочет уклониться от выполнения своего долга, и видит, что вы любите ее только для того, чтобы ее к этому принудить.
– Но ее горе прекратится сразу, как только я перестану ей докучать.
– Перестав, однако, с ней видеться.
– Разумеется. Не думаете ли вы, что мне это не доставляет огорчения? Но мой душевный мир требует этого усилия.
– Тогда она поймет, что вы ее не любите.
– Она будет думать все, что захочет. А между тем, я знаю, что если она любит меня так, как я ее, все между нами будет хорошо.
– У нас есть обязанности, которых нет у вас прочих.
– Будьте же верны вашим предполагаемым обязанностям и не считайте дурным, что человек чести их уважает, удаляясь от вас.
Пришла Армелина, и я нашел ее изменившейся.
– Отчего вы бледны, и где ваш веселый вид?
– Это оттого, что вы причинили мне горе.
– Ладно. Успокойтесь, верните себе хорошее настроение и примиритесь с тем, что я пытаюсь исцелиться от страсти, природа которой такова, чтобы постараться оторвать вас от исполнения вашего долга. Я буду тем не менее вашим другом и буду приходить повидать вас раз в неделю, пока я остаюсь в Риме.
– Раз в неделю! Не следовало начинать с того, чтобы приходить каждый день.
– Это правда. Ваше обманчивое лицо не дало мне возможности об этом догадаться; но я надеюсь, что, в силу, по крайней мере, чувства благодарности, вы посчитаете добрым, что я пытаюсь снова стать разумным. Чтобы помочь этому процессу исцеления, я должен видеть вас как можно реже. Подумайте немного, и вы сочтете, что решение, которое я принял, мудрое, честное и достойно вашего уважения.
– Как жаль что вы не можете любить меня так же, как я вас люблю.
– Это значит спокойно. Без всяких желаний.
– Я этого не говорю; но умея держать в узде желания, которые противоречат нашему долгу.
– Это будет наука, которую в моем возрасте я не смогу постичь. Не скажете ли вы мне, очень ли вы страдаете, подавляя желания, которые любовь, что вы ко мне питаете, вам внушает?
– Мне бывает очень не по себе, если я сдерживаю свои желания всякий раз, когда думаю о вас. Наоборот, я их лелею, я их ценю. Я хотела бы, чтобы вы стали папой, я несколько раз хотела, чтобы вы были моим отцом, чтобы я могла вполне свободно осыпать вас сотней ласк, я хотела бы в моих мечтах, чтобы вы стали девушкой, как я, чтобы иметь возможность жить с вами весь день.
Я не мог при этом удержаться от смеха. Сказав, что приду за ними, чтобы отвести их в театр Алиберти, я покинул их в радости, что должен ощущать влюбленный мужчина, который чувствует уверенность, что достигнет желаемого, хотя и с большими трудностями, поскольку во всем том, что сказала мне сейчас Армелина, я не заметил ни тени искусственности, ни кокетства. Она меня любила и она упорствовала, не соглашаясь в этом признаться себе самой, и, соответственно, испытывая нежелание доставить мне наслаждение, в котором природа заставит ее участвовать, и она поймет, что любит меня. Это чувство зародилось в ее душе вопреки ей самой. Ее опыт не внушил ей, что она должна либо бежать меня, либо приготовиться стать жертвой любви.
В час оперы я явился за ними в том же экипаже и с тем же слугой. Когда привратница увидела ливрею Санта Кроче, она сказала им спуститься, и они увидели меня сидящим на откидном сиденье. Они не удивились, увидев меня одного. Эмилия передала мне привет от начальницы, которая попросила меня прийти к ней завтра поговорить. Я проводил их в оперу и там не отвлекал их внимания от спектакля, который они видели в первый раз. Не веселый и не грустный, я лишь отвечал на все их вопросы. Будучи римлянками, они примерно знали об особенностях кастратов, но несмотря на это Армелина хотела верить, что та, что играла вторую роль, была женщина, ее грудь доказывала ей ее правоту. Я спросил, осмелилась бы она лечь в постель с ней, и она ответила, что нет, потому что порядочная девушка должна ложиться в постель только одна.
Такова была строгость воспитания, которое давали девушкам этого дома. Эта загадочная сдержанность по отношению ко всему, что могло возбуждать наслаждение любви, должна была лишь порождать в них идею великой значимости всего того, что касается взгляда и прикосновения, откуда происходило, что Армелина предоставила мне свои руки лишь после долгого сопротивления и никак не хотела, чтобы я видел, идут ли ей чулки, которые я ей подарил. Запрет ложиться вместе с другой девушкой должен был дать ей понять, что показаться обнаженной перед другим – это преступление, и если так было относительно девушки, такой же, как она, то что должна была она подумать, окажись перед мужчиной? Сама мысль об этом должна была заставить ее содрогнуться. Всегда, когда я разражался перед решеткой вольными речами об удовольствиях, связанных с любовью, я находил их глухими и немыми. Я бесился. Я не пытался заставить отойти от своей грусти Эмилию, хотя и свежую и довольно красивую, но приходил в отчаяние, когда видел Армелину, которая больше не сохраняла улыбку на своем лице, когда я осмеливался спрашивать, знает ли она, в чем разница между девочкой и мальчиком.
После оперы Армелина сказала мне, что она проголодалась, после недели, когда она почти ничего не ела из-за горя, которое испытывала, не видя меня. Я ответил, что если бы я знал, я заказал бы хороший ужин, в то время как теперь мы будем есть лишь то, что нам предложит трактирщик.
– Сколько нас будет?
– Только нас трое.
– Тем лучше. Нам будет свободнее.
– Разве вы не любите принцессу?
– Я люблю ее, но она любит поцелуи, и это меня смущает.
– Вы, однако, дарили их ей, и весьма влюбленные.
– Я бы боялась, поступая иначе, что она решит, что я дурочка.
– Не доставите ли вы мне удовольствие, сказав, не думаете ли вы, что совершаете грех, давая ей эти поцелуи?
– Нет, разумеется, потому что не получаю при этом никакого удовольствия.
– Почему же не сделали вы такого же усилия также и для меня?
Она мне не ответила, и мы приехали в трактир, где я велел развести хороший огонь и заказал добрый ужин. Слуга спросил, не желаю ли я устриц, и, видя, что девушки заинтересовались узнать, что это такое, я спросил у него цену. Он ответил, что они из Арсенала Венеции [5] и он может подать их лишь за пятьдесят паули за сотню, и я согласился. Я пожелал, чтобы их открывали в моем присутствии.
Армелина, удивленная тем, что ее каприз обойдется мне в пять римских экю, просила меня отменить заказ, но замолчала, когда я сказал ей, что ничто не кажется мне слишком дорогим, когда я вижу, что могу доставить ей удовольствие. На мой ответ она взяла меня за руку, которую я с досадой отдернул, когда увидел, что она подносит ее к своему рту; поскольку я сделал это немного слишком резко, Армелина была огорчена. Я уселся у огня между нею и Эмилией; ее смущение меня огорчило, я попросил у нее прощения, сказав, что моя рука недостойна ее поцелуя, но, несмотря на мое извинение, Армелина не смогла помешать двум слезинкам скатиться с ее прекрасных глаз. Я был в отчаянии. Армелина была голубка, с которой нельзя было обходиться грубо. Я мог отказаться от своей любви, но, не имея намерения ни заставить меня бояться, ни вызвать ко мне ненависть, я должен был ее покинуть, либо держаться совершенно иначе. Убежденный этими двумя слезинками, что я должен был ранить в высшей степени ее деликатность, я поднялся и спустился заказать шампанское.
Поднявшись обратно пять или шесть минут спустя, я увидел, что она во всю заплакала и наклонилась к столу над какой-то тарелкой, и это привело меня в отчаяние. Не теряя ни секунды, я принес ей свои извинения и попросил вернуться к своему веселью, если она не хочет нанести мне самую тяжкую обиду. Эмилия меня поддержала, я взял ее за руку, нежно ее поцеловал, и она успокоилась. Пришли открывать сотню улиток, которые заполнили четыре больших блюда. Удивление этих бедных девушек меня бы весьма развлекло, если бы я способен был получать удовольствие, но любовь приводила меня в отчаяние. Я томился, и Армелина просила меня быть таким, каким я был в начале нашего знакомства, как будто настроение зависит от желания.
Мы сели за стол, где я научил девушек есть устриц, показывая сам пример. Они обливались соком. Армелина, проглотив пять или шесть, сказала Эмилии, что есть такое нежное блюдо должен быть грех; Эмилия ответила, что это должен быть грех не потому, что оно такое вкусное, а потому, что с каждой устрицей, что мы проглатываем, мы проглатываем пол-паоли.
– Пол-паоли? – сказала Армелина, – и наш владыка папа этого не запрещает? Если это не грех чревоугодия, хотела бы я знать, что называют чревоугодием. Я ем этих устриц с удовольствием, но уверяю тебя, что я хочу повиниться в этом на исповеди, чтобы посмотреть, что скажет мне исповедник.
Эти наивные речи породили радость в моей душе, но и необходимость ее сдерживать. Моя умирающая любовь вырывалась наружу. Съев полсотни устриц, мы осушили две бутылки игристого шампанского, что заставило смеяться этих хороших девушек, которые чувствовали неприличную потребность в отрыжке. Как жаль мне было, что не могу предаться смеху и покрыть поцелуями Армелину, которую мог поглощать только глазами! Я сказал слуге собрать ужин и оставить остальные устрицы на десерт. Они были поражены, обнаружив у себя живой аппетит после поглощения каждой по шестнадцать столь лакомых кусочков пищи. Армелина, как мне показалось, была влюблена; мне необходимо было льстить себя этой надеждой. Немного рассчитывая на Бахуса, я избегал воды. Мы получили ужин из самых изысканных для трактира. Мои бедные героини увлеченно ему предались. Эмилия разгорячилась. Я велел принести лимоны, бутылку рома, сахару, большую миску и горячей воды, и после того, как поставили на стол оставшиеся полсотни устриц, я отпустил слугу. Я сделал большую порцию пуншу, сдобрив ее бутылкой шампанского. Проглотив пять-шесть устриц и выпив пунша, который заставил вскричать от восторга обеих девушек, очарованных этим напитком, я вздумал попросить Эмилию вложить мне в рот устрицу своими губами.
– Вы слишком умны, – сказал я ей, – чтобы вообразить, что в этом есть что-то дурное.
Эмилия, удивленная этим предложением, стала думать. Армелина внимательно на нее смотрела, заинтересованная ответом, который та мне даст.
– Почему, – спросила она у меня, – вы не предложите это вашей Армелине?
– Дай ему это первая, – сказала ей Армелина, – и если ты осмелишься, я осмелюсь тоже.
– Какая тут смелость? Это детская шалость, в этом нет ничего дурного.
Получив этот замечательный ответ, я счел, что могу трубить победу. Вложив ей в рот раковину, я сказал втянуть сок, удерживая устрицу губами. Она точно выполнила урок, предварительно посмеявшись, и я получил устрицу, присосавшись к ее губам своими с наибольшей благопристойностью. Армелина ей зааплодировала, сказав, что не считала ее способной сделать такое, и превосходно повторила ее результат. Она была очарована деликатностью, с которой я принял устрицу из ее губ. Она удивила меня, сказав, что теперь она должна принять от меня такой подарок, и Бог знает какое удовольствие я получил, выполнив этот долг.
За этой прекрасной игрой мы съели всех устриц, опустошая при этом стаканы пунша. Мы сидели в ряд, я между ними, спиной к огню, поворачивая голову то к одной, то к другой, никогда не было опьянения ни более веселого, ни более продуманного, ни более полного. Пунш, между тем, еще не кончился. Нам было жарко. Я вынужден был расстегнуть мою одежду, не имея сил терпеть, и они должны были расшнуровать свои платья, подбитые изнутри подкладкой. Я сказал, что имеется кабинет рядом с нашей комнатой, куда они могут зайти, и они быстренько поднялись, взявшись за руки, обрадованные, что я догадался о потребности, которую они имели, но не смели мне открыть. Они вернулись в комнату, заливаясь смехом, потому что не могли держаться на ногах. Я их оставил на минутку, по той же причине, но несколько менее пьяный, чем они. Они сидели у огня, все время смеясь над тем состоянием, в котором пребывали. Я служил им ширмой, ни слова не говоря о том удовольствии, которое испытывал, видя их в таком беспорядке, который позволял наблюдать красоту их груди, очаровывая мне душу. Я благодарил их за удовольствие, которое они доставляли своей очаровательной компанией. Я говорил, что мы не должны выходить из харчевни, пока не выпьем весь пунш. Они отвечали, заливаясь смехом, что было бы жаль его оставлять, и мы пили. Я осмелился им сказать, что их ноги столь прекрасны, что я не знаю, кому из них отдать предпочтение, при этом они еще сильнее смеялись, так как не заметили, что их открытые платья и короткие юбки позволяли мне видеть их наполовину обнаженными.
Прикончив пунш, мы остались еще на полчаса болтать без всякого смысла, осыпая меня самого похвалами за силу воли, которую я проявлял, ничего не предпринимая. В момент ухода я спросил у них, могут ли они пожаловаться на меня, и Армелина первая сказала, что если я хочу иметь ее душевной подругой, она готова следовать за мной повсюду.
– Значит, вы не боитесь больше, что я мог бы склонить вас нарушить свой долг?
– Нет, я чувствую себя с вами уверенной.
– А вы? – обратился я к Эмелии.
– И я вас люблю, если вы сделаете для меня то, о чем начальница скажет вам завтра.
– Я сделаю все, но я буду говорить с ней лишь вечером, потому что сейчас три часа.
Вот над чем они смеялись. «Что скажет маман, что скажет маман?». Я быстро оплатил все, что было записано, хорошо вознаградив слугу, и проводил их в их монастырь, где привратница была очень довольна реформой дома, когда получила два цехина. Время было слишком позднее, чтобы подниматься, я возвратился к себе, откуда вернул экипаж принцессы, с большим удовлетворением для кучера и лакея. Но более всего была удовлетворена Маргарита, которая выцарапала бы мне глаза, если бы я не убедил ее снова в своей великой верности. Я сказал ей, и она должна была мне поверить, что я был занят до этого часа карточной игрой.
На следующий день я развлек принцессу и кардинала, подробно рассказав им обо всем, что делал. Принцесса сказала, что я упустил момент, но кардинал счел, что я подготовил полную победу для следующего раза.
Я направился в монастырь, чтобы узнать, чего хочет начальница и что я могу сделать для Эмилии. Эта добрая руководительница приняла меня, поздравив с тем, что я смог развлекаться с этими двумя девушками до трех часов утра, ничего не сделав с ними такого, что не было бы вполне порядочно. Они рассказали ей, каким образом мы съели полсотни устриц, и она сочла это вполне невинным. После этого вступления она сказала, что я мог бы осчастливить Эмилию, доставив ей, с помощью принцессы, разрешение на ее брак, с публикацией, с одним торговцем, живущим в Чивита Веккия, который давно женился бы на ней, если бы не необходимость в этих публикациях, потому что имеется женщина, которая претендует на то, что он должен на ней жениться, без всяких, впрочем, законных на то оснований. Возражения, которые она выдвигает, могут породить судебный процесс, который никогда не кончится.
– Эмилия, – сказала она мне, – будет счастлива и будет всем вам обязана.
Я выяснил имя этого мужчины и пообещал поговорить в самом благоприятном свете о нем с принцессой. Она спросила у меня, поможет ли мне это завоевать любовь Армелины, и я ответил, что да, но что я стану воздерживаться от свиданий с нею в пост. Она поздравила меня с тем, что в этом году карнавал весьма долог.
Я поговорил с принцессой об этом освобождении от публикаций, которого не следует, однако, добиваться без сертификата епископа Чивита Веккия, что этот мужчина свободен. Кардинал сказал мне, чтобы я вызвал этого человека в Рим, и что он займется его делом, если тот сможет представить всего лишь двух известных свидетелей, что он не был женат. Начальница написала соответственно, и некоторое время спустя я увидел этого человека в другой приемной, возле решетки, с начальницей и Эмилией. Положившись целиком на мою протекцию, он сказал, что ему необходимо, до того, как он женится, располагать шестью сотнями экю. Речь шла о том, чтобы получить две сотни экю от милости, потому что четыре сотни ему даст монастырь, и я договорился об этом; но до того я организовал другой ужин с Армелиной, которая каждое утро спрашивала меня у решетки, когда я отведу их в комическую оперу, которую дают в театре Капраника. Я отвечал, что боюсь, что моя любовь заставит меня попытаться заставить ее нарушить ее долг, который она любит больше, чем комическую оперу. Они обе сказали, что опыт показал, что меня не следует опасаться. Армелина сказала мне, смеясь, что ее исповедник издевался над ней, когда она рассказала ему, что ела устриц, беря их своим ртом изо рта мужчины. Он сказал ей, что это свинство.
Глава III
Флорентинец. Эмилия выходит замуж. Схоластика. Армелина на балу
Если до ужина с Армелиной я был влюблен в нее до того, что считал себя вынужденным больше с ней не видеться, чтобы не сойти с ума, после этого ужина я понял, что мне абсолютно необходимо ее заполучить, чтобы не умереть. Видя, что она соглашается на маленькие глупости, к которым я ее склоняю, только принимая их за безразличные шалости, я решил пойти этим путем до тех пределов, до которых она допускает. Я стал изо всех сил играть роль безразличного; я продвигался таким образом два дня подряд, я не смотрел на нее влюбленными глазами, делал вид, что забываю поцеловать ей руку, проделывая это лишь Эмилии, я разговаривал с той о ее свадьбе и говорил, что если буду уверен, что получу от нее некие милости, я поселюсь в Чивита Веккия через несколько дней после ее свадьбы. Я притворялся, что не замечаю, что эти речи огорчают Армелину, которая не могла выдержать, что я проявляю интерес к ее подруге. Эмилия говорила, что, выйдя замуж, она окажется менее связана соблюдением своего долга, и Армелина, задетая тем, что та осмеливается подавать мне надежду на получение своих милостей в ее присутствии, говорила ей, что обязанности замужней женщины более строги, чем у девушки. Я спорил, внушая ей ложные доктрины. Я говорил, что высокий долг жены – не создавать риска подвергать сомнению происхождение потомства своего мужа, а остальное – пустяки, и что я никогда не потребую от Эмилии ничего, кроме шалостей, услаждающих глаза и руки. Я даже сказал, что для того, чтобы вполне убедиться в том, что я получу от нее эти милости, я хочу не только, чтобы она пообещала, что будет вполне добра ко мне, когда я буду в Чивита Веккия, но чтобы она дала мне некий залог своей будущей доброты еще до свадьбы. Она сказала мне однажды, что никогда не даст мне других залогов, кроме тех, что даст мне Армелина, которую я также должен постараться выдать замуж. Армелина, несмотря на растерянность, которую вызвали у нее эти рассуждения, сказала, что я единственный мужчина, о котором она могла бы сказать, что видела его, с тех пор, как вышла в свет, и что, не собираясь выходить ни за кого замуж, она не даст мне никакого залога, несмотря на то, что не представляет себе, о каком залоге может идти речь. Я нашел в себе силы отойти от этого разговора, оставив ее в волнении. Я чувствовал себя умирающим от того, что вынужден играть такую роль перед этим ангелом, которого я обожал; но я не знал более верного средства для того, чтобы преодолеть ее предрассудки.
Я снял ложу в «Капраника», когда увидел превосходные устрицы, что прибыли к метрдотелю посла Венеции; он предложил их мне по той же цене, что они стоили ему. Велев отправить их в ту же харчевню, где я ужинал в первый раз, я спросил у слуги комнату с кроватью, но он ответил, что такое не разрешено в Риме; он сказал, что я могу снять на третьем этаже две комнаты, где имеются большие диваны, которые можно вполне рассматривать как кровати, и увидев, что дело обстоит именно таким образом, я их нанял. Я сказал ему развести огонь в обеих и подать на стол все, что есть наиболее вкусного в Риме.
Войдя с двумя девушками в ложу в третьем ярусе, которую я снял, я увидел в соседней ложе маркизу д’Ау, и у меня не было времени от нее ускользнуть. Она сразу приветствовала меня, обрадованная, что мы будем соседями. Она была со своим французом-аббатом, своим мужем и молодым человеком с лицом столь же красивым, как и благородным, которого я у нее еще не видел. Она сразу спросила у меня, кто эти две девушки, что она видит со мной, и я сказал, что они из дома посла Венеции. Она похвалила их красоту, не делая различия между той и другой, но стала больше разговаривать с Армелиной, которая сидела с ее стороны и отвечала весьма мило на все замечания, которые та ей делала, вплоть до начала пьесы. Молодой человек стал также с ней разговаривать и, спросив у меня разрешения, передал ей большой пакет, наполненный конфитюрами, приглашая попробовать их вместе со своей соседкой. Узнав в нем по акценту флорентинца, Я спросил, не из его ли страны эти сласти, и тот ответил, что они из Неаполя, откуда он приехал три дня назад.
После первого акта я с удивлением услышал, что у него есть для меня письмо, которое поручила ему передать маркиза де ла К…
– Я только что узнал ваше имя, – сказал он мне, – и буду иметь честь принести его вам завтра, если вы будете любезны сказать мне, где вы обитаете.
После обычных церемоний я был вынужден ему сказать. Я спросил его новости о маркизе, его теще, об Анастасии, сказав, что очарован получить письма от маркизы, от которой я жду ответа уже месяц.
– Это как раз ответ на ваше письмо, очаровательная дама выбрала меня переносчиком ее письма.
– Мне не терпится его прочесть.
– Я могу передать вам его сразу, безотносительно к удовольствию повидаться с вами завтра у вас. Я сейчас принесу его вам в вашу ложу, если позволите.
– Прошу вас.
Он заходит, я уступаю ему место около Армелины, он достает из кармана портфель и передает мне письмо. Я вскрываю его, вижу четыре страницы, говорю ему, что прочту его у себя, потому что в ложе темно, и кладу его в свой карман. Он говорит, что останется в Риме до после Пасхи, потому что хочет все увидеть, хотя и не может надеяться увидеть что-то более красивое, чем то, что у него перед глазами.
Армелина, которая смотрела на него очень внимательно, краснеет и отворачивается; что касается меня, то я задет и даже некоторым образом оскорблен этим комплиментом, который вполне вежлив, но и неслыханно дерзок. Я ему ничего не ответил, я решил, что этот красивый мальчик, должно быть, дерзкий фат. Видя, что мы молчим, он понял, что шокировал меня, и, сразив компанию несколькими бессвязными высказываниями, вышел.
Я похвалил прежде всего Армелину за прекрасную выдержку, которую она проявила в течение последнего получаса, и спросил, что она думает о персонаже, которого она столь славно сумела очаровать.
– Это, как мне кажется, очень красивый мужчина, но по комплименту, что он мне сделал, я отмечаю его дурной вкус. Прошу вас сказать, это такая мода – заставлять краснеть девушку, которую видят в первый раз?
– Нет, дорогая Армелина, это не мода и не вежливость, а также не поведение, которое позволено кому-то, кто хочет находиться в доброй компании и умеет себя держать в свете.
Погрузившись в молчание, я сделал вид, что слушаю только прекрасную музыку, но факт тот, что червь низкой ревности ранил мне сердце. Я думал о чувстве злобе, которое во мне пробудилось, и старался в своем уме найти ему оправдание, потому что мне казалось, что этот флорентинец должен был предположить, что я влюблен в Армелину, и не должен был начинать знакомство с того, чтобы заявлять ей о своей к ней любви в моем присутствии, не боясь, что это мне не понравится, по крайней мере, не принимать меня за такого, который оказывается в обществе столь красивой девушки, и она ему не симпатична. После получаса такого молчания наивная и искренняя Армелина привела меня в еще большее раздражение, сказав мне и нежно на меня глядя, что я должен успокоиться и быть уверенным, что этот молодой человек не доставил ей ни малейшего удовольствия этой своей лестью. Она не чувствовала, что так говорить – это сказать инее нечто прямо противоположное. Я ответил, что совсем наоборот, я хотел бы, чтобы он доставил ей удовольствие. Доброе дитя продолжило меня волновать, сказав, что он, возможно, решил, что я ее отец.
Что ответить на этот довод, столь же жестокий, сколь и правдоподобный? Ничего. Вспылить, промолчать, и, наконец, более не сдерживаясь, попросить Армелину и Эмилию уйти. Это было окончание второго акта, и, разумеется, если бы я сохранил здравый смысл, я никогда не сделал бы этим добрым девушкам такое предложение, всю тираничность и несправедливость которого я осознал лишь на следующий день. Несмотря на это, они переглянулись и затем были готовы. Я сказал, целуя их, что иначе нам не найти экипаж Санта Кроче, если мы выйдем со всей толпой, и что мы вернемся сюда послезавтра. Я не дал Армелине высунуться из ложи, чтобы попрощаться с маркизой д’Ау. Я нашел у дверей слугу, что прислуживал мне от принцессы де Санта Кроче, который болтал с кем-то из своих товарищей, из чего я понял, что принцесса находится в опере. Мы сошли у харчевни. Я сказал на ухо лакею, чтобы шел в отель и возвращался в три часа после полуночи. В том холоде, который наступил, я должен был позаботиться о лошадях.
Мы расположились у огня, и полчаса я был занят только прекрасными устрицами, которые поваренок вскрывал в нашем присутствии, стараясь не пролить ни капли вкусной влаги, в которой они плавали. Мы ели их по мере того, как он их вскрывал, и смех девушек, которые думали о нашей игре обменов, начал рассеивать мое плохое настроение. В нежностях Армелины я, казалось, видел невинность ее прекрасной души, и я ругал себя за то, что, позавидовав справедливости, которую ей воздал человек, гораздо более меня достойный ей понравиться, я позволил злому чувству взорвать мир в моей душе… Армелина, выпив шампанского, что я ей предложил, поглядывала на меня, как бы приглашая разделить с ней ее веселое настроение. Эмилия говорила со мной о своем будущем замужестве, и, не повторяя, что я приеду в Чивита Веккия, я обещал ей, что в недалеком будущем она получит разрешение на брак, целуя при этом руки прекрасной Армелины, которая, казалось, благодарила меня, что я снова стал нежным.
Развеселившись от устриц и от шампанского, мы замечательно ужинали. Мы ели осетра и замечательные трюфели, великолепное качество которых я ощущал скорее наслаждаясь аппетитом, с которым эти девушки поглощали все это, чем кушая сам. Вполне разумное чувство подсказывает человеку, который изыскивает верного средства влюбить в себя кого-то, что таким средством является предоставить тому какое-то новое удовольствие. Когда Армелина увидела, что я охвачен радостью и снова стал пылать страстью, она должна была понять свою власть надо мной и порадоваться этой власти. Она сама подала мне свою руку. Она не позволила мне отворачивать голову в сторону Эмилии, уставившись своими глазами в мои. Эмилия ела и не обращала ни на что внимания. Мне казалось, что Армелина не сможет отказать мне в своей нежности после ужина, в празднестве устриц и пунша.
Приготовив десерт, другие полсотни устриц и все, что мне нужно для приготовления пунша, слуга удалился, сказав, что горячая вода стоит на огне, в другой комнате, где находится также все необходимое для отхода девиц. Комната была маленькая, нам было жарко; я пригласил их пройти в другую комнату освободиться от своих платьев, подбитых мехом, и вернуться есть устриц в полной свободе. Их платья были на китовом усе, они вернулись в белых корсетах и коротких юбках из бумазеи, доходящих до середины икр. Они вернулись, чувствуя себя освобожденными, смеясь над собственной раздетостью. Я нашел в себе силы скрыть эмоции, которые вызвало во мне очарование их одеяний, и даже не фиксировать своего взгляда на их грудях, в то время как они радовались, не имея ни косынок на шее, ни жабо по верху рубашек. Я сказал им небрежно, что не буду на них смотреть, потому что вид груди оставляет меня равнодушным. Знание женской натуры вынуждало меня к обману. Я был уверен, что они не могут более придавать большое значение тому, на что я обращаю столь мало внимания. Эти две девочки, которые знали, что у них очень красивая грудь, должны были быть удивлены моим пренебрежением; они должны были вообразить себе, что я никогда не видел красивых грудей, и в Риме действительно прекрасные груди значительно более редки, чем красивые личики. Несмотря на приличие своих манер, Армелина и Эмилия должны были бы задаться целью убедить меня в моей неправоте, и от меня зависело доставить им радость и убедить, что им нечего стыдиться. Я очаровал их, сказав, что хочу посмотреть, как они сами приготовят пунш. Сок цитронов был выжат в большой кубок. Они обрадовались, когда я сказал, что нахожу приготовленный ими напиток лучше, чем тот, что готовил в прошлый раз я сам.
В игре с устрицами изо рта в рот я придрался к Армелине за то, что перед тем, как передать мне устрицу, она выпила сок. Я понимал, что сделать по другому трудно, но я взялся научить ее, как следует поступить, чтобы сохранить устрицу вместе с соком во рту, поставив сзади заслон языком, чтобы помешать ей проскочить в пищевод. Чтобы показать им пример, я заставил их самих принять, как я, устрицу вместе с соком в рот, вытянув одновременно язык во всю длину. Мне было приятно, что они не забеспокоились, когда я вытянул свой язык в их рты, и Армелина тем более не сочла дурным, что я принялся сосать ее язык, который она мне дала очень щедро, очень затем смеясь над удовольствием, которое почувствовала от этой игры, насчет которой они согласились со мной, что ничего не может быть невинней.
Случайно прекрасная устрица, что я подавал Эмили, выскользнув из раковины у ее губ, упала между ее грудей; она хотела ее поднять, но я напомнил ей о своем праве, и она должна была уступить, позволить себя расшнуровать и предоставить мне достать ее своими губами из той глубины, куда она упала. Этим она должна была вытерпеть, чтобы я раскрыл ее полностью; но я подобрал устрицу таким образом, что не создалось никакого впечатления, что я почувствовал какое-то иное удовольствие, кроме того, что я ее вернул, прожевал и проглотил. Армелина наблюдала это без смеха, пораженная тем, что я показывал, что не придал никакого значения тому, что должен был увидеть. Эмилия, хорошенько обтершись и посмеявшись, снова зашнуровалась.
Через четыре или пять устриц я подал устрицу Армелине, держа ее у себя на коленях, и ловко уронил ее ей на грудь, что вызвало веселый смех у Эмилии, которая в глубине души была недовольна, что Армелина пытается избежать проявить неустрашимость, подобную той, что проявила она сама. Однако я видел, что Армелина обрадована этим случаем, несмотря на то, что не хочет этого показать.
– Я хочу мою устрицу, – говорю я ей.
– Возьмите ее.
Я расшнуровываю ей корсаж, и устрица падает вниз до возможного предела; я рад тому, что должен ее искать рукой. Великий Боже! Какое страдание для влюбленного мужчины – обязанность скрыть выражение удовольствия в такой момент! Армелина не может винить меня ни под каким предлогом, потому что я касаюсь ее очаровательных грудей, твердых как из мрамора, только для того, чтобы найти устрицу. Найдя и проглотив ее, я захватываю одну из ее грудей, под предлогом слизать смочивший ее устричный сок, своими жадными губами я овладеваю розовым бутоном, отдаваясь полностью сладострастию, которое мне внушает воображаемое молоко, которое я сосу две или три минуты подряд. Я покидаю ее, пораженную и тронутую, лишь когда могу вернуть себе мой разум, который великое наслаждение заставило меня покинуть там, где, я не знаю, могла ли она усомниться. Но когда она увидела меня, остолбеневшего, уставившегося своими глазами в ее глаза, она спросила, понравилось ли мне изображать младенца у груди.
– Да, так как это невинная шалость.
– Я этому не верю, и надеюсь, что вы ничего не скажете об этом начальнице; то, что вы сделали, не невинно для меня, и мы не должны больше подбирать устриц.
Эмилия сказала, что это суть легкие шалости, которые проделывают со святой водой.
– Мы можем поклясться, – добавила она, – что мы не выдали ни одного поцелуя.
Они зашли на минуту в другую комнату, и после того, как я сходил туда тоже, мы отошли от стола и расположились у огня на софе, которую туда пододвинули, поставив перед собой на круглом столике кувшин с пуншем и стаканы. Устрицы у нас закончились.
Сидя между ними, я заговорил о наших ногах, которые вполне похожи, и которые однако женщины упорно стараются прикрыть юбками, и, говоря так, я их трогал, говоря, что это то же самое, как если бы я трогал мои, и, видя, что они не противятся изучению, которое я провожу, вплоть до колен, я сказал Эмили, что не хочу от нее иной компенсации, кроме той, чтобы она позволила мне измерить объем своих бедер и сравнить их с бедрами Армелины.
– У нее, – сказала Армелина, – они должны быть толще, чем мои, хотя я и выше ее.
– Неплохо бы было в этом убедиться.
– Думаю, что это возможно.
– Ладно, я померяю их своими руками.
– Нет, так как вы будете на нас смотреть.
– Нет, честное слово.
– Позвольте завязать вам глаза.
– Охотно. Но вы позволите мне завязать также и ваши.
– Ладно, хорошо. Сыграем в жмурки.
Выпив, мы завязали глаза все трое, и началась большая игра, и стоя передо мной, они позволяли обмерять себя несколько раз, падая на меня и заливаясь смехом всякий раз, когда я мерил их слишком высоко. Приподняв свой платок, я видел все, но они должны были делать вид, что не догадываются. Они должны были также обманывать меня сходным образом, чтобы видеть, что происходит, когда они чувствовали что-то между бедер, потому что они падали на меня от смеха. Очаровательная игра подошла к концу, только когда природа, истекшая наслаждением, лишила меня сил продолжать. Я привел себя в приличное состояние прежде, чем они сняли повязки, что они и проделали, услышав мое заключение.
– У Эмилии, – сказал я Армелине, – бедра, ляжки и все остальное более сформированы, чем у вас, но вы должны еще вырасти.
Молчаливые и смеющиеся, они расположились от меня по бокам, полагая, уж не знаю каким образом, что смогут отказаться от всего, что они позволили мне делать. Мне показалось, но я ничего не сказал, что Эмилия имела уже любовника, но Армелина была во всех отношениях нетронута. У нее был более усмиренный вид, чем у другой, и гораздо больше нежности в больших черных глазах. Я захотел оставить поцелуй на ее прекрасных губах, и было очень странно, что она отвернула голову, сжав однако мне руки со всей силой.
Мы заговорили о бале. Они очень им интересовались; это было неистовство, более чем страсть, всех девушек Рима, с тех пор, как папа Реццонико держал их на голодном пайке относительно этого удовольствия в течение всех десяти лет своего правления. Этот папа, который разрешил римлянам любые азартные игры, запретил им танцевать; его преемник Ганганелли, настроенный по другому, запретил игру и дал полное позволение танцевать. Было непонятно, зачем нужно было запрещать этот повод попрыгать. Я пообещал отвести их на бал, после того, как найду, в самом удаленном квартале Рима, из наиболее населенных, такой бал, где они не рискуют быть узнанными. Я проводил их в монастырь в три часа по полуночи, вполне довольный тем, что проделал, чтобы успокоить мои желания, несмотря на то, что тем самым я увеличил мою страсть; я убедился более, чем обычно, что Армелина создана, чтобы быть обожаемой каждым мужчиной, для которого красота имеет абсолютную власть. Я был из числа таких, и, к сожалению, остаюсь еще таким, но вижу себя теперь в нищете, потому что исчерпание ладана делает кадильницу жалкой.
Я думаю о природе очарования, которое заставляет меня все время становиться влюбленным в объект, который, представляясь мне новым, внушает мне те же желания, что мне внушал последний из тех, что я любил, и который я перестал любить только потому, что он перестал мне их внушать. Но этот объект, который представляется мне новым, является ли он главным? Отнюдь нет, потому что это та же самая пьеса, в которой ново только название. Но добившись овладения им, замечаю ли я, что это тот же, которым я наслаждался уже столько раз? Жалуюсь ли я? Чувствую ли себя обманутым? Отнюдь нет. Правда в том, что, наслаждаясь пьесой, я все время удерживаю глаза на афише, на очаровательном заголовке, что дает ей прелестная физиономия, которая делает меня влюбленным. Но если вся иллюзия происходит от заголовка пьесы, не лучше ли пойти смотреть ее, не читая афиши? Что дает знание названия книги, которую хочешь читать, блюда, которое собираешься есть, города, красоты которого хочешь осмотреть?
Все это в точности есть в городе, в блюде, в комедии; название ничего не значит. Но всякое сравнение – это софизм. Человек, в отличие от всех других животных, может влюбиться в женщину только через посредство одного из своих чувств, которые все, за исключением осязания, находятся в голове. По этому соображению, если есть глаза, именно физиономия представляет все обаяние любви. Самое красивое тело обнаженной женщины, которое предстает перед его взором, при том, что голова закрыта, могло бы вызвать наслаждение, но никогда – то, что зовется любовью, поэтому, если в момент, когда он предается инстинкту, ему откроется голова владелицы этого прекрасного тела, и у нее – одна из тех действительно некрасивых физиономий, которые внушают отвращение, нежелание заниматься любовью, и зачастую ненависть, он убежит с неким ужасом к тому грубому действию, которому он предается в этот момент. И прямо противоположное происходит, когда лицо, кажущееся ему прекрасным, делает мужчину влюбленным. Если он предается при этом любовному наслаждению, никакой дефект или некрасивость ее тела его не отталкивает; он даже сочтет прекрасным то, что было бы найдено некрасивым, если бы он стал это изучать, но он этого не будет делать. Главенство физиономии, будучи установленным для животного-человека, всего людского рода, непосредственного обладателя способности к моральному рассуждению во всем, что относится к его нуждам, привело к тому, что во всех цивилизованных странах следует прикрывать одеждами всю персону, за исключением лица, и не только для женщин, но и для мужчин, что однако на протяжении веков, во многих провинциях Европы, привело к тому, что стало принято одеваться таким образом, который весьма удобен для женщин, заставляя их выглядеть так, как если бы они были совершенно голые. Выгода, которую получают женщины от установления этого обычая, неоспорима, хотя прекрасные физиономии встречаются реже, чем красивые тела, потому что искусство легко может придать прелести лицу, которое ею не обладает, тогда как не существует румян, которые могли бы исправить некрасивость груди, живота и для всего остального, что составляет человеческую фигуру. Я полагаю, однако, что феномериды Спарты [6] были правы, как и все женщины, что отвращают от себя своим лицом, имея красивое тело, потому что, из-за заголовка, несмотря на красоту пьесы, они лишаются зрителей; но все равно, мужчине нужно любить, и для того, чтобы он стал влюблен, ему нужен красивый заголовок, который возбудит его любопытство. Женщина несет его на поверхности своей головы. Счастливы, и очень счастливы Армелины, которые, имея прекрасный заголовок, прекрасны и сами до того, что превосходят все ожидания.
Очень довольный своим завоеванием и уверенностью, что я достигну вскоре совершенного счастья, я вернулся в мою комнату, где нашел Маргариту глубоко спящей на канапе. Я быстро разделся и, не делая никакого шума, загасил свечу, улегся и погрузился в сон, в котором сильно нуждался. При моем пробуждении в полдень, Маргарита мне сказала, что очень красивый месье приходил ко мне в десять часов, и что, не осмелившись меня будить, она развлекала его до одиннадцати.
– Я сделала ему кофе, – сказала она, – который он нашел очень хорошим; он сказал мне, что придет завтра, и не захотел назвать свое имя. Он один из самых любезных мужчин, кого я знала. Он дал мне в подарок эту монету, которой я не знаю; я надеюсь, что вы не будете недовольны.
Это был флорентинец; он дал ей монету в две унции. Это заставило меня рассмеяться, и, совершенно не ревнуя Маргариту, я сказал, что она хорошо сделала, приняв его, и еще лучше – приняв монету, которая стоит сорок восемь паоли. Она нежно меня обняла и благодаря этому приключению избавила от упреков, которые выдала бы мне за столь позднее возвращение. Любопытствуя узнать, кто был этот феникс Тосканы, который был столь щедр, я прочел письмо донны Леонильды. Это был г-н ХХХ, негоциант, поселившийся в Лондоне, который был рекомендован ее мужу кавалером с Мальты; он был в Марселе, откуда прибыл морем; он был свободен, любезен, воспитан и щедр; она заверяла меня, что я его полюблю. Рассказав мне множество вещей о своем муже, своей матери и обо всем своем семействе, она кончала письмо, сказав, что она счастлива быть беременной, на шестом месяце, и что она окажется еще более счастливой, если Бог (потому что Бог есть творец всего) окажет ей милость родить мальчика. Она просила меня поздравить с этим маркиза.
То ли от натуры, то ли из-за воспитания, эта новость заставила меня задрожать. Я ответил ей несколько дней спустя, отправив мое письмо открытым, включив в одно из поздравлений, которые я написал ее мужу, что милости, которые посылает господь, никогда не приходят слишком поздно, и что ни одна новость не была для меня более интересной. Леонильда в мае родила мальчика, которого я видел в Праге на коронации императора Леопольда, у принца де Розенберг. Он носил имя маркиз де ла К., как и его отец, который дожил до восьмидесяти лет. Хотя мое имя было ему неизвестно, я ему представился и насладился беседой с ним, в другой раз, на спектакле. Он был вместе с аббатом, очень образованным, которого он называл своим гувернером; но он в нем не нуждался, так как в свои двадцать лет обладал умом, каким мало кто из людей обладает в шестьдесят. Что мне доставило истинное удовольствие, и из самых приятных, это то, что этот мальчик был похож на ныне покойного маркиза, мужа своей матери. Это размышление вызвало у меня слезы и размышления об удовлетворении, которое это сходство должно было причинить этому доброму человеку, как и матери. Я написал ей и передал письмо сыну. Оно достигло ее лишь по возвращении сына в Неаполь, в карнавал 1792 года, и я сразу получил ответ, в котором она приглашала меня приехать на свадьбу своего сына, и кончить свои дни в ее доме. Может быть, я поеду.
В три часа я нашел принцессу де Санта Кроче в кровати и кардинала, который составил ей компанию. Первое, что она меня спросила, было – что заставило меня покинуть оперу в конце второго акта. Я ответил, что могу рассказать ей историю протяженностью в шесть часов, очень интересную относительно деталей, но не могу ее рассказывать, не получив предварительно карт бланш, потому что там имеются обстоятельства, которые я должен обрисовать слишком близко к натуре. Кардинал спросил у меня, не есть ли это нечто во вкусе бдений с М.М., и услышав, что это именно в этом вкусе, спросил у принцессы, не хочет ли она побыть глухой. Она ответила, что я могу на это рассчитывать, и я рассказал им всю историю примерно в тех же словах, как я ее описал. Устрицы и жмурки заставили ее смеяться, несмотря на глухоту. Она пришла в конце к заключению, вместе с кардиналом, что я вел себя хорошо, и выразила уверенность, что я завершу работу при первой же оказии. Кардинал сказал, что в течение двух или трех дней я получу освобождение от запрещения для жениха Эмили, с которым тот сможет жениться, где захочет.
Назавтра, в девять часов, г-н ХХХ пришел повидать меня, и я нашел его таким, каким мне описала его маркиза; но я имел против него зуб по поводу давешнего комплимента, который еще вырос, когда он спросил у меня, замужем ли мадемуазель, которая была со мной в театре, или она свободна, и есть ли у нее отец и мать, либо другие родственники, от которых она может зависеть. Я попросил его с улыбкой, слегка желчной, избавить меня от вопросов о том, что касается этой мадемуазели, так как в театре она была в маске. Он покраснел и попросил у меня пардону. Поблагодарив его за честь, что он оказал Маргарите, приняв у нее чашку кофе, я попросил доставить мне то же удовольствие, заверив, что приду к нему завтракать завтра. Он жил у Ролана, напротив Св. Карла, где жила Габриели, известная певица, которую прозвали Когетта, и за которой принц Д.Г.Баттисто Боргезе усердно ухаживал.
Как только этот юный флорентинец ушел, я полетел в С. Павел, где мне не терпелось увидеть мину, которую сотворят мои весталки, которых я столь хорошо просветил. Они явились передо мной, имея на лицах выражение, вполне противоположное тому, которое имели в предыдущие дни. Эмилия стала веселой, а Армелина – грустной. Я сразу сказал Эмили, что в течение трех дней я принесу ей самое полное освобождение от запрета публикаций, и в течение недели, не позднее, в руках у начальницы будет записка кардинала Орсини на получение четырехсот экю и ее отпуск из дома, и что в тот же день я принесу ей двести экю, происходящих от пожертвований, которые я получу, как только получу сертификат о ее замужестве. Вне себя от этой новости, она покинула решетку, чтобы бежать донести ее до начальницы.
Тогда я взял руки бедной Армелины и, запечатлев на них поцелуи, которые шли от сердца, молил ее отринуть свой грустный вид.
– Что я буду здесь делать, – сказала она, – без Эмили? Что я буду здесь делать, когда вы уедете? Я несчастная. Я себя больше не люблю.
Я думал, что умру от скорби, видя ее плачущей, после того, как она сказала мне эти слова. Я не мог сдержаться. Я дал ей слово, что не покину Рим, пока не увижу ее замужней и не передам ей приданое в тысячу экю.
– Меня не заботит тысяча экю; слово, что вы мне дали, не уезжать из Рима, пока не увидите меня замужней, запали мне в душу, и я не хочу ничего сверх того; но если вы меня обманете, я умру. Будьте в этом уверены.
– Даю вам слово, и я умру скорее, чем вас обману. Простите, моя дорогая Армелина, за любовь, которая меня, быть может, слишком сбила с пути позавчера.
– Будьте моим верным другом, и я вам прощу все.
– Позвольте мне поцеловать в первый раз ваш прекрасный рот.
После этого поцелуя, который обещал мне все, о чем я мог мечтать, она осушила свои слезы, и пришла Эмилия вместе с начальницей, которая сказала мне все, что могла сказать самого любезного. Она сказала, что я должен поинтересоваться другой девушкой, которую она рассчитывает дать в подруги Армелине, когда Эмилия уйдет. Я пообещал ей сделать все, что она мне прикажет, и в то же время попросил позволить, чтобы они пошли со мной в этот вечер на комедию в «Тор ди Нона».
Как только они остались одни, я попросил у них прощения, если распорядился ими без их согласия. Эмилия сказала, что они были бы настоящими монстрами, если бы после всего того, что я сделал для них, они могли бы мне в чем-то отказать.
– А вы, моя прекрасная Армелина, вы откажете мне в нежности?
– Нет, мой друг, но в границах, которые диктует разум. Никаких жмурок, например.
– Ах, мой Бог! Это такая милая игра. Вы меня огорчаете.
– Придумайте другую, – сказала Эмилия.
Эмилия вдруг разгорячилась, и это мне не нравилось, потому что я испугался, что Армелина заревнует. Я мог этого опасаться, зная людское сердце, без малейшего самомнения.
Я ушел, покинув их, чтобы снять ложу в «Тор ди Нона», а затем харчевню, чтобы снова заказать ужин в тех же комнатах, не забыв устриц, несмотря на то, что был уверен, что в них теперь больше не будет надобности. После этого я отправился искать скрипача, чтобы поручить ему достать мне три билета на бал, где я смогу надеяться не быть никем узнанным. Я объяснил ему, что буду один вместе с двумя девицами, которые не танцуют.
Возвращаясь к себе и собираясь пообедать в одиночестве, я получил записку от маркизы д’Ау, которая упрекала меня за то, я не прихожу пообедать с ней, и повернул обратно; я пришел туда и нашел там флорентинца. В продолжение этого обеда я узнал многие из его достоинств; я нашел его таким, каким мне описала его донна Леонильда. Маркиза спросила меня к концу обеда, почему я не остался в опере до ее окончания.
– Потому что девушки устали.
– Они не из дома посла Венеции, как вы говорили; я в этом убеждена.
– Вы правы, мадам; извините мою маленькую ложь.
– Это было сделано, чтобы не говорить мне, кто они; но их знают.
– Тем лучше для любопытствующих.
– Та, что говорила со мной, заслуживает вызвать любопытство у кого угодно; но на вашем месте я посоветовала бы ей присыпать немного пудрой волосы.
– Я не обладаю такой властью, и Боже меня сохрани ей указывать.
Флорентинец понравился мне тем, что не сказал на это ни слова. Я заставил его много говорить об Англии и о торговле, которую он ведет. Он сказал мне, что направляется во Флоренцию, чтобы вступить во владение своим наследством, и в то же время подыскать себе супругу, чтобы вернуться в Лондон женатым. Я сказал ему, уходя, что буду иметь честь увидеть его лишь послезавтра из-за неотложного дела, которое у меня возникло. Он на это предложил мне прийти к нему в полдень, чтобы доставить ему удовольствие пообедать со мной.
Полный счастья, я отправился за своими девушками, и мы стали наслаждаться комедией. Приехав в харчевню, я приказал коляске вернуться в два часа, мы пошли в комнаты и расположились у огня, пока слуги занимались открыванием устриц, которые теперь уже нас не так интересовали, как в прошлые разы. Девушки приняли по отношению ко мне манеру поведения, которая соответствовала их теперешнему состоянию. Эмилия выглядела как персона, которая, продав в кредит хороший товар, сохраняет вид ожидания за него хорошей цены от покупателя. Армелина, нежная, смеющаяся и слегка смущенная, говорила мне глазами и напоминала мне о слове, которое я ей дал. Я отвечал ей лишь зажигательными поцелуями, которые ее ободряли и в то же время заставляли предвидеть, что я хотел бы в значительной мере увеличить свои притязания, которые связывал с ее особой. Она казалась мне смирившейся, и, с довольством в душе, я за столом занимался только ею. Эмилия, накануне своего замужества, и не думала переживать о том, что я пренебрегаю ею из чувства уважения, которое мне кажется необходимым, к таинству, которое она готовится совершить.
После нашего ужина, веселого и чувственного, как обычно, я уселся на широкой софе с Армелиной, где провел три часа, которые могли бы быть для меня сладчайшими, если бы я не добивался упорно от нее последней милости. Девушка никак не хотела на нее согласиться. Ни мои ласки, ни слова, ни, зачастую, мои вспышки раздражения не могли заставить ее потерять свою нежность. Ласковая у меня в руках, то смеющаяся, то, порой, любовно печальная, в красноречивом молчании, она никак не разрешала мне того, чего я продолжал все время желать, никак не выражая, однако, на лице, что она мне отказывает. Это казалось загадкой, но, однако, ею не было. Отсутствие согласия не было отказом, но фактически таковым становилось. Она вышла из моих объятий девственной, удрученной, быть может, что не смогла преодолеть своего долга. Принужденному самой природой кончить, все еще влюбленному и мало удовлетворенному, мне оставалось только попросить у нее прощения. Это было единственным средством, что подсказывала мне природа, обеспечить мне ее согласие в следующий раз.
Одевшись, печально веселые, мы разбудили Эмилию, которая спала, как будто была в собственной кровати, и, отвезя их домой, я едва добрался до своей постели, смеясь над упреками, которыми меня осыпала Маргарита.
Флорентинец дал мне небольшой обед тет-а-тет, на котором изысканные яства и их вкус вернули мне способность хоть немного думать. Что меня поразило, это знаки истинной дружбы с его стороны, обязывающие заявления, щедрые предложения денег, если я в них нуждаюсь. Этому должно было быть объяснение, но я его не находил. Он увидел Армелину, она ему понравилась, я его резко оборвал один раз, когда он заговорил со мной о ней, больше он об этом не разговаривал, и на этом обеде он не поднимал вопроса о ней. Я вынужден был думать о симпатии; я даже счел своим долгом проявить благодарность и оплатить ему тем же. Я предложил ему пообедать у меня и пригласил на обед Маргариту, не испытывая к которой ревности, подумал, что она может ему понравиться. Он не встретил бы с ней трудностей, потому что он ей понравился, и они оба были бы мне благодарны; но он ничего такого не сделал. Она обратила внимание на маленькое колечко, что было у него на часовой цепочке, и он попросил у меня позволения сделать ей этот подарок; я согласился, и это должно было сказать все; но положение осталось там же.
В неделю все сделалось с замужеством Эмили. Я учел пожертвования в ее пользу, чтобы выплатить ей деньги, и в тот же день, как она вышла из монастыря, она вышла замуж и уехала в Чивитавеккия со своим мужем. Три дня спустя Меникуччио женился на своей возлюбленной, и Армелина вышла к решетке на следующий день с начальницей и новой девушкой, которой могло быть на два или три года больше, чем ей, которая была очень красива, но которая лишь посредственно интересовала меня, влюбленного в Армелину, мечтающего о полной над ней победе, так что ко всем остальным объектам я мог быть только равнодушен. Начальница мне сказала, что эта девушка, которую зовут Схоластика, станет теперь неразлучной подругой Армелины, и что она уверена, что та заслужит мое уважение, потому что она столь же умна, как Эмилия, но что в ответ я должен проявить внимание к тому интересу, который она испытывает к мужчине, имеющему очень хорошую профессию и готовому жениться на ней, как только он заимеет три сотни экю, чтобы заплатить за разрешение на брак. Он был сыном кузена Схоластики в третьем колене; она называла его своим племянником, хотя он был старше нее; милость эту было нетрудно получить, заплатив денег, но чтобы получить ее гратис (даром), мне нужно было найти кого-то, кто испросит эту милость у святого отца. Я пообещал ей поговорить об этом.
Карнавал подходил к концу, и Схоластика никогда не видела ни оперы, ни комедии. Армелина хотела увидеть бал, и я, наконец, нашел один, где, мне казалось, можно было быть уверенным, что никто нас не узнает; но дело могло иметь последствия, следовало принять предосторожности; я спросил, не хотят ли они одеться мужчинами, и они от всего сердца согласились на это. У меня была ложа в театре Альберти на другой день после этого бала, так что я известил их попросить позволения у начальницы и ждать меня к вечеру, когда я приеду за ними, как обычно, в коляске дома Санта Кроче. Хотя и обескураженный сопротивлением Армелины и присутствием ее новой подруги, которая, как мне казалось, не заслуживала того, чтобы быть с ней грубым, я переправил в харчевню, куда мы всегда приезжали, все, что необходимо, чтобы одеть этих девушек мужчинами.
Армелина, садясь в коляску, сообщила мне дурную новость о том, что Схоластика ни о чем не догадывается, и что мы не должны ничего себе позволять в ее присутствии. У меня не было времени ей ответить. Села вторая, и мы отправились в харчевню, где, едва мы поднялись в комнату, где был разведен добрый огонь, я сказал тоном, который показывал, что если они желают чувствовать себя вполне свободно, я могу перейти в другую комнату, хотя там и холодно. Говоря это, я показал им мужские одежды. Армелина ответила, что достаточно будет, если я повернусь к ним спиной, добавив:
– Не правда ли, Схоластика?
– Я сделаю, как ты, но мне очень неловко, так как я уверена, что я вас стесняю. Вы любите друг друга, и все очень просто: я мешаю вам обмениваться знаками любви. Я не ребенок. Я твой друг, а ты не относишься ко мне как к подруге.
На это высказывание, полное здравого смысла, которое, однако, для такого заявления требовало изрядной доли ума, я облегченно вздохнул.
– Вы правы, прекрасная Схоластика, – сказал я ей, – я люблю Армелину, но она ищет предлога, чтобы не давать мне таких знаков, потому что она меня не любит.
Говоря эти слова, я вышел из комнаты и закрыл дверь. Я занялся тем, что развел огонь во второй комнате. Четверть часа спустя Армелина постучала в дверь и попросила открыть. Она была в штанах. Она сказала, что я им абсолютно необходим, потому что туфли слишком малы, и они не могут их обуть. Поскольку я был обижен, она бросилась мне на шею, и ей было легко меня успокоить; я привел ей мои резоны, покрывая поцелуями все, что видел, когда Схоластика застала нас врасплох, разразившись взрывом смеха.
– Я была уверена, – сказала она, – что я вам мешаю; но раз вы не вполне мне доверяете, я вас заверяю, что не смогу завтра иметь удовольствие пойти с вами в оперу.
– Ладно, – сказала ей Армелина, – тогда поцелуй также моего друга.
– Ну вот.
Эта щедрость Армелины мне не понравилась, но я не стал из-за этого лишать Схоластику поцелуев, которые она заслужила, и я бы дал их, даже если бы она была некрасива, потому что такая любезность их вполне заслужила. Я даже дал их ей вполне любовно, чтобы наказать Армелину, но я заблуждался. Я увидел, что она очарована, она нежно обняла свою подругу, как бы благодаря ее за любезность, и затем я зашел вместе с ними в их комнату, чтобы посмотреть, в чем дело. Я заставил их сесть и увидел, что необходимо послать за башмаками для них; я дал местному слуге это поручение вместе с приказом вернуться обратно вместе с сапожником, чтобы тот принес все башмаки, что были у него в лавке. Пока мы ожидали сапожника, любовь не позволила мне ограничиться с Армелиной простыми поцелуями. Она не осмелилась отказать ни мне ни себе, но как бы для самооправдания заставила меня доставить Схоластике такие же ласки, что я оказывал ей, и Схоластика, чтобы ее успокоить, сама шла на то, что я мог бы потребовать, если бы был влюблен в нее. Эта девушка была очаровательна, она не уступала Армелине ни в чем, кроме нежности и тонкости черт лица, которое было совсем иным. Игра, в сущности, мне не была неприятна, но размышление наполняло меня горечью. То, что я наблюдал, давало мне уверенности, что Армелина меня не любит, и что если вторая не оказывает мне никакого сопротивления, то это лишь для того, чтобы ее подруга не стеснялась, и чтобы уверить ее, что она может довериться ей полностью. Прежде, чем пришел сапожник, я вполне убедился в необходимости постараться быть во вкусе Схоластики. Мне стало вдруг любопытно посмотреть, не изменит ли Армелина поведение, когда я покажу себя действительно влюбленным в ее подругу, и если та продолжит оказывать мне то отношение, которое должно будет показаться ей выходящим за рамки приличий, потому что до этого момента мои руки не заходили за те границы, которые обозначали штаны на ее талии.
Пришел сапожник, и в несколько минут они были прекрасно обуты. После этого я помог им облачиться в их одежды и увидел двух очень красивых девушек, очень элегантно одетых мужчинами и достойных того, чтобы вызывать зависть к моему счастью у всех, кто увидит их со мной. Приказав, чтобы ужин был готов к полуночи, мы спустились и направились в дом, где давался бал, и где можно было поспорить, что меня не узнают, потому что скрипач, которому я заплатил за три билета, заверил меня, что это будет компания торговцев.
Я вхожу в залу вместе с моими двумя преображенными особами, и первое увиденное лицо, которое меня поражает, – это маркиза д’Ау вместе со своим мужем и с аббатом. Приветствия с той и с другой стороны и обычные шутки относительно моих двух «друзей», которые, не имея никакого светского опыта, держатся как оглашенные; но что меня до смерти огорчает, это большая девица, которая, окончив менуэт, делает реверанс Армелине, приглашая ее танцевать с ней. Эта девица – флорентинец, которому взбрела фантазия одеться мадемуазелью. Получилась совершенная красотка. Армелина, решив не выглядеть дурочкой, говорит ему, что она его узнает, на что он разумно отвечает, что она, возможно, ошибается, потому что у «нее» есть брат, совершенно на нее похожий, как впрочем и у «него» есть сестра, имеющая то же лицо, с которой «ее» брат говорил в ложе театра Капраника. Этот разговор, ловко проведенный флорентинцем, вызвал смех у маркизы и, хотя и скрепя сердце, я принял в нем участие. Поскольку Армелина, уклонилась от танцев, маркиза усадила ее между собой и флорентинцем, и маркиз д’Ау завладел Схоластикой. Мне осталось только уделить внимание маркизе и даже не смотреть на Армелину, с которой флорентинец вел беседы, захватившие ее целиком. Ревнуя как тигр, и вынужденный это скрывать, – читатель может себе представить, как я страдал и как раскаивался, что пошел на этот бал! Но жестокость моего положения возросла, когда я увидел, четверть часа спустя, что Схоластика отошла от маркиза д’Ау и разговаривала, стоя в углу зала, с мужчиной, ни молодым, ни старым, который с благородным видом, кажется, ведет с ней интересную беседу.
Менуэты прервались, приготовились к контрдансу, и я был удивлен, увидев Армелину, приготовившуюся танцевать с флорентинцем, она – как мужчина, он – как дама. Я подошел к ним, чтобы похвалить, и самым ласковым тоном спросил у Армелины, уверена ли она, что может танцевать контрданс.
Месье мне сказал, – ответила мне она, – что я не смогу ошибиться, делая все как он.
Мне нечего было ответить. Я пошел к Схоластике, очень заинтересованный мужчиной, с которым она беседовала. Она представила его мне с застенчивым видом и сказала, что это ее племянник, тот самый, который мечтает составить ее счастье, получив разрешение жениться. Удивление мое было велико, но я его превосходно скрыл. Я высказал ему все, что мог сочувственного и благородного, сказав, что начальница предупредила меня и что я теперь думаю о том, чтобы получить благословение Святого Отца, так, чтобы разрешение на брак не стоило ни су ни ему, ни ей. Он поблагодарил меня, сказав, что он небогат, и я успокоился, увидев, что он ни в малейшей степени не ревнует.
Я оставил Схоластику с ним и смотрел с удивлением на Армелину, которая чувствовала себя очень хорошо, совершенно не меняясь в лице. Флорентинец, который вполне владел ситуацией, превосходно ее обучал; они выглядели как два счастливца; я чувствовал себя негодяем, что не сделал ни малейшего комплимента после контрдансов Армелине, но воздал похвалы флорентинцу, который превосходно изображал даму; он настолько хорошо оделся, что можно было подумать, что у него есть грудь. Так хорошо его нарядила м-м д’Ау. Не будучи достаточно уверен в себе, чтобы пренебречь наблюдением за тем, что делала Армелина, я не захотел танцевать, но постарался скрыть малейшие признаки досады. Схоластика, все время со своим женихом, занятая интересными для них обоих разговорами, меня не беспокоила. Она беседовала с ним непрерывно все три часа, вплоть до того момента, когда я подошел к ним спросить, не желает ли она уходить. Это было около полуночи, момента, который, мне не терпелось, чтобы наступил, потому что переживания, которые меня мучили, заставляли меня тысячу раз проклясть этот бал и удовольствие, которое я вздумал доставить этим девушкам.
Но затруднение мое стало велико в половине двенадцатого. Это была суббота, и все собрание ожидало полуночи, чтобы отправиться ужинать и пойти есть скоромное, либо в харчевни, либо туда, куда они намеревались идти. Маркиза д’Ау, которую наивности Армелины очаровали, сказала мне непринужденно и в то же время повелительно идти ужинать к ней, вместе с моими двумя компаньонками.
– Мадам, я не могу принять эту честь, и мои две компаньонки знают тому причину.
– Эта (Армелина) сказала мне только что, что это зависит только от вас.
– Это не так, поверьте мне.
Я повернулся к Армелине и, смеясь, и со всей возможной нежностью, которую мог изобразить, сказал ей, что она хорошо знает, что должна быть у себя не позднее половины первого, и она ответила искренне, что это правда, но, несмотря на это, все зависит от меня. Я ответил ей немного грустно, что не считаю для себя возможным нарушать данное слово, но тем не менее она может заставить меня его нарушить. Тогда маркиза, маркиз и флорентинец стали уговаривать Армелину использовать свою власть и заставить меня нарушить мое предполагаемое слово, и Армелина осмелилась обратиться ко мне с настоятельной просьбой. Я взбесился, но решился пойти на все, но не дать заподозрить во мне ревности. Я сказал Армелине самым естественным тоном, что и сам этого хочу, если согласится ее подруга, и она ответила с довольным видом, который рассек мне сердце, чтобы я пошел и попросил ее доставить ей это удовольствие.
После этого я пошел, уверенный в своем выигрыше, на другой конец залы и рассказал Схоластике, в присутствии ее жениха, обо всем происходящем, попросив в то же время не соглашаться на это, но так, чтобы меня не скомпрометировать. Ее родственник одобрил мою осмотрительность, но Схоластике и не нужно было, чтобы я просил ее сыграть роль этого персонажа, она ясно мне сказала, что ни за что не согласится идти ужинать с кем бы то ни было. Она пошла со мной, и дорогой я подсказал ей, что она должна поговорить с Армелиной наедине. Я подвел ее к маркизе, пожаловавшись, что у меня ничего не вышло. Схоластика попросила извинения и сказала Армелине отойти с ней в сторонку и выслушать, что она хочет ей сказать. Они поговорили, затем вернулись грустные, и Армелина сказала, что, к ее сожалению это совершенно невозможно. Маркиза более не настаивала, и к полуночи мы ушли. Я посоветовал возлюбленному Схоластики пока молчать, предложив прийти пообедать со мной на второй день поста. Это был человек сорока лет, скромный, приятный и вполне расположивший меня в свою пользу.
Ночь была очень темная, как и должно быть к концу карнавала, я вышел из дома с двумя девушками, уверенный, что за нами не следят, и пошел за коляской туда, где, как я знал, она должна быть. Выйдя из ада, где я страдал на протяжении четырех часов как проклятый, я прибыл в харчевню, не говоря ни слова ни одной ни другой и не отвечая на разумные вопросы, что, вполне естественно, задавала мне Армелина. Схоластика мстила за меня, упрекая ее за то, что вынуждена была заставлять меня либо показаться невежливым, либо ревнивым, либо пренебречь своим долгом. Когда мы вошли в нашу комнату, Армелина вдруг изменила мое состояние ревнивой ярости, превратив его в сочувствие, я увидел ее прекрасные глаза, с явными следами слез, которые справедливые упреки Схоластики заставили ее пролить в коляске. Ужин был уже сервирован, они успели только снять свои башмаки. Я был грустен, и с полным на то основанием, но печаль Армелины меня огорчала, я не мог отнести ее только на мой счет; я должен был ее развеять, хотя ее источник должен был ввергать меня в отчаяние, потому что я мог его отнести только к предпочтению, которое ей оказывал флорентинец. Наш ужин был великолепен, Схоластика оказывала ему честь, но Армелина, против обыкновения, ничего не ела. Схоластика излучала веселье, она обнимала подругу и приглашала ее участвовать в ее радости, потому что, поскольку ее возлюбленный стал моим другом, она исполнилась уверенности, что я помогу ей и ему, как помог Эмилии. Она благословляла этот бал и случай, который ее туда привел. Она доказывала Армелине, что у той нет никакого резона грустить, потому что была уверена, что я люблю единственно ее.
Но Схоластика ошибалась, и Армелина не осмеливалась ее разубеждать, высказав истинную причину своей печали. С моей стороны, самолюбие мешало мне ее сказать, потому что я знал, что был неправ. Армелина думала о том, чтобы выйти замуж, я был не создан для нее, а прекрасный флорентинец ей подходил. Наш ужин окончился, а Армелина так и не восстановила хорошего настроения. Она выпила только один стакан пунша и ничего не ела, я не настаивал, чтобы она выпила больше, из страха, что ей будет плохо. Схоластике, наоборот, понравился этот приятный напиток, который она пила в первый раз, и она предалась ему без удержу, наслаждаясь, что, вместо того, чтобы оседать в желудке, он ударяет в мозг. В своем веселом состоянии она сочла своей обязанностью восстановить наш мир и уверить нас, что не будет лишней, присутствуя при всех демонстрациях нежности, которыми мы будем обмениваться.
Она поднялась из-за стола и, нетвердо держась на ногах, перетащила свою подругу на софу и прижала к себе, осыпав ее сотней поцелуев, которые заставили грустную Армелину рассмеяться. Она подозвала меня, заставила сесть рядом с собой и передала ее в мои руки. Я дарил ей любовные ласки, которые Армелина не отвергала, но и не возвращала обратно, что надеялась увидеть Схоластика, а я не надеялся, потому что она никогда бы не выказала их в присутствии Схоластики и что она выдавала мне три часа подряд, лишь когда Эмилия глубоко спала. Схоластика, не желая быть уличенной в посредничестве, обратилась ко мне: она упрекнула меня в холодности, от которой я был далек. Я предложил им снять с себя мужские одежды и переодеться обратно в женские. Говоря так, я помог Схоластике снять свои одежды, и Армелина сделала то же самое. Я принес им их рубашки, и Армелина предложила мне отойти к огню; но две минуты спустя звук поцелуев привлек мое внимание. Схоластика, разгоряченная пуншем, покрыла поцелуями грудь Армелины, которая, наконец, развеселилась, и стала делать то же самое, передо мной, по отношению к своей пылающей подруге. В этом состоянии Схоластика не сочла дурным, что я отдал справедливость красоте ее грудей, став как бы ребенком у ее сосков. Армелина, впрочем, постыдилась демонстрировать передо мной такую же страсть, как ее подруга, и Схоластика торжествовала, видя в первый раз применение, которое я нашел рукам Армелины, которая, ревнуя, к ее победе, заставила Схоластику делать мне то же. Та все сделала, и удивление этой девушки, новичка в этом деле, несмотря на ее двадцать лет, мне понравилось.
После извержения я передал им их рубашки и, со всем приличием, освободил их от их штанов. После этого они, обнявшись, удалились в кабинет и, возвратившись, уселись у меня на коленях. Схоластика, отнюдь не раздосадованная предпочтением, которое я сначала отдал секретным красотам Армелины, казалось, была этим очарована; она наблюдала за моими действиями и манерой, с которой Армелина встречала мои предприятия, с самым большим вниманием, надеясь увидеть то, что я сам хотел бы ей показать, но что Армелина не хотела мне предоставить. Не имея возможности кончить там, где мне бы хотелось, я остановился, подумав, что у меня есть долги и перед Схоластикой, у которой я также хотел раскрыть перед моими глазами все красоты, которые прикрывала длинная рубашка. Любезная подруга не оказала мне никакого сопротивления. Она была слишком уверена в том, что вопрос назрел. Было слишком трудно решить, какая из двух прекраснее, но у Армелины было преимуществом то, что она была любима; красота лица Схоластики была иная. Я нашел ее столь же нетронутой, как и Армелина, и по манере, с которой она держалась, я ясно понял, что она позволит мне все; но я боялся злоупотребить моментом. Это был слишком прекрасный триумф, чтобы быть ему обязанным опьянению. Я кончил, сделав однако все, что может проделать знаток, чтобы доставить очаровательному объекту, который лишают удовольствия, все возможное удовлетворение. Схоластика пала, погрузившись в сладострастие, убежденная, что я ускользнул от ее устремлений только из чувства уважения и деликатности.
Армелина, смеющаяся и наивная, поздравила нас обоих. Я был этим польщен, Схоластика просила у нее прощения. Я отвез их в их монастырь, заверив, что назавтра заеду за ними, чтобы отвезти в оперу, и отправился спать, не зная, проиграл или выиграл я в той партии, которую вел. Я был в состоянии это решить только назавтра, при пробуждении.
Извлечение из глав IV и V [7]
После оперы в Масленичное воскресенье Армелина, побуждаемая примером Схоластики, отдалась мне, и я наслаждался их обществом в последний раз, в последний день карнавала, восседая на лошади в костюме Пьеро, полагая не быть никем узнанным. Но вот что случилось. Я остановился около Триумфальной колесницы и был удивлен при виде маски-воина, в костюме древних римлян, положившего левую руку на узду моей лошади и подающего правой рукой перо и бумагу женской маске в костюме королевы, стоящей рядом с ним. Королева что-то пишет, передает бумагу воину, который подает мне ее, отпуская в то же время повод моей лошади. В тот же момент раздается музыкальное вступление, и все маски около колесницы мечут в меня горстями драже. После чего следует в такт марш. Я читаю записку, не ожидая ничего, кроме обычного памфлета, но удивлен, прочтя следующее:
– Дерзкий Пьеро, трепещи: это твоя судьба, я спасла тебя в Мурано в Венеции, но этой ночью я приговариваю тебя к смерти, ты отдашь богу душу, сменяя рубашку.
Я тотчас догадываюсь, что воин не может быть никем иным как кардиналом де Бернис, а королева – его прекрасной принцессой. Только он может напомнить мне то, что случилось семнадцать лет назад. Экспромт может быть только его. Я отхожу от колесницы, иду в дверь кафе и пишу эти четыре стиха, затем возвращаюсь к колеснице и подаю их королеве.
– Я подчиняюсь твоему приговору, очаровательная богиня; но, относительно моей смерти, позволь мне самому ее выбрать. В моем преступлении я, как добрый христианин, исповедуюсь воину. Я искуплю вину, довольный, полагаясь на святой крест.
На второй день поста я получил от начальницы все бумаги, необходимые для женитьбы Схоластики, и принцесса и кардинал сделали все так хорошо, что она покинула монастырь после Пасхи и вышла замуж.
В первое воскресенье поста маркиза д’Ау дала мне обед, вместе с флорентинцем ХХХ, который, объявив мне свои добрые намерения относительно Армелины, не встретил с моей стороны никаких препятствий к тому, чтобы сделать меня главным действующим лицом, которое в этом деле послужит ей вместо отца. Я все проделал в неделю. Он передал ей приданое в 10 000 экю, которое депонировал в банке Святого Духа, и после Пасхи женился на ней, затем увез ее во Флоренцию, а оттуда – в Англию, где она живет сейчас счастливо.
По этому случаю я был представлен кардиналу Орсини, который, будучи президентом Академии Бесплодных [8] , оказал мне честь сделать ее членом. Он предложил мне прочесть оду в честь Страстей нашего Господа И.Хр. на первой ассамблее, которая должна была состояться в Страстную Пятницу. Чтобы написать эту оду, я решил провести несколько дней за городом и выбрал Фраскати, где полагал, что смогу жить в одиночестве. Я дал слово Мариучче нанести ей визит. Она заверила, что мне будет приятно познакомиться с ее семейством, и мне это было любопытно.
Я выехал за три недели до Пасхи; я прибыл во Фраскати к вечеру, и на другой день, послав за парикмахером, увидел у себя мужа Мариуччи, который сразу меня узнал.
Сказав, что он торгует зерном, что он весьма удачен в делах и что занимается парикмахерским делом только для собственного удовольствия, он предложил мне комнату, и очень за скромную цену, и пригласил меня обедать. Мое удивление было велико, когда он сказал, что представит мне мою дочь, которую он при крещении назвал Жакоминой. Я счел, что не должен это признавать, я посмеялся, я сказал ему, что это невозможно, и он хладнокровно мне ответил, что я это признаю, когда ее увижу. Мне стало очень любопытно: вот еще одна интрига, что может иметь некие последствия; но эта девочка в любом случае может быть лишь ребенком девяти-десяти лет, и мое отцовство может быть поставлено под очень большое сомнение, потому что парикмахер женился на Мариучче через четыре недели после первого нежного предприятия, что я имел с ней.
Но в полдень физиономия девочки меня поразила. У нее были все мои черты, в улучшенном виде, и она была намного более красива, чем Софи, которую я имел от Терезы Помпеати и которую оставил в Лондоне.
Жакомина была очень крупная для своего возраста, и очень хорошо сложена. Я смотрел на нее очень немного, но увидел, что она внимательно меня изучает, погрузившись в молчание. Я воспользовался первым же моментом, чтобы спросить у Мариуччи, на основании чего ее муж смог мне сказать, что Жакомина моя дочь, и она ответила, как ни в чем не бывало, что он в этом уверен, так же как и она, и что это не мешает ему любить ее более других своих детей.
– Но малышка не знает, что она не дочь твоего мужа.
– Нет, конечно. Такие секреты не доверяют детям.
Я нашел дом Мариуччи очень простым, и комната, которую предложил мне ее муж Клемент, мне понравилась, и я сказал, чтобы перенесли из гостиницы мои вещи.
Мариучча предупредила меня с глазу на глаз, что я буду обедать с женщиной, еще девушкой, которую зовут синьора Вероника, которая держит школу рисования, где учится Жакомина, делая при этом удивительные успехи.
– Эта женщина придет, – сказала мне она, – со своей, наверное, племянницей, красивой и очень искусной, большой подругой Жакомины. Ей тринадцать лет. Ее тетя тебя знает; но гораздо лучше она знает твоего брата Дзанетто. Мы много о тебе говорили, и она будет приятно удивлена, когда тебя увидит.
Действительно, так и было, когда она меня увидела, но не более, чем я, когда увидел ее племянницу, которая оказалась похожа на моего брата более, чем можно себе представить. Я все понял. М-м Вероника, сидя за столом рядом со мной, сказала мне, что юная девушка – дочь ее сестры, которая умерла; за десертом она мне сказала, что я буду ей шурином, если мой брат был порядочный человек. Она не могла сказать мне больше, чтобы я мог догадаться, что ее так называемая племянница на самом деле ее дочь, и что я – ее дядя. При этой новости я понял, что буду любить эту племянницу, и что было забавно и необычно, – я склонился к этой любви из соображений мести. Я оставляю для ученых, более знающих, чем я, объяснение феноменов этого рода. Мою красивую племянницу звали Гильельмина, и в продолжение время обеда я все время убеждался в том, что она очаровательна. Жакомина говорила очень мало, но, как мне показалось, много думала. После обеда я пошел прогуляться на виллу Лодовичи.
Какие размышления владели мной, когда я очутился в местах, где двадцать семь лет назад был с донной Лукрецией. Я осматривал места и находил их более прекрасными, при том, что не только я сам не был уже тем же, но хуже по всем своим способностям, за исключением опыта, которым я злоупотреблял и который не возмещал мне утерянного, если не считать способности рассуждать. Несчастное преимущество! Размышление вогнало меня в тоску, безжалостную мать мысли о смерти, которую у меня не было силы рассматривать как стоику. Это всегда было превыше моих сил, я не мог этого постичь и никогда не постигну. Эта слабость никогда не делала меня трусом, но, ненавидя тем не менее ее причину, я никогда не мог понять, как человек мыслящий может быть к ней равнодушным.
Я отстранил, как всегда, от себя эти мрачные мысли, подумав о том, что, за исключением Кортичелли, я составил счастье всех девушек, которых любил. Люсия из Пасеан кончила дни в жалком состоянии лишь потому, что, из чувства порядочности, я ее уважал. Она стала добычей подлого курьера, который мог привести ее лишь к гибели.
К вечеру я вернулся к себе и оставался у себя в комнате до времени ужина. Я провел впустую четыре часа, работая над началом оды на тему об Искуплении, которую я обещал кардиналу Орсини. Ода – это композиция, которая не зависит от желания поэта. Она не может выйти ни из его головы, ни из-под его пера, если ее не направит сам Аполлон. Однако Аполлон насмехался надо мной, потому что, призывая его, я думал о Гильельмине, которая этому богу была безразлична. Я ужинал с Клементом и его женой, которая была беременна; он надеялся на мальчика. Я мог этого ему только пожелать.
Он оставил меня наедине со своей женой, и это был очень вежливый поступок; но в тот момент я нашел ее слишком буржуазной. Я провел очень приятный час, но только за болтовней. Мариучча была переполнена своим счастьем, и, полагая, что обязана им мне, не могла помешать себе любить его автора, но не обожать его. Это были естественные чувства, которые ничего не стоили; в этом плюсе были свои минусы. Я видел, что Мариучча – в моем распоряжении, но я хотел только Гильельмину. Она сказала мне, что ее тетя оставила ее вместе с Жакоминой.
– Они наверху, – сказала она, – лежат в одной кровати. Я уверена, они глубоко спят; не хотите ли пойти на них взглянуть?
Мы пошли туда на цыпочках. Я увидел две кровати; в одной спали ее две младшие дочки, в другой я увидел Гильельмину и мою дочь, обе спящие на спине, обе красивые и украшенные розами, которые часто цветут на щеках у девочки или мальчика, когда они спят. Покрывало позволяло видеть нежные груди обеих. У моей дочери она была еще не выраженная, но у другой – напоминала припухлости, имеющиеся на голове теленка перед тем, как вырасти рогам. Не было видно ни их рук, ни предплечий. Какой вид! Какое очарование! Мариучча смеется над моим восхищением, но хочет его увеличить. Она тянет медленно на себя покрывало и выставляет перед моим вожделеющим взором, двумя очаровательными образами, картину, которая тем более для меня нова, что явилась неожиданной. Я вижу два символа невинности, которые, каждый протянув ладонь к своему животу, держит слегка изогнутую руку у признаков своего созревания, лишь пускающихся в рост. Их более изогнутые средние пальцы покоятся неподвижно на маленьком участке плоти, почти незаметном. Это был единственный момент в моей жизни, когда я с очевидностью понял настоящее устремление моей души, и был этим вполне удовлетворен. Я ощутил восхитительный ужас. Это новое чувство заставило меня своей рукой прикрыть двух голышек; руки мои дрожали. Какое предательство! Этот случай был для меня столь же нов, как и жесток. Мариучча не обладала достаточным умом, чтобы понять его величие. Она простодушно выдала наибольший секрет двух невинных душ в момент их наибольшей беспечности. Они могли бы умереть от страдания, если бы их разбудили в тот момент, когда я наблюдал их прекрасную позу. Лишь их абсолютная неосведомленность могла бы спасти их от смерти, и я не мог предположить ее у них.
Я немедленно вышел из комнаты, и Мариучча вышла вслед за мной, провожая меня в мою комнату, и там произошло то, что, разумеется, не произошло бы, если бы не картина, которая меня поразила; однако Мариучча, вместо того, чтобы принять факт за наказание, сочла его вознаграждением за удовольствие, которое она, как она думала, мне доставила. Я оставил ее думать, что она хочет, и она пошла спать со своим мужем. Увы! Случай не был умышленным. Если бы она меня не успокоила, я не мог бы заснуть.
Я проснулся на рассвете и посмеялся, раздумывая о моей оде. Я ощутил себя рабом Гильельмины. Я мог писать стихи только о ней. Купидон противостоял стрелам грустного Аполлона, который мог бы только опустить свой лук с скорбной темой смерти создателя. В момент, когда Клемент меня причесывал, вошли две прелестные подружки. Жакомина несла мне на блюдце мой шоколад, другая держала в руках свиток. Это были рисунки. У обеих на лицах были запечатлены черты веселости, оживленной невинностью, душевной чистотой и доверчивостью. Если бы они знали о том, что случилось ночью, они бы не смогли явиться передо мной. Гильельмина не пережила бы, если бы ей сказали, что вследствие того, что я увидел, я до безумия влюбился в нее.
Первым чувством девушки, обладающей действительными зачатками ума, бывает чувство кокетства; это единственное, что она ценит, потому что это единственное, что убеждает ее в возможности привязать к себе любовника. Гильельмина, в своем возрасте, возненавидела бы меня, если бы поняла, что, вследствие того, что увидели мои глаза, я, независимо от нее, стал ее повелителем. Что касается моей дочери, девятилетней, у нее не могло быть столь зрелых мыслей. Я попросил их показать мне произведения их карандаша.
Проявив некоторое смущение, они раскрыли мне тетрадь. Почти все фигуры были обнаженные, мужчины, женщины, статуи, группы детей, все было красиво, все скопировано с превосходных образцов. Аполлон Бельведерский, Антиной, Геркулес, и Венера Тициана, которая лежала, держа руку там же, где я видел у этих добрых девушек. Движение души, которое я наблюдал в этот момент и которое доставило мне наибольшое удовольствие, был диспут, возникший между моей дочерью и Гильельминой.
Моя дочь не хотела позволить, чтобы я остановился рассмотреть эту Венеру, и Гильельмина посмеялась над ней. Она предположила, что я не должен останавливать свое внимание ни на Антиное, ни на Аполлоне, потому что, будучи мужчиной, я не смогу найти ничего для себя нового в этих рисунках, и к тому же, они не должны показывать, что сами осмелились на эти рисунки. Удовольствие, что я получил от этого диспута, освежило мне душу, но я был в затруднении, когда они избрали меня арбитром в их споре.
– Я не знаю, – сказал я им наконец, – кто из вас двоих прав; но если учитывать удовольствие, которое доставляют мне ваши рисунки, скажу вам, что Венера меня интересует более, чем Антиной.
Забавно было то, что они обе сочли, что одержали победу, и Гильельмина не захотела слушать более подробного объяснения. Всю свою жизнь я придавал очень большое значение этим пустякам, потому что они помогали мне проложить дорогу к сердцу объектов, к завоеванию которых я стремился.
Они пошли в школу, и, когда я оделся, я направился с визитом к синьоре Веронике. Я увидел там семь-восемь девушек, все очень молодые. Ни одна не могла меня отвлечь от Гильельмины. Чтобы иметь предлог часто заходить в эту школу, я попросил хозяйку сделать мой портрет в миниатюре; будучи небогатой, она должна была быть обрадована возможностью заработать семь цехинов, и на следующий день я предложил другие шесть цехинов Гильельмине за мой карандашный портрет, в домашнем платье и ночном колпаке. Для этого она должна была приходить ко мне очень рано. На следующий день, чтобы ей не пришлось терять много времени, Жакомина сказала, что та должна оставаться спать вместе с ней, ее мать Мариучча согласилась, и тетя Гильельмины также легко согласилась. Все случилось, как я и ожидал. На четвертый день моего пребывания во Фраскати Гильельмина пришла одна ужинать с нами и, чтобы удалить из головы моей дорогой Жакомины всякую мысль о ревности, я купил у ее отца золотые часы с аграфом и подарил их ей после ужина. Малышка сошла с ума от радости; под предлогом благодарности она принялась осыпать меня сотней ласк, которые я принимал с некоторой осторожностью, сохраняя осанку отца. Весь городок переговаривался на ушко, что наверняка я ее отец, и Мариучче и ее мужу это не было неприятно. Жакомина в этом сомневалась, но не знала, какое направление дать мыслям, которые крутились в ее юной голове. Она начала, бросая мне вызов, приходить в мою кровать после того, как я уже лег, и насмехаться над здравомыслящей Гильельминой, которая не осмеливалась поступать так же. Я награждал мою дочь только нежными поцелуями в ее красивые глаза и рот, в присутствии Гильельмины, которая смеялась над этим баловством. Я говорил ей небрежно, что четыре года разницы ничего не значат, и что я относился бы к ней также как к ребенку, если бы она оказалась на месте Жакомины. Такое пренебрежение возымело, наконец, на протяжении трех или четырех дней должный эффект. Я дал ей шесть цехинов за ее рисунок, который ее тетя отретушировала, и в тот же вечер она легла рядом со мной, в то время как моя дочь – по другую сторону, и была обрадована тем, что я оказываю ей такие же ласки: поцелуи в изобилии и ничего больше. Когда им надоедало, они шли спать в свою комнату, но я был уверен, что Гильельмина чувствовала, получая от меня поцелуи, что я имею намерения более основательные, чем показываю. Утром, перед тем, как идти в школу, они рассказывали в моем присутствии Мариучче, каким образом они мне досаждают в моей постели, прежде чем идти спать. Добрая женщина смеялась, уже зная, чем дело кончится.
Три или четыре дня спустя Жакомина заснула, или сделала вид, что заснула, и Гильельмина несколько минут спустя сделала то же самое и предоставила мне делать, что я хочу, вплоть до некоторой точки, когда она решила, что должна проснуться. Состояние, в котором она меня увидела, показалось ей настолько спокойным, что она сочла в своих интересах ни на что не жаловаться. Она захотела оставить меня в уверенности, что, пребывая во сне, она ничего не заметила, и, разбудив Жакомину, ушла с ней вместе, но на следующее утро я сделал ей подарок – хорошенькое колечко, которое стоило по меньшей мере пятьдесят экю и которое вызвало благодарности со стороны ее тети вечером за ужином. Рисунок был окончен, она предложила отвести Гильельмину домой, и я очень испугался. Моя дочь воспротивилась этому, проливая слезы, и синьора Вероника, смеясь, согласилась. Она сказала, что я имею все основания любить ее племянницу, так же как и Жакомина. Она сочла, что высказала этим невыразимую тайну.
После ее ухода юные девушки, оставшись со мной одни, сговорились закрутить со мной интригу и, увидев меня в постели, явились меня бесить, как они мне сказали; но как только моя дочь благополучно заснула, я не прибег к низости позволить моей дорогой Гильельмине во второй раз воспользоваться той же самой стратагемой. Я ясно видел, что могу рассчитывать на ее нежность, и я не ошибся. Я обратился к ней на языке любви в самых экспрессивных выражениях, не ожидая ее ответов и пришел к великому свершению, лишь когда услышал ее стоны. Она отдалась мне, не заботясь о том, что Жакомина, сидя, с удивлением и внимательно смотрит на то, что мы делаем. С окончанием сладкой битвы Жакомина стала объектом наших ласк, и мы нисколько не сомневались в ее будущем молчании, но она хотела, чтобы мы ей все объяснили, и хотела увидеть очень подробно, как все происходит. Мы должны были в последующие дни удовлетворить ее любопытство. Я напрасно пытался убедить ее, что невозможно, в силу ее возраста, доставить ей такой же опыт; она призывала меня попробовать, она взывала к моей жалости, Гильельмина, наконец, сочла себя обязанной сказать ей, что вероятно она моя дочь, и что я не должен подвергаться риску совершить злодейство, которое сделает нас обоих несчастными на всю жизнь. Она ужаснулась, после чего стала рассудительней, погасив по возможности свой пламень. То, что породила в ней природа, только увеличило мое сладострастие, и Гильельмина не могла счесть дурными те шалости, лучшей участницей которых сама стала. Но случилось счастливое событие, подобное многим другим, которые сделали меня суеверным.
На другой день за столом Мариучча напомнила мне о том счастье, которое она испытала в Риме, дав мне номер, на который я сыграл, и который принес выигрыш всей компании. Жакомина сказала, что у нее есть номер, в котором она уверена, и, не дожидаясь, что у нее спросят, что это за номер, назвала двадцать семь. Мариучча издает крик, вспомнив, как и я, что номер, который она дала мне, был тоже двадцать семь.
Ничего больше и не требовалось; я сказал, что хочу на него сыграть; Клемент говорит, что во Фраскати больше нельзя играть, что следует отправить его на розыгрыш в Рим. Тираж лотереи должен был состояться послезавтра. Я требую, чтобы отправили сразу надежного человека в Рим, и Клемент говорит, что поедет сам. Я поддерживаю его, и он отправляется заказывать лошадь и облачаться в курьера.
Я пишу двадцать семь, распределив ставку на пятерых, выложив двадцать пять римских экю. Пятеро – это Марикучча, Клемент, Жакомина, Гильельмина и синьора Вероника. Я кладу вторые двадцать пять экю на меня, распорядившись, чтобы их разыгрывали вторым тиражом. Я даю пятьдесят экю, Клемент сразу уезжает, пообещав, что вернется к обеду.
Мариучча говорит, что уверена, что мы выиграем, но моя дочь грустна.
– Мы выиграем, – говорит мне она, а вы нет. Почему вы решили, что этот номер выпадет вторым, а не первым, третьим, четвертым или пятым?
– Потому что мне нравится полагаться целиком на фортуну. Потому что это во второй раз мне дают это число двадцать семь и потому что я хочу выиграть в пять раз больше, чем вы все остальные.
– Но это в пять раз труднее. Мне кажется, что вы плохо подумали.
– Если двадцать семь выпадут во втором тираже, я везу вас всех в Рим и буду содержать всю святую неделю.
– Боже, дай, чтобы они выпали.
Клемент вернулся в одиннадцать часов, отдав мне мою ставку и оставив себе другую. После ужина Мариучча мне сказала на ухо, что не забыла сменить простыни. Я поблагодарил ее, нежно поцеловав и заверив, что мы поедем в Рим.
Гильельмина стала моим ангелом. В эту вторую ночь я нашел ее такой влюбленной, что простил моему брату все его глупости. Я хотел застать его еще в Риме, чтобы выразить ему свою признательность и поблагодарить за то, что он сотворил эту игрушку для утешения моей души. Гильельмина вздыхала в моих объятиях, думая о жестоком моменте, когда я ее оставлю. Я счел возможным предложить ей жениться, если ее тетя на это согласится. Она отвечала, что уверена, что ее тетя согласится, но я был уверен в обратном. Бедное дитя, она не знала, что она дочь моего брата.
Но какая радость воцарилась послезавтра, когда увидели объявленные пять номеров римской лотереи! Во втором тираже было двадцать семь. Жакомина прыгнула мне на шею, и вслед за ней – весь дом. Синьора Вероника пришла убедиться, вся в благодарностях. Она увидела, что благодаря мне стала обладательницей ста пятидесяти римских экю, а Клемент – двухсот двадцати пяти. Я выиграл восемьсот семьдесят пять экю, и мне отнюдь не повредила эта сумма, потому что моя казна, после трат карнавала, подошла к концу.
Римский экю стоит пол-цехина. Моя дочь насмешила всю компанию, спросив у меня, почему я не сыграл на этот номер по второму тиражу для всех. Клемент меня обнял и заявил, что он также поставил на этот номер десять экю на второй тираж. Он получил 750 экю; я его с этим сердечно поздравил. Я подтвердил свое слово отвезти их всех в Рим на всю Святую неделю. Синьора Вероника уклонилась от этого из-за своей школы, и Клемент – из-за своей лавки. Группа составилась из Мариуччи с Жакоминой и Гильельминой и меня. и мы отправились в воскресенье на рассвете.
Какое блаженство было видеть объект моего обожания среди этих трех созданий! Такие прекрасные моменты в моей жизни делали меня в сотню раз счастливей, чем дурные – несчастным. Я отвез их к себе, ругаясь с Маргаритой, которая скорчила недовольную гримасу, когда я приказал ее матери застелить мне две кровати в комнате, соседней с моей, где жил Черути. Заказав матери Маргариты обеды и ужины на пятерых вплоть до второго дня Пасхи, я отвозил их в коляске Ролана к Св. Петру и повсюду в течение всей недели. Маргариту успокоило то, что я доставил ей удовольствие обедать вместе с нами, и она не нашла чего возразить, когда я сказал ей, что в эти восемь дней я не смогу позволить ей входить в мою комнату после ужина. Я предоставил ей вообразить, что та, что будет спать со мной – это синьора Маиучча. Увидев Жакомину, ей не составило труда догадаться, что она моя дочь, и что я должен был любить ее мать за десять лет до того. Она вообразила о Гильельмине все, чего хочет. Мариучча после ужина пошла спать, и две юные девушки явились в мою комнату, как они это делали во Фраскати. Я провел восемь дней вполне счастливо, хотя и по очень дорогой цене, потому что потратил более четырех сотен цехинов на ткани, полотно и разного рода украшения, не забыв о синьоре Веронике, которой Гильельмина отнесла все подарки, что я ей купил.
В ночь на святой четверг я сочинил оду, которую прочел на следующий день на собрании Бесплодных, где увидел кардинала де Бернис и кардинала Ж.-Батиста Реццонико, который просил меня дать ему копию моей оды, которую я прочел наизусть, проливая потоком слезы. Все академики плакали. Лучший способ заставить плакать – плакать самому; но следует уметь изображать на лице страдание, которое сможет взволновать, не делая гримас; у меня оно было, и стихи вызывали во мне, и вызывают еще, то чувство, о котором говорят. Кардинал де Бернис, который знал мой образ мыслей, сказал мне четыре дня спустя, что никогда не предполагал во мне такого большого комедианта. Я поклялся ему, что в тот момент я был искренен, и, подумав, он заключил, что такое могло быть.
На второй день Пасхи я отвез во Фраскати Мариуччу с дочерью и Гильельмину, чье отчаяние разрывало мне душу. Я там пообедал, поужинал и спал последний раз, и м-м Вероника была тронута моей щедростью, когда Гильельмина подарила ей все то, что я ей предназначил, но доставила мне большие затруднения, когда я явился туда попрощаться перед отъездом. Она вызвала меня на разговор, между нами, и сказала, что, видя слезы Гильельмины, она не может помешать себе думать, что я внушил ей любовь, и, высказав несколько весьма грустных соображений, просила меня дать ей слово чести, что между нами не было ничего серьезного. Я заверил ее словом чести, что слезы девушки происходят только из чувства любви, порожденного благодарностью, и, казалось, она была удовлетворена.
Можно ли требовать от порядочного человека во имя чести выдать секрет, который сама честь запрещает выдавать? Бог знает, что я вытерпел при этом жестоком расставании. Все расставания суть безнадежны, и последнее кажется более жестоким, чем предыдущие. Я бы умер сотню раз, если бы Бог не дал мне добрую душу, которая легко принимает свою участь и успокаивается в немногие дни. Было бы ошибкой называть это забвением. Забвение происходит от слабости; успокаиваться путем замещения – это сила, которую можно отнести в ранг добродетелей. Гильельмина, впрочем, была счастлива. Она стала четыре года спустя женой художника, который известен еще и сейчас. Это Клемент передавал мне эти новости каждый раз, когда я, испытывая любопытство, писал ему. Он разбогател и вернулся в Рим семь или восемь лет спустя, объединившись с торговцем зерном, который женился на Жакомине. Но этот брак не был счастливым. Она осталась вдовой в возрасте двадцати лети уехала из Рима с графом из Палермо, который женился на ней после смерти своей жены.
Когда я покинул Венецию, в 1783 году, Господь должен был бы направить меня в Рим или в Неаполь, или в Сицилию, или в Парму, и моя старость, судя по всему, была бы счастливой. Мой гений, который всегда прав, направил меня в Париж, чтобы спасти моего брата Франсуа, которого я застал обремененным долгами, в тот момент, когда он должен был отправляться в Тампль. Я не озабочен тем, что он мне обязан своим возрождением, но поздравляю себя с тем, что так поступил. Если он был мне благодарен, я чувствую себя вознагражденным; мне больше нравится, когда он несет груз своих долгов на своих плечах, что ему должно быть время от времени тяжело. Он не заслуживает более тяжкого наказания. Сегодня, в мои 73 года, мне нужно только жить в мире и вдали от любой персоны, которая могла бы посчитать, что имеет права на мою моральную свободу, потому что невозможно, чтобы некий род тирании не сопровождал это представление.
После слишком оживленной поездки во Фраскати я провел шесть недель в Риме в обществе дома Санта Кроче, в моей Академии Аркад и без всякого нового любовного увлечения. Маргариты, которая меня все время веселила, мне было достаточно.
В то время отец Стратико, который сейчас епископ Лесина и который познакомил меня с прекрасной маркизой Шижи из Сиены, приехал в Рим, чтобы получить звание Маэстро. Это докторантура монахов-доминиканцев. Я получил удовольствие присутствовать на экзамене, который он должен был сдать, чтобы получить свидетельство теолога убиквисте (по всем разделам). Теологов-экзаменаторов было четверо и присутствовал генерал ордена. Эти монахи, весьма строгие, ставили перед кандидатом проблемы, весьма острые, по всем разделам теологии; складывалось впечатление, что они стараются предстать перед своим генералом людьми учеными, ставя в затруднительное положение претендента, который, если случайно он оказывался более знающим, чем они, должен был это скрывать, потому что они его бы опровергли и его высказывание осталось бы безответным; мой читатель, думаю, знает, что такое наука теология. Испытывая любопытство к этой потешной процедуре, над которой сам Стратико втайне посмеивался, я отправился утром его повидать, думая найти его со св. Фомой в руке и в консультациях с так называемыми Отцами; но вместо этого он был с картами в руке, внимательно следя за партией в пикет против другого монаха, который ругал свою фортуну.
– Я полагал, – сказал я ему, – что найду вас погруженным в учение.
Он ответил (на латыни):
– Полезно иметь ученика.
Я оставил его, заверив, что увижу его в его битве, где для меня будет праздником услышать аргументацию знаменитого Мамачи. Ах, как я страдал! Претендент был не то что на табурете, но на скамье, как осужденный. Он должен был повторять от себя аргументы in forma, кратко, своих четырех палачей, для которых удовольствием было приводить силлогизмы высших, которые не кончались никогда. Я находил, что они все были ошибочны, потому что были абсурдны; но я поздравлял их с тем, что мне не позволено было говорить. Не будучи теологом, я полагал, что разобью все их аргументы с помощью здравого смысла; но я ошибался: здравый смысл чужд всей теологии, и особенно спекулятивной; и Стратико меня в этом убедил теологически в тот же день в доме, куда привел меня с ним поужинать.
Его брат, профессор математики университета в Падуе, прибыл в это время в Рим, приехав из Неаполя с молодым шевалье Морозини, у которого служил гувернером. Он сломал себе ногу во время походов, которые его безумный ученик заставил его совершать; он приехал в Рим, чтобы завершить лечение. Общество этих братьев графов Стратико, благородных, ученых и без предрассудков, доставляло мне удовольствие, вплоть до того, что, когда они уехали, я также покинул Рим, где я весьма развлекся, но очень поиздержался. Я направился во Флоренцию, попрощавшись со всеми своими знакомыми и особенно с кардиналом, который все дожидался, что Луи XV призовет его снова в Версаль.
Такова судьба всех людей, которые, после того, как побывали министрами при великом дворе, вынуждены жить вдали от него, либо без всякого назначения, либо с поручением, которое делает их зависимыми от министров – их преемников. Ни богатство, ни философия, ни соображения мира, спокойствия или другое счастье не могут их утешить; они томятся, они вздыхают и живут только надеждой, что их еще призовут. Таким же образом, в сравнении, находим мы в истории, что монархи, отказавшиеся от трона, более многочисленны, чем министры, по своей воле отказавшиеся от министерства. Это соображение заставляло меня чаще желать быть министром, чем королем; следует полагать, что министерство обладает непонятным очарованием, и мне это любопытно, потому что я не вполне это понимаю.
Я выехал из Рима в начале июня 1771 года один, в моей коляске с четырьмя почтовыми лошадьми, хорошо оснащенный, очень хорошо себя чувствующий, и тем не менее решивший вести образ жизни, совершенно отличный от того, которому я следовал до этого момента. насытившийся и довольный теми удовольствиями, которыми я наслаждался тридцать лет подряд, я думал о том, чтобы не то, чтобы отказаться от них совсем, но не заниматься в будущем только тем, чтобы срывать цветы, отказываясь от постоянных занятий. С этой целью я направился во Флоренцию без всяких писем, решив никого не видеть, отдавшись целиком учебе. Илиада Гомера, которая со времени моего отъезда из Англии составляла час или два моих ежедневных занятий, на языке оригинала, породила во мне желание перевести ее итальянскими стансами; мне казалось, что переводчики на итальянский ее исказили, за исключением Сальвини, которого никто не мог читать по причине его сухости. У меня были схолиасты, я отдавал должное Попу, но я находил, что в своих писаниях он мог бы сказать намного больше. Флоренция была городом, где я думал этим заняться, удалившись от всех.
Другие соображения побуждали меня принять это решение.
Мне казалось, что я старею. Сорок шесть лет казались мне значительным возрастом. Я склонялся к тому, чтобы искать радостей любви менее оживленной, менее соблазнительной, чем та, которой я наслаждался до того, и последние восемь лет моя физическая мощь постепенно снижалась. Я нашел, что моя бодрость не восстанавливалась после самого длинного сна, и что мой аппетит за столом, который до того любовь лишь обостряла, становится меньше, когда я люблю, как и когда я веселюсь. Кроме того, я замечал, что больше интересуюсь зрелищем прекрасного пола, мне нужно было разговаривать, мне стали предпочитать соперников, стали делать вид, что, оказывают мне милость своими тайными свиданиями, но я не мог более претендовать на жертвы. Меня, наконец, стало беспокоить, когда я видел молодого вертопраха, которому мои старания, что я демонстрировал по отношению объекта его любви, не внушают никаких опасений, и когда сам объект, оказывая мне милость, желает обойтись со мной без всяких последствий. Когда обо мне говорили: это мужчина среднего возраста, я с этим соглашался, но мне было досадно. Все это, в те моменты, когда, оказавшись один, я погружался в себя, заставляло меня прийти к выводу, что я должен думать о прекрасном уходе. Я видел даже, что вынужден к этому, потому что видел, что мне вскоре не на что будет жить, после того, как я потрачу все свои накопления. Все мои друзья, чьи кошельки были для меня открыты, умерли. Г-н Дарбаро, умерший от чахотки в этом году, смог оставить мне в своем завещании лишь несчастные шесть цехинов в месяц пожизненно, и г-н Дандоло, единственный друг, который у меня еще оставался, мог мне давать лишь еще шесть, и он был старше меня на двадцать лет. Я имел, по своем отъезде из Рима, семь или восемь сотен римских экю, и мои драгоценности – часы, табакерки, красивые кинжалы – имели малую ценность, принося мне более неприятностей, чем добра, потому что выставляли меня богатым, и амбиции вынуждали меня держать марку. Осознание этой реальности заставило меня принять разумное решение заявиться во Флоренцию одетым просто и без всякой роскоши. Проделав это, сказал я себе, в случае, если нужда заставит меня продать мою мебель, никто ничего не узнает.
С этим планом я прибыл во Флоренцию менее чем за два дня, нигде не останавливаясь, поселился в трактире, никому не известном, и отправил мою коляску на почту, так как у трактирщика, которого звали Ж.-В. Аллегранти, не было места, куда ее поставить.
Достаточно хорошо поместившись в маленькой комнате, найдя хозяина гостиницы приличным и разумным и видя вокруг женщин только старых и некрасивых, я решил, что смогу жить здесь спокойно, избегая риска делать разные соблазнительные знакомства.
На следующее утро после приезда я оделся в черное, со шпагой на поясе, и отправился во дворец Пью, чтобы представиться эрцгерцогу. Это был Леопольд, который умер семь лет назад. Он давал аудиенцию всем тем, кто представлялся, я счел своим долгом направиться прямо к нему, не позаботившись пойти сначала к графу де Розенберг. Собираясь жить спокойно в Тоскане, я решил, что для того, чтобы гарантировать себя от неприятностей, зависящих от шпионажа и естественных подозрений полиции, я должен представиться непосредственно начальнику. Итак, я пошел в приемную и записал свое имя, после имен всех других, присутствовавших там в ожидании очереди на аудиенцию. Маркиз Пацци, который был в их числе, и которого я знал в Риме у маркизы, не помню, то ли урожденной Фрескобальди из Флоренции, то ли вдовы маркиза этого имени, подошел ко мне, чтобы выразить мне удовольствие видеть меня у себя на родине. Он сказал мне, что провожал до Болоньи г-на ХХХ, который возвращался в Англию со своей молодой женой-римлянкой, которая затмит всех красавиц Лондона. Он сказал, что рассказывает это мне, так как во время своего пребывания во Флоренции тот много обо мне говорил, надеясь меня увидеть по возвращении из Рима. Я поблагодарил его за добрые вести, потому что я весьма заинтересован в счастье прекрасной пары.
Мне было бы неприятно застать Армелину во Флоренции, так как я еще любил ее и мог бы видеть, что ею обладает другой, лишь с крайним огорчением в душе.
Читатель должен был заметить, что в том месте, где я говорил о ее замужестве за щедрым и очаровательным г-ном Х…, я не останавливался ни на каких обстоятельствах, которые его сопровождали. Причина этого в том, что у меня не нашлось силы полно описать это событие, воспоминание о котором причиняет мне боль. Маневры маркизы д’Ау, слезы Армелины, которая была влюблена во флорентинца, и слово чести, которое я ей дал, сделать ее его женой, когда я потребовал от нее последних милостей под этим условием, унизительным для нее и для меня, были мощными мотивами, которые заставили меня действовать вопреки желаниям моего сердца. Раскаиваясь в своем обещании, я вынужден был предложить мою руку Армелине, в присутствии начальницы, после того, как убедил ее в том, что я не женат. Армелина отвергла мое предложение, не словами, но слезами, и четыре слова м-м д’Ау окончательно меня унизили. Она спросила меня, в состоянии ли я дать этой прекрасной девушке приданое в 10000 римских экю. Этот гордый вопрос меня образумил, но ввел в большое горе мою душу. Я написал начальнице и самой Армелине, что я осознаю всю мою несправедливость, и что я надеюсь, что она простит мне все заблуждения моего ума под влиянием охватившей меня страсти, пожелав ей всего возможного счастья с г-ном Х…, которого я вполне узнал как более достойного ее, чем я. Единственная милость, которую я у нее просил, была освободить меня от присутствия на ее свадьбе, и эта милость мне была оказана, несмотря на сопротивление маркизы д’Ау, которая, принимая за пустяки все эти любовные переживания, считала, что люди разумные должны отвергать всякое их влияние. Принцесса Санта Кроче думала так же, как она, но кардинал де Бернис меня поддержал, потому что он был более философ, чем француз. Свадьба происходила у маркизы, и Меникуччио был на ней, вместе со своей супругой, так как у Армелины не было других родственников в Риме.
Именно с этим горем я явился во Фраскати, полагая, что там вырастет мой энтузиазм по отношению к оде на страсти Бога-человека; но мой благотворный Гений приготовил мне совсем иное утешение.
Порок – это не синоним преступления, потому что можно быть порочным, не будучи преступником. Таков я был всю мою жизнь, и смею даже сказать, что я часто бываю добродетелен в реальности порока, потому что справедливо, что любой порок противоположен добродетели, но это не разрушает универсальной гармонии. Мои пороки были всегда лишь моим бременем, за исключением случаев, когда я соблазнял, но соблазнение никогда не было для меня характерно, так как я всегда соблазнял, лишь будучи сам соблазнен.
Профессиональный соблазнитель, который делает это согласно своему замыслу, – человек мерзкий, по существу враг объекта, на котором он остановил свой выбор. Это настоящий преступник, который, если он обладает качествами, необходимыми для соблазнения, делается недостоин объекта, вводя его в заблуждение и делая несчастным.
Глава VI
Дениз. Медини. Занович. Зен. Мой вынужденный отъезд и мое прибытие в Болонью. Генерал Альбергати.
Я попросил в немногих словах у молодого эрцгерцога надежного убежища на все время, что я остановлюсь в его государстве, и, предвидя неизбежные расспросы, сказал ему, из каких соображений я не могу вернуться в Венецию. Я сказал ему, что в том, что касается необходимого для жизни, я ни в ком не нуждаюсь, и что я собираюсь заниматься исследованиями. Он ответил мне, что, при условии хорошего поведения, законы его страны достаточны для того, чтобы я в полной уверенности мог пользоваться необходимой мне свободой, но что, однако, я правильно сделал, что представился ему. Он спросил, с кем я знаком во Флоренции, и я ответил, что знаком с несколькими домами уже на протяжении десяти лет, но, желая жить сам по себе, я думаю не возобновлять знакомства ни с кем.
Таков был разговор, который я провел с этим принцем. Это было все, что, как мне казалось, я должен был сделать, чтобы избежать неприятностей. То, что случилось со мной десять лет назад, должно было быть забыто, или не иметь ни малейшего значения, так как прежнее правительство не имело ничего общего с нынешним. Я пошел в книжную лавку, где купил книги, которые мне нужны, и где мужчина благородного вида, видя, что я интересуюсь греческой литературой, заговорил со мной и меня заинтересовал. Я сказал ему, что работаю над переводом Илиады, и, откровенность за откровенность, он сказал мне, что занимается антологией греческих эпиграмм, которые хочет представить публике в переводе латинскими и итальянскими стихами. Проявив заинтересованность, он спросил, где я поселился, и я назвал ему мой адрес и мое имя, спросив, в свою очередь, его, с намерением его опередить. На следующий день я направился повидать его, он проявил такую же вежливость по отношению ко мне послезавтра; мы показали друг другу свои работы; обменялись сведениями о своих знакомствах, мы стали друзьями и оставались ими вплоть до моего отъезда из Флоренции, не испытывая нужды ни в совместных трапезах, ни в совместных выпивках, ни даже в совместных прогулках. Связь двух людей, любящих Литературу, зачастую исключает все удовольствия, которыми они могли бы наслаждаться, лишь отрывая свое время от литературных занятий. Этого благородного флорентийского джентльмена звали, или зовут, если он еще жив, Эверард Медичи.
По истечении месяца я решился покинуть дом Жан-Батиста Аллегранти. Мне там было хорошо, я пользовался там полными одиночеством и спокойствием, необходимыми мне для изучения Гомера, но больше уже не мог. Его племянница Мадлен, очень молодая, но уже оформившаяся, красивая и умная, сильнейшим образом отвлекала мое внимание при встречах, когда желала по утрам мне доброго дня, когда заходила по нескольку раз в мою комнату, чтобы узнать, не нужно ли мне чего. Ее присутствие, ее маленькие любезности меня соблазняли. Лишь мое опасение этого соблазнения защищало ее от моей атаки. Эта девушка стала впоследствии знаменитым музыкантом.
Итак, я съехал от ее дядюшки, сняв две комнаты у некоего буржуа, у которого была некрасивая жена и никаких племянниц. Магдалена Аллегранти стала первой актрисой Европы и по сей день благополучно здравствует. Она живет со своим мужем на службе у Выборщика Саксонского.
В моем новом жилище я прожил спокойно только три недели. Граф Стратико прибыл во Флоренцию вместе с шевалье Морозини, своим учеником, которому исполнилось тогда восемнадцать лет. Я не мог уклониться от того, чтобы повидаться с ним. Нога, которую он сломал, еще не окончательно зажила, и он не мог выходить со своим учеником, который, будучи подвержен всем порокам юности, заставлял его все время опасаться каких-либо несчастий. Он меня просил постараться привязать его к себе и стать, если это необходимо, компаньоном его развлечений, чтобы не пускать его одного туда, где он сможет найти дурную и опасную компанию.
Это прервало мои занятия и подорвало мою систему мирной жизни, я должен был из сентиментальных побуждений стать компаньоном дебошей молодого человека. Это был безумец, который не любил никакой литературы, ни порядочного общества, ни здравомыслящих людей: вскочить на лошадь, чтобы загонять ее, скача во весь опор, не боясь самому убиться, пить всевозможные вина до потери рассудка и грубо развлекаться с продажными женщинами – были его единственные страсти. Он держал местного слугу, который заодно был обязан поставлять ему ежедневно какую-нибудь девушку или женщину, которая в городе Флоренции не была бы известна как публичная женщина. За те два месяца, что он провел в Тоскане, я двадцать раз спасал ему жизнь; я изнемогал, но чувство обязательности не позволяло мне его покинуть; что касается затрат, я был не причем, так как он хотел все время платить сам, и по этому поводу мы частенько горячо спорили, потому что, сам все оплачивая, он требовал, чтобы я пил наравне с ним и занимался вместе с ним любовными утехами, либо с той же девицей, либо с другой; но по этим двум статьям я соглашался лишь в половинном размере. Лишь в Луке, куда мы заявлялись послушать оперу, он часто приводил с собой двух танцовщиц, одна из которых могла пленить и самых разборчивых. Шевалье, который, по своему обыкновению, раз слишком напился, смог воздать ей лишь малой справедливостью, но я за него отомстил, и, поскольку она приняла меня за отца этого сони, она сказала, что я должен дать ему лучшее воспитание.
После его отъезда, который случился, поскольку его гувернер окончательно выздоровел, я возобновил свои занятия, приходя, однако, каждый день ужинать к танцовщице Дениз, которая, оставив службу у короля Прусского и даже театр, удалилась во Флоренцию, где, возможно, живет и до сих пор. Она была примерно моего возраста, но, несмотря на это, вызывала еще любовные желания. Ей давали только тридцать лет, она обладала детской грацией, которая ее не портила, держалась по-дружески, была умна и держалась очень хорошо. Кроме того, она поселилась совершенно чудесно, на площади над первым кафе Флоренции, с балконом, на котором в жаркие ночи можно было пользоваться свежестью, услаждающей душу. Читатель может помнить, каким образом я стал ее другом в Берлине в году 1764. Когда я встретил ее в тот момент во Флоренции, наше былое пламя снова разгорелось. Главной квартиросъемщицей дома, где она жила, была та Бригонци, которую я встретил в Мемеле в тот год, когда направлялся в Петербург. Эта дама Бригонци, которая претендовала на то, что я якобы любил ее двадцать пять лет назад, часто поднималась к своей жилице вместе с маркизом Каппони, своим старым возлюбленным, мужчиной весьма любезным и украшенным многими наградами. Видя, что он со мной с удовольствием разговаривает, я облегчил ему возможность завязать со мной знакомство, зайдя к нему с визитом, который он мне вернул, оставив мне свою карточку. Он представил меня своему семейству, пригласил обедать, и это был первый день, когда я облачился со всей элегантностью и со всеми моими украшениями. Я познакомился у него со знаменитым любовником Кориллы, маркизом Женнори, который привел меня в дом Флоренс, где я не смог избежать своей судьбы. Я влюбился в мадам ХХ, вдову, еще молодую, литературно образованную, довольно богатую и знакомую с обычаями разных народов, проведшую шесть месяцев в Париже. Эта несчастная любовь сделала для меня неприятными последние три месяца, что я провел во Флоренции.
В это время прибыл граф Медини; это было начало октября, он не имел денег, чтобы заплатить возчику (веттурино), и вынужден был здесь остановиться. Он поселился у ирландца, бедного, несмотря на то, что всю жизнь тот был мошенником, и написал мне, умоляя прийти и избавить его от сбиров, которые окружили его в его комнате и собираются вести в тюрьму. Он говорил мне, что нет необходимости, чтобы я заплатил, но чтобы я дал только поручительство, заверяя, что я ничем не рискую, потому что он уверен, что будет в состоянии заплатить в течение нескольких дней.
Читатель может вспомнить причины, по которым я мог не любить этого человека, но, несмотря на это, я не нашел в себе силы не прийти ему на помощь, решившись даже поручиться за него, если он покажет мне, что вскоре сможет сам заплатить. Впрочем, сумма, как я думал, не должна была быть слишком велика. Я не понимал, почему сам трактирщик не мог оказать ему эту услугу. Но я все увидел и понял, как только вошел в его апартаменты.
Он встретил меня, бросившись обнимать, прося все забыть и выручить его из трудного положения. Я увидел, войдя туда, три пустых чемодана, потому что все вещи, что в них лежали, были разбросаны по комнате, его любовницу, которую я знал и которая имела основания меня не любить, его сестру, которой было одиннадцать или двенадцать лет и которая плакала, и его мать, которая ругалась и проклинала его, на чем свет стоит, называя Медини мошенником и говоря, что она пойдет в магистрат, чтобы заявить, что ей не позволили забрать ее платья и платья ее дочерей за его долг возчику. Я сразу спросил у хозяина, почему он не сделал поручительства, при том, что, имея у себя этих людей и все их имущество, он ничем не рискует. Хозяин ответил, что все то, что я здесь вижу, недостаточно, чтобы оплатить возчика, и что он не желает более держать в своем доме этих вновь прибывших. Пораженный тем, что всего, что я вижу, недостаточно, чтобы покрыть долг, я спросил, сколько же он составляет, и увидел запредельную сумму, подписанную самим Медини, который оставался спокойным, предоставляя, чтобы я сам разбирался. Сумма составляла 240 римских экю; но я не был уже столь удивлен, когда узнал, что этот возчик ему служил уже шесть недель, перевозя его из Рима в Ливорно, затем в Пизу, затем по всей Тоскане, и везде его содержал. Я сказал Медини, что возчик не может принять от меня поручительство на столь значительную сумму, но даже если он будет столь глуп, что примет, я ни за что не решусь его дать. Медини говорит мне пройти с ним в другую комнату, заверив, что он меня убедит. Два стражника хотели пройти туда вместе с нами, справедливо указывая, что должник может убежать через окно; я заверил их, что я его не пущу, и они разрешили пройти одним, и в этот момент пришел возчик, который, поцеловав мне руку, сказал, что если я поручусь за графа, он оставит его на свободе и даст мне три месяца на уплату долга. Этот возчик был тот, который увозил меня из Сиены вместе с англичанкой, которую соблазнил француз-комедиант.
Медини, великий болтун, наглец, лгун, смелый, никогда не отчаивающийся, решил меня убедить, показывая мне распечатанные письма, которые рекомендовали его в пышных выражениях первым знатным домам Флоренции; я их прочел, но не нашел ни в одном распоряжения дать ему денег; он мне сказал, что в этих домах держат банк, и что, играя там, он уверен, что заработает значительные суммы.
Другой источник заработка, который он мне показал, и который содержался в большом портфеле, была груда тетрадей, в которых содержались три четверти «Генриады» Вольтера, превосходно переведенной итальянскими стансами. Эти стансы, эти стихи не уступали стансам Тассо. Он рассчитывал закончить во Флоренции эту прекрасную поэму и представить ее эрцгерцогу; он был уверен не только в великолепном подарке, но и в том, что станет его фаворитом. Я рассмеялся ему в лицо, потому что он не знал, что эрцгерцог лишь притворяется, что любит литературу. Аббат Фонтэн, достаточно искусный, развлекал его натуральной историей, в остальном, этот принц ничего не читал и предпочитал дурную прозу самой прекрасной поэзии. То, что он любил, были женщины и деньги.
Проведя утомительные два часа с этим несчастным, полным ума, но лишенным здравого смысла, и очень раскаиваясь, что пришел к нему, я, наконец, очень коротко сказал ему, что не могу ответить за него, и направился к двери комнаты, чтобы уйти, но тут он посмел схватить меня за колет.
Отчаяние приводит людей к подобным поступкам. Медини, слепой от ярости, схватил меня за колет, не имея в руке пистолета, не помня, что я, возможно, сильнее его, что я избил его в кровь во второй раз в Неаполе, и что сбиры, хозяин, слуги были в соседней комнате; однако я не был настолько труслив, чтобы их позвать, я взял его обеими руками за шею, придушив, будучи больше его на шесть дюймов, и отстранив его от себя, так что он не мог сделать мне то же самое. Он немедленно отпустил мою грудь, и я сам схватил его за колет, спросив, не сошел ли он с ума; я открыл дверь, и стражники, которых было четверо, вошли внутрь. Я сказал возчику, что я ни за что не отвечаю, и в тот момент, когда я хотел выйти, чтобы окончательно уйти, Медини прыгнул в дверь, говоря, что я не должен его покинуть. Он хотел выйти силой, сбиры попытались его схватить, и началась битва, которая меня заинтересовала. Медини, безоружный, в комнатной одежде, принялся раздавать пощечины, удары кулаками и ногами четверым негодяям, из которых каждый, между тем, был при шпаге. Тут уж я, держась в дверях, помешал ирландцу выйти, чтобы позвать народ. Медини, окровавленный, потому что у него был разбит нос, в своей комнатной одежде и порванной рубашке, продолжал бить четверых сателлитов, пока они не убежали от него. В этот момент я пожалел несчастного и зауважал его. В наступившем молчании я спросил у двух ливрейных лакеев, присутствовавших там, почему они не двинулись с места, чтобы защитить своего хозяина. Один из них мне ответил, что он им должен плату за шесть месяцев, а другой мерзавец сказал, что сам хотел бы поместить его в тюрьму. Эта картина меня взволновала. Медини между тем возился с холодной водой, чтобы остановить кровь.
Возчик без уверток сказал мне, что если я не отвечаю за графа, он принимает это за мое заверение, что он должен отправить его в тюрьму.
– Дай ему, – сказал я, – пятнадцать дней отсрочки, и я обязуюсь письменно, если он за эти пятнадцать дней сбежит, выплатить тебе всю сумму.
Возчик, немного подумав, сказал, что он удовлетворен, но он не хочет тратить ни су на судебные издержки; подумав, что это его расходы, я решился заплатить, не обратив внимания на сбиров, которые претендовали на возмещение того, что он их побил. Слуги тут же заявили, что если я не отвечаю за их ущерб также, они подадут на арест их хозяина, и Медини сказал мне согласиться на их требование тоже. После того, как я записал все, что нужно, чтобы удовлетворить возчика, и заплатил четыре или пять экю, чтобы убрались сбиры, Медини сказал, что хочет еще поговорить со мной, но, даже не ответив ему, я повернулся к нему спиной и направился обедать. Два часа спустя один из двух его слуг явился ко мне, чтобы сказать, что если я пообещаю ему шесть цехинов, он придет меня известить, сразу, как только узнает, что тот решился сбежать. Я сухо ответил ему, что не нуждаюсь в его усердии, так как уверен, что граф заплатит все долги до окончания срока. На следующее утро я известил графа о предложении, которое сделал мне его слуга. Он ответил мне длинным письмом, полным благодарностей, стремясь также заручиться моей дружбой, чтобы, рассчитывая на нее, придать больше чести своим аферам, но я ему не ответил. Его добрый ангел привел между тем во Флоренцию некоего человека, который разрешил его затруднения. Это был Премислас Занович, который затем стал известен, как и его брат, который, обманув торговцев Амстердама, назвался принцем Скандербеком. Я буду говорить об этом в своем месте. Эти два великих мошенника оба плохо кончили.
Премислас Заннович, в счастливом возрасте 25 лет, был сын дворянина, урожденного Будны, последнего города Далмации, бывшего венецианского владения, граничащего с Албанией, принадлежащей ныне Турции: это бывший Эпир. Этот молодой человек, исполненный ума, получивший воспитание в Венеции, обучавшийся там, вхожий в общество и склонный к удовольствиям, которые предоставляются в этой прекрасной столице, не мог решиться вернуться в Будну вместе со своим отцом, когда столичная полиция решилась относительно него издать приказ вернуться на родину, чтобы мирно пользоваться там своей великой удачей, которую он имел, играя во все азартные игры в столице, в которой он пробыл пятнадцать лет. Премислас не чувствовал себя созданным для жизни в Будне. Он не знал, что там делать. Он нашел бы там лишь грубых простых эсклавонцев, с их дикими нравами, неспособных рассуждать, ни счастливых ни несчастных, рассматривавших казни как развлечение, бесталанных, без малейших познаний в искусстве или в литературе и безразличных ко всем событиям, которые интересуют Европу, из которой они получают новости, лишь когда какая-нибудь барка с запада или востока им их приносит. Так что Премислас и Этьен, его брат, одаренный талантами еще более, чем он, решились стать авантюристами, оба сразу, поддерживая между собой переписку, направившись один в полночные страны Европы, другой – в полуденные, решились подвергнуть их контрибуции, используя свой тонкий ум и находя дурней повсюду, где могли найти подходящую почву для своих шашней.
Премислас, которого я знал только ребенком, имел теперь определенную репутацию, потому что сумел обдурить в Неаполе шевалье де Морозини, заставив его выдать ему гарантию на 6 000 дукатов, прибыл во Флоренцию в прекрасной коляске, вместе со своей любовницей, двумя здоровенными лакеями и слугой, который служил ему курьером. Он роскошно поселился, нанял прекрасную разъездную карету, снял ложу в опере, нанял повара, компаньонку для своей прекрасной любовницы и явился в казен для благородного сословия, в одиночку, превосходно одетый и весь в украшениях. Известно было, что это граф Премислас Жанович. У флорентинцев есть казен, который они называют «для благородного сословия»; любой иностранец может туда прийти, не будучи никем представлен, но тем хуже для него, если у него нет, по крайней мере, кого-то из известных людей, которые подтвердят, что он достоин туда пойти, потому что подкованные флорентинцы будут держать его как бы в изоляции; он не осмелится явиться туда во второй раз. В этом казене читают газеты, играют в разнообразные игры, при желании там заводят галантные знакомства, там завтракают, либо полдничают, за плату. Флорентийские дамы туда тоже захаживают.
Жданович, держась со всеми приветливо, не слушая, когда к нему обращались с разговорами, рассыпаясь в реверансах то с одним, то с другим, поздравлял себя с тем, что пришел их повидать, разговаривал о Неаполе, откуда прибыл, делал сравнения, лестные для присутствующих, ловко вставлял свое имя, весьма крупно играл, проигрывал, теряя при этом хорошее настроение, платил, делая перед этим вид, что забыл, словом, понравился всем. Я узнал обо всем этом на другой день у Дениз, из уст знающего маркиза Каппони. Он сказал мне, что того спрашивали, знает ли он меня, и что он ответил, что при моем отъезде из Венеции он был еще в коллеже, но что он много слышал от своего отца, говорившего обо мне с большим уважением; шевалье де Морозини был его близкий друг, и граф Медини, который находился во Флоренции уже неделю, и о котором ему говорили, был ему также знаком, и он хорошо о нем отзывался. Будучи расспрошен маркизом, знаю ли я его, я ответил в том же духе, не считая себя обязанным рассказывать о том, что я знаю, и что могло бы быть для него неблагоприятным. Дениз высказала желание с ним познакомиться, и шевалье Пуцци пообещал ей его представить.
Это случилось три или четыре дня спустя. Я увидел молодого человека, самоуверенного, неспособного потерпеть неудачу. Не будучи красивым и не имея ничего импозантного ни в лице, ни в фигуре, он обладал манерами благородными и свободными, умением поддержать беседу, приятными оборотами речи, веселостью, которая к нему располагала, он не говорил никогда о себе и, ведя речь о своей родине, давал ей комические характеристики, рассказывая о своем владении, половина которого находилась в турецких землях, как например его замок, в котором можно умереть от тоски, решившись там поселиться. Как только он узнал, кто я, он высказал мне все, что можно сказать самого лестного, без тени подобострастия. Я увидел, наконец, в этом молодом человеке будущего большого авантюриста, который, при надлежащем руководстве, мог достигнуть значительных высот; но его блеск показался мне чрезмерным. В нем я, казалось, увидел мой портрет, когда я был на пятнадцать лет моложе, и я его пожалел, потому что не предположил у него моих ресурсов. Занович пришел повидаться со мной. Он сказал, что Медини внушил ему жалость, и что он оплатил все его долги. Я поаплодировал ему и поблагодарил. Это проявление щедрости заставило меня предположить, что эти двое составили что-то вроде комплота в своей области. Я поздравил их, без намерения к ним присоединиться. Назавтра я вернул ему визит. Я нашел его за столом, вместе с любовницей, которую я знал по Неаполю и с которой сделал бы вид, что незнаком, если бы она первая не назвала меня дон Джакомо, выразив удовольствие снова меня видеть. Я назвал ее донна Ипполита, с неуверенным видом, и она ответила мне, что я не ошибаюсь, и что, хотя и выросшая на три дюйма, она остается все той же. Я ужинал с ней в «Кросьель» вместе с милордом Балтимор. Она была очень хорошенькая. Занович просил меня прийти обедать послезавтра, и я его поблагодарил; но донна Ипполита, услышав приглашение, сказала, что я найду здесь компанию, и что ее повар берется оказать нам честь.
Слегка любопытствуя по поводу той компании, которая соберется за этим обедом, и заинтересованный в том, чтобы показать Зановичу, что я не в том положении, чтобы стать зависимым от его кошелька, я нарядился, во второй раз во Флоренции. Я нашел там Медини вместе с любовницей, двух иностранных дам с их кавалерами и одного венецианца, очень хорошо одетого, довольно красивого мужчину, на вид тридцати пяти-сорока лет, которого я бы ни за что не узнал, если бы Занович его мне не назвал, Алвиса Зен. Зен была патрицианская фамилия, я счел себя обязанным спросить у него, какие у него есть титулы, и он мне назвал те, что называют старинному другу, что я не мог принять, поскольку знаком был с ним лишь десять лет. Он сказал, что он сын капитана Зен, которого я знал, когда сидел в форту Сен-Андре.
– Стало быть, – сказал я, – прошло с тех пор уже двадцать восемь лет, и я вас узнал, месье, хотя в то время вы еще не болели ветрянкой.
Я увидел, что он раздражен тем, что вынужден был с этим согласиться, но вся ошибка была его, потому что ему не было никакой надобности говорить мне, что он был знаком со мной в то время, и что аджюдан (унтер-офицер) был его отец. Он был сыном побочного сына знатного венецианца. Этот мальчик был самый большой проказник крепости, первостатейный озорник. Сейчас он прибыл из Мадрида, где заработал много денег, держа банк фараон в доме посла Венеции, Марко Зена. Я был рад познакомиться с ним лично. Я заметил на этом обеде, что он не имеет ни культуры, ни малейшего образования, у него не было ни манер, ни языка человека комильфо; но он и не захотел бы обменять свой талант – уменье поправлять фортуну – на все это. Медини и Занович были совсем другое дело. Два иностранца были простаками, на которых они остановили свой выбор; но мне эта игра была не интересна. Когда я увидел, что приготавливают стол для игры, и что Зен наполняет большую чашу золотом, которое достает из большого кошелька, я ушел.
Итак, я вел стабильную жизнь все семь месяцев, что я провел во Флоренции. После этого обеда я более не видел ни Зановича, ни Медини, ни Зена, кроме как случайно в общественных местах. Но вот что случилось в середине декабря. Милорд Линкольн, молодой, восемнадцатилетний, влюбился в венецианскую танцовщицу по имени Ламберти. Она была дочерью хозяина понтонной переправы и прельщала всех на свете. Молодого англичанина видели каждый день в опере, заходящего с визитами к ней в ее артистическую уборную, и все наблюдатели удивлялись, что он не ходит к ней, где он мог быть совершенно уверен, что будет хорошо принят, как из-за своей репутации англичанина, так и благодаря своим молодости и богатству, потому что он был единственный сын (я полагаю) лорда графа Ньюкастл. Занович не оставил этот факт без внимания. Он стал в немного дней интимным другом Ламберти, затем он связался с милордом Линкольном и отвел его к красотке, как вежливый человек приводит друга к своей любовнице.
Ламберти, в согласии с мошенником, не поскупилась на свои милости по отношению к молодому англичанину. Она давала ему ужины каждый день, вместе с Зановичем и Зеном, которого Занович к ней привел, очевидно, нуждаясь в нем, чтобы составлять банк фараон на значительные суммы, либо чтобы плутовать, не обладая сам, возможно, для этого достаточным уменьем. Вначале они позволили выиграть лорду какое-то количество сотен цехинов, после ужина, где он напился, удивившись назавтра тому, что оказался обласкан фортуной столь же, сколь и амуром, и благородным людям, которые поддержали ему голову у Ламберти, где он напился и где, несмотря на это, выигрывал. Но он перестал восхищаться, когда в конце ему основательно вычистили карманы. Зен получил от него двенадцать тысяч фунтов стерлингов, и Занович оказался тем, кто одолжил их молодому лорду, по три или четыре сотни за раз, потому что милорд обещал своему гувернеру не играть на слово. Занович, довольный, передавал Зену все то, что терял милорд, и таким образом они осадили англичанина, когда Занович предъявил ему счет на сумму, которую тот был ему должен. Англичанин уладил быстро это дело. Он предложил выплатить три тысячи гиней на следующий день и подписал три векселя, по три тысячи каждый, к оплате в срок до двух месяцев, на лондонского банкира. Я узнал всю эту историю от самого лорда три месяца спустя в Болонье. Но во Флоренции стали говорить об этом проигрыше на следующий день. Сассо Сасси, банкир, выплатил Зановичу по приказу милорда 6 000 цехинов. Медини явился ко мне в ярости оттого, что Занович не включил его в эту игру, в то время как я поздравлял себя, что не оказался в ней замешан. Но удивление мое было немалым, когда три дня спустя после этого события я увидел у себя в комнате человека, который, спросив мое имя и назвавшись сам вручил мне приказ от имени эрцгерцога покинуть Флоренцию в течение трех дней и Тоскану – в течение восьми. Я вызвал наверх моего хозяина, чтобы тот был свидетелем несправедливого приказа, который мне вручили.
Это было 28 декабря; в тот же день я получил приказ покинуть Барселону, в течение трех дней, ровно три года назад. Я быстро оделся и, поскольку дождь лил как из ведра, послал за коляской. Я направился к аудитору, чтобы узнать обстоятельства этого изгнания, которое казалось мне нелепым. Этот аудитор, шеф полиции, должен был знать все. Я прихожу туда и вижу того самого, что выпроводил меня из Флоренции одиннадцать лет назад из-за фальшивого векселя русского Ивана. Я спрашиваю у него, на каком основании он направил мне приказ уехать, и он мне холодно отвечает, что такова воля Его Императорского Высочества.
– Но, – отвечаю я ему, Е.И.В. не может заиметь эту волю без причины, и мне кажется, я имею право ее узнать.
– Идите же и спросите у него, потому что для меня это все равно. Суверен уехал вчера в Пизу и останется там на три дня; вы можете ехать туда.
– И если я туда поеду, мне оплатят дорогу?
– Я этого не знаю, но вы сами увидите, окажет ли он вам эту милость.
– Я не поеду в Пизу, я только напишу ему, если вы пообещаете отправить ему мое письмо.
– Я сразу ему его отправлю, потому что таков мой долг.
– Это хорошо, вы получите его еще до полудня, и завтра еще до рассвета я буду на территории Папского государства.
– Вам нет нужды так торопиться.
– Мне это необходимо в высшей степени, потому что я не смогу спать в стране деспотизма и насилия, где неизвестны права людей и где властитель лишает меня закона. Я напишу ему все это.
Я выхожу и внизу лестницы встречаю Медини, который мне говорит, что идет спросить у аудитора, почему тот направил ему приказ уехать. Я отвечаю ему, смеясь, что только что задал ему тот же вопрос, и что он сказал мне пойти задать этот вопрос эрцгерцогу, который находится в Пизе.
– Значит, вы также получили приказ уехать? Что вы сделали?
– Ничего.
– Я тем более ничего не сделал. Мы должны ехать в Пизу.
– Вы можете ехать в Пизу, если вам нравится. Что же до меня, я до ночи уезжаю.
Я иду к себе и немедленно отправляю моего хозяина на почту, чтобы он осмотрел вместе с каретником мою коляску и заказал четырех почтовых лошадей сегодня на вечер. Дав несколько других небольших распоряжений, я развлекся тем, что написал эрцгерцогу это маленькое письмо, которое теперь привожу ниже переведенным слово в слово:
«Юпитер, монсеньор, доверил вам молнию лишь при условии, что вы будете обрушивать ее только на виновных, и вы проявили неповиновение ему, метнув ее на мою голову. Семь месяцев назад вы пообещали мне, что я буду пользоваться у вас полным спокойствием, при условии, что не нарушу мир и благой порядок в обществе и буду уважать законы; я скрупулезно соблюдал это справедливое условие, и вот – В.И.В. лишило меня правосудия. Я пишу вам, монсеньор, только для того, чтобы заявить, что я вас извиняю. Последствием этого прощения будет то, что я никому не буду жаловаться и не стану обвинять вас в несправедливости, ни письменно, ни устно, в домах Болоньи, где я буду послезавтра. Я хотел бы даже забыть это клеймо на моей чести, нанесенное мне по вашему произволу, если бы это не привело к тому, что отныне ноги моей больше не будет на землях, которых Господь сделал вас хозяином. Аудитор сказал мне, что я могу ехать говорить с вашей милостью в Пизу; но я боюсь, что этот шаг с моей стороны покажется дерзким принцу, который, согласно общим понятиям, должен разговаривать с людьми не после их осуждения, а лишь до него.
Остаюсь, итд…»
Запечатав письмо, я отправил его аудитору, затем стал паковать чемоданы.
В тот момент, когда я садился за стол, появляется Медини и начинает поносить Зановича и Зена. Он жалуется на них за то, что случившееся с ним несчастье происходит от двенадцати тысяч гиней, которые они выиграли у англичанина, и теперь они отказывают ему в сотне цехинов, без которых он не может уехать. Он говорит, что они также получили приказ уехать и оба направляются в Пизу, и выражает удивление, что я не еду также туда. Смеясь над его удивлением, я прошу его уйти, поскольку должен паковать вещи. Он просит меня, наконец, как я и ожидал, одолжить ему денег, но манера, с которой я ему отказал, была столь жесткой, что он ушел, не настаивая.
После обеда я направился вернуть куски Антологии г-ну Медичи и поцеловать Дениз, которая уже все знала и которая не могла понять, как эрцгерцог мог так смешивать неповинных с виновными. Она сказала мне, что танцовщица Ламберти также получила приказ уехать, и то же получил маленький венецианский аббат-горбун, который был знаком с Ламберти, но никогда у нее не ужинал. Эрцгерцог, наконец, расправился со всеми венецианцами, что находились тогда во Флоренции.
Вернувшись к себе, я встретил гувернера милорда Линкольна, которого я знал одиннадцать лет назад в Лозанне. Я небрежно поведал ему о том, что произошло из-за проигрыша, что допустил его воспитанник. Этот бравый англичанин мне сказал, смеясь, что эрцгерцог изволил сказать юному лорду, что он не должен платить проигранную сумму, и тот ответил эрцгерцогу, что, не платя, он совершит неблагородный поступок, и к тому же деньги, что он должен, уже взяты в долг, потому что он никогда не играет на слово. Это была правда. Правда была и то, что заимодавец и игрок сговорились, но милорд не мог быть в этом уверен.
Мой отъезд из Флоренции заставил меня излечиться от очень несчастной любви, которая могла иметь весьма печальные последствия, если бы я провел там еще какое-то время. Я избавил читателя от этой грустной истории, потому что она вгоняет меня в тоску каждый раз, когда вспоминаю об этих обстоятельствах. Вдова, которую я любил и которой имел слабость объясниться, сохранила меня в своих поклонниках только для того, чтобы унижать меня при каждом удобном случае; она меня презирала и хотела убедить меня в этом. Я упорно не прекращал с ней видеться, надеясь все время на успех; но увидел, когда наконец излечился, забыв ее, что время мое ушло.
Я уехал из Флоренции, обеднев лишь на сотню цехинов; я не делал там никаких трат, я жил, наконец, мудро. Я остановился на первой почте Папского государства, и в предпоследний день года я прибыл в Болонью, где поселился в гостинице С.-Марк. Я сразу отправился с визитом к графу Марулли, который был поверенным в делах Флоренции, чтобы просить его написать Е.И.В., что везде, где я окажусь, до конца моей жизни, я буду славить его добродетели.
Он решил, что я не говорю того, что думаю, потому что он получил письмо, которое информировало его обо всех обстоятельствах дела, но я сказал ему, что если он все знает, он должен видеть, что обязательства, которые я имею перед Е.И.В., более важны. Он заверил меня, что напишет принцу, в каком духе я говорил о нем.
В первый день года 1772 я направился представляться кардиналу Бранчифорте: он был легат. Я знал его в Париже, двадцать лет назад, когда он был направлен Бенуа XIV доставить благословленные пелены для новорожденного герцога де Бургонь. Мы вместе были в масонской ложе и наслаждались тонкими ужинами в компании красивых девушек вместе с доном Франсиско Серсале и графом Рануччи. Наконец, этот кардинал был умен и был тем, кого называют бонвиван.
– О, вот и вы! – воскликнул он сразу, как меня увидел, – я вас ждал.
– Как же могли вы меня ждать, монсеньор, когда ничто не заставляло меня отдать предпочтение Болонье перед другими местами?
– Болонья лучше всех остальных, и к тому же я был уверен, что вы подумаете обо мне; но не стоит рассказывать здесь о жизни, которую мы вели, когда были молоды. Граф Марулли сказал мне вчера вечером, что вы воздали самую пышную хвалу эрцгерцогу, и вы очень хорошо сделали. Поговорим между нами, потому что ничто не выйдет из этого кабинета. Сколько вы получили из двенадцати тысяч гиней?
Тогда я рассказал ему всю правду об этой истории, кончив тем, что показал ему копию письма, которое я написал эрцгерцогу. Он ответил мне, смеясь, что он разочарован тем, что я оказываюсь не виновен. Когда он узнал, что я думаю остановиться в Болонье на несколько месяцев, он сказал, что я могу быть уверен, что буду пользоваться самой большой свободой, и что как только пройдет первый шум, он предложит мне продолжить нашу близкую дружбу.
После этого демарша я намерен был вести в этом городе ту же жизнь, что и во Флоренции. В Италии нет другого города, где можно было бы жить с большей свободой, чем в Болонье, где жизнь недорога и где можно, при небольших затратах, обеспечить себе все жизненные удовольствия. Кроме того, город прекрасен сам по себе, и почти все улицы обрамлены аркадами. Что касается общества, я не беспокоился. Я знал болонцев: мужчины благородного сословия злы, спесивы и вспыльчивы, а народ, кого здесь зовут «биричини» (озорники), еще хуже, чем неаполитанские лаццарони; но буржуа, в основном, суть добрые люди. Все это, однако, мне было безразлично. В моих планах было отдаться научным занятиям и проводить время с несколькими людьми литературы, с которыми нетрудно завязать знакомства. Во Флоренции люди, в основном, отличаются невежеством, даже в итальянском языке, на котором говорят хорошо, но так, как если бы не знали его вовсе; в Болонье же все разбираются в литературе. В университете Болоньи было в три раза больше профессоров, чем во всех остальных, но все с очень небольшим жалованьем, некоторые имели лишь пятьдесят экю в год; но они имели по много учеников и жили хорошо. Хорошо также работала печатня, и хотя действовала Инквизиция, ее легко обманывали.
На четвертый и пятый день нового года прибыли все изгнанники из Флоренции. Ламберти остановилась только на день и направилась в Венецию. Занович и Зен остановились на пять-шесть дней, но отдельно один от другого, потому что дележ уворованных денег их поссорил. Занович не хотел передавать одно из писем милорда в распоряжение другого, потому что не хотел рисковать стать сам должником, если англичанин его не оплатит; он хотел ехать в Англию и говорил Зену, что тот тоже может туда ехать. Они уехали в Милан, так и не договорившись, правительство Милана приказало им уезжать, и я так и не знаю, как они уладили это дело; но я узнал, что платежные письма лорда были полностью оплачены.
Медини приехал и поселился в той же гостинице, что и я, со своей любовницей, своей маленькой сестрой, своей матерью и слугой, но опять без денег. Он мне сказал, что эрцгерцог не захотел никого слушать, что он получил новый приказ уезжать, что он вернулся во Флоренцию, где вынужден был все распродать. Он взывал ко мне о помощи, но напрасно. Я всегда встречал этого человека в отчаянном положении из-за денег, и, несмотря на это, не желавшего сократить свои расходы и ведущего все время свои дела per fas et nejas [9] . Его удачей в Болонье было то, что он там встретил францисканца-эсклавонца, который направлялся в Рим, чтобы получить от папы разрешение на секуляризацию. Этот монах влюбился в любовницу Медини, который заставил его, естественно, заплатить очень щедро за ее любезности. По истечении трех недель Медини уехал и направился в Германию, где напечатал свою «Генриаду», обретя в курфюрсте пфальцком щедрого Мецената. После этого он скитался по всей Европе добрый десяток лет, вплоть до того, что, наконец, отправился умирать в тюрьмах Лондона в 1788 году. Я ему все время говорил, что он должен избегать Англии, потому что может быть уверен, что если он туда приедет, то умрет там в тюрьме. Если он туда поехал, чтобы опровергнуть пророчество, он поступил глупо, потому что альтернатива была жестока – подтверждение пророчества. У этого человека было все – высокое рождение, образование и ум, но, будучи беден и любя траты, не имея другой возможности, кроме как обеспечить их игрой, он поправлял фортуну или делал долги, не имея возможности их платить, что вынуждало его все время убегать. Он, однако, прожил таким образом 70 лет и жил бы, возможно, еще, если бы следовал моему совету. Граф Тосио мне говорил, восемь лет назад, что Медини в тюрьме в Лондоне говорил ему, что ни за что не поехал бы в Англию, если бы я не сделал ему грозное предсказание. Это возможно, но, несмотря на это, я никогда мог удержаться и не дать добрый совет несчастному, которого видел на краю пропасти. Именно исходя из этого я сказал Калиостро в Венеции, двадцать лет назад, когда невежественный мошенник назвался графом Пеллегрини, что он должен беречься направлять свои стопы в Рим. Если бы он мне поверил, он не умер бы в форте Св. Льва. Со мной случилось также, что один умный человек сказал мне, тридцать лет назад, что я должен опасаться Испании, и, несмотря на это, я туда поехал. В результате я там чуть не погиб.
На седьмой или восьмой день моего пребывания в Болонье я познакомился в книжной лавке Таруффи с молодым косоглазым аббатом, у которого в четверть часа обнаружил ум, эрудицию и вкус. Он подарил мне две брошюры, недавние плоды гения двух молодых профессоров университета. Он сказал, что это чтение заставит меня посмеяться, и был прав. Одна из этих брошюр, которая вышла из-под пресса в последнем ноябре, пыталась доказать, что следует прощать женщинам все их ошибки, потому что они исходят из матки, которая вынуждает их действовать вопреки самой себе. Вторая брошюра была критика первой. Автор настаивал на том, что матка, действительно, одушевленное существо, но она никак не может воздействовать на разум женщины, потому что анатомия не смогла найти ни малейшего канала сообщения между внутренностями, плодовой сумкой и мозгом. Мне пришла в голову мысль напечатать опровержение этих двух брошюр. Я сделал это в три дня; я отправил его в Венецию г-ну Дандоло, с тем, чтобы он отдал напечатать 400 экземпляров, которые я затем получил в Болонье и которые передал в книжную лавку, чтобы их там распродавали в мою пользу. Все это было проделано в пятнадцать дней, и за счет этих двух высокоумных медиков я заработал тридцатку цехинов. Первая из двух брошюр именовалась Vutero pensante (Мыслящая матка), вторая, ее критикующая, была на французском, под заглавием «La force vitale» (Жизненная сила). Моя именовалась «Lana Caprina» (Козья шерсть). Я посмеялся над диссертантами и трактовал материал легкомысленно, но не без глубины. Я сделал предисловие по-французски, используя, однако, идиотизмы парижского жаргона, что сделало его нечитаемым. Эта шалость доставила мне близкое знакомство со множеством молодых людей. Косоглазый аббат, которого звали Закчироли, познакомил меня с аббатом Северини, который в десять-двенадцать дней стал моим близким другом. Он вытащил меня из гостиницы, заставив снять две прекрасные комнаты у актрисы, ушедшей из театра, вдовы тенора Карлани, и свел с кондитером, с которым я договорился на месяц вперед о том, чтобы он поставлял мне на дом обеды и ужины. Квартира, питание и слуга, которого я должен был нанять, обошлись мне в десять цехинов в месяц. Этот аббат Северини стал причиной, впрочем, весьма приятной, того, что я потерял всякий вкус к научным занятиям и оставил «Илиаду», с тем, чтобы снова взяться за нее, когда вернется настроение.
Первое, что он сделал, это представил меня своей семье, и в немного дней я стал самым близким из друзей этого дома и любимцем его сестры, довольно некрасивой и немолодой, в возрасте тридцати лет, которая, будучи довольно умной, демонстрировала гордость своим положением девицы, пренебрегая замужеством. Этот аббат познакомил меня в пост со всем, что было самого редкостного в Болонье из танцовщиц и певичек. Болонья – питомник этой породы, и все тамошние театральные героини очень рассудительны и очень недороги, когда пребывают у себя на родине. Северини рассказывал мне новости каждую неделю и, как верный друг, заботился о моей экономии. Будучи очень бедным, он ничего не тратил на вечеринках, которые мне устраивал и на которых всегда присутствовал, но без него мне все обошлось бы вдвое дороже.
Некий синьор, болонец, маркиз Альбергати Капачелли, заставил говорить о себе; он представил на публике свой театр и сам сыграл прекрасно комедию; он стал знаменит тем, что объявил свой брак с дамой из очень знатной семьи недействительным и женился затем на танцовщице, с которой имел двух сыновей. Несмотря на это, он добился объявления своего первого брака недействительным по причине своего бессилия и смело доказал это, используя собрание, варварское и нелепое, применение которого действует еще на большей части Италии. Четверо судей-экспертов, беспристрастных и неподкупных, проделали с г-ном маркизом, полностью обнаженным, все испытания, предназначенные на то, чтобы убедиться, способен ли он к эрекции, и бравый маркиз устоял против самых суровых проверок, оставшись все время совершенно обвисшим. Брак был объявлен недействительным по причине взаимной неспособности, так как у него имелись бастарды.
Но на кой ляд нужно было это собрание, если его способность или неспособность должна была быть признана взаимной? Всего только и надо было решить, что он не может явиться мужчиной с Мадам, и Мадам должна была бы только с этим согласиться; тогда собрание не было бы более необходимым, потому что если бы вдруг подстрекательства смогли оживить маркиза, можно было бы сказать, что ему следует заставить Мадам проделать с ним эти манипуляции, и этим получить нужный эффект.
У меня возникло желание познакомиться с этим оригиналом, я написал г-ну Дандоло с просьбой дать мне рекомендательное письмо, чтобы представиться ему, когда я узнаю, что он вернулся в Болонью, потому что в этот момент он был в Венеции. Г-н Дандоло восемь-десять дней спустя отправил мне письмо, адресованное этому сеньору-болонцу, подписанное знатным венецианцем по имени Загури, и заверил меня, что этот патриций Загури – близкий друг этого болонца. Прочитав это письмо, которое было запечатано висячей печатью, я был очарован его стилем; нельзя было рекомендовать кого-то, кого рекомендующий сам не знал, ни более лестно, ни с более тонкими оборотами. Я не мог помешать себе написать г-ну Загури благодарственное письмо, в котором сказал ему, что с этого дня я начинаю желать получить помилование и вернуться в Венецию не с каким иным желанием как познакомиться лично с благородным сеньором, который написал в мою честь столь прекрасное письмо. Этот г-н Загури мне ответил, что считает мое желание столь лестным, что начнет теперь работать над тем, чтобы помочь мне вернуться в Венецию. После двух с половиной лет стараний, с помощью других людей, он добился этого, но я буду о том говорить, когда окажусь в том времени.
Г-н Альбергати прибыл в Болонью вместе со своей женой и детьми. Северини известил меня об этом, на следующий день я явился в его дворец, чтобы передать ему мое письмо, и портье мне сказал, что Его Превосходительство (потому что в Болонье все – Превосходительства) уехал в свой загородный дом, где пробудет всю весну. Два или три дня спустя я велел запрячь почтовых лошадей в свою коляску и отправился в загородный дом этого господина. Это было очаровательное жилище на возвышении. Не встретив никого у дверей, я захожу и вхожу в салон, где вижу сеньора и красивую даму, которые собирают садиться за стол, который уже накрыт и на нем находятся только два куверта. Спросив вежливо у месье, не то ли он лицо, которому адресовано письмо, что я держу в руках, и услышав, что это так, я подаю письмо ему. Он читает адрес, затем кладет письмо в карман, говоря, что прочтет его, и благодарит меня за хлопоты, что я взял на себя, доставив его ему. Я мгновенно отвечаю, что нимало не затруднился, взяв на себя эту честь, и прошу его оказать мне такую же, прочтя письмо, которым г-н Загури почтил меня и которое я попросил у него, желая познакомиться с маркизом. Тогда маркиз, с видом приветливым и смеющимся, говорит, что никогда не читает писем в тот момент, когда собирается садиться за стол, что он прочтет его после обеда, и что он выполнит все поручения, которые дает ему его друг Загури.
Весь этот маленький диалог произносится стоя, и, поскольку все сказано, я поворачиваюсь, не делая реверанса, выхожу, спускаюсь по лестнице и выхожу как раз во-время, чтобы помешать почтальону кончить распрягать лошадей. Я говорю ему с веселым видом, пообещав дать на выпивку, отвезти меня в какую-нибудь деревню, где, пока лошади поедят овса, я тоже поем чего-нибудь. Говоря так, я сажусь в свою коляску, парную и очень удобную. В момент, когда почтальон садится на лошадь, появляется слуга, который, подойдя к дверце коляски, говорит, что Его Превосходительство просит меня подняться. Решив про себя, что дурак маркиз – очень плохой комедиант, я сую руку в карман и достаю карточку, где написано мое имя и место, где я проживаю. Я даю карточку слуге, говоря, что это именно то, чего хотел маркиз. Слуга поднимается с карточкой, а я говорю почтальону пришпорить лошадей.
Через полчаса мы останавливаемся в месте, где отдыхаем, и затем направляемся в Болонью. В тот же день я подробно отчитался г-ну Загури об этом событии, отправив мое письмо открытым г-ну Дандоло, чтобы он его передал. Я закончил мое письмо тем, что попросил синьора-венецианца написать болонцу, что, оскорбив меня, он должен быть готов претерпеть от меня все то, что, по всем правилам чести, внушит мне мое самолюбие.
Я слегка посмеялся назавтра, когда, вернувшись к себе на обед, получил от своей хозяйки карточку, на которой прочел: «Генерал маркиз Альбергати». Хозяйка сказала мне, что он оставил ее лично, после того, как узнал, что меня нет.
Следовало признать, что я был полностью удовлетворен, это была явная гасконада. Я ожидал результата письма, что я написал г-ну Загури, чтобы мне определиться с родом удовлетворения, которое я мог бы принять. В тот момент, когда я изучал карточку, которую этот дурно воспитанный человек мне оставил, соображая, какие основания заставили его принять титул генерала, появился Северини, который сказал мне, что уже три года маркиз носит ленту ордена Св. Станислава, полученную от короля Польши, и титул его камергера; Северини не мог мне сказать, был ли он также генералом на службе у этого монарха, но я сразу все понял. По обычаям польского двора камергер имел титул адъютант-генерала. Так что маркиз называл себя генералом. Он был прав, он был генералом, но генералом чего? Это слово-прилагательное без имени существительного было использовано лишь для того, чтобы вводить в заблуждение читателей, потому что прилагательное, взятое отдельно, должно было казаться существительным для всех не информированных людей. Обрадованный тем, что могу отомстить, выставив на посмешище этого парня, я написал диалог в забавном стиле и назавтра отдал его напечатать. Я подарил его книготорговцу, он распродал все экземпляры за три-четыре дня по одному байокко (копейке) за экземпляр.
Глава VII
Вдовствующая Выборщица Саксонская и Фаринелло. Склопиц. Нина. Акушерка. Соави. Аббат Болини. Висиолетта. Парикмахерша. Грустная радость мести. Северини уезжает в Неаполь. Мой отъезд. Маркиз Моска в Песаро.
Тот, кто нападает с помощью комико-сатирических писаний на человека, обладающего самолюбием, почти всегда может быть уверен в триумфе, потому что насмешники всегда становятся на его сторону. Я спрашивал в моем диалоге, может ли воинский маршал называться просто маршалом, а лейтенант-полковник – просто полковником. Я спрашивал, может ли человек, предпочитающий титулам, полученным по рождению, почетные титулы, купленные за деньги, быть сочтен за умного. Маркиз счел своим долгом пренебречь моим диалогом, и дело было окончено, но весь город с этой поры не именовал его иначе, чем г-н Генерал. Я увидел над дверью его дворца герб республики Польши, что вызвало смех у графа Мишински, посла короля Польского при дворе Берлина, который прибыл в это время в Болонью, возвращаясь от ванн Пизы. Я убедил его оставить у дверей маркиза визитную карточку со своими титулами, и Альбергатти оказал ему такую же любезность, но тут, к сожалению, я не увидел на его карточке титула генерала.
Вдовствующая Выборщица Саксонская приехала в это время в Болонью, и я нанес ей визит. Она приехала только затем, чтобы увидеть знаменитого кастрата Фаринелло, который, покинув Мадридский двор, жил, богатый и спокойный, в этом городе. Он подарил ей прекрасное отдохновение и арию своего сочинения, которую спел сам, аккомпанируя себе на клавесине. Эта принцесса, которая была музыкантом-любителем, расцеловала Фаринелло и сказала ему, что сможет, наконец, умереть довольной. Фаринелло, который звался шевалье дон Карло Бросши, можно сказать, царил в Испании. Королева Пармская, жена Филиппа V, проделала некие пассы, которые вынудили Бросши покинуть двор после опалы маркиза Энсенада. Выборщица, стоя перед портретом королевы, написанным Амигони, похвалила его и сказала кастрату нечто, что должно было исходить от королевы дону Фернандо VI. На эти слова герой-музыкант сказал, пролив слезу, быстро ее осушив, что королева Барбара столь же добра, сколь Елизавета Пармская зла. Бросши могло быть, когда я видел его в Болонье, 70 лет. Он был очень богат и чувствовал себя хорошо, и, несмотря на это, он был несчастен, потому что, не имея дела, он скучал; он плакал всякий раз, как вспоминал Испанию. Честолюбие – чувство гораздо более сильное, чем скупость. Фаринелло, кроме того, был несчастен по другой причине, которая, как мне говорили, стала причиной его смерти. У него был племянник, который должен был стать наследником всех его богатств. Он женил его на девушке знатного рода из Тосканы, надеясь таким образом стать счастливым главой рода, который, благодаря богатству, рано или поздно, легко достигнет знатности, во втором поколении, и это могло легко получиться, но как раз стало причиной его несчастья. Бедный старый Фаринелли влюбился в супругу своего племянника, и что хуже, ревновал его, и, еще хуже, – стал ненавистен своей племяннице, которая не могла понять, как это старое животное такого состояния могло надеяться стать предпочтительней для нее, чем ее муж, который был мужчиной, как все прочие, и которому одному она была обязана своей любовью по всем соображениям, божественным и человеческим. Фаринелло, испытывая злобу к молодой женщине, которая не желала оказывать ему любезности, которые, в конце концов, могли быть лишь незначительными, потому что не могли иметь никаких серьезных последствий, отправил своего племянника в путешествие и держал племянницу у себя как в тюрьме, отобрав у нее бриллианты, которые ей дарил, и никуда не выходил, чтобы не терять ее из виду. Скопец, влюбленный в женщину, которая его ненавидит, превратился в тигра.
Лорд Линкольн прибыл в Болонью с рекомендациями кардиналу-легату, он дал ему обед и пригласил меня. Он имел удовольствие узнать, что я никогда не был представлен этому сеньору, и что эрцгерцог, выслав меня, совершил кричащую несправедливость. В этот день я как раз узнал от него самого, как ему расставили ловушку, но он мне ни разу не сказал, что его обманули. Он заверил меня, что это он сам захотел расстаться с деньгами. Легко обмануть англичанина, но очень трудно добиться, чтобы, осознав себя обманутым, он в этом сознался. Этот молодой лорд умер от излишеств в Лондоне три или четыре года спустя. Я увидел в это же время в Болонье англичанина Астона с прекрасной Слопиц, сестрой очаровательной Калимены. Слопиц была гораздо красивее. У нее были двое малышей, сыновей Астона, красивых как ангелы. Очарованная всем тем, что я ей рассказал о ее сестре, она догадалась, что я ее любил, и сказала мне, что уверена, что та приедет петь во Флоренции в карнавал 1773 года. Я встретил ее в Венеции в 1776 году и буду говорить об этом, когда буду в этом времени.
Нина, эта роковая Нина Бергонци, которая заставила потерять голову графа Рикла и была причиной всех несчастий, что приключились со мной в Барселоне, была в Болонье с начала поста. Она сняла дом, она имела открытый лист на банкира, у которого было распоряжение предоставлять ей все деньги, что она спросит; у нее были экипажи, лошади и множество слуг, и, объявив себя беременной от капитан-генерала королевства Барселоны, она требовала от добрых болонцев тех же почестей, что надлежало оказывать королеве, которая, удобства ради, направилась рожать в этот город. Она была, в частности, рекомендована кардиналу-легату, который частенько являлся, в самом великом инкогнито, к ней с визитами, и, когда подошло время ее родов, доверенное лицо того же графа Рикла, которого звали дон Мартино, прибыл из Барселоны с доверенностью от безумного испанца, обманутого этой шлюхой, согласно которой ему поручалось крестить новорожденного, объявив его побочным сыном господина графа. Нина делала много шуму из своей беременности. Она появлялась в театре, на публичных променадах с животом огромного размера, подавая руку направо и налево неустрашимым знатным болонцам, которые вертелись вокруг нее, и которым она часто говорила, что она их всегда примет, но что они должны беречься, потому что она не отвечает за терпимость своего любовника, который может велеть их убить; и нагло рассказывала им о том, что случилось со мной в Барселоне, не зная, что я в это время был в Болонье. Она была очень удивлена, когда граф Зини, знакомый со мной, сказал ей, что я там, и тот же граф Зини, встретив меня на ночной променаде на Монтаньоле, счел за лучшее подойти, чтобы узнать от меня самого эту несчастную историю.
В свою очередь, я счел за лучшее сказать ему, что это басня, которую эта Нина, которую я не знаю, рассказала ему, чтобы увидеть, достанет ли у него смелости подвергнуть свою жизнь большому риску, если она окажет ему великую честь, подарив свою любовь. Я не стал отрицать этот факт перед кардиналом-легатом, когда он рассказал мне эту историю; я удивил его, когда детально описал ему все экстравагантности этой бесстыдницы и когда сказал ему, что она – дочь своей сестры; но я не мог помешать ему рассмеяться, когда сказал, что не верю, что она беременна.
– Что мешает вам поверить, – спросил он, – что она беременна? Ничего нет ни более естественного, ни более легкого. Возможно, она беременна не от графа, но она беременна и даже на сносях. Это не может быть обманом, потому что, черт возьми, если она беременна, она должна родить. И к тому же, я не вижу, какую выгоду она может иметь, изображая беременность.
– Это потому, что Ваше Преосвященство не знает подлого характера этой женщины: она хочет прославиться, позоря графа Рикла, который был образцом добродетели, пока не узнал этого монстра.
Восемь часов спустя, за час до полудня, я услышал сильный шум на улице, я смотрю в окно и вижу женщину, обнаженную по пояс, верхом на осле, в сопровождении палача, который ее хлещет кнутом, в окружении сбиров, провожаемую всеми озорниками Болоньи, развлекающимися шиканем и свистом. В этот момент поднимается ко мне Северини и говорит, что женщина, с которой так обращаются, – самая знаменитая акушерка Болоньи, что эта экзекуция выполнена по приказу кардинала-архиепископа, и что еще неизвестна причина, но вскоре ее узнают. Это возможно только по причине какого-то большого злодейства. Он сказал мне, что это та самая акушерка, которая принимала роды у Нины, за два дня до этого, при которых Нина разродилась прекрасным мертвым мальчиком. Эта история, без всяких вариаций, стала известна назавтра всему городу.
Некая бедная женщина направилась пожаловаться архиепископу, что акушерка Тереза, которую называют Терезяка, подкупила ее четыре или пять дней назад, пообещав ей двадцать цехинов. Она уговорила ее продать ей красивого мальчика, которого приняла пятнадцать дней назад. Женщина, которая не получила двадцати цехинов и была в отчаянии, что стала причиной смерти своего малыша, попросила справедливости у архиепископа, взявшись убедить его, что ее сын – это тот мертвый ребенок, которым, как говорят, разродилась Нина. Архиепископ приказал своему канцлеру провести немедленно, под большим секретом, все разыскания для того, чтобы подтвердить этот факт, и как только уверился в наличии скандального преступления, приказал подвергнуть повитуху общему наказанию, согласно закону Валерия: punire et deinde scribere [10] . Восемь дней спустя дон Мартин отбыл в Барселону, но бессовестная Нина осталась в заключении, велев своим слугам нашить красные кокарды вдвое большего размера и имея наглость говорить тем, кто являлся ее повидать, что Испания отомстит за нее за клевету, которой кардинал-архиепископ ее опозорил, и, чтобы лучше играть свою скверную роль, осталась в Болонье на шесть недель после своих предполагаемых родов; но кардинал-легат, который не постыдился ей покровительствовать, принял по секрету все меры, чтобы заставить ее уехать. Граф Рикла, однако, выделил ей значительный пенсион с условием, что она не посмеет более появляться перед его глазами в Барселоне. Несколько месяцев спустя он был вызван ко двору, чтобы занять пост военного министра и год спустя умер. Нина умерла два года спустя после него в нищете, от сифилиса. Ее сестра сама рассказала мне в Венеции всю несчастную историю ее двух последних годов, достаточную для того, чтобы опечалить читателя, и от которой я его избавляю. Бесчестная акушерка не осталась без защитников. Вышла брошюра, напечатанная неизвестно где, в которой неизвестный автор уверял, что кардинал архиепископ был подкуплен, чтобы осудить к самому позорному наказанию гражданку, нарушив все формальности уголовной процедуры. Обстоятельства были таковы, что повитуха оказалась несправедливо осуждена, даже если была виновна, и что она, в свою очередь могла апеллировать в Рим, чтобы потребовать у архиепископа самой значительной компенсации.
Архиепископ пустил по Болонье письмо, в котором говорил, что акушерка, которую он велел наказать кнутом, трижды подверглась бы пыткам, если бы честь трех известных фамилий Болоньи не помешала бы ему опубликовать ее преступления, все зафиксированные процессами, проведенными в его канцелярии. Речь шла об искусственных абортах, которые привели к смерти виновных матерей, замене живых младенцев мертвыми, и мальчике, заменившем девочку, каковой мальчик стал затем бесчестно наследником всего имущества семьи. Это письмо заставило замолчать всех защитников мошенницы, потому что многие молодые сеньоры, чьи матери рожали с помощью осужденной, опасались раскрыть секреты, которые представили бы их как бастардов.
Я видел в это время танцовщицу Маркуччи, которая была изгнана из Испании вскоре после моего отъезда, по той же причине, что и Пелиссия. Эта обосновалась в Риме, а Маркуччи отправилась жить в роскоши у себя на родине, в Лукке.
Танцовщица Соави, уроженка Болоньи, которую я знал по Парме, когда жил там, счастливый, с Генриеттой, затем по Парижу, где она танцевала в опере, будучи на содержании у русского сеньора, затем в Венеции, любовницей г-на де Марчелло, приехала обосноваться в Болонье со своей дочерью, одиннадцати лет, плодом любви, которую питала к г-ну де Мариньи, мушкетеру. Эта дочь, которую она назвала Аделаида, была совершенная красотка и вместе с красотой обладала всеми достоинствами, нежностью и талантами, которые может придать самое изысканное воспитание. Соави приехала в Болонью, где, встретив своего мужа, которого не видела пятнадцать лет, представила ему это сокровище.
– Это твоя дочь, – сказала она ему.
– Она хороша, моя дорогая жена, но она не может быть моей.
– Она твоя, дурачок, поскольку я ее тебе даю. Усвой, что она имеет две тысячи экю ренты и что я буду ее единственной распорядительницей вплоть до момента, когда выдам ее замуж за танцовщика, потому что я хочу, чтобы она освоила классический танец, и чтобы мир увидел ее в театре. В праздничные дни ты будешь выходить на променаду вместе с ней.
– А если спросят, кто она?
– Ты скажешь, что она твоя дочь, и что ты в этом уверен, потому что лицо, которое тебе ее передало – твоя собственная жена.
– Я этого не понимаю.
– Потому что, дорогой мой друг, никуда в жизни не путешествуя, ты остался большим невеждой.
Присутствовав при этом диалоге, который меня тогда весьма повеселил, я счел необходимым его сейчас записать. В нетерпении увидеть столь редкую игрушку, я сразу предложил себя в качестве учителя, чтобы взрастить ее таланты, но мать ответила мне, что она боится, что я передам ей слишком многое. Аделаида стала чудом Болоньи. Через год после моего отъезда граф Дюбари, деверь знаменитой Дюбари, последней любовницы Луи XV, последнего короля Франции (ошибка К.), теперь опозоренной, проезжая через Болонью, влюбился в Аделаиду до такой степени, что ее мать, испугавшись, что он велит ее похитить, спрятала ее. Дюбари хотел дать ей сотню экю, но мать отказалась. Пять лет спустя я видел ее танцующей в Венеции. Когда я зашел ее поздравить с успехом, Аделаида, эта прелесть, сочла момент подходящим, чтобы сказать, что ее мать, которая вывела ее в свет, хочет теперь заставить его покинуть, потому что чувствует, что профессия танцовщицы ее убивает. Она прожила еще всего шесть-семь лет. Все ее добро было вложено в пожизненную ренту, мать осталась нищей; она ничего бы не потеряла, если бы поместила свои капиталы на два лица.
Я повидал в Болонье в эти дни знаменитого Аффлизио, который, будучи разжалован с имперской службы, стал антрепренером оперы. Следуя от плохого к худшему, он в пять или шесть лет дошел до подделки бумаг, за что был приговорен к галерам, где и умер, шесть-семь лет назад.
В Болонье меня потряс другой человек, выходец из хорошей семьи, рожденный, чтобы быть богатым. Это был граф Филомарино. Я нашел его в нищете и пораженного во всех членах венерической болезнью. Я приходил часто его повидать, как для того, чтобы оставить ему несколько паоли на еду, так и для изучения людского сердца в речах, которые он держал своим злым языком – единственным органом, который его чума оставила ему действующим. Я находил его негодяем, клеветником, сожалевшим, что приведен в состояние, когда он не может направиться в Неаполь, чтобы уничтожить своих родственников – поголовно порядочных людей, но, по его словам, самых недостойных из смертных.
Танцовщица Сабатини, возвратившись в Болонью достаточно богатой, чтобы почить на лаврах, отдала все свое богатство профессору анатомии и стала его женой. Я встретил ее вместе с ее сестрой, которая не имела никакого таланта и была небогата, но обладала располагающими манерами. Я отметил аббата, чья сдержанность показалась мне более редкой, чем его красивое лицо, который привлекал к себе все внимание этой сестры; казалось, он отвечает ей признательностью. Когда я обратился к нему, уж не знаю с каким предложением, он ответил мне рассудительно, но тоном сомнения, который всегда привлекателен. Попрощавшись одновременно с остальной компанией, мы случайно пошли вместе, и по необходимости заговорили о нашей родине и наших маленьких делах, что занимали нас в Болонье. Мы расстались, пообещав друг другу визиты.
Этот аббат, которому было 24–26 лет, был таковым лишь по виду одежды. Он был единственный сын из знатной семьи из Новары, отнюдь не богатой. Со своим малым доходом, он жил в Болонье более свободно, чем в Новаре, где жизнь более дорога и где все его угнетало: родственники его стесняли, дружеские связи были не интересны, царило общее невежество. Он не мог этого терпеть, ему казалось, что он там не свободен, несмотря на то, что при малости своих склонностей он не давал почти никакого применения тому, что человек с сильными страстями мог бы назвать свободой. Аббат де Болини (таково было его имя) обладал спокойным нравом, любя только душевный мир, все остальные удовольствия интересовали его лишь умеренно. Он любил людей литературы более, чем саму литературу, он не старался сойти за человека большого ума, ему было достаточно лишь того, чтобы не сойти за глупца, и чтобы ученые, с которыми он иногда общался, не считали его невеждой оттого, что он их только слушал. Он был умерен в еде и питье от природы, добрый христианин по воспитанию и не обладал острым умом, никогда не рассуждая на темы религии; ничто не вызывало его возмущения; скорее добрый, чем сдержанный по отношению к критике, почти всегда злобной, он редко хвалил, но никогда не осуждал. В отношении женщин он был почти индифферентен. Он избегал некрасивых и таких, которые старались обольстить умом, и не пытался очаровать тех, кто, влюбляясь в него, делали ему авансы; когда он находил в них какие-то достоинства, он был с ними любезен из одной признательности, – никогда от любви, обладая, впрочем, настолько малым темпераментом, что женщины казались ему способными скорее уменьшить счастье жизни, чем увеличить его. Эта последняя черта его характера заинтересовала меня до такой степени, что по истечении двух-трех недель нашего знакомства я взял на себя смелость спросить, как он может сочетать это с привязанностью, которую питает к м-ль Брижит Сабатини. Он ходил каждый день ужинать с ней, потому что она не жила вместе с сестрой, и она приходила каждое утро завтракать с ним. Я встречал ее у него, куда она приходила в то время, когда я там бывал. Я видел ее все время довольной, но также скромной, и видел любовь в ее глазах и всех ее движениях. Я замечал в аббате лишь высшую степень удовольствия, всегда смешанного с некоторым стеснением, которое, несмотря на всю вежливость аббата, от меня не ускользала. Ей было по крайней мере на десять лет больше, чем ему, и она общалась со мной самым любезным образом. Она старалась не влюбить меня в себя, но убедить, что аббат является счастливым обладателем ее сердца, и что она вполне достойна самой полной взаимности.
Итак, в искренности, порожденной бутылкой доброго вина, наедине с другом, за десертом обеда я расспросил аббата де Болини о роде и качестве его связи с этой Брижит, он улыбнулся, он вздохнул, он покраснел, он опустил глаза и сказал мне, что эта связь составляет несчастье его жизни.
– Несчастье вашей жизни? Разве она вынуждает вас вздыхать понапрасну? Вам следует вернуть себе счастье, покинув ее.
– Я не могу вздыхать понапрасну, потому что я не влюблен. Наоборот, это она, говоря, что влюблена в меня, и давая все время этому наиболее убедительные знаки, посягает на мою свободу. Она хочет, чтобы я женился на ней, я обещал ей это из чувства уважения, и она настаивает на этом, она меня мучит каждый вечер, она меня торопит, плачет, она настаивает на выполнении данного ей слова, которое я дал, только чтобы успокоить ее отчаяние, и она пронзает мне душу каждый день, говоря, что я ее обманываю. Вы должны понять все несчастье моей ситуации.
– Есть у вас контракт по вашим обязательствам относительно ее?
– Никакого. Она бедна, у нее только тридцать байоко в день, которые ей дает ее сестра и которые перестанет давать, когда она выйдет замуж.
– Может быть, вы сделали ей ребенка?
– Я очень остерегался этого, и именно это внушает ей беспокойство. Она проклинает мои предосторожности. Она ссылается на них как на возможное подтверждение того, что я не думаю жениться на ней, и здесь, не зная, что ей сказать, я теряюсь или лукавлю.
– Но вы думаете когда-то жениться, так или иначе.
– Я чувствую, дорогой друг, что не решусь на это никогда в жизни. Эта женитьба сделает меня по меньшей мере в четыре раза более бедным, и я буду странно выглядеть в Новаре, приведя с собой эту супругу, которая благородна, не уродлива, хорошо держится, но которая не создана, чтобы быть мне женой, поскольку у нее нет ни богатства, ни знатности, а в Новаре необходимо хотя бы первое.
– Как человек чести, и более того, как человек разума, вы должны разорвать связь, вы должны ее покинуть сегодня же, не позднее чем завтра.
– Я это вижу и, опираясь только на мою моральную силу, говорю вам, что я этого не могу. Если я сегодня вечером не приду к ней ужинать, она немедленно придет ко мне, чтобы узнать, что со мной случилось. Вы понимаете, что я не могу ни закрыть перед ней дверь, ни прогнать ее.
– Я это вижу, но вы также видите, что вы не можете жить в таком состоянии насилия. Вы должны решиться на что-то, вы должны разрубить этот узел мечом Александра. Вы должны, не сказав ей, поселиться в другом городе, где ей не придет, думаю, в голову вас искать.
– Это будет верное средство, но такое бегство очень затруднительно.
– Затруднительно? Вы смеетесь надо мной. Сделайте то, что я вам говорю, и я организую вам отъезд со всеми удобствами. Она узнает, что вы уехали, когда не увидит вас за ужином, она бросится к вам и вас не найдет.
– Я сделаю все, что вы мне скажете, и вы окажете мне услугу, которую я никогда не забуду. Страдание сведет ее с ума.
– Ох! Я начну с того, что запрещаю вам думать о ее страдании. Это единственное, что вам следует делать; все остальное – мое дело. Не хотите ли уехать завтра? Есть ли у вас долги? Нужны вам деньги?
– У меня достаточно денег и у меня нет долгов, но идея уехать завтра вызывает у меня смех. Мне нужно по меньшей мере три дня. Я должен получить послезавтра мои письма и я должен написать домой, где я буду.
– Я позабочусь забрать с почты ваши письма и отправить их туда, где вы будете, о чем вы будете знать в момент вашего отъезда. Положитесь на меня. Я направлю вас туда, где вам будет очень хорошо. Единственное, что вам следует сделать, это оставить ваш чемодан вашему хозяину, приказав ему передать его только мне…
– Так я и сделаю. Значит, вы хотите, чтобы я уехал без моего чемодана, и не хотите мне сегодня сказать, куда я поеду; это странно. Но я все сделаю.
– Не забывайте приходить ко мне обедать все эти три дня, и особенно, не говорите никому, что вы уезжаете.
Он сиял от радости. Я обнял его, поблагодарив за признание, которое он мне сделал, и за доверие, которое он мне оказал; мне показалось, что в одно мгновение он стал другим.
Гордый тем, что я сделал это доброе дело, и смеясь над гневом, с которым бедная Брижит обрушится на меня после бегства своего возлюбленного, я написал г-ну Дандоло, что через пять-шесть дней перед его глазами появится аббат-новарец, который передаст ему письмо от меня; я просил его найти ему комнату и приличное содержание, но по возможности недорого, так как этот благородный и полный достоинств человек небогат. Я приготовил другое письмо, которое аббат передаст ему лично. Назавтра аббат мне сказал, что Брижит далека от того, чтобы догадаться о его намерении, поскольку нашла его весьма влюбленным. Она хранит у себя все его белье, но он надеется его по большей части вернуть под каким-нибудь предлогом.
В день, назначенный для отъезда, он пришел ко мне в час, который я назвал ему накануне, принеся в саквояже то, что ему могло понадобиться в те четыре дня, что он должен был оставаться без чемодана. Я проводил его почтой до Модены, и после того, как мы пообедали, дал ему мое письмо, адресованное г-ну Дандоло, к которому обещал отправить завтра его чемодан. Он был приятно удивлен, когда узнал, что будет жить в Венеции, которую имел большое желание увидеть, и когда я заверил его, что джентльмен, к которому я его направляю, позаботится организовать его жизнь так, как он жил в Болонье. Убедившись, что он окончательно уехал, я вернулся в Болонью, где прежде всего забрал чемодан аббата у его хозяина, отправив его по почте на адрес г-на Дандоло в Венеции.
Назавтра, как и ожидал, я увидел у себя всю в слезах бедную покинутую. Это был случай проявить жалость ее душе. Я был бы жесток, если бы притворился, что не знаю причины ее отчаяния. Я прочел ей длинную проповедь, направленную на то, чтобы убедить ее, что в данном случае могу только ей посочувствовать, но что не должен покидать своего друга в этом случае, когда он стремится избежать женитьбы на ней. В конце апологии она бросилась передо мной на колени, чтобы умолить меня убедить его вернуться, обещая, что не будет говорить с ним более о браке, и чтобы ее успокоить, я сказал ей, что попытаюсь убедить его в этом. Я сказал ей, что он направился поселиться в Венеции, и, разумеется, она этому не поверила. Бывают случаи, когда человек, уверенный, что ему не поверят, должен говорить правду. Это обман, который должен быть оправдан самой строгой моралью. Двадцать семь месяцев спустя я увидел моего дорогого аббата Болини на моей родине. Я поговорю об этом, когда буду в том времени.
После отъезда этого друга я свел знакомство с прекрасной Висциолеттой, и был настолько в нее влюблен, что, чтобы не связываться с долгими маневрами, должен был решиться купить ее благосклонность. Я правильно сделал, женщины не хотели больше влюбляться в меня; мне следовало решиться объясниться с ней, либо предложить ей возмещение, и природа заставила принять это последнее решение, которое любовь к жизни заставляет меня, наконец, сегодня отвергнуть. Грустная победа, что я одержал, заставила меня, в конце моей карьеры, простить все моим последователям и посмеяться над всеми теми, кто просит у меня советов, хотя я заранее вижу большое число тех, кто, тем не менее, готов им следовать. Это предвидение приводит к тому, что я им даю их с тем большим удовольствием, что не чувствую, что они им последуют, потому что человек – это такое животное, которое может убедить только жестокий опыт. Этот закон приводит к тому, что мир будет всегда существовать в беспорядке и в невежестве, потому что ученые составляют в нем не более чем сотую часть. С Висциолеттой, которую я заходил повидать каждый день, меня познакомил член Совета Сорока г-н Давиа, слегка помешанный, представив как даму-вдову из Флоренции; однако вдова требовала чувства уважения, которого, как мне казалось, не заслуживала Висциолетта, которая была куртизанкой по профессии, носящей прозвище Виртуозки. Три недели я ничего не мог добиться, и меня отталкивали всякий раз, когда я хотел кое-что украсть. Ее тайным возлюбленным был монсиньор Буонкомпаньи, вице-легат. Весь город это знал, но, несмотря на это, то был секрет, потому что его характер не позволял ему содержать ее публично. Сама Висциолетта же не делала передо мной из этого тайну. В эти дни я продал мою коляску. Мне нужны были деньги, и я предпочел продать мое купе, чем другую мою мебель, которую любил больше. Я купил ее за 350 римских экю; она была прекрасная и удобная, и она их стоила. Хозяин каретного сарая, где она стояла, пришел сказать мне, что монсеньор вице-легат предлагает за нее 300 экю; я ощутил про себя истинное удовольствие воспротивиться желанию этого прелата, который обладает предметом моих напрасных желаний. Я ответил, что не хочу торговаться, и что я уже назвал свою цену.
Отправившись в полдень в сарай, чтобы лучше рассмотреть состояние коляски, я застал там монсеньора, который меня знал, поскольку видел у кардинала, и который должен был хорошо знать, что я захаживаю к его красотке. Он сказал мне дерзким тоном, что моя коляска не стоит более 300 экю, что он знает это лучше меня, и что я должен воспользоваться случаем отделаться от нее, потому что она слишком хороша для меня.
Оригинальность этих слов повергла меня в молчание, поскольку я побоялся, что слишком живое возражение может его разгневать. Я оставил его там, сказав, что я не уступлю ни су.
Висциолетта написала мне назавтра, что, отдав коляску вице-легату за цену, которую он предложил, я доставлю ей истинное удовольствие, потому что она уверена, что он ей сделает этот подарок. Я ответил ей, что приду поговорить с ней об этом после обеда, и от нее зависит убедить меня сделать все, что она хочет. Я пришел туда и после короткого, но энергичного собеседования она стала доброй. Я написал ему записку, согласно которой я уступаю ему коляску за сумму в три сотни римских экю. Она получила на следующий день коляску, а я деньги и удовольствие – дать прелату хороший мотив догадаться, что я смог отомстить ему за его глупую гордыню.
В эти дни Северини, у которого не было работы, нашел место гувернера молодого человека знатной семьи из Неаполя и покинул Болонью, как только получил деньги, чтобы совершить это путешествие.
После отъезда этого друга я подумал также покинуть этот прекрасный город. Г-н Загури, который после дела маркиза Альбергати поддерживал со мной все время интересную переписку, задумал помочь мне получить позволение вернуться на мою родину, объединившись с г-ном Дандоло, который только этого и желал. Он написал мне, что для того, чтобы обрести помилование, я должен поселиться как можно ближе к венецианскому государству, чтобы дать возможность трибуналу Государственных Инквизиторов убеждаться в моем хорошем поведении. Г-н Зулиани, брат герцогини де Фиано, который также хотел снова видеть меня в Венеции, присоединился к этому совету и пообещал употребить все свое влияние в этом направлении.
Итак, решив сменить убежище и в необходимости выбрать место по соседству с границами республики, я не захотел ни Мантуи, ни Феррары. Я выбрал Триест, где, как сказал мне г-н Загури, у него был близкий друг, которому он меня рекомендует. Но, не имея возможности проехать в Триест по суше, не проезжая через венецианское Государство, я решил добраться туда морем. Я выбрал Анкону, откуда барки на Триест уходили каждый день. Поскольку нужно было ехать через Песаро, я попросил письмо к кому-то, кто мог бы меня представить маркизу Моска, человеку литературному, с которым у меня было желание познакомиться, и г-н Загури предоставил мне рекомендательное письмо к нему самому. Этот маркиз только что заставил много о себе говорить из-за трактата, который он опубликовал и который римская курия заставила включить в индекс запрещенных. Он был ученый, человек набожный, один из приверженцев доктрины Св. Августина, которая, в сущности, есть так называемая доктрина янсенизма.
Я покинул Болонью с сожалением, так как провел там восемь приятных месяцев. Через день я прибыл в одиночестве в Песаро, в совершенном здравии и вполне экипированный.
Отправив мое письмо маркизу, я увидел его у себя в тот же день, очарованного письмом, которое я ему послал. Он сказал, что его дом для меня всегда открыт, и что он передаст меня маркизе, своей супруге, чтобы я смог познакомиться со всей знатью города и со всем, что есть там достойного быть увиденным. Он закончил свой короткий визит, пригласив обедать к нему завтра вместе со всей его семьей, где я окажусь, как он сказал, единственным иностранцем; но это не помешало тому, чтобы он пригласил меня провести утро в его библиотеке, где мы вместе примем по чашке шоколаду. Я туда пришел и имел удовольствие увидеть обширную коллекцию схолиастов на всех известных латинских поэтов, даже еще ранее Энниуса и вплоть до XII века. Он велел напечатать у себя и на свои средства все их произведения в четырех больших in-folio, точных и корректных; но издание не было красивым, и я осмелился ему это сказать. Он согласился. Этот недостаток красоты, который позволил ему сберечь двадцать тысяч экю, лишил его прибыли в пятьдесят тысяч. Он дал мне в подарок один экземпляр, который отправил мне в гостиницу вместе с большим in-folio, на титуле которого значилось Marmora pisaurentia [11] , который у меня не хватило времени изучить. Я выяснил все, что касается города Пезаро.
Большое удовольствие я получил за столом, сидя с его супругой, в которой я отметил много достоинств, и с его пятью детьми, тремя девочками и двумя мальчиками – все красивые и хорошо воспитанные. Они интересовали меня бесконечно, и несмотря на это я не могу дать никакого их описания моим читателям. Я ничего о них не узнал.
М-м маркиза Моска в высшей степени обладала светским обхождением, в то время как ее муж – только литературными познаниями; поэтому они не находились друг с другом в согласии, и домашнее хозяйство от этого страдало, но иностранец этого не замечал. Если бы мне об этом не сказали, я бы ничего не знал. Все семьи, говорит мне мой пятидесятилетний опыт, изводят себя некоей комедией, которая взрывает их мир. Лишь благоразумие тех, кто стоит во главе этих семей, мешает тому, чтобы комедия не стала публичной, поскольку не следует давать поводов для смеха и для недобрых комментариев и пересудов публике, всегда злой и невежественной. М-м де Моска-Барци занималась только мной все пять дней, что я провел в Песаро. Она возила меня в своем экипаже по всем своим загородным домам и представляла по вечерам на всех благородных ассамблеях. Маркизу Моска могло тогда быть лет пятьдесят. Холодный по характеру, он не имел другой страсти, кроме своих литературных занятий, и нрав его был чист. Он учредил академию, в которой занимал пост президента. Его девизом была муха, в аллюзии с фамильным именем Моска, вместе с двумя этими словами: «Исключая С». Убрав букву «С» из слова Musca получаешь Musa. Единственным недостатком этого бравого сеньора был тот, что монахи воспринимали как главное его достоинство. Он был слишком христианин. Этот избыток религии заставлял его выходить за пределы, где nequit consister rectum [12] . Но что хуже – выходить за пределы или не доходить до основ? Это вопрос, на который я никогда не найду ответа. Гораций сказал: «Nulla est mihi religio» [13] , и он начинает оду, в которой осуждает философию, которая удаляет от поклонения богам. Все чрезмерности порочны.
Я покинул Песаро, очарованный тамошней прекрасной компанией и в сожалении, что не познакомился с братом маркиза, которого мне все восхваляли.
Глава VIII
Я беру в компаньоны по путешествию еврея из Анконы по имени Мардоке, который уговаривает меня поселиться у него. Я влюбляюсь в его дочь Лиа. После шестинедельного пребывания там, я отъезжаю в Триест.
Я изучил сборник латинских поэтов маркиза Моска-Барци, только находясь в убежище, что избрал себе в Анконе. В нем я не нашел ни «Приапеи», ни Фесцинийцев, ни многих других фрагментов древних авторов, существующих в манускриптах во многих библиотеках. Это была работа, которая выдавала любовь, что питал тот, кто ее проделал, к литературе, но не позволяла увидеть его собственное отношение к ней, так как в ней отражалось только старание поместить труды авторов в хронологическом порядке их создания. Я хотел бы увидеть в ней примечания, а зачастую и комментарии. Помимо этого, издание не отличалось ни красивыми шрифтами, ни богатством маргиналий, ни хорошей бумагой, и в нем слишком часто встречались ошибки орфографии, которые, разумеется, невозможно простить. Эта работа оказалась неудачной, маркиз не разбогател, и это послужило причиной разлада в домашнем хозяйстве.
Я смог, однако, понять, какого рода была литература, что привлекала маркиза, его образ мыслей и суждения, в особенности из его трактата о милостыне и еще более из его апологии. Я увидел, что все, что он говорил, должно было не понравиться в Риме, и по здравом размышлении он должен был это предвидеть. Маркиз Моска был прав, но в области теологии правы лишь те, кто руководствуется суждениями Рима, и Рим всегда признает правоту лишь тех, чьи высказывания аналогичны заблуждениям, которыми сам Рим руководствуется. Работа маркиза была полна эрудиции, а еще более – ее апология, которая нанесла ему еще более вреда, чем сама работа. Он был ригорист, и, хотя и склоняясь к янсенизму, он часто опровергал самого Св. Августина. Он абсолютно отвергал то, что можно с помощью милостыни искупить наказание, назначенное за грех, и он совершенно не допускал достойной жертвы, кроме той, что следует буквально из предписания Евангелия: «Твоя правая рука не должна знать, что делает левая» – Ев. от Матв. (Нагорная проповедь). Он претендовал, наконец, на то, что тот, кто подает милостыню, грешит, если не делает это в самом большом секрете, потому что иначе невозможно, чтобы в этом не была замешана корысть.
Желая направиться в Триест, я должен был бы воспользоваться оказией, чтобы пересечь залив, для чего сесть в Песаро на тартану, которая отходила в тот же день и, благодаря попутному ветру, высадила бы меня через двенадцать часов. Мне бы надо было так и сделать, потому что, помимо того, что мне нечего было делать в Анконе, я удлинял этим путешествие на сотню миль, но я сказал, что направляюсь в Анкону, и по этой единственной причине я решил, что должен туда направиться; для меня всегда была характерна добрая доза суеверия, и мне сегодня очевидно, что она повлияла на все превратности моей причудливой жизни.
Постигая умом то, что Сократ называл своим демоном, который лишь изредка толкал его на какие-то решительные поступки, но очень часто мешал на них решиться, я легко допустил у себя наличие такого же Гения, насколько можно назвать Гением Демона. Уверенный, что этот Гений может быть только добрым и другом моего лучшего альтер-эго, я приписывал ему все случаи, когда совершал свой выбор, не находя достаточного для него объяснения. Я делал то, что он хотел, не спрашивая у него разумного обоснования, когда тайный голос мне говорил отказаться от поступка, к которому я испытывал склонность. Этот голос не мог быть ничем иным, как воздействием этого демона. Я воздавал ему сотню раз в моей жизни эту почесть и часто радовался в душе, что он лишь крайне редко побуждал меня сделать то, что я, по здравому размышлению, решал не делать. В этой связи, я чаще оказывался в ситуации, когда мог поздравить себя с тем, что посмеялся над собственным разумением, чем когда следовал ему. Но все это меня не смирило и не помешало рассуждать повсюду и всегда со всей возможной моей способностью. В Синигалии, за три почтовых станции от Анконы, в тот момент, когда я собирался лечь спать, мой возчик подошел спросить, не желаю ли я позволить принять в свою коляску некоего еврея, который также направляется в Анкону. Я желчно ответил ему, что не хочу никого, и менее всего – еврея. Возчик ушел, и в этот момент мне показалось, что я должен взять с собой этого еврея, вопреки разумному отвращению, которое заставило меня сказать, что я его не хочу. Я снова позвал возчика и сказал, что я согласен. Тогда он мне сказал, что я должен буду быть готовым выехать раньше, чем обычно, потому что была пятница, и еврей мог путешествовать только до захода солнца. Я ответил, что не собираюсь терпеть неудобства, и что от него зависит заставить лошадей двигаться быстрее.
Назавтра, в коляске, этот еврей, с довольно приятным лицом, спросил у меня, почему я не люблю евреев.
– Потому что вы, – ответил я, – по требованию религии являетесь нашими врагами. Вы полагаете своим долгом нас обманывать. Вы не смотрите на нас как на своих братьев. Вы наращиваете процент до предела, когда, по надобности в деньгах, мы обращаемся к вам за займом. Вы нас, наконец, ненавидите.
– Месье, – ответил он мне, – вы ошибаетесь. Приходите этим вечером вместе со мной в нашу школу (синагогу?), и вы услышите нас всех, выкликающих хором молитву Богу за всех христиан, начиная с нашего господина папы.
Тут я не смог сдержать взрыва смеха, потому что это была правда, но я сказал ему, что то, что просят у Бога, должно исходить из сердца, а не изо рта, и пригрозил выкинуть его из коляски, если он не согласится, что евреи, наверняка, не просили бы Бога за христиан, если бы были хозяевами в той стране, где они живут, и он был поражен, слыша, как я цитирую на еврейском языке тексты из Ветхого Завета, где им предписано пользоваться любым случаем причинять возможное зло всем не-иудеям, которых они все время проклинают в своих молитвах. Этот бедняга больше не открывал рта. В час обеда я пригласил его обедать со мной, и он ответил, что его религия не позволяет ему этого, и что поэтому он ест только яйца, фрукты и гусиную колбасу, которая у него есть с собой. Суеверный пил только воду, потому что, как он сказал, не уверен, что вино чистое. После обеда, в коляске, он сказал мне, что если я желаю поселиться у него и буду довольствоваться теми продуктами, которых Господь не запретил, он предоставит мне еду более тонкую и вкусную и по лучшей цене, чем в харчевне, и поселит меня одного в прекрасной комнате, выходящей к морю.
– Значит, вы селите у себя и христиан? – спросил я.
– Никогда, но я хочу в этом случае сделать исключение, чтобы вас разубедить. Вы заплатите мне только шесть паоли в день, и я буду обслуживать вас обедом и ужином, но без вина.
– Но вы будете готовить мне рыбу, которую я люблю и захочу, и, разумеется, которую я буду покупать отдельно.
– Мне это подходит. У меня есть служанка христианка, и моя жена очень внимательна к вопросам кухни.
– Вы будете давать мне каждый день гусиную печенку, но с условием, что вы ее также будете есть в моем присутствии.
– Я знаю, о чем вы думаете. Но вы будете довольны.
Я высадился, стало быть, у еврея, находя это, впрочем, весьма странным. Если бы мне там не понравилось, я ушел бы на следующий день. Его жена и дети ожидали его с нетерпением, чтобы почтить Шаббат. В этот день, посвященный Богу, вся работа должна быть запрещена, я отметил с удовольствием праздничное выражение на лицах, в одежде и в убранстве всего дома. Мне оказали прием, который оказывают брату, и я отвечал на это наилучшим образом; но единое слово, которое произнес хозяин, которого я буду называть Мардоке, изменило мгновенно всякую вежливость, она приняла другой оттенок; первая была искренняя, вторая – политика, основанная на корысти. Мардоке показал мне две комнаты, чтобы я выбрал, они были рядом друг с другом, и я выбрал обе, предложив ему паоли сверху. Хозяйка дала распоряжение служанке-христианке делать все, что мне понадобится, и собрать мне ужин. В один момент Мардуке ей все объяснил. В ожидании, пока служанка расставит все, что выгрузил возчик, я развлек себя тем, что пошел в синагогу вместе с Мардуке, который, став моим хозяином, предстал передо мной другим человеком, распоряжаясь в своей семье и в своем доме, который показался мне весьма удобно устроенным.
Поприсутствовав на короткой службе, на которой верующие иудеи не обращали ни малейшего внимания ни на меня, ни на других христиан, мужчин и женщин, присутствовавших там, я отправился в одиночку прогуляться на биржу, предаваясь размышлениям, по большей части грустным, когда они касались прошедшего счастливого времени, которое не вернется. Это здесь, в этом городе я начал по настоящему наслаждаться жизнью, и я удивлялся тому, что прошло с тех пор почти тридцать лет – время громадное, и что, несмотря на это, я чувствую себя скорее молодым, чем старым. Но какая чувствовалась разница, когда я представлял себе тогдашнее первоначальное мое состояние, физическое и моральное, и сравнивал его с теперешним. Я ощущал себя совершенно другим, и насколько я находил себя совершенно счастливым тогда, настолько же должен был согласиться, что стал теперь несчастен, потому что никакой прекрасной перспективы более счастливого будущего не присутствовало более в моем воображении. Я понимал, вопреки себе, и чувствовал, что должен себе в этом признаться, что я растерял все свое время, что означает, что я потерял свою жизнь; те двадцать лет, что еще были еще передо мной, и на которые, как мне казалось, я мог еще рассчитывать, представлялись мне грустными. Имея сорок семь лет, я знал, что нахожусь в возрасте, презираемом фортуной, и этим было сказано все, чтобы меня опечалить, потому что без благосклонности слепой богини никто в мире не может быть счастлив. Трудясь теперь над тем, чтобы иметь возможность свободным вернуться на мою родину, мне надо было бы ограничить мои желания тем, чтобы обрести милость вернуться к своим истокам, переделать то, что я, худо или хорошо, наделал. Я сознавал, что речь идет только о том, чтобы сделать менее неприятным спуск, конечной точкой которого является смерть. Спускаясь по этому пути, человек, который провел свою жизнь в удовольствиях, предается мрачным размышлениям, которым нет места в пору цветущей юности, когда у него нет нужды что либо предвидеть, когда настоящее занимает его целиком и когда горизонт, всегда ясный и цветущий розовым цветом, сулит ему счастливую жизнь, а его ум охвачен столь счастливой иллюзией, что он смеется над философом, который смеет ему говорить, что за этим прелестным горизонтом имеется старость, нищета, запоздалое раскаяние и смерть. Если таковы были мои размышления двадцать шесть лет назад, можно себе представить, каковы должны быть те, что охватывают меня сейчас, когда я остался один. Они убьют меня, если я не исхитрюсь убить жестокое время, которое порождает их в моей душе, к счастью или к несчастью еще юной. Я пишу, чтобы не скучать, и я радуюсь и поздравляю себя с тем, что нахожу в этом удовольствие; если я говорю вздор, меня это не заботит, мне достаточно быть убежденным, что я развлекаюсь:
Malo scriptor delirus inersque videri
Dum mea délectent mala me vel denigue fallant,
Quam sapere et ringi. [14] .
Вернувшись к себе, я нашел Мардоке за столом, в кругу семьи, состоящей из одиннадцати или двенадцати человек, среди которых была его мать, которой было восемьдесят лет, и она чувствовала себя хорошо. Другой еврей среднего возраста был муж его старшей дочери, которая мне не показалась красивой; но я нашел весьма привлекательной младшую, которую он предназначил в жены еврею из Песаро, которого она еще не видела.
– Если вы его еще не видели, – сказал я ей, – вы не можете его любить.
Она ответила мне серьезным тоном, что не обязательно быть влюбленной, чтобы выйти замуж. Старая похвалила этот ответ, и хозяйка сказала, что она полюбила своего мужа лишь после своих первых родов. Я назову эту красивую еврейку Лиа, намереваясь скрыть ее имя; я говорил ей разные вещи, чтобы заставить засмеяться, но она на меня даже не смотрела.
Я нашел ужин постным, но вкусным, и вполне по-христиански, и улегся спать в превосходной кровати. Мардоке утром пришел сказать, что я смогу отдавать мое белье стирать служанке, и что Лиа позаботится о том, чтобы мне его приготовить. Я поблагодарил его за ужин и сообщил, что у меня есть привилегия есть постное и скоромное каждый день, и особенно напомнил о гусиной печенке. Он сказал, что она будет назавтра, но у него в семье ее ест только Лиа.
– Значит, Лиа, – сказал я ему, – будет есть ее со мной, и я дам ей выпить чистейшего вина с Кипра.
Я спросил о нем у консула Венеции тем же утром, придя к нему отнести письмо г-на Дандоло Этот консул был венецианец старого закала. Он слышал обо мне и выказал большое удовлетворение тем, что познакомился со мной. Это был настоящий Панталоне из комедии, без маски, веселый, исполненный опытности и большой гурман. Он мне дал за мои деньги настоящего вина из Скополо и кипрского муската, очень старого; однако он раскричался, когда я сказал ему, что поселился у Мардоке, и объяснил, по какому случаю я там очутился. Он сказал мне, что тот богат, но что он большой ростовщик, и он со мной плохо обойдется, если я нуждаюсь в деньгах. Заверив его в том, что я хочу уехать лишь в конце месяца и на хорошем судне, я направился обедать к себе, где мне весьма понравилось. Назавтра я переписал все свое белье и шелковые чулки, которые передал служанке, как мне сказал Мардоке; но минуту спустя он пришел ко мне вместе с Лиа, поскольку она желала знать, как я хочу, чтобы она стирала мои кружева, которые пришиты к моим рубашкам, затем оставил ее со мной. Эта девушка, восемнадцати-двадцати лет, которая очень простосердечно предстала передо мной во плоти, со своей грудью, твердой и белой, как алебастр, открытой, насколько это возможно, меня волновала, и она бы это заметила, если бы, усомнившись в этом, вгляделась бы в меня. Справившись с собой, я сказал ей позаботиться о моем белье со всей возможной деликатностью, не думая о цене. Она ответила, что позаботится обо всем сама, если я не тороплюсь. Я ответил, что она может заставить меня здесь оставаться столько, сколько ей захочется, и она не обратила ни малейшего внимания на это объяснение. Я сказал ей, что доволен всем, кроме шоколада, который я люблю взбитый и с пенкой, и она ответила, что сама его будет делать.
– В таком случае, – сказал я ей, – я буду давать вам двойную дозу, и мы будем пить его вместе.
Она сказала, что она его не любит.
– Но вы любите гусиную печенку?
– Очень, и сегодня мы будем есть ее вместе, как сказал мой отец. Вы, очевидно, боитесь быть отравленным.
– Отнюдь нет. Наоборот, я хочу, чтобы мы умерли вместе.
Лиа вышла, не слушая и оставив меня полным желаний и решившимся действовать быстро. Я должен был увериться в ней в тот же день, либо сказать ее отцу больше не направлять ее в мою комнату. Еврейка в Турине научила меня образу мыслей евреек в отношении любви. Лиа должна была быть, по-моему, еще красивей, и достижение ее должно было быть менее трудным, потому что галантные нравы Анконы не должны были ни в чем отличаться от Турина. Именно так рассуждает повеса, и часто он ошибается.
Мне подали скоромный обед, совершенно в еврейском вкусе, и Лиа сама явилась с гусиной печенкой и села без церемоний рядом со мной, но с легким фишю на прекрасной груди. Печенка была исключительная, и, поскольку ее было немного, мы съели ее всю, запивая вином из Скополо, которое Лиа нашла еще лучшим, чем печенка; затем она встала, чтобы уйти, но я воспротивился: это была только середина обеда. Лиа сказала, что она останется, но что отец сочтет это дурным. Я сказал служанке попросить его прийти на пару слов. Я сказал Мардоке, что аппетит Лиа увеличивает вдвое мой, и что он доставит мне удовольствие, если позволит ей есть со мной всякий раз, когда будет гусиная печенка. Он мне ответил, что поскольку она удваивает мой аппетит, он, разумеется, не будет оплачивать это за свой счет, но что она будет оставаться, если я хочу платить вдвое, то есть на тестон больше. Это соглашение понравилось мне бесконечно. Я сказал, что согласен на это условие и подарил ему фляжку Скополо, которое, как сказала ему Лиа, гарантированно очень чистое. Итак, мы обедали далее вместе, и, видя, что она развеселилась от доброго вина, которое, обладая мочегонным эффектом благодаря смолистому привкусу, оказало замечательный эффект, способствующий любви, я сказал ей, что ее глаза меня воспламеняют, и что она должна позволить мне их поцеловать. Она отвечала, что долг запрещает ей позволять мне такое.
– Никаких поцелуев, никаких прикосновений, – сказала мне она, – мы едим и пьем вместе, и мое удовольствие равно вашему. Это все. Я завишу от своего отца, и я ничем не распоряжаюсь.
– Означает ли это, чтобы я попросил вашего отца позволить вам быть полюбезнее?
– Это не будет благородно, как мне кажется, и возможно, мой отец, почувствовав себя оскорбленным, не позволит мне больше приходить к вам.
– А если он вам скажет, что вы можете быть не столь скрупулезной относительно этих шалостей?
– Я его не послушаюсь и продолжу исполнять свой долг.
Столь ясное объяснение дало мне понять, что с ней будет не просто, и что, настаивая, я могу ввязаться во что-то, ничего не добиться, раскаяться и потерять из виду мое главное дело, которое требовало от меня провести в Анконе лишь очень короткое время. Так что я ей ничего не ответил и, находя превосходными еврейские мармелады и компоты, мы пили кипрский мускат, который Лиа нашла превосходящим все ликеры этого мира.
Видя, что она настолько расположена пить, мне показалось невозможным, чтобы Венера не оказала на нее столь же сильное влияние, как Бахус; но голова ее оказалась крепка, вино в нее не ударяло; ее кровь разгорелась, но разум остался свободен. Я поощрял ее веселье, и после кофе попросил у нее руку, чтобы поцеловать, но она не захотела; однако ее возражение было такого рода, что не могло мне не понравиться. Она сказала разумно, что это слишком много для чести и слишком мало для любви. Я сразу понял, что она не новичок ни в чем. Я перенес свой проект на завтра и известил ее, что ужинаю с консулом Венеции. Он сказал мне, что он не обедает, но каждый раз, когда я буду приходить к нему ужинать, я доставлю ему истинное удовольствие.
Я вернулся в полночь; все спали, за исключением служанки, которая меня ожидала и которую я хорошенько порасспрашивал. Я завел разговоры, чтобы заставить ее говорить о Лиа, и она не сказала мне ничего ценного. Лиа была добрая девочка, которая все время работала, как и вся ее семья, и про нее не было слышно ни о какой влюбленности. Поскольку Лиа ей платила, эта служанка не могла говорить иначе.
Но Лиа пришла ко мне утром принести мой шоколад и села ко мне на кровать, говоря, что у нас на обед превосходная печенка и что, не поужинав, она пообедает с большим аппетитом. Она сказала, что ей помешал ужинать прекрасный кипрский мускат, которым очень заинтересовался ее отец. Я сказал, что мы ему его дадим. Лиа была такой же, как и накануне. Ее груди меня выводили из себя, и мне казалось невозможным, чтобы она не осознавала их могущества. Я спросил, знает ли она, что ее грудь очень красива. Она ответила мне, что груди всех девушек такие же, как у нее.
– Знаете ли вы, – сказал я, – что, глядя на них, я испытываю глубочайшее удовольствие?
– Если это правда, я рада, потому что позволяя вам наслаждаться этим, мне не в чем себя упрекнуть. Девушка, однако, не прячет свою грудь более, чем лицо, за исключением случая, когда она находится в большом обществе. Болтая таким образом, плутовка поглядывала на маленькое золотое сердечко, пересеченное стрелой, покрытой маленькими бриллиантами, которое скрепляло жабо моей рубашки.
– Вы находите, – говорю я ей, – это сердечко красивым?
– Очаровательным. Оно тонкой работы?
– Да. И это позволяет мне его вам предложить.
Я отцепляю его, чтобы дать ей, но она говорит нежно, благодаря меня, что девушка, не намеренная ничего давать, не должна ничего принимать. Я прошу ее принять подарок и даю слово чести никогда не просить у нее никаких милостей; она отвечает, что будет тем не менее ощущать себя моей должницей, и что ничего не возьмет.
После этого объяснения я увидел, что либо нечего делать, либо следует делать все, и что в том и в другом случае я должен принять решение. Я с презрением отверг идею применить грубую силу, которая могла бы ее лишь рассмешить, либо рассердить; это меня в первом случае бы опозорило, и сделало еще более влюбленным, при полной потере, и во втором, поскольку она была бы права, я побудил бы ее к шагам, которые меня бы унизили и не понравились. Она более не стала бы приходить приносить мне шоколад, и я не мог бы на это жаловаться. Я решил держать в узде мои глаза и не заводить с ней никаких разговоров о любви. Мы обедали очень весело. Мне приготовили улитки, которые их религия ей запрещает, я предложил ей попробовать и вызвал у нее ужас, но когда служанка вышла, она поела их с большой жадностью, заверив меня, что в первый раз в жизни пробует это удовольствие.
Эта девушка, говорил я себе, которая нарушает свой закон с такой легкостью, которая явно любит удовольствия, которая не скрывает от меня жадности, с которой поглощала эту запретную еду, полагает, что может заставить меня поверить, что нечувствительна к наслаждению любви, либо что может победить это чувство, причисляя его к пустякам. Это невозможно. Она не любит меня, либо любит только для развлечения, держа меня все время влюбленным; и для того, чтобы утихомирить склонности своего темперамента, у нее, очевидно, есть другие ресурсы.
Я подумал поймать ее за ужином, рассчитывая на силу вина из Скополо, но она уклонилась от этого, заявив, что если она ест вечером, она не может заснуть.
Она пришла, принеся мне шоколад, и первая новость, что меня поразила, была та, что ее слишком красивая грудь была прикрыта белым платком. Она села рядом со мной на кровати, и я отбросил идею, избитую и банальную, сделать вид, что не обращаю на нее внимания. Я сказал ей с жалобным видом, что она явилась с прикрытой грудью только потому, что я сказал ей, что смотрю на нее с удовольствием. Она ответила мне небрежно, что об этом не думала и что накинула платок только потому, что у нее не было времени привести себя в порядок. Я смеясь ответил, что она сейчас хорошо выглядит, и могло так случиться, что, увидев ее грудь целиком, я бы не счел ее столь уж прекрасной. Она мне ничего не ответила, и я получил свой шоколад. Я подумал о сладострастных обнаженных фигурах, что были у меня на миниатюрах и эстампах в моей шкатулке, и попросил Лиа мне их подать, сказав, что хочу показать ей самые прекрасные груди во вселенной. Она сказала, что это ее не интересует, но, подав мне шкатулку, не ушла. Я взял портрет обнаженной, лежащей на спине, которая услаждала себя руками, но прикрыл ее платком до пупка и показал ей, держа портрет в руках. Она сказала, что эта грудь, как другие, и что я могу открыть остальное. Я дал ей эту миниатюру, сказав, что это мне не нравится. Лиа стала смеяться и сказала, что это хорошо нарисовано, но что в этом нет ничего нового для нее, потому что это делают все девушки, хотя и тайком, до свадьбы.
– Вы, стало быть, тоже делаете это?
– Каждый раз, когда мне этого хочется. Потом я засыпаю.
– Дорогая Лиа, ваша искренность доводит меня до крайности, и вы слишком умны, чтобы этого не замечать. Будьте же добры и снисходительны ко мне, или перестаньте приходить со мной повидаться.
– Вы, однако, слишком слабы. В будущем, мы будем видеться только за обедом. Но покажите мне и другие миниатюры.
– У меня есть эстампы, которые вам не понравятся.
– Посмотрим.
Тогда я даю ей сборник картинок Аретино и любуюсь спокойным, но очень внимательным видом, с которым она принимается их разглядывать, переходя от одной к другой и возвращаясь снова к той, которую уже разглядывала.
– Вы находите это интересным? – спрашиваю я у нее.
– Весьма, и это естественно; но порядочная девушка не должна вглядываться в них, потому что, как вы полагаете, это вызывает сильные эмоции.
– Я думаю, дорогая Лиа, что это так, и со мной происходит то же самое. Взгляните.
Она улыбается и быстро вскакивает, направившись рассматривать книгу около окна, повернувшись ко мне спиной и пропуская мимо ушей мои призывы. Успокоив себя, как школьник, я оделся, пришел парикмахер, и Лиа ушла, сказав, что вернет мою книгу за столом.
Тут я решил, что возьму ее самое позднее завтра. Мой распутный поступок ее не поразил, первый шаг был сделан. Мы хорошо пообедали, выпили еще лучше, и на десерт Лиа достала из своего кармана сборник и разожгла меня, попросив комментариев, но запретив мне, под угрозой своего ухода, демонстраций, которые оживили бы толкования, которые сделаны только для глаз, и в которых я нуждался бы, возможно, более, чем она. Выведенный из терпения, я взял у нее книгу и отправился прогуляться, рассчитывая на час приема шоколада.
Лиа сказала, что ей нужно просить меня об объяснениях, но если я хочу доставить ей удовольствие, я должен говорить о них, лишь держа в руке эстамп. Она не хочет видеть ничего живого и натурального. Я сказал, что она должна будет разрешать мне все вопросы, которые я могу ей задавать, относительно того, что касается ее пола, и она мне это обещала, но с тем же условием, что наши наблюдения будут относиться только к тому, что мы увидим на рисунке.
Наш урок продолжался два часа, во время которых я сотню раз проклинал Аретино, потому что безжалостная Лиа угрожала уйти всякий раз, когда я хотел сунуть свою руку под одеяло. Но вещи, которые она мне говорила о своем поле, и относительно которых я мог притвориться, что не знаю, доводили меня до крайности. Она говорила мне истины самые сладострастные и объясняла столь живо и столь искренне движения, наружные и внутренние, которые должны проявляться при сношениях, что имелись у нас перед глазами, что мне казалось невозможным, что только теория позволяет ей рассуждать столь правильно. Что окончательно меня совратило, это что никакое чувство стыдливости не затемняло свет ее изощренных рассуждений. Она философствовала об этом гораздо более учено, чем Гедвига из Женевы. Ее ум был настолько хорошо согласован с ее личностью, что они казались раздельными. Я передал ей все, чем располагал, чтобы соединить ее выдающийся талант с большим опытом. Она клялась мне, что ничего не знает на практике, и мне казалось, что я должен ей верить, потому что она доверчиво мне сказала, что ей не терпится выйти замуж, чтобы узнать, наконец, все. Она опечалилась, или мне это показалось, когда я вздумал сказать ей, что будущий муж, которого ее отец Мардоке ей назначил, будет, быть может, бедно одарен от натуры, либо будет одним из тех замухрышек дурной комплекции, которые исполняют свой долг перед супругой лишь раз в неделю.
– Как! – встревожено вскричала она, – разве мужчины не все созданы, как мы? Не все в состоянии быть влюбленными каждый день, как необходимо, чтобы каждый день они ели, пили и спали?
– Наоборот, моя дорогая Лиа, такие, которые влюблены каждый день, встречаются редко.
Столь жестоко раздражаемый каждое утро, я злился, что в Анконе нет приличного места, где порядочный мужчина может за свои деньги доставить себе удовольствие. Я дрожал, отмечая, что становлюсь влюблен в Лиа; я каждый день говорил консулу, что не тороплюсь уехать. Я строил разные ложные умозаключения, как настоящий влюбленный; мне казалось, что Лиа самая целомудренная из девушек, она служила мне образцом самой добродетели, ее я брал за само определение целомудрия. Она была сама правда, ни капли лицемерия, никакого обмана; неотделимая от своей натуры, она удовлетворяла свои желания лишь сама с собой и отказывалась от того, что ей запрещал закон, которому она хотела оставаться верна, несмотря на огонь, который сжигал ее с вечера до утра и с утра до вечера. Лишь от нее зависело стать счастливой, и она сопротивлялась мне целых два часа, добавляя пищи пламени, которое ее пожирало, и оставаясь достаточно сильной, чтобы не захотеть ничего делать, чтобы его пригасить. Ох! Добродетельная Лиа! Она каждый день представала перед возможным поражением и каждый раз одерживала победу, опираясь только на великое средство – не соглашаться на первый шаг. Не видеть и не касаться.
По истечении девяти или десяти дней я начал прибегать к насилию относительно этой девушки, не действиями, но в усилиях красноречия. Она оставалась оскорбленная, она заверяла, что я прав и что она не знает, что мне ответить, и заключала, что я буду прав, если решу запретить ей приходить ко мне по утрам. За обедом, по ее мнению, мы не рисковали ничем. Я решился просить ее приходить ко мне только с прикрытой грудью и не говорить более ни о фигурах Аретино, ни о других вещах, которые могут возбудить любовь. Она отвечала мне, смеясь, что не она первая нарушит эти условия. Я тем более не нарушал их, но три дня спустя, устав от пытки, я сказал консулу, что уеду с первой же оказией. В этом новом положении веселость Лиа заставляла меня терять аппетит. Но вот что случилось.
В два часа по полуночи я проснулся, почувствовав необходимость пойти в гардероб. Места вполне чистые у Мардоке были на первом этаже. Я спустился босиком и в темноте и, сделав свои дела, вернулся на лестницу, чтобы идти в мои апартаменты. Наверху первой лестницы я вижу через щель в двери одной комнаты, которая, как я знаю, должна быть пуста, проникает свет. Я подхожу, чтобы посмотреть, кто может быть в этой комнате в такой час, со светом. Это любопытство, однако, не связано с Лиа, которая, как я знаю, спит в другой стороне дома; но с большим удивлением я вижу Лиа, полностью обнаженную, с молодым человеком в таком же состоянии, лежащих на кровати и работающих вместе над выполнением некоторых поз. Они находились всего в двух шагах от двери, я видел все превосходно. Они разговаривали очень тихо и каждые четыре или пять минут являли мне новую картину. Эта смена поз давала мне возможность видеть красоты Лиа во всех ракурсах. Это удовольствие умеряло мой гнев, который был, однако, силен, когда я увидел, что все, что я видел, не оставило во мне сомнений, что Лиа делала репетицию фигур Аретино, которые заучила наизусть. Когда они пришли к завершению акта, они ограничились этим и, действуя руками, обеспечили себе экстазы любви, которые, будучи столь несовершенными, все же жестоко меня взволновали. В позе прямого дерева мужчины Лиа действовала как настоящая лесбиянка, и мужчина ей скармливал свою игрушку, и, не видя, чтобы она сплюнула в конце акта, я уверился, что она проглотила нектар моего счастливого соперника. Затем любовник показал ей, смеясь, свой опустошенный инструмент, причем Лиа имела вид, что оплакивает его кончину. Она стала в позицию, чтобы вернуть ему жизнь, но подлец посмотрел на часы и, не слушая ее, взялся за свою рубашку. Она между тем ему что-то говорила с видом, по которому я догадался, что она ему высказывает упреки. Когда я увидел, что они почти одеты, я пошел в свою комнату и подошел к окну, откуда видна была дверь дома. Четыре или пять минут спустя я увидел счастливца выходящим и уходящим прочь. Я вернулся в кровать не только не обрадованный тем, что вышел из заблуждения, но возмущенный и униженный. Лиа не казалась мне более добродетельной, я видел в ней лишь развращенную и необузданную, которая меня ненавидела. Я заснул с намерением прогнать ее из моей комнаты, упрекнув перед тем во всем, что я видел.
Но при ее появлении с моим шоколадом я вдруг переменил решение. Видя ее веселой, я сменил выражение своего лица на соответствующее ей и, взяв мой шоколад, рассказал ей, без малейшего знака гнева, всю историю ее подвигов, которые я мог видеть в последний час ее оргии, делая упор на прямом дереве и на превосходном питании, которое она, подобно настоящей лесбиянке, отправила в свой желудок. Я кончил тем, что сказал ей, что надеюсь, что она подарит мне следующую ночь, как для того, чтобы увенчать мою любовь, так и обязать меня хранить нерушимо ее секрет.
Она ответила мне с отважным видом, что я не могу надеяться ни на какую снисходительность с ее стороны, потому что она меня не любит, а что касается секрета, она не боится, что я выдам его из мести.
– Я уверена, – сказала она, – что вы неспособны совершить подобную низость.
И, выговорив это, она повернулась ко мне спиной и удалилась.
Разумеется, она говорила правду. Я бы совершил этим черную ошибку и был далек от того, чтобы ее совершить; я об этом даже не думал. Она привела меня в разум с помощью большой, хотя и тяжелой правды: она меня не любила; мне нечего было возразить, она ничего мне не была должна, я ни на что не мог претендовать. Это она, наоборот, могла претендовать на некое удовлетворение от меня, потому что я не имел ни права шпионить, ни права ее оскорблять, излагая то, что я никогда бы не узнал, если бы не мое нескромное и непозволительное любопытство. Мне не за что было жаловаться на нее, кроме как за то, что она меня обманывала. Что же я мог поделать?
Я сделал то, что был должен сделать. Я поспешно оделся и пошел на биржу, где узнал, что пеота отходит в этот же день на Фиуме. Фиуме находится по другую сторону залива напротив Анконы. От Фиуме до Триеста только сорок миль по земле; я решаю направиться в Фиуме, я иду в порт, вижу пеоту, говорю с хозяином, который заявляет, что ветер попутный, и что наверняка завтра утром мы будем по крайней мере в канале. Я занимаю хорошее место, велю поставить там скамейку, затем иду попрощаться с консулом, который желает мне доброго пути. Оттуда я возвращаюсь к себе, плачу Мардоке все, что я ему должен, и иду себе в комнату собирать чемоданы. У меня есть еще время.
Лиа приходит сказать, что ей совершенно невозможно вернуть мне мое белье и мои чулки в течение этого дня, но что она может вернуть мне все назавтра. Я отвечаю ей ясным и спокойным тоном, что ее отец должен будет отнести все, что мне принадлежит, консулу Венеции, который позаботится переправить мне все в Триест. Она не отвечает ни словом.
За минуту до того, как мне подняться из-за стола, приходит начальник почты с матросом, чтобы взять мои вещи, я отдаю ему мой чемодан, который готов, и говорю, что остальное прибудет на борт вместе со мной в час, когда он хочет отплыть. Он говорит, что отплывает за час до заката, и я говорю ему, что буду готов.
Когда Мардуке узнает, что я направляюсь в Фиуме, он просит меня взять с собой маленький ящик, который он адресует одному из своих друзей, вместе с письмом, которое он сейчас напишет; я отвечаю, что услужу ему с удовольствием.
Лиа садится за стол со мной, как будто ничего не произошло. Она заговаривает со мной в своем обычном стиле, спрашивает, нравится ли мне то, что я ем, и мои короткие ответы ее не смущают, как и неестественность, с которой я не поднимаю на нее глаз. Она должна полагать, что ее манера мне кажется продиктованной умом, твердостью, благородным доверием, в то время как мне это представляется лишь подчеркнутым бесстыдством. Я ненавижу ее, потому что она меня обманула и посмела сказать, что она меня не любит, и я ее презираю, потому что она рассчитывает, что я должен в уме оценить то, что она не краснеет. Возможно, она полагает также, что я должен ее высоко оценить за то, что она сказала, что знает меня как неспособного на то, чтобы выдать ее отцу то, что я видел. Она не осознает, что я никак не обязан ей за это доверие.
Она говорит мне это, попивая Скополо, которого есть еще две фляги, а также две бутылки муската. Я отвечаю, что оставляю их ей, для того, чтобы усилить ее огонь в ночных эскападах. Она возражает с улыбкой, что я насладился задаром спектаклем, чтобы увидеть который, она уверена, я заплатил бы золотом, и который она с удовольствием предоставила бы мне еще, если бы я не уезжал.
За этот ответ у меня родилось желание разбить о ее физиономию бутылку, что стояла передо мной. Я взял ее в руку таким образом, который выдавал то, к чему склонял меня справедливый гнев, и я совершил бы это постыдное преступление, если бы не заметил с очевидностью на ее лице полное отсутствие страха и состояние уверенности. Я очень неловко вылил вино в мой стакан, как будто взял бутылку только для этого; но когда хотят налить вина, бутылку берут, не оборачивая руку в обратную сторону. Лиа это заметила.
Я поднялся и направился к себе в комнату, больше себе не наливая; но четверть часа спустя она приходит выпить со мной кофе. Такое постоянство, весьма оскорбительное, представляется мне чудовищным. Я немного успокаиваюсь, когда размышляю о том, что с ее стороны такое поведение может диктоваться желанием отомстить, но она была достаточно отомщена, сказав мне, что она меня не любит, и доказав это. Она говорит, что хочет помочь мне собрать вещи, но я прошу ее оставить меня в покое, беру ее за руку, провожаю к двери и запираюсь.
Мы оба были правы. Лиа меня обманула, унизила и пренебрегла мной. Я был прав, возненавидев ее. Я разоблачил ее как лгунью, мошенницу и крайнюю распутницу. Она имела право ненавидеть мое присутствие, и она захотела, чтобы я совершил против нее некий проступок, чтобы раскаяться в том, что я ее разоблачил. Я не помнил, чтобы был когда-либо в большей ярости.
К вечеру два матроса пришли взять мои вещи, я поблагодарил хозяйку и сказал спокойно Лиа, чтобы она поместила мое белье в навощенную бумагу и передала своему отцу, который ушел уже вперед, чтобы отнести мой ларец на пеоту. Он мне дал письмо, я его обнял и поблагодарил, и мы сразу отчалили со свежим ветром, который прекратился два часа спустя. Мы прошли двадцать миль. После четверти часа затишья задул западный ветер, и маленькая барка, которая была почти пустой, стала прыгать на волнах столь жестоко, что мне вывернуло желудок и вырвало. К полуночи ветер стал совершенно встречным, хозяин мне сказал, что лучше всего повернуть обратно в Анкону. Имея ветер в лоб, невозможно плыть в Фиуме или в какой-то другой порт Истрии. Итак, менее чем в три часа ходу мы вернулись в Анкону, где офицер стражи признал в нас тех же, что отплыли вечером, и явил любезность позволить мне сойти на берег без досмотра.
Пока я разговаривал с офицером, благодаря его за то, что он позволил мне пойти спать в удобной кровати, матросы занялись моими вещами, и, вместо того, чтобы выслушать, куда я хочу, чтобы они их отнесли, они, как сказал мне хозяин, понесли их туда, откуда взяли. Я хотел пойти в ближайшую гостиницу, меня разозлило то, что я должен был снова видеть Лиа, но дело было уже сделано. Мардоке встал с постели и был рад, что видит меня снова. Было три часа пополуночи. Я лег, охваченный усталостью, нуждаясь в отдыхе. Я сказал ему, что чувствую себя больным и что буду обедать один, у себя в комнате, когда позову. Маленький обед, и никакой печенки. Я проспал десять часов подряд, проснулся, испытывая боль во всем теле, но чувствуя превосходный аппетит. Я позвонил, и пришла служанка сказать мне, что Лиа лежит в постели с сильной головной болью; я поблагодарил Провидение, которое избавило меня от муки видеть эту молодую бесстыдницу.
Я нашел свой обед очень недостаточным и сказал служанке, чтобы приготовила мне хороший ужин. Погода стояла отвратительная. Консул Венеции пришел провести пару часов со мной, заверив, что плохая погода продлится по меньшей мере восемь дней – новость, которая меня огорчила, как из-за Лиа, которую мне казалось невозможным видеть снова, так и потому, что у меня больше не было денег; но у меня были драгоценности. Не видя Лиа во время ужина, я решил, что она больше не придет; но я напрасно обольщался. Она явилась на следующее утро спросить у меня насчет шоколада, чтобы мне его сделать, но на ее лице не было ни веселья, ни спокойствия. Я сказал ей, что выпью кофе, что не желаю больше есть гусиную печенку и, соответственно, буду есть один, и чтобы она сказала своему отцу, что поэтому я буду платить ему только семь паули в день, и что в будущем я буду пить только вино из Орвието.
– У вас есть еще четыре бутылки.
– У меня их нет, потому что я их вам дал; я прошу вас выйти и приходить в эту комнату как можно реже, потому что ваши чувства и стиль, которым вы столь талантливо пользуетесь, чтобы их объяснить, таковы, что способны заставить потерять сдержанность самого философски настроенного человека. Добавьте к этому, что ваше присутствие меня возмущает. Ваша внешность не оказывает на меня столь сильного воздействия, чтобы заставить забыть, что она скрывает душу чудовища. Знайте также, что матросы принесли мои вещи сюда, пока я разговаривал с офицером стражи, и что без этого я бы сюда не пришел; я бы направился в гостиницу, где не боялся бы быть отравленным.
Лиа вышла, не ответив мне, и я был уверен, что больше ее не увижу. Опыт научил меня, что девушки с характером Лиа нередки; я знал таких в Спа, в Генуе, в Лондоне и даже в Венеции, но эта еврейка превосходила всех прочих. Это была суббота: Мардоке по возвращении из школы (из синагоги) пришел ко мне спросить с веселым видом, почему я обидел его дочь, которая клялась ему, что не дала мне ни малейшего повода пожаловаться на нее.
– Я не собирался ее обижать, дорогой Мардоке; но, испытывая необходимость соблюдать режим, я сказал ей, что не хочу более гусиной печенки; поэтому я могу есть один и сэкономить три паоли.
– Лиа готова мне их платить и хочет обедать с вами, чтобы избавить вас от боязни быть отравленным. Она сказала мне, что вы испытываете этот страх.
– Ваша дочь, дорогой, – дурочка, обладающая умом. Мне не нужно ни чтобы она платила эти три паоли, ни соблюдать эту экономию, и, чтобы убедить вас в этом, я буду платить вам шесть, но при условии, что вы также будете есть со мной. Что же касается ее предложения платить три паоли, то это дерзость, свойственная ее характеру. Словом, либо я ем один и плачу семь паоли в день, либо тринадцать – питаясь вместе с отцом и дочерью. Это мое последнее слово.
Он ушел, сказав, что у него не хватает смелости – заставить меня есть одного. Я поднялся к обеду; я все время говорил с Мардоке, не глядя на Лиа и не смеясь над остротами, которые время от времени срывались с ее уст. Я захотел пить только вино из Орвието. На десерт Лиа наполнила мой стакан вином из Скополо, сказав, что если я откажусь его выпить, она больше его пить не будет. Я сказал, что, будучи разумной, она должна пить только воду, и что я не хочу ничего брать из ее рук. Мардоке, который любил вино, сказал, вволю посмеявшись, что я прав, и пил за троих.
Погода была дурная, я провел день за письмами и, поев ужин, приготовленный служанкой, лег и сразу заснул… Немного времени спустя меня разбудил легкий шум, я спросил: «Кто здесь?», и услышал Лиа, которая говорила мне тихим голосом, что пришла не для того, чтобы меня побеспокоить, но чтобы оправдаться в течение получаса и затем оставить меня спать. Говоря это, она села возле меня, но поверх одеяла.
Я счел, что этот визит, которого я не ожидал, потому что он казался мне не свойственным характеру этой девушки, мне приятен, потому что, обуреваемый только жаждой отмщения, я был уверен, что не поддамся на все то, что она будет делать, чтобы одержать победу. Отнюдь не собираясь обойтись с ней грубо, я говорю ей нежным тоном, что считаю ее оправданной, и прошу ее незамедлительно уйти, потому что хочу спать. Она отвечает, что даст мне спать только после того, как я ее выслушаю.
Так она начала свое объяснение, которое я не прерывал, и которое длилось добрый час. То ли из хитрости, то ли под влиянием чувства, оно было построено так, чтобы расположить меня в ее пользу, так что, признав все свои ошибки, она претендовала на то, чтобы в моем возрасте и с моим опытом я должен был бы все извинить девушке восемнадцати лет, испытывающей непреодолимое воздействие своего темперамента, вследствие чего инстинкт любви лишает ее привычного разумения. По ее мнению, я должен извинить ей все из-за этой фатальной ее слабости, даже ее коварство, потому что если она к нему прибегает, то это только из-за того, что она не владеет собой. Она клялась, что она меня бы любила, и что она дала бы мне самые живые тому доказательства, если бы не имела несчастья влюбиться в христианина, которого я с ней видел, который был нищий развратник, который ее не любил, и которому она платила. Она заверила меня, что, несмотря на свою склонность, она никогда не давала ему своего цветка. Она клялась мне, что уже шесть месяцев не виделась с ним, и что это из-за меня она позвала его этой ночью, загоревшись из-за моих эстампов и моих ликеров. Заключением всей ее апологии было то, что я должен вернуть мир ее душе, забыв все и подарив ей всю мою дружбу в те оставшиеся дни, что я проведу у нее.
Когда она кончила говорить, мне пришло в голову не подвергать ее длинную речь ни малейшему возражению. Я сделал вид, что убежден в ошибке, которую сделал, показывая ей слишком соблазнительные фигуры, я посочувствовал ей в том, что она влюбилась в нищего, и в той довлеющей над ней силе, которую оказывает природа на ее чувства, так, что она не остается хозяйкой сама себе, и заключил тем, что пообещал, что она больше не увидит в моем поведении ни малейших признаков враждебности.
Но поскольку это объяснение с моей стороны окончилось не так, как эта плутовка желала, она продолжала говорить со мной о слабости чувств, о силе самолюбия, которое часто ставит препоны нежной любовной склонности и заставляет сердце поступать против своих самых дорогих интересов, потому что она хотела убедить меня, что она меня любит и что она ничего мне не позволяла лишь затем, чтобы сделать мою любовь более сильной, завлекая меня в стремлении обладать ею. Это ее натура заставляла ее действовать подобным образом, и это не ее вина, что она не могла действовать иначе.
Сколько всего я мог бы ей возразить! Я мог бы ей сказать, что как раз из-за ее мерзкой и проклятой натуры я должен был ее ненавидеть, и что я ее ненавидел; но я не хотел ввергать ее в отчаяние, потому что хотел увидеть ее бросающейся на штурм, с тем, чтобы ввергнуть ее в пропасть унижения; но плутовка так и не пошла на это. Она так и не протянула мне руки, не приблизила свое лицо к моему. Но после этого сражения, как только она ушла, я пришел к убеждению, что она никогда бы и не пошла на открытую борьбу, потому что и так одержала победу, хотя мы и были без света. Segnius irritant animos demissa per aures [15] . Когда она говорила со мной о колоссальном воздействии, которое оказывает на нее Венера, я вспоминал то, что я видел в действе с прямым деревом, и если бы Лиа теперь обратилась с этим ко мне, мне было бы трудно удержаться. Она ушла по прошествии двух часов, потерпев поражение, но с весьма довольным видом. Я счел своим долгом пообещать, что она будет делать мне шоколад. Она пришла взять порцию, весьма рано, в самом соблазнительном неглиже, ступая на цыпочках, опасаясь меня разбудить, хотя, если бы она взглянула в сторону моей кровати, она бы увидела, что я не сплю. Сочтя ее неискренней и фальшивой, я поздравлял себя с тем, что смог ее переиграть.
Она принесла мне шоколад, и, видя две чашки, я сказал, что неправда, что она его не любит. Она ответила, что сочла себя обязанной избавить меня от страха быть отравленным. То, что я счел достойным быть отмеченным, было, что она явилась принести мне шоколад с вполне прикрытой грудью и надев платье, в то время как полчаса назад она являлась только в рубашке и юбке. Чем больше я замечал ее старания обуздать меня с помощью наживки из своих прелестей, тем больше утверждался в мысли унизить ее, выражая безразличие. Альтернативой моей победе, как мне казалось, могло быть только мое бесчестье и мой позор, так что я оставался тверд.
Несмотря на это, стол с яствами стал меня соблазнять. Лиа вопреки моему приказу велела приготовить гусиную печенку, сказав, что это для нее, и что, будучи отравленной, она умрет одна; Мардоке сказал, что тоже хочет умереть, и стал ее есть; в результате, я также поел печенки, и Лиа сказала, что мои позиции недостаточно тверды, чтобы устоять против присутствия противника. Это замечание меня задело. Я сказал ей, что, слишком раскрываясь, она поступает неразумно, и что у меня достаточно силы, чтобы воспользоваться случаем.
– Попробуйте, – сказал я ей, – заставить меня выпить Скополо или мускату. Я бы, однако, теперь выпил, если бы вы не упрекнули меня в слабости моих позиций. Я бы убедил вас, что они непоколебимы.
– Любезный мужчина, – ответила мне она, – это тот, кто иногда дает себя победить.
– Но любезная девушка, это та, что не упрекает его за слабости.
Я отправил к консулу слугу за Скополо и мускатом, и Лиа, которая не могла удержаться, уколола меня еще раз, сказав с тонким смешком, что я самый любезный из мужчин.
После обеда я вышел, несмотря на плохую погоду, и направился в кафе. Я чувствовал уверенность, что Лиа придет ночью подвергнуть меня новой осаде, и пошел туда посмотреть, не найду ли кого-нибудь, кто мог бы отвести меня прикупить каким-то образом плотских радостей. Один грек, который водил меня восемь дней назад в один дом, где мне не понравилось, повел меня в другой, где женщина его национальности, вся накрашенная, не понравилась мне еще больше. Я вернулся к себе, где, поужинав в одиночестве, как обычно, принял необычное решение запереться, что делал только два раза. Но это не помогло. Минуту спустя Лиа постучала и тихо сказала, что я забыл дать ей шоколад. Я открываю, и, взяв шоколад, она просит оставить мою дверь открытой, потому что она должна поговорить со мной о чем-то важном, и это будет в последний раз.
– Скажите мне сейчас, что вы хотите.
– Нет. Это будет немного долго, я могу прийти, только когда весь дом уснет. Вам, однако, нечего опасаться, пойдя, тем не менее, спать, так как вы у себя, и для вас я не представляю угрозы.
– Нет, разумеется. Вы найдете дверь открытой.
Твердо решившись противостоять всем ее ухищрениям, я не стал задувать свечей, потому что, будучи уверен, что она придет, и погасив их, я дал бы ей знак своего опасения. Свет должен был придать больше величия моему триумфу и дать мне больше насладиться ее унижением и ее стыдом. Итак, я лег в постель. Лиа является в одиннадцать часов, в рубашке и юбке, она закрывает дверь на засов, и тогда я говорю:
– Ну что ж, чего вы хотите?
Она заходит в альков, сбрасывает юбку, затем свою рубашку и ложится рядом со мной, сбросив одеяло. Уверенная в своей победе, она не сомневается, она не говорит мне ни слова, она прижимает меня к себе, она оплетает меня ногами, она топит меня в потоке поцелуев, она лишает меня, наконец, в единое мгновенье всех моих способностей, кроме той, которую я не хочу иметь для нее. Я успеваю помыслить только единый миг, чтобы понять, что я дурак, что Лиа, в сущности, мудра, и что она понимает людскую природу гораздо лучше, чем я. Мои ласки в один момент становятся столь же пылкими, как и ее, она дает мне пожирать ее груди и заставляет умирать на поверхности могилы, где, к моему удивлению, вселяет в меня уверенность в том, что она меня похоронит, лишь если разожмет объятия.
– Моя дорогая Лиа, – говорю я ей после краткого молчания, – я тебя обожаю, как мог я тебя ненавидеть, как могла ты желать, чтобы я возненавидел тебя? Возможно ли, что ты здесь, в моих объятиях, только для того, чтобы меня унизить, чтобы одержать бессмысленную победу? Если идея твоя такова, я тебя прощаю, но ты ошиблась, потому что моя радость намного более восхитительна, думается мне, чем удовольствие, которое ты можешь ощутить от твоей мести.
– Нет, мой друг. Я здесь не для того, чтобы восторжествовать, ни для того, чтобы одержать позорную победу; я здесь для того, чтобы дать тебе самый большой знак своей любви и чтобы сделать тебя моим истинным победителем. Сделай же меня теперь счастливой: разрушь эту преграду, которую я до сего момента сохранила нетронутой, несмотря на свою слабость и вопреки природе; и если жертва, что я тебе приношу, позволяет тебе еще сомневаться в искренности моей любви, то это ты становишься самым злым, самым недостойным из всех людей.
Я тотчас сорвал, потеряв время лишь на то, чтобы надеть небольшое устройство, ценное даже в нетерпении любви, этот плод, нового в котором нашел лишь его необыкновенную нежность. Я увидел на прекрасном лице Лиа наивысшую сладость страдания и почувствовал в ее первом экстазе все ее существо, дрожащее от нарастающего сладострастия, которое ее затопило. Удовольствие, которое я ощутил, показалось мне совершенно новым; решившись допустить его прийти к своему концу не ранее, чем я не смогу его удержать, я держал Лиа в своих объятиях неотделимой от меня до трех часов пополуночи, и я возбуждал ее благодарность, позволяя собирать мою утопающую душу в ее прекрасной ладони. Видя меня мертвым мгновение спустя, она сказала, что этого довольно, и мы расстались, довольные, влюбленные и уверенные один в другом. Я проспал вплоть до полудня, и когда увидел ее возвратившейся перед моими глазами, мысль о моем отъезде показалась мне грустной. Я сказал ей об этом, и она просила меня отложить его, насколько это будет возможно. Я сказал, что мы обговорим это следующей ночью. Я встал, а между тем она сняла простыню, на которой служанка смогла бы увидеть след нашего преступного сношения. Мы пообедали очень сладострастно. Мардоке, став моим сотрапезником, постарался уверить меня, что он не скупой. Я провел послеобеденное время у консула, с которым я назначил мой отъезд на военном неаполитанском корабле, который находился в карантине и который по его окончании должен был направиться в Триест; я должен был провести, таким образом, в Анконе еще месяц, и я возблагодарил Провидение. Я дал консулу золотую шкатулку, которую получил от Кельнского Выборщика, забрав оттуда портрет. Он дал мне через три-четыре дня за нее сорок цехинов; это было все, что она стоила. Мое пребывание в этом городе стоило мне очень дорого, но когда я сказал Мардоке, что останусь у него еще на месяц, он твердо сказал, что не хочет быть мне в тягость; таким образом, мне осталась только Лиа. Я всегда полагал, что этот еврей знал, что его дочь не отказывает мне в своих милостях. Евреи в этом вопросе не затрудняются, потому что, зная, что сын, которого мы можем сделать женщине из них, будет еврей, они думают, что это они нас поймали, предоставив нам действовать. Но я поберег мою дорогую Лиа.
Какие знаки благодарности и удвоенной нежности, когда я сказал ей, что остаюсь еще на месяц! Какие благословения дурной погоде, что помешала мне плыть в Фиуме! Мы спали вместе каждую ночь, даже в те, когда еврейский закон запрещает женщине предаваться любви. Я оставил Лиа маленькое сердечко, которое могло стоить десять цехинов; но она не захотела ничего за заботы о моем белье в течение шести недель. Кроме того, она дала мне шесть платков из Индии; я встретил ее в Песаро шесть лет спустя. Я об этом буду потом говорить. Я выехал из Анконы 14 ноября и прибыл в Триест 15, поселившись там в большой гостинице.
Глава IX
Питтони. Загури. Прокуратор Морозини. Консул Венеции. Горис. Консул Франции. Мадам Лео. Моя преданность трибуналу Государственных Инквизиторов. Страсольдо. Карниолина. Генерал Бургхаузен.
Хозяин спросил мое имя, я дал свое согласие с условиями, оказался поселен очень хорошо на третьем этаже, и моя кровать оказалась удобной. Назавтра я пошел на почту забрать письма, которые ждали меня в течение месяца. В одном из них, от г-на Дандоло, я нашел другое, открытое, от патриция Марко Дона, адресованное барону Питтони, шефу полиции, в котором меня рекомендовали в превосходных степенях. Я попросил проводить меня в его дом, представил ему письмо, назвав свое имя и, не читая его, он сказал мне, что г-н Дона его предупредил, и что в любом случае он целиком к моим услугам. Я пошел отнести письмо Мардоке еврею Моисею Леви, относительно которого не знал, имеет ли оно ко мне отношение, соответственно я оставил его в его доме, в конторе. Этот еврей Леви, мужчина умный, любезный и очень обеспеченный, пришел ко мне на следующий день, чтобы предложить свои услуги в любой области. Он дал мне прочесть письмо: оно касалось исключительно меня; в нем было сказано, что если случайно мне нужна будет сотня цехинов, он отвечает за меня и что он воспринимает любезности по отношению ко мне как сделанные ему лично.
Я счел своим долгом написать Мардоке самое искреннее благодарственное письмо и предложить ему все свои возможности в Венеции, если они ему понадобятся. Какая разница между холодным приемом, оказанным мне бароном Питони, и тем, что оказал мне еврей Леви! Этот барон Питони, которому было на десять-двенадцать лет меньше, чем мне, был обаятельный, любезный, обладал умом, сведущим в литературе, и не имел предрассудков. Враг всякой экономии, он не различал «твое» и «мое», возложив заботу о своем маленьком доме на своего лакея, который его обкрадывал; но он не считал это дурным, потому что знал об этом. Он был парень хоть куда, большой поклонник целибата, галантен с прекрасным полом, друг и покровитель всех распутников. Ленивый и беспечный, он страдал непростительной рассеянностью, вследствие которой испытывал частенько несчастье забывать важные дела, связанные с его службой. Говорили, что он охотно лгал, но это неправда, он не говорил правды, потому что забывал ее и не мог ее высказать. Я обрисовал его характер таким, каким узнал месяц спустя после того, как с ним познакомился. Мы были добрыми друзьями и остаемся такими до сих пор.
Известив друзей в Венеции о своем прибытии в Триест, я провел восемь или десять дней в моей комнате, излагая письменно все свои воспоминания, относящиеся к Варшаве и касающиеся всего того, что произошло в Польше после смерти Елизаветы Петровны. Я описал историю беспорядков, вплоть до раздела страны, который продолжался вплоть до времени, в котором я это писал. Это событие, которое я предсказал и опубликовал в печати, когда польский сейм на выборах короля Понятовского признал ныне покойную царицу императрицей всех русских, и выборщика Бранденбургского королем Пруссии, заставило меня описать всю историю вплоть до раздела, но я опубликовал только три первых тома из-за мошенничества печатника, который не выполнил условий, которые мы обговорили. У меня найдут четыре других рукописи после моей смерти, и тот, кто получит мои бумаги, передаст их публике, если будет у него такое желание. Мне это стало безразлично, как и множество других желаний, с тех пор, как я увидел в моем веке торжество глупости, достигшее самых высоких степеней размаха. Польша, которая ныне более не существует, еще существовала бы такой, какой она была по смерти Августа III, Выборщика Саксонского, если бы не амбиции семьи Чарторыжских, которых унизил граф де Брюль, премьер-министр короля. Август Чарторыжский, палатин России, желая отомстить, потерял свою родину. Страсть ослепила его глубокий ум до такой степени, что он забыл, что сила аксиом, и особенно в политике, непреодолима. Решившись не только исключить Саксонский Дом из возможных притязаний на трон Польши, но и низложить правящего монарха, и испытывая необходимость для достижения своих целей стать другом Царицы и Выборщика Бранденбургского, он их представил с помощью сейма как первую – императрицей всех Русских, а второго – как короля Прусского. Без этого эти два суверена, абсолютно в согласии друг с другом, не желали иметь дела с Республикой. Республика была совершенно права, не желая давать им эти титулы, потому что именно она распоряжалась основными Россиями и именно она являлась собственно королем Пруссии, Выборщик Бранденбургский располагал только герцогством Прусским. Палатин России, Чарторыжский, ослепленный желанием отомстить, доказывал на сейме, что этот расклад ничего не значит, поскольку суверены претендуют только на почести, связанные с титулами, и не собираются никогда их превращать в реальность. Суверены говорили, что просят только титулов, и Республика их им дала, и палатин России имел удовольствие увидеть на троне Станисласа Понятовского, сына Констанс, его сестры. Я сказал тогда самому палатину, что соответствующий титул дает тому реальные права, и что обещание никогда этим не воспользоваться становится ничего не значащим и иллюзорным, и что это неизбежно случится, если он не увидит важности этого. Хотя и со смехом, поскольку я не мог говорить ему это иначе, чем тоном светской болтовни, я говорил ему сотню раз, что в силу такого понимания вся Европа не может впредь рассматривать Польшу иначе, чем хранительницу Россий, Белой, Красной и Черной, и королевства Прусского, и что рано или поздно владетели упомянутого освободят Республику-хранительницу от бремени хранения. Это будут не наследники, но сами суверены, которые ее разделят, но не в соответствии с титулами. Политика, всегда придерживающаяся видимости, избавит их от необходимости этого. Те самые, кто разделил ее, присвоили ее себе, наконец, в прошлом году. Другой чрезвычайной ошибкой, которую совершила Польша, душой которой был в это время Чарторыжский, было не вспомнить про басню Эзопа о человеке, сидящем на взбесившейся лошади в положении о протекторате. Римская республика стала владетельницей всего известного тогда мира, когда взяла под свое покровительство все королевства, которые захватила. Поэтому любой суверен, оказывающий протекцию, ни на секунду не поколебался бы, чтобы воспользоваться ею; первое, чего следует добиться, это стать опекуном, опекуном-отцом, затем – хозяином своего дорогого подопечного, когда это станет не более чем заботой о его наследии. Именно таким образом моя хозяйка – Венецианская Республика стала владелицей королевства Кипра, которое Великий Турок затем у нее отобрал, чтобы стать хозяином доброго вина, что там производили, несмотря на то, что Алкоран должен был бы заставить его это вино ненавидеть. Сегодня сама Венеция пребывает в вечном позоре.
Амбиции, месть и глупость привели к потере Польши, но в первую очередь глупость. Эта глупость, зачастую дочь доброты и беспечности, начала приводить к потере Франции с восшествием на престол несчастнейшего Луи XVI. Каждый король, лишившийся трона, должен быть глупец, и каждый король-глупец должен лишиться трона, ибо в мире нет нации, у которой король не держался бы на троне лишь с помощью силы. Поэтому у короля-глупца должен быть умный премьер-министр, который делает его могущественным. Король Франции проиграл из-за своей глупости, и Франция проиграет из-за глупости нации, кровожадной, безумной, невежественной, одурманенной собственным духом и фанатичной. Болезнь, которая торжествует теперь во Франции, могла бы быть излечена в любой другой стране, но во Франции она должна привести ее в могилу, и у меня не хватает воображения представить, что с нею будет. Французские эмигранты могут внушать жалость кому угодно, но не мне, потому что я считаю, что твердо держась в своем королевстве, они могли бы противостоять силой против силы и потратить свои деньги на то, чтобы уничтожить поджигателей, не дав им времени уничтожить нацию. В истории нет такого примера, чтобы собрание мужланов-глупцов, слепых по своей природе, могло создать то, что опыт сорока веков представляет как невозможное. Безголовое тело может существовать лишь ограниченное время, так как разум содержится в мозгу, место которого – в голове.
Первого декабря барон Питтони направил ко мне своего лакея с приглашением прийти к нему, потому что у него находится человек, который прибыл из Венеции специально, чтобы увидеться со мной. Весьма заинтересованный, я наспех оделся, и барон представил меня прекрасному персонажу, тридцати пяти-сорока лет, элегантно одетому, с красивым смеющимся лицом, который посматривал на меня с большим интересом.
– Мое сердце говорит мне, – сказал я ему, – что Ваше Превосходительство – сеньор Загури, потому что я замечаю на вашем прекрасном лице стиль ваших писем.
– Точно, мой дорогой Казанова; сразу, как только мой друг Дандоло мне сказал, три дня назад, что вы уже здесь, я решил приехать обнять вас и поздравить с вашим возвращением на родину, которое наверняка состоится либо в этом году, либо, в крайнем случае, в следующем, когда я надеюсь увидеть избранными в Государственные Инквизиторы двух людей, которых я, некоторым образом, нахожу не глухими и разговаривающими. То, что должно дать вам нелегко доставшееся мне доказательство моей дружбы, – это, что я прибыл вас повидать, несмотря на то, что, будучи в настоящее время Авогадором, я по закону не имею права удаляться из столицы. Мы проведем вместе сегодняшний и завтрашний день.
Ответив ему согласием, оценив высокую честь, что мне оказывает его визит, я слушал барона Питтони, который попросил у меня прощения, что не зашел меня повидать, уверив, что он это забыл, и красивого старого человека, который просил Его Превосходительство пригласить меня обедать к нему вместе с собой, несмотря на то, что он не имел чести меня знать.
– Как? – сказал ему г-н Загури, – в течение десяти дней, что Казанова находится в этом маленьком городе, консул Венеции его не знает?
– Это моя ошибка, – быстро возразил я ему. Я подумал, что могу оскорбить его, явившись ему представиться, потому что г-н консул мог счесть меня контрабандным товаром.
Он ответил мне с умом, что, начиная с этого времени, он будет меня рассматривать только как товар, который прибыл в Триест только для того, чтобы пройти карантин перед возвращением на родину, и что его дом будет для меня всегда открыт, как дом консула Венеции открыт был для меня в Анконе.
Этим ответом консул хотел дать мне понять, что ему известны все мои дела. Его звали Марко Монти. Это был человек, исполненный ума и опыта, очень любезный в компании, очень занимательный в своих разговорах, очень красноречивый, изящно обо всем рассказывающий и обладающий талантом, оставаясь самому серьезным заставлять все собрание смеяться над тем, что он рассказывает и к тому же высмеивает. Поскольку я тоже немного владел этим талантом, мы мгновенно стали симпатичны друг другу, соперничая в рассказывании анекдотов. Несмотря на то, что он был на тринадцать лет старше меня, я ему не уступал, и когда мы бывали вместе в ассамблеях, не было более нужды в игре, чтобы приятно провести время. Дружба этого доброго человека, которую я смог завоевать, была мне весьма полезна в те два года, что я там провел, и я всегда считал, что он весьма способствовал тому, чтобы я смог обрести мое помилование, единственную цель моих намерений в это время, потому что я был атакован болезнью, которую немцы называют Heimweh, а греки – Nostalgia. Ее сила столь велика, что швейцарцы и эсклавонцы от нее умирают в очень короткое время. Я не умер бы от нее, возможно, если бы пренебрег ею, и не был бы вынужден потерять девять лет в неблагодарном лоне этой моей матери-мачехи.
Итак, я пообедал с г-ном Загури у консула, в большой компании, и назавтра – у губернатора, которым был граф д’Аверсберг. Этот визит венецианского авокадора вызвал ко мне необычайное уважение. Больше не могли смотреть на меня как на изгнанника. Ко мне относились как к человеку, которого правительство Венеции не могло более требовать выдать, потому что я покинул родину лишь для того, чтобы спастись от незаконного заключения в тюрьме, и правительство, поскольку я не нарушил никакого закона, не могло считать меня осужденным.
Послезавтра утром я сопроводил г-на Загури в Гориче, где он остановился на три дня, и я не смог избегнуть участия в почестях, которые знать этого города, очень изысканная, хотела ему оказать. Я увидел, что иностранец в Гориче может жить там в большой свободе и пользоваться всеми развлечениями общества. Я познакомился там с графом де Гобензель, который, возможно, еще жив, умный, образованный и с большими литературными познаниями, но без малейшей претензии; он дал большой обед г-ну Загури, и именно там я познакомился с четырьмя дамами, достойными, со всех точек зрения, всяческих похвал. Я познакомился с графом Торрес, чей отец, лейтенант-генерал на имперской службе, был испанец. Он женился в возрасте шестидесяти лет, взяв в жены женщину плодовитую и умную, и имел от нее пятерых детей, все некрасивые, как и он. Его дочь, очень образованная, была весьма обаятельна, несмотря на свою некрасивость, потому что умом и характером походила на свою мать. Старшая, косоглазая, была глупа, но старалась казаться умной. Распутник, фанфарон, лгун, дерзкий болтун, злой, неискренний, он тем не менее был принят в компаниях, потому что хорошо рассказывал, блистал ловкими словечками и умел вызвать смех. Если бы он учился, он мог бы стать большим писателем, потому что обладал выдающейся памятью. Это он гарантировал понапрасну контракт, который я заключил с печатником Валерио Валери, чтобы опубликовать историю польской смуты. Я также познакомился в эти два дня с графом Коронини, который имел доброе имя в «Журнале ученых», так что передал публике труды в области дипломатии, написанные им на латыни. Никто их не читал, предпочли лучше присвоить ему задаром звание ученого, чем доставить себе труд их прочесть.
Я познакомился с молодым дворянином Морелли, который написал историю Гориче и собирался как раз опубликовать первый том. Он дал мне рукопись, желая, чтобы я прочел ее в свободное время в Триесте и исправил бы то, что сочту нужным, и я это сделал. Я вернул ее ему, не найдя никаких возражений, и благодаря этому заслужил его дружбу. Он бы меньше меня любил, если бы я дал себе труд написать ему частным порядком какие-то критические замечания. Я обрел большую дружбу у графа Франсуа Шарля Коронини, обладателя множества талантов. Он был единственный сын. Он женился в Нидерландах на женщине, с которой не смог жить, вернулся к себе и жил здесь, завязывая мелкие любовные интрижки, охотясь и читая новости, литературные и политические. Он смеялся над теми, кто говорил, что в мире нет счастливых людей, в то время, как он и был именно таким человеком, был уверен в этом, ибо таким себя ощущал. Он был прав, но он умер от опухоли в мозгу в возрасте тридцати пяти лет. Страдания, которые его убили, разубедили его. Впрочем, неправда, что на свете есть человек, который чувствовал бы себя счастливым в любое время, или другой, который чувствовал бы себя все время несчастным. Более или менее, счастье или несчастье не может быть постоянно присуще никому, потому что это состояние относительно и зависит от характера, темперамента и обстоятельств. Тем более неверно, что добродетель делает человека счастливым, потому что есть добродетельные люди, существование которых подвержено страданию, а страдание исключает счастье.
Я сопроводил дорогого Загури до границы, в компании с бароном Питтони, и вернулся с ним в Триест. Аббат Пинии, церковный адвокат, очень опытный в делах о разводах, был вместе с любезным венецианцем, который приехал, чтобы задать тон процедуре, в которой все триестинцы принимали участе вплоть до моего отъезда. Питтони представил меня в три или четыре дня всем домам и в казене, куда могли приходить только именитые люди города. Этот казен находился в той самой гостинице, где я остановился. Я обратил внимание на одну венецианку-лютеранку, дочь германского банкира и жену Давида Пикелена, негоцианта родом из Швабии, укоренившегося в Триесте. Питтони был в нее влюблен и оставался таким до самой ее смерти. Он любил ее, таким образом, двенадцать лет подряд, как Петрарка любил Лауру, вздыхая, надеясь и ничего никогда не получая. Эта редкая женщина, которую по крещению звали Дзанетта и муж которой не был ревнив, была красива, пела очень хорошо за клавесином, сама себе аккомпанируя, и прославила свой дом как нельзя лучше, но нежность ее характера, ровное обращение с всеми выделяли ее еще более, чем прочие черты ее характера и прекрасное воспитание, которое она получила. Мне достаточно было трех дней, чтобы понять, что эта женщина неприступна, и, хотя и впустую, я заявил бедному барону Питтони, что она отличается от всех прочих, по которым вздыхают, тем, что никогда не отойдет от принципов супружеской верности, которую она обещала своему мужу, а более всего самой себе. Она не пользовалась крепким здоровьем, но этому невозможно было бы поверить, если бы об этом не знал весь город. Она умерла молодой, очень спокойно.
Несколько дней спустя после отъезда г-на Загури я получил записку от консула, который извещал меня, что г-н Прокуратор Морозини прибыл в Триест ночью и остановился в моей же гостинице. Он сообщал мне это, давая понять, что это случай отдать ему поклон, если я его знаю. Я был весьма признателен моему дорогому консулу, что он подсказал мне этот ход, потому что г-н де Морозини был большой человек, как по своему высокому положению Прокуратора Св. Марка, так и потому, что он был одним из Великих Мудрецов (магистратура Венеции). Он знал меня с детства, и мой читатель может вспомнить, что в 1750 году он меня представлял в Фонтенбло маршалу де Ришелье, когда пресловутая м-м Кверини была там, чтобы добиться победы над Луи XV.
Итак, я поскорей оделся так, как если бы должен был предстать перед монархом, и направился в его прихожую, чтобы меня представили ему так, как значилось в моей карточке. Он выходит из комнаты, чтобы встретить меня и выражает свое удовольствие видеть меня, в самых лестных выражениях. Когда он узнал, из каких соображений я обитаю в Триесте, и о моем желании вернуться на родину после стольких испытаний, он заверил меня, что сделает все, от него зависящее, чтобы я смог обрести эту милость у грозного трибунала; он думает, что человек вроде меня может просить ее по истечении семнадцати лет. Он поблагодарил меня за заботу, которую я проявил по отношению к его племяннику во Флоренции, и продержал меня у себя весь день, который я использовал, чтобы рассказать ему в деталях о главных приключениях моей жизни. Обрадованный тем, что г-н Загури готов все сделать для меня, он сказал чтобы я написал ему, чтобы он согласовал свои усилия с ним, и рекомендовал меня с самой большой настойчивостью консулу, который, постоянно переписываясь с секретарем Трибунала Государственных инквизиторов, был обрадован тем, что может дать тому отчет о знаках уважения, с которыми обращался со мной прокуратор, и о его обязательстве быть мне полезным во всех отношениях. После отъезда г-на Морозини я стал устраиваться в своей жизни в Триесте так, как если бы она была продолжительной, и в том числе соблюдать экономию, потому что располагал чем-то около пятнадцати цехинов в месяц. Я совершенно не играл и каждый день шел обедать, по воле случая, в одно из тех мест, где меня просили бывать каждый день, и где я был уверен, что меня встретят с удовольствием. Это были консул Венеции, консул Франции – большой оригинал, но благородный человек, у которого был хороший повар, к Питтони и к некоторым другим; и в том, что касается любовного удовольствия, я получал его с девочками без всяких последствий, с очень малыми тратами и не подвергая свое здоровье никакому риску.
Ближе к концу карнавала – это было на балу, который давали в театре после комедии – человек в маске, одетый Арлекином, представил мне свою Арлекину. Они разыграли меня, и поскольку Арлекина меня заинтересовала, у меня возникло большое желание с ней познакомиться. После длительных и бесполезных изысканий, г-н де Сен-Совер, консул Франции, сказал мне, что Арлекин – это девица хорошего происхождения, а Арлекина – это красивый мальчик, и что если я хочу, он представит меня семье Арлекина, который, если бы он был одет девушкой, заинтересовал бы меня гораздо больше, чем его «подружка» – мальчик. В розыгрышах, которые они мне устраивали до самого конца бала, я с очевидностью убедился, что консул не обманул меня по поводу фальшивого Арлекина, мне захотелось увидеть ее лицо, и я взял с нее слово показаться мне на второй день поста. Таким образом я познакомился с м-м Лео, женщиной умной, которая вела незначительное существование, но была еще привлекательна. У нее был муж, единственный сын и шестеро дочерей, все довольно красивые; включая ту, что мне понравилась в образе Арлекина. Я влюбился в нее, но, имея на тридцать лет больше, чем она, и начав с того, что я демонстрировал ей только отцовскую нежность, чувство стыда, совершенно новое для моего характера помешало мне предпринять что-то, что смогло бы убедить ее в том, что моя привязанность – это привязанность любовника, так что я никогда не требовал от нее ничего, что выходило бы за рамки, которые можно рассматривать как пределы, разделяющие двоих, испытывающих друг к другу склонность.
После Пасхи 1773 года губернатор Триеста граф д’Аверсперг был вызван в Вену и граф де Вагенсберг прибыл занять его место. Его старшая дочь, прекрасная как звезда, графиня Лантиери зажгла в моей душе пламя, которое сделало бы меня несчастным, если бы у меня не достало силы скрыть его под вуалью самого большого уважения. Я приветствовал прибытие нового губернатора стихами, которые представил публике, напечатав их, и, перечислив достоинства отца, восхвалил редкие качества его дочери. Мое приношение ему понравилось, я стал усердно его посещать, граф-губернатор стал испытывать ко мне дружеские чувства и засвидетельствовал их мне в доверительных беседах, в которых он хотел, чтобы я извлек пользу из его отношения ко мне в своих собственных делах. Он мне это не говорил, но было легко догадаться о его намерениях.
Консул информировал меня, что безуспешно трудится уже в течение четырех лет, чтобы добиться от руководства Триеста того, чтобы дилижанс, который ездит раз в неделю из этого города в Местре, удлинил свой путь на одну почтовую станцию, проехав через Удине, столицу венецианского Фриули. Этот проезд через Фриули, мне говорили, будет очень полезен для коммерции между двумя государствами, и Совет Триеста не хочет с этим согласиться из соображения столь же демагогического, сколь и нелепого. Коммерческие советники Триеста, глубокие политики, говорили, что если республика Венеция так этого желает, это является очевидным знаком того, что ей это будет полезно, а если это будет полезно ей, оно будет невыгодно триестинцам. Консул заверил меня, что если я смогу довести до конца это дело, я настолько продвинусь вперед во мнении Государственных инквизиторов, что даже если я не получу за это помилования, я, по крайней мере, заслужу их признательность, и что я должен рассчитывать на его дружбу в том отношении и в том обороте, который он придаст в своем отчете моей деятельности, чтобы я мог извлечь из этого всю выгоду. Я ответил ему, что подумаю об этом.
Я незамедлительно поговорил об этом деле с графом губернатором, который, уже зная о нем, заверил меня, что находит упрямство совета по коммерции скандальным, но добавил, что не знает, что тут сделать, потому что это решение от него не зависит. Он сказал мне, что советник Рицци – большой упрямец, который с помощью ложных умозаключений почти всегда склоняет к своему мнению всех остальных. Он посоветовал мне представить ему об этом записку, в которой, рассмотрев дело со всех точек зрения, я покажу, что дилижанс, проезжающий через Удине, отвечает интересам Триеста в качестве «порто франко» намного больше, чем этому Удине, коммерция которого очень незначительна. Он сказал мне, что направит в совет эту записку, не говоря, от кого она, и показывая, что сам убежден ею, предложит советникам – оппонентам опровергнуть мои соображения объективными аргументами, и заверил меня, что скажет на совете, что если дело не будет согласовано, он направит его в Вену, с приложением своего мнения.
Уверенный в своей правоте, я написал записку, которую нельзя было отвергнуть иначе, чем явным лукавством. Совет постановил, что отныне дилижанс будет проезжать через Удине по пути и туда и обратно, и граф Вагенсберг передал мне копию этого декрета. Я отнес ее консулу и, следуя его совету, написал секретарю Трибунала, что счастлив, что смог дать трибуналу доказательство усердия, которое меня обуревает, в стремлении быть полезным моей родине и достойным обрести помилование, чтобы иметь возможность вернуться, если Их Превосходительства решат, что я его заслужил.
Губернатор опубликовал новый регламент дилижанса только через восемь дней, после чего правительство Удине узнало через каналы трибунала, что дело сделано, еще раньше, чем город Триест был о том проинформирован. Все решили, что Трибунал, который все делает под секретом, пришел к этому из соображения денег. Секретарь мне не ответил, но написал письмо консулу, который мне его показал, в котором тот приказал выдать мне вознаграждение в сто дукатов серебром, что равно 400 франков французской монетой. Он написал, что это дано мне для поощрения, и что я вполне смогу надеяться на милосердие Трибунала, поучаствовав в большом деле армян, о котором он может меня проинформировать.
Он изложил мне это дело в четверть часа, и я сначала подумал, что ничего не смогу сделать; но не следовало терять надежды.
Четыре месяца назад армяне покинули монастырь Св. Лазаря в Венеции, не желая терпеть тиранию его аббата. Они имели родственников, очень богатых, в Константинополе, и, насмехаясь над отлучением, которое произнес их аббат, объявив их вероотступниками, они направились в Вену с просьбой об убежище и защите, обещая быть полезными государству, учредив на свои средства типографию на армянском языке, которая будет снабжать книгами все армянские монастыри, находящиеся в обширных государствах, подчиненных турецкой империи. Они брались потратить сумму в один миллион флоринов в в том месте, где С.М.И.Р.А. (Ее Императорское Величество) позволит им поселиться, как для того, чтобы обустроить эту типографию, так и для того, чтобы купить или построить дом, где они могли бы жить в сообществе, хотя и без главы. Австрийское правительство не только без колебаний предоставило им то, что они просили, но и дало им привилегии. Речь шла о том, чтобы лишить владения Венеции этой отрасли коммерции, чтобы самим ею завладеть. Венский кабинет задумал направить их в Триест, усиленно рекомендуя их губернатору, и они были уже здесь в течение шести месяцев. Государственные Инквизиторы справедливо полагали, что хорошо бы вернуть их в Венецию, и, не имея возможности действовать напрямую, что сводилось бы к тому, чтобы заставить действовать аббата, который обязан был бы выдать им большое возмещение, они использовали все возможные секретные ходы, чтобы чинить им препятствия в Триесте, направленные на то, чтобы им там не понравилось. Консул искренне сказал мне, что уклонился от того, чтобы вмешиваться в это дело, потому что не считает его возможным, и предупредил меня, что если я за него возьмусь, я лишь потеряю время.
Было очевидно, что в такого рода предприятии я не могу рассчитывать на дружбу губернатора и даже не должен с ним об этом говорить и давать ему повод думать, что я пытаюсь отвратить монахов от проекта, который они осуществляют, потому что, помимо своего долга, рвение, которое он проявлял, в частности, к оживлению коммерции Триеста, заставляло его оказать поддержку счастливому осуществлению проекта этих монахов. Несмотря на это, я начал с того, что свел знакомство с ними под предлогом посмотреть армянские литеры, которые они уже велели отлить, и тонкие изделия из камня и минералов, которые они привезли из Константинополя. В восемь-десять дней я с ними сблизился. Я сказал им однажды, что если речь идет только об отмене отлучения, их честь требует, чтобы они вернулись к послушанию, в котором они присягали своему аббату. Самый упрямый из них сказал мне, что он уверен, что их патриарх, отменив отлучение, даст им руководителя, и что многие монахи приедут из Леванта, чтобы основать в Триесте новый монастырь. В другой день я спросил у них, какие условия они выдвигают их прежнему аббату, чтобы вернуться в Венецию; и самый разумный мне сказал, что первое условие будет, чтобы этот аббат забрал у маркиза Серпос N (400 000) дукатов, которые он дал ему под четыре процента годовых.
Эти четыре сотни тысяч дукатов составляли фонд монастыря Св. Лазаря, где армянские Базилевсы (владыки) существовали в течение трех веков. Это народ создал этот фонд; аббат не мог им распоряжаться, даже при условии согласия большинства своих монахов. Маркиз Серпос, сделав монастырь банкротом, сам останется в нищете. Однако, правда то, что аббат получил эту сумму от своего шефа.
Маркиз Серпос был армянский торговец, обосновавшийся в Венеции, который торговал только каменными изделиями; он был близкий друг аббата.
Тогда я спросил у монахов, каковы будут прочие условия, и они мне ответили, что они касаются только дисциплины, и что их нетрудно будет урегулировать; но они мне сказали, что представят мне все их в письменном виде, если я сочту себя в состоянии заверить их, что Серпос не будет более хозяином их фонда.
Теперь я начал действовать; я изложил все это письменно, я передал мою записку консулу, который отослал ее в Трибунал, и шесть недель спустя я получил ответ, что аббат найдет способ поместить в банк искомую сумму, но что он хочет прежде узнать подробно, в чем будут состоять регламенты дисциплины.
Когда я прочел об этом положении, которое прямо противоречило тому, что я написал, я решил отойти от этого дела. Но меня заставили очень быстро передумать четыре слова, которые сказал мне граф де Вагенсберг. Он дал мне понять, что знает о том, что я хочу снова помирить монахов с их аббатом, и что это ему неприятно, потому что я могу этого добиться, только нанеся вред стране, в которой я нахожусь, и которой должен быть другом, каковым он меня и считает. Я без колебаний рассказал ему со всей искренностью о состоянии дела, заверив, что никогда бы не взялся за это поручение, если бы не был сам уверен, что никогда его не смогу выполнить, потому что я информирован из самой Венеции, и в этом невозможно сомневаться, что маркизу Серпосу нет никакой возможности возвратить аббату эти N дукатов. Он все понял. Армяне купили за M дукатов дом советника Рицци и поселились там; я заходил к ним повидаться время от времени, не говоря с ними более о возвращении их в Венецию. Но вот последнее доказательство дружбы, которое дал мне граф де Вагенсберг, потому что он умер осенью, в возрасте пятидесяти лет.
Одним прекрасным утром он остановился, прочтя длинный текст, который только что получил из Вены, и сказал, что ему жаль, что я не понимаю по-немецки, потому что он дал бы мне его прочесть.
– Вот о чем речь, – сказал он мне, – и в чем вы заслужили бы честь от своей родины, не рискуя не понравиться тем, кто, по своему положению, обязан обеспечить нашей коммерции все возможные преимущества. Я сейчас скажу вам одну вещь, о которой вы никому не должны говорить, что узнали ее от меня, но от которой вы можете получить большую пользу, либо добившись этого, либо, если ваши усилия будут тщетны, потому, что они позволят судить о вашем патриотизме, и вам будут благодарны за усердие, с которым вы это сообщили, и оценят ловкость, с которой вы это выяснили. Вам не нужно будет, однако, говорить, как вы проникли в суть дела. Скажите только, что вы бы не передавали его, если бы не были уверены.
– Все товары, – продолжил он, – которые отправляются от нас в Ломбардию, проходят через Венецианское государство и саму Венецию, где, пройдя таможню, помещаются в магазины как товары транзитные. Так делается всегда, и так может быть и в будущем, если венецианское правительство решится уменьшить хотя бы вполовину то, что оно заставляет нас платить за складирование наших товаров. Четыре процента, которые нас заставляют платить – это слишком много. Ко двору был представлен проект, который был сразу одобрен, и вот приказ, который я получил к исполнению, даже не известив предварительно венецианское правительство, потому что операция такова, что мы не считаем себя к этому обязанными, как друзья, ставить их в известность до начала исполнения. В том, что касается проходных товаров, каждое государство действует свободно: если оно пропускает товары через другую страну, оно платит, если не пропускает, местность, которую оно не задевает, не может ничего требовать, либо жаловаться, если товар проходит через другую местность. Здесь тот самый случай. Все, что мы в будущем будем направлять в Ломбардию, не будет более проходить через Венецианское государство. Все будут грузить здесь и разгружать в Меццола. Эта местность, которая принадлежит герцогу Моденскому, находится напротив нас. Залив пересекается за ночь, и наши товары будут размещаться там, в магазинах, которые будут там построены. Вы видите, что мы сократим путь более чем наполовину и что Моденское государство получит право только на небольшую дорожную пошлину, которая не составляет и четверти того, что мы платим венецианцам. Добавим сюда уменьшение дорожных расходов, а также выигрыш во времени. Я уверен, что если Республика прикажет сказать министру финансов или совету по коммерции в Вене, что готово уменьшить наполовину подать, которую оно взимает, их предложение будет принято на-ура, потому что эти нововведения всегда чреваты затруднениями, влекут за собой чрезвычайные расходы и вызывают разные беспорядки из-за непредвиденных обстоятельств. Я направлю этот совет только через три или четыре дня, потому что ничто меня сейчас не торопит, но вы должны поторопиться, потому что после того, как я опубликую суть дела, правительство Венеции окажется сразу информировано о нем через вашего консула, и все сообщество торговцев – через своих корреспондентов. Мне хотелось бы, чтобы вы послужили причиной появления приказа из Вены, предписывающего мне отложить эту операцию, как раз тогда, когда я готов к ней приступить.
Я сразу почувствовал всю пользу, которую мог бы получить, доведя эту новость до Государственных инквизиторов. Любимым пунктиком Трибунала является удивлять всех своей информированностью обо всем прежде кого бы то ни было, за счет непонятных источников. Изъявив Его Превосходительству всю мою признательность, я сказал, что иду писать Государственным инквизиторам рапорт, который хочу сразу же им отправить экспрессом, после того, как дам ему предварительно прочесть. Он сказал, что ему будет любопытно его прочесть, и я поспешил взяться за дело.
В этот день я не обедал. В четыре или пять часов я все сделал – черновик, копию и копию с копии – и отнес все губернатору, который был очарован моей быстротой. Он счел все в лучшем виде. Затем я отнес мое послание консулу и дал ему прочесть, без малейшего предисловия. Посмотрев на меня с удивлением, он спросил, уверен ли я, что это не басня, потому что ему показалось невозможным, чтобы новость такого рода могла быть ему неизвестна и неизвестна всему Триесту. Я сказал ему устно, как указывал письменно в заключение моего рапорта, что гарантирую аутентичность этого дела своей головой, попросив его в то же время не требовать, чтобы я сказал ему, как я это узнал. Хорошенько подумав, он сказал, что это сообщение, если оно должно исходить от него, он должен отправить в распоряжение Пяти Мудрых от коммерции, от которых, в качестве консула, он является министром, и что как таковой он может отправить его Государственным Инквизиторам только как направленное мной в их адрес. Он сказал мне соответственно, чтобы я его запечатал и написал ему вежливую записку, в которой попросил бы его отправить мой пакет в Трибунал, испросив у него извинения за то, что передаю его запечатанным.
– Почему, – спросил я у него, – вы хотите, чтобы я продемонстрировал это свое недоверие к вашей порядочности?
– Потому что, кроме всего прочего, я должен отвечать за правдивость всего изложенного, и, кроме того, если даже я буду уверен в его правдивости, Пятеро Мудрых от коммерции сочтут меня виноватым, потому что я здесь для того, чтобы служить им, даже прежде, чем господам Государственным Инквизиторам, которым я ничего не должен. Так что позвольте мне игнорировать это дело до момента, пока я узнаю о нем из публики. Мне кажется, что если это правда, Его Превосходительство президент должен это знать, и через неделю это уже не будет секретом. Тогда я составлю свой рапорт Пятерым Мудрым по коммерции, и мой долг будет выполнен.
– Значит, я могу отправить мою записку прямо в ваш магистрат, минуя ваши руки?
– Нет. Потому что, во-первых, они вам не поверят. Во-вторых, это причинит мне неприятности, потому что скажут, когда я сообщу им эту новость, что я невнимателен. И в третьих, мой дорогой начальник магистрата не даст вам и су и даже, может быть, даже не поблагодарит вас. Если вы уверены в этой странной новости, вы сделаете мастерский ход, направив ее Трибуналу, и можете быть уверены не только в том, что заслужите большое уважение, но и новое вознаграждение в деньгах, которое должно послужить вам твердой гарантией уважения. Если это дело верное, я вас поздравляю, но если оно ложное, вы пропали, потому что вы вовлечете грозный и непогрешимый Трибунал в странную оплошность, вы должны быть уверены, что через час после того, как Трибунал узнает об этом деле, магистрат Пяти Мудрецов коммерции будет иметь его копию.
– Почему копию?
– Потому что вы себя назовете, а никто не должен знать имена конфидентов Их Превосходительств.
Я сделал все, что посоветовал мне мой мудрый друг, и мгновение спустя написал ему записку, такую, как он хотел, и запечатал свой пакет, адресовав его г-ну Марк-Антонио Бюзинелло, секретарю Трибунала, который был братом того, в правление которого я убежал из Пьомби, за семнадцать лет до того.
Президент был рад, когда назавтра с утра я сказал ему, что уже все сделал до полуночи. Он заверил меня снова, что консул Венеции не узнает ничего до субботы. Но беспокойство моего дорогого консула в эти пять дней, которые протекли до того, как все узнали новость, меня удручало; он ничего не говорил мне из деликатности, а я, со своей стороны, огорчался, что не могу успокоить его прекрасную душу.
В субботу, по выходе из совета, первый, кто объявил мне об этом деле в казене, был советник Рицци, он сообщил мне эту новость как очень неприятную для Венеции, что его развеселило, потому что он предполагал, что в скором времени порт Триест должен свести на нет роль порта Венеции. Консул прибыл, когда мы обсуждали эту новость; он сказал, что для Венеции потеря очень мало значит, но при первом же плавании по пересечению залива, которое произойдет, будет потеряно все то, чего стоит право таможенного складирования за десять лет. Он сказал, кроме того, что австрийские грузоотправители потеряют все то, чего будет им стоить перегрузка товаров в повозки, которые должны будут поворачивать обратно, чтобы направиться из Меццолы в венецианскую Ломбардию и на все наши ярмарки. Консул, наконец, только посмеялся. Такова была его профессия. На всех маленьких торговых площадках, таких как Триест, придают большое значение пустяковым вещам.
Я отправился обедать вместе с консулом, который, оказавшись наконец наедине со мной, облегчил свою душу и признался в своем беспокойстве и своих сомнениях. Спросив у него, что думают делать венецианцы, чтобы отбить этот удар, я услышал, что они будут проводить большие консультации, после которых не придут ни к какому решению, допустив, чтобы австрийское правительство отправляло свои товары, куда хочет.
Факт был тот, что консул оказался прав. Он написал о новости в свой магистрат в тот же день, и в следующую неделю ему ответили, что дело это уже в течение нескольких дней известно Их Превосходительствам, необычными путями, и ему поручается продолжать информировать магистрат обо всех результатах… Не прошло и трех недель, как он получил письмо от секретаря Трибунала, в котором ему было предписано вознаградить меня сотней дукатов серебром и передавать мне по десять цехинов в месяц, чтобы заверить меня в благорасположении Трибунала. Впрочем, к этому времени я уже не сомневался в моем помиловании еще до конца года, но я ошибся. Мне пожаловали его только в следующем году, и я буду говорить еще об этом на своем месте. Того, что у меня было, мне для жизни было недостаточно, так как некоторые удовольствия, без которых я не мог обойтись, стоили мне дорого. Я не чувствовал себя недовольным тем, что стал служить тому самому Трибуналу, который лишил меня свободы и силы которого я не побоялся; мне казалось, наоборот, что можно торжествовать, и мое благополучие требовало от меня стать ему полезным во всем, что не противоречит ни правам природным, ни правам людским.
Небольшое событие, которое заставило смеяться весь город, понравится и читателю. Это было в начале лета, я только что поел сардин на берегу моря и возвращался к себе за два часа до полуночи. Я направлялся спать, когда увидел входящую в мою комнату девушку, в которой сразу узнал служанку молодого графа Страсольдо.
Этот юный граф был красив, беден, как и почти все Страсольдо, любил дорогостоящие удовольствия и, соответственно, имел долги; его содержание составляло не более шести сотен флоринов в год, а он тратил в четыре раза больше. Он был воспитан и образован, и я несколько раз ужинал у него в компании Питтони. У него в услужении была некая Краньолина, хорошенькая до невозможности, которую его друзья наблюдали, но не осмеливались приласкать, так как знали, что он в нее влюблен и ревнив. В соответствии с обстоятельствами, я ею любовался, хвалил ее в присутствии хозяина, говорил, что он счастливец, обладая таким сокровищем, но ни слова ему самому не говорил.
Этот самый граф Страсольдо был вызван в Вену графом д’Аверсберг, который него любил и который при его отъезде обещал подумать о нем. Он был направлен в Польшу в качестве капитана округа; он со всеми попрощался, распродал с молотка свою мебель и собирался уже уезжать. Весь Триест знал, что он везет с собой свою Краньолину, я сам в это утро желал ему доброго пути. Так что можно вообразить себе мое удивление, когда я увидел в моей комнате в этот час его служанку, которая до того на меня и не смотрела. Я спросил у нее, чего она хочет, и она коротко мне отвечает, что, не желая уезжать вместе с Страсольдо и не зная, куда ей деваться, она подумала, что самое надежное ей обратиться ко мне. Никто не догадается, – сказала мне она, – что она здесь, и Страсольдо уедет один. После его отъезда она сразу уедет из Триеста и вернется к себе; она надеется, что я не буду столь жесток, чтобы прогнать ее; она заверила меня, что уедет на следующий день, потому что Страсольдо должен уехать на рассвете, в чем я смогу убедиться из своих окон.
– Очаровательная Ленчика, – таково было ее имя, – вас никто не может прогнать, а тем более я, который всегда вас обожал. Вы здесь в безопасности, и я отвечаю, что пока вы здесь, никто сюда не войдет. Я благодарен судьбе, что вы подумали обо мне; но если правда, как все говорят, что граф в вас влюблен, вы увидите, что он не уедет. Он останется здесь хотя бы на день, чтобы вас найти.
– Он будет искать меня повсюду, кроме как здесь. Вы мне обещаете, что не заставите меня выйти из этой комнаты, даже если черт подскажет ему, что я здесь?
– Я сто раз даю вам слово чести. Вы чувствуете, надеюсь, что можете остаться лечь здесь спать.
– Увы! Если я вас не стесню, я согласна.
– Вы говорите, что стесните меня? Увидите. Скорее же, моя очаровательная Ленчика, раздевайтесь. Где все ваши тряпки?
– Все, что у меня есть, находится в маленьком чемодане, который теперь привязан позади коляски, но мне это неважно.
– Он теперь, должно быть, в ярости.
– Он вернется только в полночь. Он ужинает с м-м Биссолотти, которая влюблена в него.
С этими словами она ложится в кровать, и по окончании строгого режима, который я соблюдал в течение восьми месяцев, я наконец провел восхитительную ночь. После Лиа у меня были только короткие удовольствия, которые длились только по четверть часа, и по окончании которых я себя не слишком восхвалял. Ленчика была совершенной красоткой, которой, если бы я был богат, я снял бы дом, чтобы удержать ее у себя. Мы проснулись только в семь часов, она встала и, видя экипаж у дверей Стразоло, сказала мне с грустным видом, что я был прав. Я утешил ее, заверив, что она вольна оставаться со мной столько, сколько хочет. Я пожалел, что у меня не было кабинета, потому что я не мог спрятать ее от гарсона, который принесет нам кофе. Мы вынуждены были обойтись без завтрака. Мне надо было подумать над тем, чтобы принести ей еды, но у меня было достаточно для этого времени… Но вот что случилось, чего я не ожидал. Я увидел в десять часов Страсольдо вместе с Питтони, его близким другом, входящих в гостиницу. Я иду в коридор и вижу их обоих разговаривающими с моим хозяином. Вижу затем, что они заходят в казен, затем входят и выходят в некоторые номера на всех этажах; я вижу то, что и должно происходить, и говорю Ленчике, смеясь, что они ее ищут, и что, очевидно, они нанесут нам визит. Она снова напоминает мне о моем слове, и я заверяю ее в моей твердости. Она прекрасно чувствует, что я не могу воспрепятствовать им войти в мою комнату, так, чтобы они не догадались о правде.
Я жду их прихода, а между тем выхожу и запираю дверь, попросив у них извинения за то, что не могу впустить их, потому что у меня находится некий контрабандный товар.
– Скажите мне только, – говорит мне Страсольдо, и его вид внушает жалость, – нет ли у вас в вашей комнате моей Краньолины. Мы уверены, что она вошла в гостиницу этой ночью в два часа, привратница ее видела.
– Ну что ж. Краньолина в моей комнате, и я дал ей слово, что никто не заставит ее ничего делать. И вы можете быть уверены, что я это слово сдержу.
– Я тем более не хочу ничего ее заставлять; но я уверен, что она придет по своей воле, если я с ней поговорю.
– Я пойду узнаю, согласится ли она. Подождите здесь снаружи.
Она все слышала. Она говорит мне, что я могу их впустить. Она первым делом спрашивает у Страсольдо с гордым видом, заключала ли она с ним какой-либо контракт, либо он может обвинить ее в том, что она его обокрала, или она вольна, наконец, его покинуть. Он отвечает ей нежно, что все наоборот, это он должен ей ее плату за год, и что у него ее чемодан с ее вещами, но она делает ошибку, покидая его так без всяких объяснений.
– Объяснение одно, – говорит она ему, – это моя воля. Я не хочу ехать в Вену. Уже восемь дней я вам это говорю. Если вы благородный человек, вы оставите мне мой чемодан, а что до моей платы, то если у вас сейчас нет денег, вы мне ее отошлете в Лобак моей тете.
Страсоло начинает внушать мне жалость, потому что, опустившись до того, что стал высказывать ей самые нижайшие просьбы, он затем расплакался. Это меня возмутило. Но Питтони попытался меня утихомирить, сказав, что я должен выгнать из своей комнаты эту паршивку. Я твердо сказал ему, что не его дело учить меня моему долгу, и что я не согласен, что эта девушка паршивка. Сменив тон, он стал смеяться и спросил у меня, возможно ли, что я влюбился в нее за краткий промежуток времени в одну ночь. Страсольдо перебил его, сказав, что уверен, что она не спала со мной, и она ответила ему, что он ошибается, потому что в комнате только одна кровать.
К полудню они удалились, и Ленчика рассыпалась в благодарностях. Тайна раскрылась, я заказал в номер обед на двоих, и, поскольку экипаж еще оставался там, я пообещал ей оставаться с ней, никуда не выходя, пока Страсольдо находится в Триесте.
В три часа пришел консул Венеции сказать мне, что Страсольдо явился представиться ему и что он пытается убедить меня вернуть ему Ленчику. Я сказал, что это к ней он должен адресоваться, и когда он все узнал, он нас оставил, сказав, что мы оба правы. К вечеру грузчик принес в мою комнату чемодан девушки, которая, как я увидел, была тронута, но мнения своего не изменила. Она ужинала и проспала со мной вторую ночь, и Страсольдо уехал на рассвете. Тогда я нанял коляску и проводил мою дорогую Ленчику на два поста по дороге в Лобак, где, хорошо пообедав вместе с ней, оставил ее у ее знакомой женщины. Все в Триесте считали, что я поступил хорошо, и сам Питтони сказал, что на моем месте действовал бы так же. Но бедный Страсольдо плохо кончил. Он служил в Леополе, наделал там долгов и был признан виновным в растрате. Чтобы не поплатиться головой, он бежал в турецкие земли и принял тюрбан [16] .
Венецианский генерал де Пальманова, который был патрицием из фамилии Рота, приехал в Триест с визитом к губернатору графу де Вагенсбергу; прокуратор Эриццо был вместе с ним. После обеда губернатор представил меня этим венецианским Превосходительствам, которые выказали удивление видеть меня в Триесте. Прокуратор спросил меня, развлекаюсь ли я столь же хорошо, как в Париже, шестнадцать лет тому назад; я ответил, что шестнадцать лет плюс и сто тысяч франков минус заставляют меня быть другим. Вошел консул, сказав, что фелука готова, и м-м де Лантиери, вторая дочь графа, сказала, что я могу принять участие в прогулке; трое знатных венецианцев, которые там были, из которых один был мне незнаком, сказали хором, что я должен присоединиться. Склонив голову, что могло означать ни да ни нет, я спросил у консула, что это за прогулка на фелуке. Он ответил, что мы направимся на борт венецианского военного корабля, который стоит на якоре в акватории порта, и Его Превосходительство, которого я здесь вижу, является его командиром. Тогда я сказал очаровательной графине, со смеющимся, но очень вежливым видом, что очень давний должок мешает мне принять участие в этой прекрасной прогулке.
– Мне запрещено, мадам, ступать ногой на венецианскую территорию.
Ее «Ох! Ох!» прозвучали весьма великодушно.
– Вам нечего бояться. Вы с нами. Мы порядочные люди. Ваше сомнение даже немного оскорбительно.
– Все это хорошо и прекрасно, – сказал я, – и я сдаюсь, если кто-то один из ваших Превосходительств может меня заверить, что Государственные инквизиторы не узнают, и может быть не позднее чем завтра, что я имел дерзость поучаствовать в этой прекрасной прогулке, которая, впрочем, для меня бесконечно лестна.
Я увидел, что они онемели, переглянулись, и никто более не настаивал. Знатный командир судна, который меня не знал, подошел, и они провели пять или шесть минут, переговариваясь тихо между собой.
На следующий день консул сказал мне, что командир корабля нашел, что я был глубоко прав, не согласившись участвовать в этой прогулке, потому что если бы случайно ему указали мое имя и мои прегрешения, то, явись я на борт его судна, он бы не дал мне сойти. Когда я передал губернатору Триеста то, что мне сказал консул, он ответил мне серьезно, что он бы не выпустил судно. Прокуратор Эриццо сказал мне в тот же вечер, что я очень хорошо сделал, и что он доведет этот факт до ушей Трибунала.
В эти дни я увидел в Триесте одну из самых прекрасных венецианок, о которой тогда много говорили. Она прибыла на прогулку с толпой обожателей. Она была по рождению венецианской дамой из фамилии Бон и была женой графа Ромили де Бергам, который предоставлял ей полную свободу, не переставая при этом быть ее интимным другом. Она тащила в своем обозе генерала графа де Бургхаузен, старого и подагрического, известного ловеласа, мота, который покинул в течение десяти лет Марса, чтобы посвятить более свободно остаток дней Венере. Этот человек, очень веселый и исполненный опытности, остался в Триесте, он хотел познакомиться со мной, и десять лет спустя он оказался мне полезен, как читатель увидит в следующем томе, который станет, быть может, последним.
Глава X
Триестинские приключения. Я хорошо служу Трибуналу Инквизиторов венецианского государства. Мой вояж в Гориче и возвращение в Триест. Я встречаю Ирену, ставшую актрисой и опытным азартным игроком.
Дамы Триеста захотели блеснуть своими талантами, играя французскую комедию, и поручили мне все, от выбора пьесы до подбора актеров и актрис и распределения ролей. Это дело стоило мне больших забот и не принесло удовольствий, на которые я рассчитывал. Они все были новичками в искусстве театра, я должен был их обучать, приходить каждый день ко всем, чтобы проходить роли, которые они должны были учить наизусть; но не умея добиться того, чтобы эти роли отложились в их памяти достаточно прочно, я должен был озаботиться тем, чтобы служить им суфлером. Тут я познал все несчастья этой профессии. Суфлер находится в самом тяжелом положении, актеры никогда не признают того, чем они ему обязаны, и обвиняют его в своих ошибках. Врач в Испании рассуждает не лучше: если больной выздоравливает – это благодаря покровительству какого-то святого, а если он умирает – то лекарства его убили. Негритянка, которая служила у самой красивой из моих актрис, которой я уделял самое пристальное внимание, сказала мне нечто, что нелегко забыть:
– Я не понимаю, – сказала мне она однажды, – как вы можете быть столь влюблены в мою хозяйку, если она бела как дьявол.
Я спросил у нее, разве она никогда не любила белого, и она ответила, что да, любила, но лишь потому, что никак не могла найти негра, которому наверняка отдала бы предпочтение. Несколько месяцев спустя эта африканка, уступив моим настояниям, подарила мне свои милости; по этому случаю я понял ошибочность сентенции, которая гласит, что sublata lucerna nullum discrimen inter feminas [17] . Sublata lucerna следует понимать в смысле, когда красотка белая или черная. Негры сделаны из другого теста, это несомненно; их особенность – женщина, если она обученная, – такая любовница, какой нельзя себе представить, и даже представить в мужском или женском облике. Если мой читатель этому не верит, он прав, потому что, согласно нашей природе это вещь невероятная, но он будет убежден, как и я, если я изложу ему теорию.
Граф де Роземберг, главный камергер императора, ставший принцем и умерший в прошлом году, приехал тогда в Триест для собственного удовольствия в сопровождении аббата Касти, с которым я хотел познакомиться из-за нескольких небольших поэмок, чье кощунство было беспримерно. Я увидел в нем невежду, дерзкого и бесстыдного, не обладающего иным талантом, кроме легкости версификации. Граф Роземберг водил его везде с собой, поскольку нуждался в нем. Тот заставлял его смеяться и поставлял ему девочек. В то время венерическая болезнь еще не изъела ему язычок. Он сказал мне, что теперь он объявлен поэтом императора; этот успех обесславил память о великом Метастазио, у которого не было никаких пороков и одни добродетели; у Касти не было никаких добродетелей и одни пороки. В том, что касается ремесла, он не обладал ни блеском языка, ни знанием драматического театра. Две или три комические оперы, которые он написал, это доказывали; в них не было ничего, кроме дурно скроенного паясничанья, в одной он блистал в клевете, как в отношении короля Теодора, так и республики Венеции, он подвергал ее насмешкам с помощью разных выдумок, в другой, под названием «Грот Трофониуса», он подверг себя насмешкам всех литераторов, выставляя на показ вычурную ученость, не отвечающую ни в чем комизму своей драмы.
Среди значительных людей, приехавших из Гориче, чтобы посмотреть французскую комедию, что давали в доме барона де Кинигспрун, среди которых очаровательная женщина, урожденная графиня Атмис, играла первые роли, я познакомился с графом Луисом Торриано, который оказался способен убедить меня провести осень вместе с ним в сельском доме, что был у него в шести милях от Гориче. Если бы я доверился моему Гению, я бы туда не поехал. Этому графу не было еще тридцати лет, и он был неженат. Он не был красив лицом, но нельзя было назвать его и некрасивым, несмотря на его разбойничью физиономию. В ней проглядывали жестокость, склонность к предательству, надменность и грубая распущенность. Я видел в ней также злобу и зависть. Эта ужасающая смесь заставила меня подумать, что я ошибся. Любезное приглашение, как мне показалось, не увязывалось с ужасными характеристиками его лица, которые бросились мне в глаза. Когда я интересовался о нем, прежде чем пообещать приехать, мне говорили только хорошее. Мне сказали, что он любит прекрасный пол, и что он становится беспощаден, когда речь идет о том, чтобы отомстить кому-то, кто наносит ему обиду, но не находя эти два качества недостойными джентльмена, я пообещал ему приехать. Он сказал, что ждет меня в Гориче первого сентября, и что оттуда мы выедем на следующий день в Спессу – это было название его земли. Я попрощался со всеми на несколько месяцев, в том числе с графом де Вагенсберг, который был тяжело болен той болезнью, которая легко вылечивается ртутью, когда врач умеет с ней обращаться, но становится смертельной, когда пациент попадает в плохие руки. С бедным графом случилось это несчастье. Он умер через месяц после моего отъезда.
Я выехал утром из Триеста, пообедал в Просеко и прибыл рано в Гориче, в дом графа Луиса Торриано; его не было, но мне позволили выгрузить мой небольшой багаж, когда я сказал, что граф меня пригласил. Я выхожу, иду к графу Торрес, остаюсь у него до часа ужина и затем иду к моему новому хозяину. Мне говорят, что он уехал загород и что вернется завтра. Мне сообщают, что отнесли мой чемодан в почтовую гостиницу, где мне заказали комнату и ужин. Это меня удивляет, но я иду туда, убеждаюсь, что меня дурно поселили и дурно накормили, но это неважно. Я решаю, что не было возможности поселить меня у него, и поэтому он не мог поступить иначе. Я полагаю, что он не виноват в том, что не сказал мне об этом. Мог ли я предположить, что сеньор, имеющий дом, не найдет у себя комнаты для друга? На следующее утро граф Луис Торриано явился повидать меня, поблагодарил за мою точность, поздравил себя с тем, что будет иметь меня в своей компании в Спесса, и сказал мне, что единственно озабочен тем, что мы сможем выехать только послезавтра из-за того, что назавтра назначено вынесение приговора в процессе, который он ведет против старого мошенника фермера, который служил ему и который, будучи его должником, не только не хочет платить, но и выдвигает претензии. Завтра должны обсуждать последнюю апелляцию и принимать по ней решение. Я сказал графу, что пойду послушать адвокатов, и что это доставит мне удовольствие. Он ушел, не только не спросив, где я обедаю, но даже не попросив извинения, что не смог поселить меня у себя. Я подумал, что может быть я неправ, явившись поселиться к нему ни с того ни с сего. Он пригласил меня за город. Я не стал больше об этом думать. Возможно, он ничего не сказал мне об этом из чувства деликатности, потому что если я совершил ошибку, это я должен был просить у него извинения.
Я обедаю один. Я провожу послеобеденное время, делая визиты, ужинаю у графа Торрес, говорю о том удовольствии, которое получу завтра, слушая речи адвокатов Гориче, и Торрес мне говорит, что также придет на это судилище, потому что ему любопытно будет увидеть, какую мину сотворит Торриано, если крестьянин выиграет.
– Я знаком с этим процессом, – продолжает он, – и все знают, что Торриано не может проиграть, по крайней мере если документ, который он представил, и на основании которого крестьянин оказывается должником, не фальшивый. Крестьянин, в свою очередь, может проиграть, только если квитанции графа окажутся по большей части фальшивыми. Крестьянин уже проиграл в первой и второй инстанции, но теперь вызван в суд и оплатил издержки, при том, что, заметьте, он беден. Если он проиграет завтра, он не только окажется разорен, но приговорен к галерам; но если он выиграет, настанут печальные времена для Торриано, потому что это он будет заслуживать галер, вместе со своим адвокатом, который достоин их уже несколько раз.
Поскольку я знал, что у Эммануэля Торрес злой язык, от его рассуждений мне было ни жарко ни холодно, но мое любопытство возросло. Итак, назавтра я вошел в залу, где увидел судей, противоборствующие стороны и двух адвокатов. Тот, что крестьянина, был стар и имел вид порядочного человека. Тот, что моего хозяина, выглядел как боец. Граф, его клиент имел надменный вид, с улыбкой гордеца, который из каприза хочет снизойти своим разумом до дерзкого, над которым уже одержал две победы. Крестьянин был уже там, со своей женой, сыном и двумя дочками, созданными для того, чтобы выигрывать все процессы на свете. Мне было удивительно, что эта семья могла проиграть два раза. Они были там все четверо, бедно одетые, с опущенными к низу глазами, воплощенные угнетенные создания. Каждый из адвокатов мог говорить два часа.
Адвокат ответчика говорил в пользу своего крестьянина только полчаса. Он использовал их, выложив перед судьями книгу квитанций, скрепленных подписями графа, вплоть до момента, когда тот ему отказал, потому что тот не захотел позволить своим дочерям пойти к нему; и, продолжая говорить совершенно хладнокровно, он представил глазам судей книгу, которую предъявил граф, из которой следовало, что крестьянин является его должником, и указал на все квитанции крестьянина, которые присяжными экспертами были объявлены фальшивыми. Кроме того, он доказал ошибки и несоответствия в датах, совершенные обеими сторонами, и кончил тем, что заявил, что его клиент в состоянии, используя уголовную процедуру, доказать правосудию две фальсификации квитанций об оплатах графа, каковые бумажки адвокат противной стороны осмелился представить магистрату, чтобы ввести его в заблуждение и разорить почтенное семейство, единственным недостатком которого является то, что оно бедное… Он заключил просьбой о возмещении прошлых и текущих расходов и возмещении потери времени и репутации своего клиента.
Нудная речь адвоката моего дорогого графа длилась бы больше двух часов, если бы его не заставили закругляться. Не было таких оскорблений, которые он бы не изверг в адрес адвоката, экспертов и против бедного крестьянина, на которого он набрасывался несколько раз, говоря, что придет посмотреть его на галерах, где тот не вызовет ни у кого сочувствия. При этих дебатах я бы смертельно скучал, если бы был слеп, потому что моим единственным развлечением было прогуливаться глазами по лицам сторон и помощников. Лицо моего дорогого хозяина оставалось все время смеющимся и невозмутимым.
Мы все собрались в соседней зале, чтобы выслушать приговор. Крестьянин со своей семьей находился в углу, изолированный от всех, удрученный, не имея друзей или хотя бы скрытых врагов. Граф Торриано был окружен двенадцатью или четырнадцатью персонажами, которые говорили ему, что он не может проиграть, но если все-таки этот необычайный случай произойдет, он должен заплатить, заставив однако крестьянина признать преступный обман. Я был там, сохраняя молчание. Торрес, который был заклятым врагом всякой осторожности, спросил у меня, что я думаю. Я ответил, что мой дорогой граф должен проиграть, даже если он прав, из-за бесславной болтовни его адвоката.
Час спустя вошел секретарь суда с двумя бумагами в руке, одну из которых он передал адвокату крестьянина, а вторую – графу Торриано, который, прочтя ее, разразился хохотом. Он громко прочел ее. В ней он приговаривался к тому, что крестьянин становился его кредитором, он должен был оплатить все его издержки и выдать ему годовое жалование, помимо права крестьянина предъявить ему как минимум и другие требования, по другим искам, которые он сможет представить правосудию. Адвокат выглядел грустным, но Торриано его утешил, дав шесть цехинов. Все ушли. Я остался, чтобы спросить у графа, будет ли он подавать апелляцию в Вену, и он ответил, что его апелляция будет другого рода. Мне не захотелось знать больше. Мы выехали из Гориче на следующий день утром. Хозяин, подавая мне счет, сказал, что граф Торриано велел ему не настаивать, если я, например, не захочу платить, потому что он заплатит за меня сам. Это объяснение меня насмешило. Эти три или четыре примера убедили меня, что мне предстоит провести шесть недель с опасным оригиналом.
Мы прибыли в Спесса менее чем через два часа. Это был большой дом на небольшой возвышенности, который ничем не выделялся с точки зрения архитектуры. Мы поднялись в его апартаменты меблированные ни хорошо ни дурно, и затем, показав все остальные помещения, он отвел меня в мое, которое представляло из себя комнату на первом этаже, плохо обставленную, с дурным видом из окон и дурно освещенную. Он сказал мне, что это была любимая комната его отца, который, как и я, любил заниматься наукой, и что я могу быть уверен, что буду пользоваться здесь полным покоем, потому что не увижу здесь никого. Мы пообедали очень поздно и, соответственно, в этот день не ужинали. Я не счел дурным ни еду, ни вино; недурна была и компания священника, который служил ему почтальоном и по договоренности был ему сотрапезником, когда тот бывал в Спесса. Меня шокировала одна вещь: кушая очень быстро, он осмелился сказать мне, правда, со смехом, что я ем слишком медленно. После обеда он сказал, что у него много дел, и что мы увидимся завтра.
Я также направился в свою комнату приводить в порядок мои бумаги. Я работал над вторым томом Польской смуты. В сумерках я вышел, чтобы спросить света, и слуга принес мне свечу. Я счел это недостойным, так как мне нужны были либо шандал, либо масляная лампа, но я благоразумно промолчал. Я спросил только у слуги, имел ли кто-то из них распоряжение быть внимательным к моим просьбам; он ответил, что граф ему ничего не сказал, но без сомненья они находятся все в моем распоряжении каждый раз, как я их позову. Это явилось бы для меня большой нагрузкой, потому что для того, чтобы найти их, мне надо было выйти из дома и либо по улице, либо по двору обойти его кругом. Я спросил у него, кто прибирает в моей комнате, и он сказал, что это обязанность служанки.
– Значит, у нее есть другой ключ?
– Нет ключей, но чтобы вам закрыться на ночь, имеется засов.
У меня было желание расхохотаться, потому что это совершенно не годилось, но я сдержался и ничего не сказал; лакей ушел, я заперся и взялся за свой труд, но по истечении получаса случилась небольшая беда: снимая нагар, я загасил свечу. Я поругался и посмеялся, и мне пришлось ложиться спать в темноте. Кровать была хорошая и, не ожидая этого, я немного успокоился, и спал превосходно. Утром я никого не вижу. Я одеваюсь, запираю мои бумаги и иду в комнатном платье и ночном колпаке, чтобы поздороваться с хозяином. Я нахожу его на попечении второго лакея, который служит ему комнатным слугой. Сказав ему, что я хорошо выспался, я говорю, что пришел вместе с ним позавтракать. Он отвечает мне довольно вежливо, что он никогда не завтракает, и чтобы я не беспокоился по утрам, приходя к нему, потому что он всегда занят со своими крестьянами, которые все воры.
– Для вашего завтрака, – говорит мне он, – раз уж вы завтракаете, я велю сказать повару, чтобы готовил вам кофе, когда вы хотите.
– Будьте также добры приказать вашему слуге причесать меня, после того, как он обслужит вас.
– Я удивлен, что у вас нет своего слуги.
– Если бы я мог догадаться, что небольшая надобность в слуге, который мог бы причесывать меня в деревне, где нет парикмахера, и у вас, может причинить вам хлопоты, я бы взял такого с собой.
– Это меня не заботит, но это вы можете часто испытывать беспокойство в ожидании его.
– Я охотно буду ждать. Единственное, что мне необходимо, это ключ от двери моей комнаты, потому что у меня есть бумаги, за которые я отвечаю, и которые я не могу запирать в чемодан всякий раз, когда мне надо выйти.
– У меня все надежно.
– Полагаю, что это так, но согласитесь, что для меня странно, что вы должны будете отвечать мне за письмо, которое может у меня пропасть; это могло бы меня огорчить, и, разумеется, я бы вам об этом не сказал.
Он мне не ответил и затем, подумав пять-шесть минут, сказал своему лакею-парикмахеру, чтобы тот сказал священнику сделать замок в двери моей комнаты и дать мне ключ. В ожидании, пока он думал, я заметил на ночном столике свечу с гасильником и книгу. Я подошел к столу, спросив у него, как и положено, могу ли я посмотреть, какое чтение навевает ему добрый сон; он отвечал мне вежливо, попросив не трогать эту книгу. Я просто отошел и сказал ему, смеясь, что уверен, что это молитвенник, но что я клянусь ему никому не говорить о моей догадке. Он ответил мне, также смеясь, что я правильно догадался.
Я покинул его, попросив прислать мне его лакея, когда тот его обслужит, и чашку кофе или шоколаду или бульону.
Задетый таким поведением, совершенно для меня новым, и особенно сальной свечой, в то время как он пользовался нормальными свечами, я вернулся в свою берлогу и серьезно задумался. Первым моим движением было уехать. Несмотря на то, что у меня было лишь сорок-пятьдесят цехинов, у меня хватило бы твердости, чтобы вести себя как богатый. Но я отказался от этого намерения, поскольку мне казалось, что поступив так, я нанесу ему кровную обиду. Единственной серьезной претензией у меня был шандал; я решил спросить у лакея, не получил ли он приказа приносить мне свечи; это мне было необходимо сделать, так как это могла быть ошибка самого лакея. Это был тот самый, который пришел час спустя принести мне чашку кофе, в чашке, и, соответственно, с сахаром. Я сказал ему со смехом, потому что следовало или посмеяться, либо кинуть кофе ему в нос, что так кофе не подают, и отставил его, сняв ночной колпак, чтобы он меня причесал. Не сдержавшись, я спросил, почему он принес свечу жировую, а не восковую. Он ответил мне разумно, что свечами распоряжается священник, и что он дал ему только одну, для хозяина. Я не ответил. Я подумал, что мужик-священник грешит чрезмерной экономией, или может думать, что мне это все равно. Я решил поговорить со священником в тот же день.
Одевшись, я вышел, чтобы пойти прогуляться, и встретил священника со слесарем. Он сказал мне, что, не имея лишнего внутреннего замка, он идет делать на двери моей комнаты висячий замок, от которого он даст мне маленький ключ. Я ответил, что это все равно, лишь бы я мог закрывать мою комнату, и поворачиваю вслед за ним, чтобы присутствовать при операции. Пока слесарь мастерит замок, я спрашиваю у священника, почему он направил мне шандал на одну, а не на две свечи. Он отвечает мне, что никогда бы не посмел сделать это без прямого приказа г-на графа.
– Разве это не ясно и без всяких слов?
– Здесь ничего не делается без слов. Я покупаю свечи, и он оплачивает мне их, не опасаясь ошибиться потому что свеча каждый раз идет взамен использованной.
– Тогда вы можете уступить мне фунт свечей, при условии, что я вам оплачу, сколько они вам стоят?
– Это наименьшее удовольствие, что я могу вам доставить, но предупреждаю вас, что я не могу не сказать об этом графу потому что, вы понимаете…
– Да, я это хорошо понимаю, но мне все равно.
Я оплатил ему фунт свечей и отправился прогуляться, узнав предварительно у него, что обедают здесь в час. Но был безмерно поражен, когда, по возвращении моем в половину первого узнал, что граф находится за столом с двенадцати. Не зная, откуда может взяться эта куча нелепостей, я еще умерил свой гнев и вошел, говоря, что аббат сказал мне, что обедают в час; он ответил, что обычно это так, но, желая пойти отдать визиты соседям и меня им представить, он захотел обедать в полдень, но у меня есть, тем не менее, время еще пообедать, и он распорядился снова поставить на стол блюда, которые уже убрали. Я ему не ответил и ел те блюда, что были на столе, демонстрируя хорошее настроение и отказавшись от супа, вареного мяса и закусок, которые вновь принесли. Он настаивал, чтобы я поел, говорил, что подождет, но впустую. Я отвечал ему спокойно, что я так себя наказываю, когда совершаю ошибку, явившись с опозданием к обеду сеньора.
Рассеяв, однако, мое дурное настроение, я сажусь с ним в коляску, чтобы сопроводить в визитах, которые он хочет сделать. Он отвозит меня к соседу, который живет всего в получасе езды. Это барон дель Местре, который живет там круглый год, содержит хороший дом, окружен большой семьей, веселой и очень любезной. Граф проводит там весь день, отложив на завтра все прочие визиты, что собирался сделать, и мы возвращаемся в Спесса, где священник полчаса спустя возвращает мне деньги, что я заплатил ему за фунт свечей. Он сказал мне, что граф забыл его предупредить, что я должен обслуживаться так же, как и он. Худо-бедно, ошибка была кое-как исправлена, я сделал вид, что принял все за чистую монету. Подали ужин, как если бы мы не обедали, и, кушая за четверых, в то время как граф почти ничего не ел, я сказал ему, что он поступает очень разумно.
Лакей, провожая меня в мою комнату, спросил, в котором часу я желаю завтракать, я назвал время, и он не обманул. Кофе был в кофейнике и сахар лежал отдельно. Другой лакей пришел меня причесать, служанка пришла убрать у меня в комнате, все переменилось. Я счел, что научил его жить, и что более не будет никаких неприятностей; но я ошибался. Три или четыре дня спустя пришел священник спросить у меня, в котором часу я хочу обедать, в одиночку, у себя в комнате.
– Почему один и у меня в комнате?
– Потому что граф уехал в Гориче вчера, после ужина, сказав, что не знает, когда вернется. Он велел мне подать вам обед в вашей комнате.
– Я буду обедать в час.
Мы, конечно, свободны, но мне казалось, что он должен был бы сказать, что уезжает в Гориче. Он оставался там восемь дней. Скука меня бы замучила, если бы я не ходил почти каждый день пешком провести пару часов у барона дель Местре. Никакого общества; священник – грубый невежда; никаких симпатичных пейзанок; мне казалось невозможным провести здесь еще четыре недели.
По его возвращении я говорил с ним сквозь зубы. Я сказал ему, что приехал в Спесса, чтобы разделить с ним компанию, и что видя, что он в этом не нуждается, я прошу его отвезти меня в Гориче в первый же раз, как он туда поедет, и оставить меня там, потому что я люблю общество столько же, сколько и он. Он заверил меня, что такое больше не повторится, и сказал, что поехал туда, потому что влюблен в актрису оперы-буффо, которую зовут Коста. Она специально приехала из Триеста, чтобы повидаться с ним, и чувство заставило его провести с ней все восемь дней, что она пробыла в Гориче. Кроме этого, он подписал брачный контракт с одной девицей, дочерью кастелана венецианского Фриули, на которой он женится на следующий карнавал. Все эти объяснения убедили меня остаться с этим оригиналом.
Все его богатство составляли виноградники белого винограда; вино, что там производилось, было превосходное; оно приносило ему около тысячи цехинов ренты, и, желая тратить две тысячи, он разорялся. Убежденный, что все крестьяне его обкрадывают, он рыскал повсюду, заходил в хижины, и там, где находил несколько кистей винограда, раздавал удары тростью всем, кто, не имея возможности отрицать, что они взяты с его виноградников, падали на колени, прося прощения. Оказавшись присутствующим несколько раз на этих жестоких экзекуциях, мне пришлось однажды наблюдать удары жердями, которыми двое крестьян его наградили; он предпочел убежать, после того, как был сильно побит. Он устроил со мной весьма сильную ссору из-за того, что я остался простым наблюдателем конфликта. Я заверил его с помощью очевидных доводов, что я не должен вмешиваться, во-первых, потому, что это он как агрессор был неправ, и во-вторых, я не умею драться палками, особенно против крестьян, которые, будучи опытней меня в дуэлях подобного рода, могли бы наградить меня такими ударами по голове, которые уложили бы меня как быка. В ярости, которую вызвал у него удар по лицу, он заявил мне, что я великий трус и подлец, который не знаком с правилом, что следует защищать друга или умереть вместе с ним. На это заявление я ответил только взглядом, значение которого он должен был понять.
Вся деревня знала об этом деле; крестьяне, которые его побили, сбежали; когда узнали, что в будущем он хочет ходить посещать хижины с пистолетами в кармане, сообщество объединилось и делегировало ему двух ораторов, которые сказали ему, что все крестьяне сбегут в течение недели, если он не пообещает не ходить больше, ни один, ни в компании, посещать их жилища. В элоквенции этих гордых мужланов я был восхищен их философским разумом, который я нашел изысканным, а граф – шутовским. Они сказали ему, что крестьяне имеют право есть виноград с виноградников, который никто из них у себя не выращивает, как повар имеет право пробовать еду, которую он готовит у себя на кухне для своего сеньора, прежде чем подавать ее на стол.
Угроза всеобщего дезертирства, как раз во время сбора урожая, образумила грубияна. Они ушли, гордые тем, что заставили его прислушаться к голосу разума.
В воскресенье мы пошли в капеллу, чтобы прослушать мессу и увидели в алтаре священника, который читал credo. Я увидел, что у графа глаза сверкнули яростью. После мессы он зашел в сакристию и нанес три или четыре удара тростью бедному священнику, который был еще в стихаре; священник плюнул ему в лицо, и на его крики сбежались четыре-пять прихожан. Мы ушли. Я сказал, что священник сразу отправится в Удине и вчинит ему иск с крайне суровыми последствиями; я быстро убедил его помешать тому ехать, даже используя силу. Он вызвал своих слуг и приказал им привести священника к нему в комнату, добром или силой. Они приволокли того. Священник, кипя гневом и называя его проклятым отлученным, высказывал ему самые тяжелые истины; он заключил тем, что поклялся, что ни он, ни какой-либо другой священник не будет более служить в его капелле, и что архиепископ покарает его за преступление, которое он совершил. Граф оставил без внимания то, что он говорил, и, не выпуская его из комнаты, заставил сесть за стол, где тот не только проявил слабость есть, но даже напиться. Это свинство породило мир. Священник все забыл.
Несколько дней спустя ему нанесли в полдень визит два капуцина. Видя, что они не уходят, и не желая им об этом сказать, он велел накрыть на стол, не ставя для них два лишних куверта. Самый смелый из них, видя, что не ставится вопрос о том, чтобы дать им поесть, сказал графу, что они не обедали. Граф передал ему тарелку, полную риса; капуцин отверг ее, сказав, что достоин есть не только с ним, но с монархом. Граф, которому пришла охота посмеяться, ответил ему, что их уничижительное наименование [18] относит их к самым недостойным, и что, кроме того, смирение, которое они сделали своей профессией, запрещает им всякие претензии. Капуцин защищался плохо, и, кроме того, граф был прав, и я решил, что должен его поддержать. Я сказал капуцину, что он должен постыдиться, унижая свое звание грехом гордыни. Он ответил мне проклятиями, и граф велел, чтобы ему принесли ножницы, потому что хотел отрезать бороды этим двум обманщикам. В этой ужасной перспективе они предприняли бегство, и мы хорошо посмеялись.
Это было забавно, и я легко извинил бы этого человека, если бы его экстравагантности были все такого же плана; но он творил их чересчур много. В его организме выделялся хилус, который его возбуждал, и в процессе пищеварения ярость, которая им овладевала, делала его диким, жестоким, несправедливым, кровожадным. Его аппетит становился чудовищным, он ел, как будто пребывая в бешенстве, и казалось, он поглощает с яростью аппетитного бекаса, выглядящего весьма соблазнительно. Он мне сказал однажды за столом, в ясных и серьезных выражениях, кушать и молчать, похвалы, которые я высказывал предложенным блюдам, его выводили из терпения. Я прекратил хвалить блюда, потому что, в конце концов, мне следовало либо решиться уехать, либо принять его правила.
Малышка Коста, в которую он был влюблен, говорила мне три месяца спустя в Триесте, что до знакомства с Торриано не предполагала, что может существовать мужчина с таким характером. Она сказала мне, что при любовном соединении, хотя и очень мощном, он приходит в такую ярость, что не может довести себя до любовного наслаждения, приводящего к конечному кризису, и что он угрожает ее удушить, когда она не может сдержать в себе внешние проявления сладострастия, которое во время акта переполняет ей душу. Она сожалела о судьбе той, что предназначена ему в жены. Но вот что в конце концов довело меня до крайности и заставило удалиться от этого злого животного.
В скуке и праздности Спессы, где у меня не было никаких развлечений, я нашел весьма забавной бедную вдову, очень молодую, я дал ей денег, выразил нежные чувства, которые она мне внушала, и, получив в результате ее снисходительности маленькие радости, убедил ее оказать мне большие в моей комнате. Она приходила в полночь, не увиденная никем, и уходила на рассвете через маленькую дверь, выходящую на улицу. Это было мое единственное утешение; она была влюбленная и нежная, как ягненок, что среди крестьянок Фриули большая редкость, и я имел ее семь или восемь раз. Мы оба вели себя очень спокойно в наших делах, потому что полагали, что они должны быть скрыты ото всех; мы не опасались ни хозяев, ни ревнивцев, ни завистников; но мы ошибались.
Сгальда, таково было ее имя, вышла одним прекрасным утром из моих объятий и, одевшись, разбудила меня, как обычно, чтобы я запер дверь, через которую она выходила, чтобы вернуться к себе. Я подхожу, она выходит; но едва я запираю дверь, как слышу ее крики. Я открываю и вижу ужасного графа Торриано, который, держа ее левой рукой за платье, бьет ее правой. Увидеть это и броситься на него было делом одного мгновения. Мы падаем оба, он внизу, я – сверху, и Сгальда убегает. Будучи в одной рубашке, я держу одной рукой его руку, вооруженную палкой, а другой пытаюсь его придушить. Он же своей свободной рукой хватает меня за волосы и отбивается. Он разжимает свою хватку, только когда чувствует, что я его душу, и в тот момент, когда он вырывает свою трость, а я встаю, я наношу ему удары по голове, которые он едва успевает парировать руками, убегая и хватая по дороге камни, ударов которых я не замечаю. Я захожу обратно и запираюсь, не зная, видел ли нас кто-нибудь или нет, и бросаюсь на кровать, весь запыхавшись и сожалея о том, что у меня недостаточно сильные руки, чтобы удушить этого варвара, который, как мне казалось, решил меня убить.
Я беру свои пистолеты и приготавливаю их на столе, освежив затравку; затем я одеваюсь и, заперев все в чемодане, кладу пистолеты в карман и выхожу с намерением найти коляску у какого-нибудь крестьянина, чтобы вернуться сразу в Гориче. Я иду, не зная этого, по дороге, которая проходит позади дома бедной Сгальды; я вхожу туда и вижу ее опечаленной, но спокойной; она меня утешает, говоря, что почувствовала удары только по плечам, что было не больно; но она сказала, что дело станет общеизвестным, так как двое крестьян видели, как граф ее бил, и видели, как и она сама, издали, как я с ним дрался. Я подарил ей два цехина, просил ее прийти повидаться со мной в Гориче, где собрался остановиться на две-три недели, и подсказать, где я могу найти крестьянина, у которого есть тележка, так как я хочу сразу уехать. Ее сестра предлагает провести меня на ферму, где я найду тележку и лошадей, и рассказывает мне дорогой, что граф Торриано – враг Сгальды еще с тех еще пор, как был жив ее муж, потому что она никак не хотела быть с ним.
На ферме я нашел, что искал. Тележка была добрая двухколесная коляска, и крестьянин предложил мне отвезти меня в Гориче в обед. Я дал ему пол экю задатка и ушел, сказав, что буду его ждать. Я иду в дом графа, захожу в свою комнату и кладу все, что лежит снаружи, в дорожную сумку. Прибывает коляска.
Приходит слуга графа сказать, что тот просит меня подняться в его комнату, где он хочет со мной говорить. Я наскоро пишу ему, ясным французским языком, что после того, что произошло между нами, мне нельзя с ним больше говорить иначе, чем вне его дома. Минуту спустя он входит, говоря, что если я не хочу говорить с ним у него, он пришел говорить со мной у меня, и закрывает дверь.
Он начинает с того, что говорит, что, уехав таким образом от него, я его опозорю, и что он не позволит мне уехать.
– Мне любопытно узнать, как вы собираетесь мне помешать, потому что вы никоим образом не убедите меня остаться здесь по доброй воле.
– Я не позволю вам уехать в одиночку, потому что честь требует, чтобы мы уехали вместе.
– Я вас жду. Идите за своей шпагой или пистолетами, и мы уедем, оба вооруженные. В моей коляске есть место для двоих.
– Вы должны уезжать со мной в моей коляске, после того, как мы вместе пообедаем.
– Вы очень ошибаетесь. Я буду сумасшедшим, если буду обедать с вами после того, что наша грубая авантюра стала известна всей деревне и станет завтра притчей на устах у всего города Гориче.
– Я буду обедать здесь вместе с вами тет-а-тет, и пусть говорят, что хотят. Мы выедем после обеда. Отправьте вашу коляску и не устраивайте скандала, потому что, повторяю, вы не уедете.
Я должен был уступить. Я отослал коляску, и несчастный граф остался со мной до полудня, пускаясь в различные хитрости, пытаясь меня убедить, что вся вина – на моей стороне, потому что я не имел права мешать ему бить крестьянку на улице, которая, в конце концов, не принадлежит мне никоим боком. Я спросил у него, смеясь над грубостью его рассуждения, какое право он полагает, что имеет, бить на улице свободную персону, и каким образом он может претендовать на то, чтобы эта свободная персона не нашла защитника в лице кого-то, кто в ней сердечно заинтересован, как и случилось, и каким образом он мог себе вообразить, что я буду спокойно терпеть, что он убивает девушку в момент, когда она только что вышла из моих объятий. Я спросил у него, не был ли бы я подлец, или монстр, как он, если бы остался индифферентен при этой сцене. Я кончил тем, что спросил у него, разве на моем месте он не поступил бы, как я, даже не посоветовавшись с рассудком, пусть даже он оказался бы перед большим принцем.
Незадолго перед тем, как нам садиться за стол, он сказал, что эта авантюра не добавит чести тому из нас, кто убьет другого, потому что он желает биться только насмерть. Я ответил ему, смеясь, что в том, что касается меня, я так не считаю, но если он считает, что дело для него обстоит именно так, он вполне может не устраивать эту дуэль, потому что я считаю себя уже удовлетворенным. Что же касается предложения биться насмерть, я сказал, что надеюсь оставить его в числе живых, несмотря на его ярость, нанеся лишь ранение, и что с его стороны он может действовать, как ему заблагорассудится. Он сказал, что мы пойдем в лес, и что он отдаст приказ кучеру отвезти меня, куда я укажу, если я вернусь один, и что он не возьмет с собой никого из слуг. Отдав должное его благородному образу мыслей, я спросил, желает ли он драться на шпагах или на пистолетах, и он ответил, что шпаги достаточно. Тогда я предложил ему отложить в сторону пистолеты, что были у меня в кармане, когда мы готовы будем выехать.
Мне показалось немыслимым увидеть этого грубияна вежливым и рассудительным, когда мысль об неминуемой дуэли должна была произвести встряску в его душе, потому что я был уверен, что человек его склада не может быть храбрым. Держась вполне хладнокровно, я был уверен, что смогу мгновенно повалить его на землю моим верным правым сапогом и остановить его, ранив в колено, если он захочет продолжать. Я думал затем спастись в Венецианском государстве, откуда, не узнанный никем, я легко мог убежать; но мне казалось, что ничего на самом деле не будет, и что эта дуэль уйдет в дым, как столько других, когда один из двух героев трус. Я считал графа именно таким.
Хорошо пообедав, мы выехали, он – без ничего, я – со своим небольшим багажом, увязанным сзади коляски. Я в его присутствии разрядил пистолеты, и он показал мне, что у него их нет. Я услышал, как он приказал своему кучеру ехать дорогой на Гориче, но ожидал все время приказа повернуть направо или налево, потому что драться мы должны были в лесу. Дорогой я воздерживался от любых расспросов. Я все понял, когда увидел Гориче, и рассмеялся, когда мы туда приехали. Граф сказал кучеру ехать к почтовой гостинице, и когда мы туда прибыли, он сказал мне, что я был прав, что мы должны оставаться добрыми друзьями и что мы должны дать друг другу слово не говорить об этом деле никому и только смеяться, когда кто-то будет о нем говорить, не пытаясь рассказать правду тем, кто, слышав о нем, пытается выяснить обстоятельства. Я обещал ему это, мы обнялись, и его коляска направилась обратно, в то время как хозяин Баллон разгружал мой багаж.
На следующий день я направился поселиться на тихой улице, чтобы завершить мой второй том событий в Польше, но время, что я на это тратил, не помешало мне наслаждаться жизнью, вплоть до момента, когда я решил вернуться в Триест и ждать в этом городе моего помилования от новых Государственных Инквизиторов. Живя в Гориче, я не мог подать им никакого знака моего усердия, и я должен был блюсти их интересы, потому что они платили мне именно за это. Я оставался в Гориче до конца 1773 года. В те шесть недель, что я там провел, я получил все удовольствия, которых мог бы пожелать.
Дело, что было у меня в Спесса, стало известно всему городу, о нем говорили повсюду в первые дни, но видя, что я смеюсь над этим как над глупостью, которая ничего не стоит, прекратили, наконец об этом говорить, и Луис Торриано выдавал мне знаки своей приязни повсюду, где встречал. Я однако отказывался всякий раз, как он приглашал меня обедать; это был человек опасный, которого следовало избегать. Он женился в карнавал на девице, о которой я выше упоминал; он делал ее несчастной в течение тринадцати или четырнадцати лет, пока не умер, в безумии и нищете. Моим удовольствием в эти шесть недель было общение с графом Франсуа Шарлем Коронини, о котором я также говорил. Он умер также три или четыре года спустя от абсцесса в голове. За месяц пред смертью он направил мне свое завещание в итальянских восьмисложных стихах, которое я сохранил как образчик его философского ума и веселой души. В них все комично и оформлено забавными виньетками. Если бы он знал, что должен умереть четыре недели спустя, он не смог бы этого сделать, потому что идея смерти может развеселить только безумный ум.
В эти дни в Гориче приехал г-н Ричард Лоррен… Это был сорокалетний холостяк, который, хорошо послужив в области финансов венскому двору, получил позволение удалиться с очень хорошим пенсионом. Он был прекрасный мужчина, имел опыт вращения в прекрасном и знатном обществе, некоторые достижения в литературе, без тени претензий, и был хорошо принят и приветствовался во всех домах Гориче. Я познакомился с ним в доме графа Торрес, с которым тот приятельствовал более, чем с другими, по причине большого ума юной графини, на которой через некоторое время он женился.
В начале октября, как обычно, в моем славном отечестве вступил в должность новый Совет Десяти; соответственно, новые Государственные Инквизиторы заменили трех, которые правили двенадцать предыдущих месяцев. Мои покровители, то есть прокуратор Морозини, сенатор Загури и мой верный друг Дандоло написали мне, что непременно постараются добиться моего помилования в течение этих двенадцати месяцев, в которые те будут заседать, и что такого положения можно не дождаться более за всю жизнь, потому что, помимо добрых качеств, которые характеризуют этих новых Инквизиторов, случилось, что они высоко ценят дружбу и уважение этих моих друзей. Государственный Инквизитор Сагредо был другом прокуратора Морозини, другой Инквизитор, Гримани, любил моего верного Дандоло, и г-н Загури заверил меня, что убедит третьего, который по закону должен быть одним из шести советников, которые составляют основную часть Совета Десяти. Хотя их и называют Советом Десяти, этот могущественный совет состоит из семнадцати голов, потому что дож может туда входить, когда ему вздумается. Итак, я вернулся в Триест, решив употребить все свои силы, чтобы хорошо послужить трибуналу и постараться получить от его правосудия помилование, которого я желал, по истечении девятнадцати лет, которые я провел, разъезжая по всей Европе. В моем возрасте сорока девяти лет мне казалось, что я не должен более ничего ожидать от Фортуны, исключительно подруги юных и завзятого врага зрелого возраста. Мне казалось, что в Венеции я стану жить счастливо, не нуждаясь в милостях слепой богини. Я рассчитывал, что мне будет достаточно себя самого, что я буду извлекать пользу из своих талантов, я чувствовал уверенность, что не буду подвержен никакому несчастью, будучи вооружен большим опытом и отрешившись от всяких заблуждений, которые уволокли меня в пропасть. Мне казалось также, что можно быть уверенным, что Государственные Инквизиторы предоставят мне в Венеции какое-нибудь поприще, вознаграждения за которое мне будет вполне достаточно чтобы жить в полном достатке, будучи одиноким, без семьи, и довольствуясь тем, что будет мне действительно необходимо, и охотно избегая всяческих излишеств. Я писал историю польской смуты, первый том которой был уже напечатан, второй – готов, и у меня было достаточно материала, чтобы передать публике всю историю, разделенную на семь томов. Завершив этот труд, я думал опубликовать перевод в итальянских стансах Илиады Гомера, и был уверен, что, по завершении этих трудов, мне будет нетрудно заняться какими-то другими. Я не боялся, в конце концов, что может наступить такое время, что я буду рисковать умереть от голода в городе, где сотни источников позволяют жить в достатке людям, которые в других условиях не могли бы жить иначе, чем выпрашивая милостыню. Итак, я выехал из Гориче в последний день 1773 года и поселился в большой гостинице на площади Триеста в первый день 1774 года.
Не могу и представить себе лучшего жилья. Барон Питтони, консул Венеции, все советники, негоцианты, дамы и все те, кто заполняет городской казен, встретили меня, демонстрируя радость снова увидеться. Я провел карнавал в самом живом веселье, пользуясь совершенным здоровьем, не прерывая труда по изложению истории польской смуты, второй том которой я опубликовал в начале поста.
Первое, что меня заинтересовало в Триесте, была актриса второго плана труппы комедиантов, которая там играла. Я был удивлен, увидев эту Ирен, дочь так называемого графа Ринальди, которого мой читатель должен вспомнить. Я любил ее в Милане, я отверг ее в Генуе из-за ее отца и я был ей полезен в Авиньоне, где избавил ее от трудностей, с согласия Марколины. Одиннадцать лет протекло, а я не знал, что с ней стало. Я был удивлен, увидев ее, и в то же время раздосадован, потому что, видя ее еще красивой, я предвидел, что она может снова мне понравиться, в то время как я не чувствовал себя в состоянии быть ей полезным, я должен был вести себя осторожно. Не считая возможным уклониться от необходимости сделать ей визит, и любопытствуя, впрочем, узнать ее историю, я предстал перед ней на следующий день за час до полудня.
Она встретила меня криками, говоря, что увидела меня в партере, и была уверена, что приду с ней повидаться. Она представила мне сразу своего мужа, который играл роли Скапена, и свою дочь, которой было девять лет и которая обнаруживала талант в области танца. Ее история не была длинной. В тот же год, как я видел ее в Авиньоне, она отправилась в Турин вместе со своим отцом и, будучи влюблена в человека, которого она мне представила, она покинула своих родителей, чтобы стать его женой, и сделалась комедианткой, как и он. Она знала, что ее отец умер, но не знала, что стало с ее матерью. Она сказала мне, что живет верной супружескому долгу, но не делаясь смешной в той части, чтобы не лишать надежды своей суровостью кое-кого, кто объявляет себя влюбленным в нее и добивается возможности быть услышанным. В Триесте, однако, она заверила меня, что не имеет никого, и что ее единственным удовольствием является давать небольшие ужины для друзей, так, чтобы расходы ее не слишком затрудняли, потому что она зарабатывает достаточно, составляя небольшой банчок в фараон. Она таллирует, и она просила меня побывать на ее партиях. Я заверил ее, уходя, что она увидит меня в тот же день после комедии, и, поскольку банк небольшой – игра в Триесте была запрещена – я сыграю, как и все остальные, по-маленькой.
Я прихожу туда, ужинаю в компании ветреников, молодых торговцев, всех, влюбленных в нее. После ужина она составляет небольшой банк, и мы все начинаем понтировать. Но мое удивление было немалым, когда я понял, и несомненно, что она передергивает карты, и очень умело, и все время кстати. Мне захотелось посмеяться, когда я увидел, как она применяет свой талант против меня самого. Я ничего не сказал, и ушел вместе со всеми, потеряв несколько флоринов. Это был пустяк, но мне не хотелось, чтобы Ирен принимала меня за простака. Я увидел ее на следующий день на репетиции в театре и сделал ей комплимент по поводу ее уменья; она сначала сделала вид, что меня не понимает, и когда я сказал ей, о чем идет речь, она посмела сказать мне, что я ошибаюсь; но когда я сказал ей, поворачиваясь к выходу, что она раскается, не захотев согласиться с очевидным, она сказала мне, смеясь, что это правда, и если я хочу сказать ей, сколько я проиграл, она готова вернуть мне мои деньги, и даже заинтересовать меня в ее банке, так, что никто не узнает, за исключением ее мужа. Я сказал, что не хочу ни того, ни другого, и даже не буду более присутствовать на ее вечерах, но буду остерегаться, чтобы не быть замешанным в крупном проигрыше кого-то из ее друзей, потому что об этом узнают, и в этом случае ее подвергнут штрафу, потому что игра строго запрещена. Она сказала, что это знает, что она ни с кем не играет на слово и что все эти молодые люди дали ей слово хранить секрет. Я сказал, что больше не буду ходить к ней на ужин, но она доставит мне удовольствие, придя ко мне позавтракать, когда у нее будет время. Она пришла несколько дней спустя, вместе со своей дочерью, которая мне понравилась и не отказалась меня приласкать. Одним прекрасным утром она встретилась с бароном Питони, который любил, как и я, молоденьких девочек, ему понравилась дочка Ирен, и он попросил мать доставить ему как-нибудь то же удовольствие, что она доставила мне. Я убедил ее принять предложение, и барон влюбился. Это стало удачей для Ирен, потому что ближе к концу карнавала она была обвинена, и барон подверг бы ее всем строгостям полицейских законов, если бы, став ее другом, не предупредил ее, чтобы она прекратила игру. Ее не смогли подвергнуть штрафу, потому что, когда пришли, чтобы захватить ее врасплох, там не нашли никого.
С началом поста она уехала вместе со всей труппой, и три года спустя я увидел ее в Падуе, где свел с ее дочерью гораздо более нежное знакомство. [19]
Сноски
1
неожиданно
2
три паоли
3
бреве
4
целомудренная героиня романа Ричардсона – прим. перев.
5
высший сорт устриц – прим. перев.
6
так называли в древности девушек Лакедемона, носивших открытые платья
7
Как было указано в Предисловии издателя, извлечение из глав 4 и 5, отсутствующих в оригинальной рукописи, выделено курсивом. Эти главы были найдены в замке Дукс, позднее, чем основной текст манускрипта. Слова, напечатанные обычным шрифтом, были подчеркнуты самим Казановой.
8
литературно-религиозное сообщество – прим. перев.
9
правдами и неправдами
10
Сначала наказать, а затем записать
11
Мраморы Пезаро
12
нельзя уже отыскать разумных оснований – Гораций, Наставления
13
У меня нет религии – Там же
14
Мне лучше сойти за бессмысленного и безыскусного писателя, чем быть разумным и пребывать в печали, поскольку мои недостатки мне нравятся, или я их не замечаю. Из Горация – Эпистолы
15
Более слабо воздействие на душу через уши – Гораций, Поэтическое искусство
16
магометанство – прим. перев.
17
когда лампа погашена, все женщины одинаковы – «ночью все кошки серы»
18
имеется в виду самоназвание ордена капуцинов
19
Это были последние слова «Истории моей жизни». Очевидно, что Казанова не нашел более времени написать следующие тома, о которых он говорил несколько раз в своих Мемуарах. Очень немного времени спустя после своей встречи с Ирен он получил охранное свидетельство, отправленное Государственными Инквизиторами, из рук консула Венеции, своего друга, Марка де Монти. «Он его прочел, он его перечитал, он поцеловал его несколько раз и, после короткого раздумья и молчания, разразился потоком слез».
Казанова выехал в Венецию 10 сентября 1774 года – это дата письма де Монти, из которого взяты приведенные выше строки. (Прим. издателей рукописи )


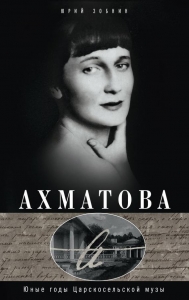
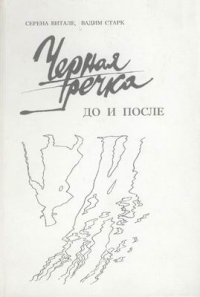
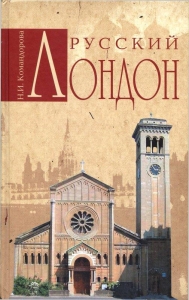

Комментарии к книге «История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 12», Джакомо Казанова
Всего 0 комментариев