Предисловие
Книга Бернсона «Живописцы итальянского Возрождения» принадлежит к числу счастливых книг. Переведенная, чуть ли не на все языки мира, она не только подарила ее автору громкую славу, но и полностью решила ту задачу, которую автор перед собой поставил — пробудить любовь к ренессансным мастерам и помочь самой широкой публике понять своеобразное очарование их творчества.
Семьдесят с лишним лет своей сознательной жизни посвятил Бернсон изучению итальянской живописи XIV — XVI веков. Вместе с Морелли, Кавальказелле, Фрицциони и Л. Вентури он заложил те основы, без которых были бы немыслимы успехи современной науки об искусстве итальянского Возрождения. Как никто другой, умел он разбираться в индивидуальных почерках, отдельных художников, что помогло ему в создании тех знаменитых «списков» (индексов) итальянских картин, в которых каждая картина прикреплена к имени определенного мастера и по возможности отнесена к раннему либо позднему периоду творчества, а также определена как собственноручное произведение, либо работа мастерской. Этими бернсоновскими «индексами» широко пользовались и пользуются не только музейные работники, но и все сколько-нибудь серьезно интересующиеся итальянским искусством. Обладая безупречным чувством качества и редкостным по остроте и прозорливости «атрибуционным глазом», Бернсон внес в свои списки огромный опыт и гигантские знания, которые он систематически накапливал в течение долгой жизни. Однако Бернсон на этом не остановился. В отличие от множества современных крохоборствующих «атpибуторов», для которых художественное произведение интересно лишь до того момента, как удалось определить имя его автора, будь это даже третьестепенный мастер, Бернсон прекрасно понимал и чувствовал силу духовного воздействия искусства, И в своих «Живописцах итальянского Возрождения» он встал на путь обобщения, на путь синтеза. Сознательно отвлекшись от деталей, от всех, вопросов атрибуционного порядка, он изложил в необычайно яркой и, в то же время изящной форме свое понимание различных итальянских школ и различных итальянских мастеров. И сделал это так мастерски, что и на сегодняшний день его книга сохраняет всю свою свежесть, хотя она была написана свыше шестидесяти лет тому назад.
Можно много спорить о приемлемости тех или иных эстетических постулатов ученого. Они не образуют стройной системы, они обычно разработаны и сформулированы в применении не к искусству вообще, а к одной из четырех итальянских школ эпохи Возрождения (флорентийской, венецианской, североитальянской и среднеитальянской). Для каждой из этих школ бернсоновские эстетические постулаты служат своего рода рабочими, гипотезами. И они безусловно помогают понять их специфику. Так, через «осязательную ценность» легче оценить характерные черты флорентийского реализма, рассуждения о пространстве и пространственном ритме вплотную подводят нас к пониманию живописи Перуджино и Рафаэля и т. д. Взятые сами по себе, бернсоновские эстетические категории могут показаться на первый взгляд произвольными и даже несколько наивными. Но, примененные к конкретному историческому материалу, они наполняются живым содержанием и, главное, становятся действенным фактором в процессе познания специфики сложных явлений ренессансной художественной культуры.
Эстетические теории Бернсона неоднократно подвергались критике со стороны теоретиков абстрактного искусства. Их объявляли «старомодными», «изжившими себя», «устарелыми». Но Бернсон твердо стоял на своих позициях. По всему своему мировоззрению он был убежденным гуманистом и не представлял себе, что такое «внеизобразительное» искусство, если только не шла речь о решениях чисто декоративного порядка. Человеческая фигура была для него тем, без чего созданное человеком искусство теряет всякий смысл. И, читая его книгу, мы ощущаем на каждой странице влюбленность автора в великих художников прошлого, умевших облекать высокое гуманистическое содержание в совершенную по своей художественности форму.
ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ АКАДЕМИИ НАУК СССР В. Лазарев
Бернард Бернсон и его книга
Книга «Живописцы итальянского Возрождения», впервые целиком выходящая в русском переводе, принадлежит перу одного из виднейших специалистов в этой области, тончайшему знатоку итальянской живописи — американскому ученому Бернарду Бернсону.
Посвятив долгую жизнь изучению различных проблем итальянского искусства, он в ряде книг изложил свою художественную концепцию и свои взгляды. Однако наиболее последовательное выражение они получили именно в этом труде, в основе которого лежит созданная Бернсоном своеобразная эстетическая теория стиля итальянской живописи. Исходя из нее, он почти не пользуется общепринятой искусствоведческой терминологией, предлагая свои стилистические определения и категории. Не прибегает он также и к широко распространенной в современной исторической науке, как советской, так и зарубежной, периодизации искусства итальянского Возрождения или делению его на эпохи Проторенессанса, раннего, Высокого и позднего Ренессанса, которые в своем развитии естественно оказались связанными с различным по укладу социально-экономическим строем.
И все же эту книгу никак нельзя назвать антиисторичной или оторванной от рассмотрения той реальной и конкретной почвы, которая взрастила искусство Возрождения — этот удивительный плод ранней буржуазной культуры. Да и не в этом значение этого труда.
Написанная блестящим литературным языком, обогащенным глубокими поэтическими образами, насыщенная горячим желанием даже равнодушного человека приобщить к радостям, которые дарит нам искусство, книга Бернсона делает, казалось бы, все, чтобы убедить читателя в наглядной, почти осязаемой, но никогда не навязчивой форме в правильности и жизненности его идей. В самом деле, она дает нам счастливую возможность «вжиться» на какое-то время в картину старого итальянского мастера, разделить его чувства, ощутить окружавшую его действительность, как бы заново воспринять отдаленное от нас пятью или шестью веками искусство Возрождения. Эта книга талантлива, хотя во многом противоречива и субъективна.
Давая эстетическую оценку всей эпохе в целом, Бернсон говорит о характере и эволюции ее изобразительного языка, доступного и близкого даже нашему столетию. Он устанавливает своего рода психологический критерий художественного воздействия итальянской живописи, вскрывая движущие причины, которые его выявляют. Не призывая нас беспредметно ею восхищаться, Бернсон точно и определенно указывает на ряд подмеченных и изученных им стилистических приемов и признаков, следуя которым итальянский художник того времени мог, по его мнению, создать настоящие и неповторимые произведения искусства, полностью выразив в них свое мироощущение.
Вмещая в рамки своих теоретических построений итальянскую живопись с тринадцатого по шестнадцатый век, Бернсон делит ее скорее по географическому, нежели историческому, принципу на четыре школы: венецианскую, флорентийскую, среднеитальянскую и североитальянскую. Однако, рассматривая их последовательно, посвящая каждой из них отдельную книгу, он этим как бы изолирует их друг от друга, не стремясь дать читателю представление о едином процессе развития итальянского искусства. Каждой данной школе он предпосылает особое теоретическое введение, обусловливая им специфичность именно ее художественного бытия и роста.
Каковы же эти предпосылки? Исходя из общеизвестного принципа, что главным для итальянского искусства является образ человека, Бернсон указывает на четыре основных условия изображения человеческой фигуры. В картине или фреске должны присутствовать: осязательная ценность изображения, движение фигуры, живописная пространственность композиции и колорит.
«Я предпочитаю, — говорит автор, — вместо понятия „форма“ употреблять понятие „осязательная ценность“, потому что при взгляде на картину мы бессознательно переводим наши зрительные ощущения в воображаемые ощущения осязания, напряжения и объема». Итак, если фигуры на картине отвечают этому условию, то зритель воспримет их во всей их пластической ощутимости и телесности, вообразит, что сможет их реально ощупать, сдвинуть с места или обойти кругом.
Во-вторых, в картине должно присутствовать движение, выраженное подвижной и функциональной линией, то есть линией, выполняющей определенное назначение.
В-третьих, композиция должна быть пространственна, то есть должна подчеркнуть глубинность построения или кажущуюся живописную трехмерность картины или фрески.
В-четвертых, — колорит. Но, «поскольку краска играет менее существенную роль во всем том, что отличает произведение живописи от персидского ковра, постольку и роль ее в судьбах искусства менее значительна», — замечает Бернсон в заключительной главе книги. Поэтому колориту уделяется меньше внимания в его системе изобразительных приемов. И надо сказать, что недооценка роли колорита — одно из самых уязвимых мест эстетической теории Бернсона.
Итак, каждый из этих четырех художественных принципов определяет характер одной из четырех живописных школ итальянского Ренессанса. Наиболее ярким признаком венецианской школы были ее цветовые возможности. Флорентийская живопись осуществляла принципы осязательной ценности и движения. Мастера Средней Италии глубже всего выразили пространственность своих композиций. Североитальянские художники, особенно Корреджо, разрешали, в основном, проблему движения и светотени.
Но, выдвигая эти изобразительные приемы и признаки на передний план, Бернсон не ограничивается ими и присоединяет еще две категории: «иллюстративность» и «декоративность». Под первой он подразумевает литературно-повествовательное начало в живописи, навеянное, однако, не реальными впечатлениями художника, а, скорее, его богатым зрительным воображением. В понятие «декоративность» Бернсон включает форму, движение и колорит, то есть те элементы, которые выявляют интерес живописца не столько к самому предмету изображения, сколько к чисто изобразительным средствам.
Обратимся же по порядку к отдельным частям этой книги, написанным в разное время. Первая — «Венецианские художники» — относится к 1894 году, то есть к тем годам, когда, по собственному выражению, Бернсон еще только нащупывал свою теорию. Поэтому так щедро и непосредственно он раскрыл перед нами магическую прелесть венецианского колорита, роли которого позже отведет в своей концепции последнее место.
Говоря о том, что венецианская живопись отличалась поэтичностью и красотой, Бернсон справедливо замечает, что она с большей полнотой, чем другие, современные ей художественные школы, отразила дух своего времени, что она была доступна широким слоям народа, что ее человечные и реалистические образы были близки и дороги согражданам Беллини, Карпаччо и Джорджоне.
Касаясь отдельных мастеров, автор особенно удачно и тонко разбирает великолепного живописца Джентиле Беллини, как бы перенесшего на свои полотна шумные и зрелищные события городской жизни венецианской республики XV столетия, благодаря чему его картины помимо их высоких живописных достоинств приобрели ценность подлинного исторического документа. Интересно также подмечена разница между характером красочной и многословной декоративной живописи Венеции с ее патриотическими сюжетами и мотивами и современной ей флорентийской живописи. Так, например, в знаменитых, но вскоре утраченных картонах Леонардо да Винчи и Микеланджело «Битва за знамя» и «Купающиеся солдаты» художники, в отличие от венецианских, выражали отнюдь не идеи прославления флорентийского государства. Не изображали они и достоверных исторических эпизодов, хотя оба картона были написаны на темы военного прошлого Флоренции и Пизы. На первый план в них выступало решение формально-художественных и психологических проблем, выраженных в лаконичной, но выразительной живописно-пластической манере.
Несколько глав, посвященных развитию венецианского портрета, не отличаются новизной, но следует помнить, что они написаны более полувека назад, когда такой эмоциональный, свежий и непосредственный подход к произведениям искусства был почти неизвестен широкой публике. Однако Бернсон не коснулся здесь проблем осязательной ценности и движения, как будто они были неведомы Тициану или Веронезе. Не упомянул он также об иллюстративности, столь присущей, например, Тинторетто, живописно-повествовательную манеру которого он сам же сопоставил с литературной речью Льва Толстого и Мопассана. Несколько сужая высокие достижения венецианских мастеров, Бернсон, однако, отдал им горячую дань верности, написав пятьдесят лет спустя, в 1951 году, в своем дневнике следующие строки: «Венецианцы были моей первой любовью, их художники и теперь влекут меня, не только как самые живописные, но и как самые классические мастера. Классические в том смысле, в каком классично греческое искусство от V до I века — умеренные, разумные, спокойные в своем глубоком чувстве и полностью свободные от риторичности XV столетия. Наиболее утонченное выражение венецианское искусство получило в живописи Тициана, наиболее поэтичное в творениях Тинторетто, затем в архитектуре Палладио, Лонгены и, наконец, в произведениях Тьеполо и обратно к их предшественнику — наиболее классичному из всех — Паоло Веронезе».
Вторая часть книги — «Флорентийские живописцы» — написана несколько позже. Она научнее и серьезнее первой уж по одному тому, что флорентийское искусство гораздо интеллектуальнее венецианского. На универсализм флорентийцев указывается в самом начале главы, и это уже подготовляет читателя к новому и трудному восхождению на одну из высочайших вершин мирового изобразительного искусства.
Возникает новая проблема — проблема фигурной живописи, характеризующая искусство Флоренции более чем какое-либо другое. Поэтому автор начинает с экскурса о психологии осязания и об иллюзии того, что зрительное восприятие предмета, изображенного на картине, переходит в какой-то момент в его реальное осязательное ощущение. «Самое существенное в искусстве живописи, — говорит Бернсон, — уменье определенным образом возбуждать наше чувство осязания». В этом отношении замечательным примером служит Джотто — первый из мастеров Проторенессанса, постигший, по существу, осязательную ценность фигуры и материальность окружающего мира. Фрески капеллы дель Арена в Падуе служат тому подтверждением.
Ярко освещена автором роль Мазаччо — продолжателя джоттовских традиций, достигшего великолепного мастерства в передаче осязательной ценности своих фигур на фресках в капелле Бранкаччи во Флоренции. Они стали подлинным образцом для всех итальянских мастеров XV и XVI веков.
Своеобразен и интересен, на наш взгляд, анализ того периода флорентийского искусства, который наступил после смерти Мазаччо. Если Бернсон несколько схематично дает расстановку художественных сил, то делает это исключительно в целях придания ему определенных очертаний, а также известной кристаллизации исторического процесса, без которой трудно было бы разобраться в обилии имен, течений и произведений искусства, с такой щедростью и изобилием дарованных нам этим замечательным столетием.
Это время характеризовалось зарождением и развитием натуралистического стиля и сильно подвинутой вперед живописной техники, или «искусности», выражаясь словами Бернсона. Последняя получила широкое распространение именно потому, что Флоренция была превосходной художественной школой, где училось несколько гениальных мастеров и тысячи посредственностей, а они не ставили перед собой больших идейных задач, удовлетворяясь чисто техническими решениями той или иной проблемы.
Блестяще определяя характер художника-натуралиста, как человека, родившегося с задатками ученого, но вопреки этому ставшего живописцем, Бернсон неправильно противопоставляет одно направление другому, ибо они качественно не равнозначны. Натурализм как стиль включал в себя и искусность уж по одному тому, что натуралисты типа Учелло, стремясь к экспериментаторству, ставили перед собой одновременно и художественные и технические задачи.
Слишком увлекаясь, на наш взгляд, новаторскими тенденциями Учелло, Бернсон хотя и говорит о его «нелепостях», вроде голубых и розовых лошадей, все же упускает из виду двойственный характер его творчества. Считавший себя первооткрывателем перспективы, фанатично увлекавшийся ею, Учелло являл нам и другую сторону своего искусства — чисто детскую, поэтическую сказочность и наивность. Не более ли прав по отношению к нему другой современный историк итальянского искусства, Роберто Лонги, который относит Учелло к числу «опоздавших», задержавшихся в своем развитии мастеров, особенно по сравнению с теми, кто шагнул далеко вперед. Ведь Учелло оставался верен себе даже в те годы, когда Флоренция являла собой кипящую творческую лабораторию, в которой решались и разрабатывались сложнейшие проблемы художественной формы, движения и пространства.
Разбирая далее проблему движения, Бернсон связывает ее развитие с творчеством Антонио Поллайоло и Андреа Вероккьо. Снова следует экскурс в теорию: вопросы физико-психологического восприятия движения, то есть возникновение иллюзорных мускульных ощущений, якобы испытываемых нами при взгляде на картины и гравюры Поллайоло. Однако, подчеркивая значение какой-либо одной проблемы, автор подчиняет ей все остальные стороны творческого процесса и нередко видоизменяет общее представление о стиле того или иного мастера. Так, если взять в качестве примера картину Антонио Поллайоло «Мучения св. Себастьяна», то можно с легкостью увидеть, что в ней как бы программно сформулированы многие достижения флорентийского искусства середины кватроченто: и многоплановое построение пейзажа, и проблема обнаженного тела, и сложные ракурсы фигур, выраженные в старательной и достоверной манере, и разработка центральной композиции по кругу, вписанному в четырехугольный формат картины. Несомненно, одной из задач, которые ставил перед собой этот мастер, была и передача движения, но не ею одной исчерпывалась вся проблема его стиля.
Однако передача движения Поллайоло сильно отличалась по своему характеру от той «стихии» движения, которой в совершенстве владел Боттичелли. Посвящая этому художнику несколько восторженных, поэтических страниц, Бернсон опять отмечает в его творчестве лишь то, что, на его взгляд, является единственно существенным: декоративное начало, выраженное в движении и осязательной ценности. Поэтому он касается только трех картин Боттичелли: «Весны», «Рождения Венеры» и «Афины с кентавром», где эти черты проступают явственнее, чем в остальных. Не разбирая других его произведений, в частности замечательных по эмоциональной выразительности и энергии мужских портретов, Бернсон в значительной мере сужает не только творческий диапазон этого художника, но и внутреннюю содержательность его образов. Не отдает он должного также тончайшему колоризму Боттичелли, считая, что цвет не играл ни малейшей роли в его живописных исканиях.
Но много лет спустя, в другой своей книге, Бернсон написал строки, расширяющие его взгляды на этого мастера: «Был вчера в церкви Оньисанти. Смотрел на св. Августина Боттичелли. Высокий интеллектуализм и одухотворенность выражены в этом образе с такой силой, что даже Дюрер, Микеланджело и Рембрандт не могут идти с ним в сравнение. Фигура святого, моделированная цветом, очерченная линией, изображена в обобщенно-пластической форме... Подумать только, как мало он известен даже образованной публике и как не признан!»
Завершая свою книгу о флорентийских живописцах небольшой главой о Микеланджело, автор хотя и кратко, но чрезвычайно «осязательно» раскрыл перед нами образный строй великого мастера, для которого, как и для древних греков, обнаженная человеческая натура обрела величайший эстетический и нравственный смысл, хотя по своему внутреннему содержанию образ человека эпохи Ренессанса глубоко отличался от антропоморфизма античных представлений.
Небольшое вступление о том, что такое зрительная память и зрительный образ, предшествует третьей книге — о «Живописцах Средней Италии». Ее художники стали наиболее популярными и обаятельными «иллюстраторами» среди современных им итальянских мастеров именно потому, что обладали, по мнению Бернсона, наиболее богатым зрительным воображением.
Первая глава посвящена сиенцу Дуччо да Буонинсенья, творчество которого отмечено чертами иллюстративности. Подробно анализируя клейма оборотной стороны алтарного образа Дуччо — одного из знаменитейших произведений итальянской живописи раннего треченто — Бернсон останавливается не только на ряде новых формально-композиционных принципов, введенных художником, но и на эмоциональной стороне его образов, особенно по сравнению с отвлеченно-символическими изображениями XII — XIII веков. Однако автор справедливо подчеркивает, что живопись Дуччо не жизненна и не реалистична, потому что лишена осязательной ценности и своими корнями связана со средневековой идеологией, в силу чего она обречена на забвение, представляя в настоящее время лишь чисто исторический интерес, в противоположность глубоко человечному искусству Джотто, чьи образы живут и по сегодняшний день.
Зато какая благодарная нежность звучит в голосе Бернсона, когда он говорит о любимейшем из мастеров итальянского треченто — обаятельном и тонком Симоне Мартини — современнике и друге Петрарки. Язык автора приобретает особую изысканность, гибкость и красочность, живописуя изысканность и красочность палитры сиенского художника.
Тонко и проникновенно чувствуя красоту и поэзию итальянской природы, среди которой он провел почти всю жизнь, Бернсон ищет ее черты везде. И в пейзаже сегодняшнего дня, и в пейзаже, запечатленном кистью Вероккьо, Перуджино или Корреджо. Поэтому таким живым и свежим дыханием итальянской весны или осени, летнего дня или вечера веет на нас, когда мы читаем о сумеречном освещении в леонардовском «Благовещении», напоминающем «ясные тосканские дни, когда на фоне светлого, жемчужно-серого неба особенно четко выделяются почти черные стволы деревьев», или о «весеннем солнечном луче, упавшем на тающий снег», чему подобен цвет мантии ангела из «Благовещения» Симоне Мартини, или о «влажном сером свете раннего утра и раскидистых платанах и кипарисах, под сенью которых встает из гроба Христос» в «Воскресении» Пьеро делла Франческа, или о «целом море света в ясный полдень, пронизанном тонкими, просвечивающими сквозь дымку лучами — удивительнейшим явлением итальянской природы», которое Бернсон увидел в картине Корреджо «День».
Это подтверждают и строки, написанные в «Автопортрете» — маленькой книжке, в которой на склоне своей почти столетней жизни автор рассказывает о себе. «Каждым утром я удивляюсь тому, как слеп был вчера. Почему не обратил внимания на красоту освещенного солнцем ствола, столь же великолепного, как мозаики ацтеков и племени майи, или изумрудного мха, который доставляет такое же наслаждение глазу, как зеленые тона Джорджоне и Бонифацио? Отчего вчера меня оставила равнодушным сверкающая красота бабочки? Когда я смотрю на настоящие произведения искусства, я воспринимаю их как произведения природы».
Но вот на сцену выступают новые художественные школы — южнотосканская и умбрийская: первая — во главе с могучим художником Пьеро делла Франческа и его двумя учениками — Лукой Синьорелли и Мелоццо да Форли, вторая — давшая миру Перуджино и его ученика Рафаэля.
Высоко оценивая тосканских мастеров, говоря об имперсональности Пьеро делла Франческа и об иллюстративном начале, сильнее всего выраженном в творчестве предшественника Микеланджело — Луки Синьорелли, — Бернсон главное внимание уделяет все же Перуджино и Рафаэлю, а также неразрывно связанной с их творчеством пространственной композиции. Тонко анализируя ее возможности, автор указывает на разницу в понимании архитектурного и живописного пространства: «Архитектура наступает на пространство и замыкает его, ее область, скорее, интерьер; живопись, напротив, раскрывает пространство и воображаемыми границами обрамляет небесный свод».
Превосходно разбирая пространственные эффекты в Сикстинской фреске Перуджино, Бернсон касается и других его вещей, всюду отмечая настроение мечтательного покоя и отрешенности от земной суеты, выраженное в напевных и плавных линиях, в удивительной свободе и привольности, с какой стоят фигуры Перуджино, окруженные райской природой. «Как должны были успокаивать такие картины после шума, суматохи и кровопролитий в Перудже — самом кровавом городе Италии», — замечает Бернсон со свойственным ему чувством современности далекой от него эпохи, которую он так непосредственно и реально ощущает в творениях старых итальянских мастеров.
С какой-то особенной праздничной приподнятостью пишет он об образном строе Рафаэля, видя в нем величайшего «иллюстратора» эпохи Возрождения. Идеи античного мира, равно как и ветхозаветного эпоса, нашли законченное художественное выражение в «Парнасе» и в «Афинской школе», в «Диспуте» и во фресках «Библии Рафаэля». Силой своего гениального и свободного творческого воображения Рафаэль персонифицировал их в образы, близкие и понятные мышлению и психике людей нового времени.
Но тем не менее этот самый классический из художников Ренессанса не укладывается в предначертанные ему Бернсоном границы. Всемерно акцентируя пространственные решения Рафаэля, автор фактически отрицает его высокое мастерство в области формы и движения. Сомнению подвергаются даже рисунки, в которых художник так настойчиво искал классического совершенства композиции. Его величие Бернсон усматривал в том, что Рафаэль, как никто другой, понимал роль архитектурно-пространственного обрамления, в пределы которого помещал незначительный, сам по себе фигурный стаффаж. Но ведь фресками Станца делла Сеньятура, к которым, кстати сказать, Рафаэль выполнил немало мастерских вспомогательных рисунков, широко используя для своей работы натурщиков, не исчерпывается все его творчество? К тому же непревзойденная сюита его мадонн, среди которой автором отводится такое почетное место «Мадонне делла Грандука», казалось бы, полностью опровергает его мнение, что Рафаэль был беспомощен в фигурном изображении и не мыслил его вне пространственных эффектов.
Обращаясь в четвертой книге к искусству Северной Италии, Бернсон высказывает мысль о консервативности художественного мышления у мастеров этой школы. Яркий выразитель этих тенденций — Антонио Пизанелло с его декоративно-плоскостной живописью. Однако автор ни словом не обмолвился о его замечательных реалистических рисунках — предвестниках рисунков Леонардо, хотя совершенно правильно замечает, что североитальянская живопись многим обязана Флоренции, прогрессивная роль которой оставалась неоспоримой в течение всего XV века, а также античности, как одному из важнейших слагаемых флорентийской художественной культуры того времени.
Главное внимание в этом разделе Бернсон обращает на крупнейшего североитальянского мастера эпохи кватроченто Андреа Мантенью, которому посвящает немало ярких страниц. Бернсон вновь и вновь повторяет, какую пагубную роль сыграло для художника его неумеренное, почти рабское преклонение перед древнеримской скульптурой, известной ему к тому же лишь во фрагментах, крайне невысоких по качеству. Автор почти ошеломляет читателя страстностью своих обвинений. Но при этом он глубоко прав, когда замечает, что современная Мантенье итальянская скульптура, хотя бы в лице одного Донателло, была несравненно выше античных обломков, найденных на поверхности или неумело извлеченных из земли лопатой первых ренессансных археологов.
В своем стремлении раскрыть достижения и ошибки Мантеньи автор становится почти многословным. Меньше всего его можно назвать объективным и бесстрастным историком итальянского искусства, потому что он живет в нем, вмешивается в него, несет за него ответственность, отождествляет с сегодняшним днем. Не в этом ли состоит подлинно жизненное обаяние его книги? Поэтому он не отпускает от себя читателя, переходит с ним из музея в музей, от художника к художнику, от картины к картине и снова возвращается назад, усиливая свою аргументацию каким-нибудь вновь найденным фактом. Именно так встречались мы с ним перед алтарным образом Дуччо, именно так продолжаем длинный разговор о Мантенье. «Я еще раз повторяю, — пишет Бернсон в своей автобиографии, — что рожден для разговоров, а не для того, чтобы писать книги. Мне бы надо жить в XVIII веке, когда разговор заменял жизнь».
Но, несмотря на это утверждение, он — превосходный стилист. Порой его эмоционально-образная речь как бы порабощает его самого, прорывается сквозь все препятствия, сметает возведенные на ее пути искусственные построения, умозрительные схемы, отточенные характеристики. Например, Франческо Франча, по словам автора, был небольшим художником, заслужившим негромкую славу лишь пейзажными фонами к своим мадоннам. «Но кто из нас не ощутил их изысканной прелести и не испытал радостного чувства покоя при взгляде на его тихие и глубокие водоемы, низкие зеленые берега и небесные горизонты!». Разве после таких слов Бернсона имя скромного болонца скоро изгладится из нашей памяти?
Или о мало кому известном ломбардском мастере Деффенденте Феррари, который не заслуживает и четвертого разряда как художник, по утверждению Бернсона. Уничтожающая характеристика, не правда ли? «Но я признаюсь, — пишет он через несколько строк, — что память о его триптихе, где изображен нежный, фламандский силуэт мадонны с младенцем в ласковых объятиях, которая словно парит в воздушном пространстве, над сияющим у ее ног полумесяцем, наполняет меня горячим желанием повидать его вновь, во много раз большим, чем другие знаменитые картины».
Литературный стиль Бернсона обрел широкое признание. Получая Нобелевскую премию за «Старика и море», Эрнест Хемингуэй сказал, что если говорить о мастерстве литературной речи, то следовало бы присудить премии Карлу Сандбергу и Бернарду Бернсону за ясность и прозрачность их прозы.
Итак, возвращаясь к мастерам Северной Италии, следует отметить, что они, за исключением, быть может, Мантеньи и Корреджо, мало известны широкой публике. Тем интереснее и содержательнее страницы, посвященные веронской школе XV — XVI веков, роли миланских живописцев Фоппа и Брамантино, а также школе Леонардо да Винчи. .
Говоря о нем во второй книге, Бернсон объясняет универсальность гения Леонардо огромной, присущей ему умственной энергией, которая излучалась буквально на все, чего бы ни касалась рука художника. Его ученики, несмотря на их высокий профессиональный уровень, не могли идти с ним в сравнение, как, впрочем, и последователи Рафаэля, Микеланджело и Тициана.
Первые плоды упадка живописи после ее небывалого взлета раньше других вкусили именно ученики Леонардо. Понятие «красивости», впервые введенное Бернсоном как один из признаков деградации стиля, определяет прежде всего характер всей миланской живописи XVI века.
Обращаясь после миланцев к самому крупному художнику Северной Италии эпохи чинквеченто — Корреджо, Бернсон чрезвычайно высоко ставит его живописное мастерство. Несмотря на это, он проницательно подмечает разницу между классическим спокойствием и уравновешенностью его мифологических картин и барочностью религиозных композиций. В последних таилось уже чуждое и даже враждебное Ренессансу сочетание чисто земной чувственности с театрально-религиозным пафосом, которым было проникнуто почти все итальянское искусство XVII столетия и особенно творчество его крупнейшего представителя — архитектора, скульптора и живописца Джованни Лоренцо Бернини.
Поэтому автор оценивает Корреджо ниже, чем художников Высокого Возрождения, в чем также сказывается строгость и чистота его вкуса, ощущавшего малейшую неискренность в искусстве, а главное — утрату чувства меры.
Последние слова становятся как бы эпиграфом к заключительной главе книги Бернсона. Утрата разумного и гармонического начала, столь совершенного в классическом искусстве, будь оно древнегреческим или венецианским XV века, — вот что приводит, по мнению автора, к его упадку. Это чувство гармонии было неведомо ни маньеристам, ни художникам эпохи сеиченто, поэтому они утратили мастерство фигурного изображения. Поэтому их живопись, не выражавшая в должной мере принципов осязательной ценности, движения и пространства, строго соразмерного с человеческой фигурой, была обречена на упадок. Этому суровому и не до конца справедливому приговору нельзя, однако, отказать в логичности. Ибо страстное, неуравновешенное, мятущееся искусство итальянского барокко не смогло подняться до высочайшего уровня гуманистического и гармоничного во всех своих проявлениях искусства эпохи Возрождения, хотя XVII и XVIII века в Италии породили немало блистательных живописцев, скульпторов и архитекторов.
Мы видим, что взгляды Бернсона строго последовательны и неизменны как на протяжении этой книги, так и на протяжении его долгой, почти столетней жизни. «Я не стремлюсь перечитывать свои произведения, — пишет он, — прошли десятилетия, а я не перелистал этой книги от начала до конца... Но она по-прежнему выполняет свое назначение. Она... говорит о том, что означают для нас картины итальянских мастеров сегодня, о том, что они дают нам, как вечно новые, повышающие нашу жизнеспособность, явления...». Да, эта книга говорит об этом, несмотря на то, что созданная Бернсоном теория далеко не всегда «окупает» себя и ее границы порой просто сносятся под натиском того живого содержимого, которое он пытается в них вместить.
Вероятно, так происходит потому, что книга эта написана не с позиций историка культуры и искусства, а с точки зрения тонкого художественного знатока, критика и ученого, который исходит из живого произведения искусства и пытается установить, в чем же заключается его непреходящая общественная и эстетическая ценность, какими путями идет художник к достижению своей цели и в чем сила его воздействия на зрителя. А в широких пределах столь свободно и не догматически поставленной темы, естественно и подчас неизбежно возникают разночтения и противоречия, но разве из этого следует, что ее не нужно ставить вообще?
Поэтому мы ценим книгу Бернсона не как прошедший исторический этап в изучении итальянского искусства, а как своеобразный, талантливый и интересный опыт научного исследования, основанный на фундаментальном знании материала.
До сих пор мы знакомились с Бернсоном как с писателем-«биографом» итальянской живописи, но одними книгами не исчерпывались остальные стороны его художественной деятельности. Тончайшее атрибуционное мастерство и его подлинный педагогический талант оставались пока для нас в тени. Однако это составляет содержание уже не его книги, а жизни, с которой интересно познакомиться хотя бы в самых общих чертах.
Бернард Бернсон родился в 1865 году в маленьком литовском городке, недалеко от тогдашней Вильны. В десятилетнем возрасте вместе с родителями он эмигрировал в Америку и поселился в Бостоне. Отныне Бостонская Публичная библиотека, которую он регулярно посещал с одиннадцати до восемнадцати лет, стала его домом и школой. Его интересовало все: он изучал арабский и древнееврейский языки, читал в подлиннике Коран и Ветхий завет, увлекался астрономией и английской поэзией, латынью и особенно русским языком. Он читал о России все, что мог, но ближе всего из русских писателей ему были Гоголь и Тургенев, из них «Ревизор» и «Рудин». Первая его статья была посвящена разбору «Ревизора». «Рудина» он перечитывал без конца.
В Бостонском, а позже в Гарвардском университете, между 1884 — 1887 годами, молодой Бернсон слушал лекции по истории искусства, и к этому же времени относится его встреча с чрезвычайно богатой, но взбалмошной меценаткой Изабеллой Гарднер, которая тратила огромные по тому времени суммы на составление своей личной коллекции картин. Среди постоянных посетителей ее салона и советников по покупке предметов искусства были художники Уистлер, Сарджент, французский писатель Поль Бурже и впоследствии Бернсон, для которого это знакомство сыграло большую роль в его художественном развитии.
Но это произошло много позже, а до тех пор он продолжал учиться в Гарварде, где был одним из блестящих студентов; поглощал Винкельмана, Гёте, Сент-Бёва, изучал восточные и европейские языки, слушал лекции, читаемые педантичными и сухими профессорами. Характерно, что появившиеся в 1873 году «Очерки по искусству Ренессанса» английского художественного критика и профессора Оксфордского университета Уолтера Патера были отвергнуты в Гарварде. Написанная изящным и образным языком, эта книга, идеалистическая по своему характеру, оказала большое влияние на юного Бернсона. Эстетическое восприятие творчества старых мастеров, свободное от риторичности и излишней детализации, а главное, от христианско-морализующих тенденций, свойственных произведениям Джона Рескина, имя которого было тогда чрезвычайно популярно, особенно привлекало молодого студента и породило в нем неудержимое желание посвятить себя изучению итальянского искусства.
Попытки вырваться в Европу сначала не увенчались успехом, но в 1887 — 1888 годах, почти без денег, он все же очутился в Париже и, следовательно, в Лувре, где особенно тщательно изучал Боттичелли и Леонардо. После Парижа — Лондон и Оксфорд, где, по словам Бернсона, самый воздух был профессиональнее, чем в Гарварде, а художественная школа прерафаэлитов направляла интерес английских ученых в сторону изучения искусства раннего Ренессанса.
В конце 1880-х годов Бернсон поехал в Рим, где произошла решившая его судьбу встреча со знатоками и историками Возрождения — Джованни Морелли и его другом Кавальказелле — крупным ученым того времени, автором большого труда по истории итальянского искусства, над которым он работал вместе с англичанином Кроу. Увлекшись живописью раннего Ренессанса, открыв для себя творения Джотто, Мазаччо, Орканьи, Пьетро и Амброджо Лоренцетти, Фра Беато Анжелико, Бернсон ради их изучения исколесил на велосипеде всю Италию. По возвращении в Англию со своей ученицей, а впоследствии женой Мэри Логан он объезжает все наиболее выдающиеся английские и шотландские коллекции картин.
Дальнейшие годы, проведенные им в ледяных залах европейских галерей, которые по зимам не отапливались, и в гравюрном кабинете галереи Уффици за рисунками старых мастеров, чрезвычайно расширили его художественный кругозор. Он накапливает знания и опыт, становясь выдающимся знатоком итальянской живописи.
Для того чтобы уяснить, что это по существу означало, надо принять во внимание, что в те годы искусство эпохи Ренессанса неудержимо манило к себе ученых и даже не специалистов в этой области, принадлежащих к разным странам и национальностям. Между англичанами и немцами скоро наметился резкий антагонизм в научных взглядах и особенно в проблемах знаточества, потому что вопросы атрибуции памятников живописи стали почти насущными, а пути к этому были чрезвычайно затруднены.
Знаточество, как особая область искусствознания, находилось в то время в самом зачаточном состоянии и было в полном смысле слова неподнятой целиной. Большинство подделок, особенно за пределами Италии, шло под именами Рафаэля или Леонардо. Боттичелли, за исключением нескольких картин, был почти неизвестен, а такие венецианские мастера, как Беллини, Джорджоне, Тициан, Бонифацио, Пальма, Лотто, Порденоне, Веронезе, сплошь и рядом были вовсе неопознаны. Забегая несколько вперед, можно привести в пример выставку венецианской живописи из частных собраний, устроенную в Лондоне в 1895 году. Насколько не разработаны были вопросы авторства многочисленных картин, ее составлявших, можно судить хотя бы по тому удивительному факту, что из тридцати трех картин Тициана, упомянутых в каталоге выставки, Бернсон вычеркнул тридцать две, а из восемнадцати Джорджоне — все восемнадцать. К тому же надо прибавить, что огромное количество итальянских картин было чрезвычайно загрязнено или варварски реставрировано.
Таково было положение вещей, когда Джованни Морелли — медик по образованию, специалист по сравнительной анатомии и одаренный дилетант в области искусства — предложил свой метод по определению картин, как он называл его, «экспериментальный», наделавший в свое время немало шуму.
Исходя из того, что художник выдает свой «почерк» особенно ясно в тех случаях, когда изображает какие-либо незначительные детали (например, запястья рук, пальцы, ногти, мочки ушей, ноздри и т. д.), сходные по своему анатомическому строению с подобными же деталями на других картинах, Морелли счел, что он открыл безошибочный метод определения итальянских полотен. Известный успех он имел, и в некоторых случаях определения бывали удачными, но порочность метода заключалась в том, что на передний план выдвигались различные признаки формы, а не ее качество. Подобный атрибуционный метод был чужд Бернсону, для которого решающим являлось именно качество художественного произведения или единство стиля того или иного мастера, а не отдельные частности, которые играют иногда свою полезную при определении роль, но не могут быть приняты как единственное мерило подлинности произведения искусства.
Однако было бы неправильным недооценивать заслуг Морелли, особенно принимая во внимание ответственный период становления этих проблем, равно как и гигантский труд Кавальказелле, исходившего почти всю Италию и зарисовавшего иконы и картины старых мастеров для их сравнительного анализа и изучения, ибо развитая фотографическая техника была в то время мало кому доступна.
Таким образом, они оба впервые возглавили новое движение в пользу научного знаточества, а к опыту знатока восходила тогда, по существу, и вся научная основа искусства. Ведь, стремясь к воссозданию определенной эпохи или определенной художественной индивидуальности, ученый должен был прежде всего выявить чистоту и полноту материала, над которым ему предстояло работать, обрести полную уверенность в том, что произведения, на основании которых он составляет свое суждение об эпохе или мастере, действительно принадлежат этому мастеру и этой эпохе. Поэтому цели и задачи ученого сливались с целями и задачами знатока, так как лишь их полное единение могло привести к полноценному решению задачи.
Иначе обстояло дело с методами работы, которые совершенствовались постепенно и достигли высокого уровня в художественной деятельности Бернсона. Уже Морелли утверждал, сам не имея к тому возможностей, что историк искусства, подобно ботанику, всегда окруженному гербариями и коллекциями живых растений, должен проводить свою жизнь среди книг и фотографий, а если позволяют средства — картин и статуй. Усвоив опыт и научное наследие своих старших современников, Бернсон пошел именно по этому пути. Целям его научных исследований полностью способствовал его огромный и тщательно разработанный научный аппарат. Библиотека свыше пятидесяти тысяч томов, превосходное собрание оригиналов старой итальянской живописи и восточного искусства, подробная картотека и, наконец, уникальная фототека, содержащая сотни тысяч снимков.
Лишь с помощью такого аппарата мог быть составлен внушительный по количеству, свыше 12000 названий, индекс-каталог, точнее, «Перечень главных итальянских художников и их произведений с указанием местонахождения», относящихся, в основном, к четырем итальянским живописным школам, о которых идет речь в данной книге.
Изданный в 1932 — 1936 годах «Индекс» был вновь переиздан в 1957 году и вобрал на этот раз в свои два монументальных тома свыше тысячи трехсот репродукций лишь с картин одной венецианской школы, заимствованных из бернсоновской фототеки.
Пользуясь подобным аппаратом, исследователь искусства, кто бы он ни был, мог предельно отточить свое тончайшее орудие — развитое и точное чувство стиля, рожденное из познания и опыта, независимо от того, увлекали ли его узкие задачи знаточества или широкие историко-художественные проблемы. Характерно, что эти задачи сливались воедино в исследованиях таких ученых, как Бернард Бернсон и современный ему крупнейший историк немецкой и нидерландской живописи Макс Фридлендер. Когда речь шла о задачах художественной атрибуции, их взгляды во многом совпадали. Оба придавали решающее значение непосредственности первого зрительного впечатления — «этого незабываемого и неповторимого переживания», — по словам Фридлендера, основанного, разумеется, на прочном научном фундаменте. К этому следует также добавить постулат Бернсона о том, что ознакомлению с картиной должно неизменно сопутствовать тщательное изучение современных ей исторических документов и предшествующей художественной традиции.
Удачным примером такого обобщенного, научно-знаточеского подхода к произведению искусства может служить одна из блестящих атрибуций Бернсона, в результате которой представления не только о личности живописца, но и его роли и месте в художественной жизни эпохи претерпели значительные изменения.
Речь идет о великолепной картине «Пиршество богов» (Вашингтон, Национальная галерея), которую Бернсон отнес к позднему периоду творчества Джованни Беллини, создавшему ее в 1514 году при участии Тициана, а не к Марко Базаити — способному, но рядовому венецианскому мастеру, под чьим именем она шла раньше. В связи с этим прежние взгляды на Джованни Беллини как на сдержанного, порой холодноватого мастера, не выходившего в своей живописи за пределы венецианского кватроченто, пришлось в корне пересмотреть. Автор прочувствованных религиозных композиций и лучшей из венецианских аллегорий XV века — «Озерной мадонны» с ее уснувшим, романтическим пейзажем, «где под скалами дремлют воды», явил нам под конец жизни совершенно иную и новую грань своего живописного дара, овеянного уже глубоким пространственным дыханием Высокого Возрождения. Жизнерадостный и языческий образный строй его поздних творений зазвучал отныне в одном тембре с мотивами лирических пасторалей молодого Джорджоне и мифологических «поэзии» Тициана. Именно Джованни Беллини первым из мастеров XV века своими «Орфеем», «Венерой перед зеркалом» и особенно торжественным и монументальным «Пиршеством богов» перевернул свежую и замечательную страницу в истории венецианского искусства.
Так кропотливые изыскания знатока вплотную сомкнулись с широкими проблемами стиля.
Таким образом, мы видим, что деятельность Бернсона отнюдь не ограничивалась одними проблемами знаточества, в чем склонен был упрекать его Фридлендер. Этому противоречили бесчисленные факты. Уже с 1894 года одна за другой стали выходить его книги о венецианских, флорентийских, среднеитальянских, североитальянских художниках Возрождения, переведенные почти на все европейские языки. Три тома «Исследования и художественная критика итальянского искусства», три тома рисунков флорентийских мастеров, «Картины венецианских художников в Америке», дважды переизданная монография о Лоренцо Лотто, трижды переизданные и предлагаемые советскому читателю «Живописцы итальянского Возрождения», «Эстетика и история в изобразительном искусстве», «Методы и проблемы атрибуции», «Набросок автопортрета», «Страстный путешественник», путевые дневники 1946 — 1957 годов, свыше двухсот журнальных статей — таков далеко неполный перечень трудов Бернарда Бернсона.
Сжатая, но ясная и образная, порой приподнятая и эмоциональная речь делала его книги чрезвычайно популярными среди широких кругов любителей искусства и немало способствовала пропаганде итальянской живописи. Многое из того, что кажется теперь трюизмом, было впервые высказано Бернсоном, например, о влиянии Тьеполо на Гойю; или венецианцев XVI века, в частности Бассано, на живопись Греко и Веласкеса; или мысль, что Мане, Ренуар и Сезанн в поисках красочных решений нередко обращались к тонально-насыщенной палитре Паоло Веронезе.
Правда, в своем «Дневнике» 1954 года Бернсон не без сарказма записывает, что за ним, как за лающей у своей конуры собакой, оставлено право высказываться лишь об итальянцах XIV и XV веков. Все остальное, что он пишет, принимается критикой в штыки или не признается вовсе, как, например, его книга о Караваджо, отрицаемая специалистами по сеиченто, или «Арка Константина», не принимаемая археологами.
Ну что же, возможно это и так, нельзя быть специалистом во всех областях. Однако меньше всего можно упрекнуть Бернсона в дилетантизме, ибо в основе его знаний о Ренессансе лежал редкостный и широчайший вкус, подлинно здоровое отношение к великому реалистическому искусству, лишенное какой-либо неискренности или надлома. Поэтому так органичен его интерес к смелому и новаторскому творчеству современного итальянского художника Ренато Гуттузо, так неожиданны и метки его сравнения рисунков Пикассо с рисунками Рафаэля и Энгра, знаменитого «Танца» Анри Матисса с «Танцем обнаженных» Антонио Поллайоло, флорентийского «Оплакивания» Микеланджело с «Лаокооном».
Чрезвычайно живой, много путешествовавший, высокообразованный человек, Бернсон тем не менее не любил читать лекций и преподавать в учебных заведениях. Он, по его словам, предпочитал беседовать об искусстве. Однако инстинктивное стремление к тому, чтобы делиться своими знаниями, опытом, прививать тонкий художественный вкус и учить «смотреть и смотреть», сопутствовали ему всю его жизнь. Не случайно так настойчивы его слова о том, что уже в средней школе надо развивать в детях интерес к изобразительным искусствам и обучать их разбираться в памятниках живописи и скульптуры, подобно тому как их обучают родному языку и литературе.
Нельзя также пройти мимо того факта, что свою виллу «И Татти» близ Флоренции со всеми ее художественными сокровищами, ставшую при жизни Бернсона притягательным международным центром для историков итальянского искусства, он завещал Гарвардскому университету с тем, чтобы молодые искусствоведы могли там работать и учиться, безвозмездно пользуясь ее бесценным достоянием.
Убежденный антифашист, страстный противник войны, Бернард Бернсон пережил ее, не выезжая из Италии, будучи к тому времени уже восьмидесятилетним стариком.
Он умер в 1959 году в возрасте девяноста четырех лет.
Я. А. Белоусова
Предисловие автора
МНОГИЕ ЛЮДИ, смотря на произведения искусства, не разбираются, какое из них является подлинно ценным. Часто их вниманию предлагаются художественные суррогаты, а они, не понимая этого, стесняются выразить свое мнение и, подобно ребенку из сказки Андерсена, воскликнуть: «Смотрите, а ведь король-то голый!» Но постепенно некоторые начинают испытывать смутное недовольство, чувствуя, что их обманывают или даже потешаются над ними. Словно людей вдруг лишили привычной пищи и взамен предлагают другую, совершенно им неизвестную, со странным вкусом и, возможно, даже ядовитую.
В течение веков человечество постигало, чем и как оно может питаться: какими животными и птицами, рыбами и земноводными, овощами и фруктами. В течение веков люди учились готовить пищу так, чтобы она привлекала их обоняние и вкус. Подобным же образом мы постепенно учились тому, что может служить нам духовной пищей — какие картины, скульптура и архитектура. Но в действительности лишь немногие столь же хорошо разбираются в том, на что они смотрят, как в том, что они едят. Многие понимают толк в хорошей еде, часто они думают, что совершенно так же понимают, что такое искусство. Для разнообразия или из любопытства можно испробовать острую кухню и получить от этого даже удовольствие, но человек всегда вернется к той пище, к которой привык с детства.
Искусство не сходно с едой, отнюдь! Детей учат, что и как надо есть, но не учат, на что и как надо смотреть. И если им с детства не прививают хороший вкус, то вряд ли они смогут разобраться в изобразительном искусстве в той же степени, в какой они учатся владеть родной речью. Слова и речь дети воспринимают раньше, чем постигают, какими органами надо для этого пользоваться. Позже в школе они овладевают разговорным и литературным языком, читая отрывки из классических произведений, приучаясь ценить их и наслаждаться ими. Подобным образом создается привычка разбираться в том, что нравится и что не нравится. Ею мы руководствуемся в течение всей своей жизни, при знакомстве с явлениями, еще неизвестными и не освященными традицией, при определении того, что является ценным и неценным, что вызывает восхищение и ради чего стоит сделать усилие, чтобы понять его и любоваться им. Так происходит знакомство с литературой. Почему бы нам не попытаться привить детскому уму такую же привычку по отношению к изобразительному искусству?
К сожалению, картины нельзя репродуцировать так, чтобы не утратить при этом достоинств оригинала; по-другому обстоит дело с рукописями, которые можно воспроизводить с помощью печати, не искажая при этом их текста. Репродукция картины лишь относительно передает оригинал, и, очевидно, это, так и останется в дальнейшем, даже при условии его более точного цветового воспроизведения. Размер картины также влияет на качество репродукции, а цвет всегда связан с красочным грунтом. Таким образом, краска не может выглядеть одинаково на деревянной или грифельной доске, на мраморе или на меди и будет меняться в зависимости от характера материала, на который она нанесена, например крупно или мелкозернистый холст.
Поэтому, несмотря на наше детское пристрастие к цветным воспроизведениям, как бы грубы они ни были, наиболее удовлетворительное изображение оригинала дают не они, а черно-белые репродукции, выполненные с фотографий, помогающих сохранить красочные тона и их соотношение.
Желая научить людей смотреть на художественные произведения и стремясь привести примеры, на которых можно воспитать глаз и развить зрительные способности, мы и предпринимаем настоящее издание «Живописцев итальянского Возрождения», снабженное иллюстрациями. Эта книга раскрывает этапы развития итальянской живописи в течение трехсот лет: несколько ранее 1300 года и заканчивается незадолго до 1600 года.
Кратко проследим этапы этого развития. Византийский стиль связан с именем Дуччо ди Буонинсенья — величайшего и совершеннейшего его представителя. Смелая, суровая, пластически-ощутимая, романская манера письма присуща Джотто, самому замечательному художнику своего времени и его лучшим последователям — Андреа Орканья и Нардо ди Чионе.
В начале XV века Мазолино и Мазаччо выступают за освобождение живописи от отсталой, линеарно-изысканной, готической экспрессивности. Мазаччо — этот вновь рожденный Джотто, с еще большим мастерством выражал в своих образах духовное благородство и достоинство человека, чему способствовали его обобщенная форма и владение фигурной композицией. После ранней смерти Мазаччо флорентийская живопись, воспринявшая уроки великих скульпторов Донателло и Гиберти, развивалась такими мастерами, как Фра Анжелико, Филиппе Липпи, Поллайоло, Боттичелли, Леонардо, и достигла расцвета в творениях Микеланджело, Андреа дель Сарто и их ближайших последователей — Понтормо и Бронзино. Ко второй половине XV века флорентийцы не только овладели необходимым мастерством в изображении обнаженного тела, мастерством, которое находилось на таком высоком уровне в Древней Греции, но и превзошли греков в пейзажной живописи, благодаря разрешению проблем светотени и перспективы.
Эти достижения флорентийские мастера передали сначала Венеции, потом ими воспользовались остальные художники Италии, а позже Франции и Испании.
Живописцы Венеции и Умбрии были достаточно одарены, чтобы извлечь пользу из флорентийских уроков. К тому же они преодолели те преграды, которые не смогли перейти верующие и гордые флорентийцы, и дали миру таких художников, как Перуджино и Рафаэль в их сияющем совершенстве, таких, как Джорджоне, Тициан и Тинторетто с их магией цвета, великолепием формы и восхитительным сочетанием пышного, декоративного убранства и романтического пейзажа с изображением человеческой фигуры.
За исключением Паоло Веронезе, который, правда, был веронцем, но жил и умер в Венеции, став таким же венецианцем, как Тициан и Тинторетто, Северная Италия дала только одного действительно большого художника — Андреа Мантенью из Падуи.
Милан, правда, имел Фоппу, Боргоньоне и Луини, последнего Рескин ценил как наиболее популярного религиозного художника Италии. Теперь нам больше нравится энергия, страстность и фантазия феррарцев — Туры, Коссы и Эрколе Роберти. Они поняли цену тому, что позаимствовали у Донателло, фра Филиппе, Андреа Мантеньи и Пьеро делла Франческа.
Южная Италия в течение этих веков не выдвинула ни одного художника, достойного внимания. В Сицилии можно восхищаться только Антонелло да Мессина, да и то потому, что тот поработал сначала с Петрусом Кристусом, а потом с Джованни Беллини — самым плодовитым и изумительным венецианским живописцем XV столетия.
Изобразительный язык меняется в той же степени, как разговорный. Например, нужно специально учиться, чтобы понимать саксонский язык, на котором говорили англосаксы вплоть до 1300 года. Именно в этот период в Италии развивалась живопись Чимабуэ, Дуччо и их непосредственных последователей, и нужно затратить большие усилия, чтобы научиться понимать их. Английский поэт Чосер жил уже в конце XIV века, и мы воспринимаем его значительно легче, так же как Джотто, Симоне Мартини и современных им итальянских мастеров эпохи кватроченто.
Находясь под влиянием различных латинских культур, англосаксы стремились к созданию своей литературной речи, близкой к современной, и эта борьба увенчалась появлением на свет Марлоу, Шекспира, Сиднея, Мильтона, Донна, Герберта, Геррика и целого созвездия менее крупных поэтов.
Подобную роль и в те же века сыграли для итальянского искусства Фра Анжелико, Доменико Венециано, Мазаччо, фра Филиппе, Поллайоло, Мантенья, Джентиле и Джованни Беллини, Боттичелли, Леонардо и Микеланджело.
С Драйденом, Эдисоном и Поопом мы приходим к современному английскому языку. Тициан, Веронезе и Тинторетто сделали то же самое по отношению к современной живописи. Но, к счастью, язык зрительных образов можно постичь с меньшими усилиями, чем литературный. Джотто и Чимабуэ научаешься понимать легче и быстрее, чем англосаксонских или даже средневековых английских поэтов. Поэтому мы не слишком многого потребуем от читателя, ожидая, что он начнет с изучения старого, а не современного итальянского искусства, хотя литературу изучают наоборот.
Я не стремлюсь перечитывать свои книги. Прошли десятилетия, а я не перелистал «Живописцев итальянского Возрождения» от начала до конца. Просматривая теперь этот труд, я старался подойти к нему так, как подошел бы к любой книге на эту же тему. В целом она по-прежнему выполняет свое назначение. В ней не сообщается сведений о личной жизни художников, или об их технике, но раскрывается значение их картин, понимание того, что дарит нам искусство, как вечно новое жизненное явление. Текст книги призван помочь читателю разобраться в том, что говорят ему воспроизведения с картин, вызывающих, несомненно, различные мысли и чувства. Текст должен также способствовать анализу и суммированию тех впечатлений, которые произвели на него образы искусства итальянского Возрождения.
Качество художественного произведения независимо от времени, места и личности художника, тем не менее наше личное отношение к картине или скульптуре всегда связано с этими тремя условиями. Знание их необходимо для понимания памятника искусства, и они определяют степень получаемого от него наслаждения. Мы созданы так, что больше ценим художественное произведение, когда раскрываем не только его внутренние качества, но также знаем, кем оно было создано и что оно нам даст.
Все же не следует тратить слишком много времени на чтение книг о живописи, вместо того чтобы смотреть на нее. Чтение мало поможет в оценке и понимании произведения искусства и не доставит той радости, которую дает лишь непосредственное общение. Вполне достаточно знать, где и когда художник родился, какие у него были учителя, учившие и вдохновлявшие его, а также познакомиться с именем того мастера, который впервые вложил ему в руку перо, карандаш или кисть.
Наименьшую пользу можно извлечь из различных метафизических и психоаналитических писаний. Если уж читать, то главным образом историческую литературу о той эпохе и стране, к которым относится данное художественное произведение.
Мы должны смотреть, смотреть и смотреть до тех пор, пока не вживемся в картину и пока на какое-то мгновение не отождествимся с ней. Если нам не удастся полюбить то, что было любимо на протяжении веков, — бесполезно лгать самим себе. Хороший и простой способ проверить себя — испытать, чувствуем ли мы, что картина примиряет нас с жизнью.
Подлинное произведение искусства помогает нам стать гуманнее и человечнее. В противном случае — оно ложно. Без искусства — изобразительного, словесного, музыкального — наш мир остался бы джунглями.
Бернард Бернсон
«И Татти», Сеттиньяно, Флоренция Январь 1952 г.
Книга I. Венецианские живописцы
I
СРЕДИ ШКОЛ итальянской живописи именно венецианская сильнее и постояннее всего притягивает к себе большинство любителей искусства. В кратком очерке, посвященном ее развитию, мы, возможно, сумеем указать лишь на некоторые ее черты, особенно привлекающие нас. Если же мы приблизимся к пониманию самого духа венецианского искусства и того значения, какое оно приобрело для всей европейской живописи за последние три столетия, нам легче будет объяснить и тот интерес, который вызывают к себе его художники.
Венецианские живописцы, начиная с самых ранних, обладали необычайно тонким вкусом в передаче цвета. Их колорит никогда не кажется надуманным, как у многих флорентийских художников, и не грешит излишней пестротой, как у веронских мастеров.
Когда наш глаз привыкает к потемневшей от времени поверхности картин, к покрывающим их слоям грязи, к попыткам неудачной реставрации, то лучшие венецианские полотна являют нам такую гармонию замысла и воплощения, которая бывает присуща лишь высочайшим творениям подлинных поэтов. Мастерство венецианских живописцев в области цветовых решений — первое, что привлекает внимание большинства исследователей. Их колорит доставляет наслаждение не только глазу, но удивительным образом действует на настроение, подобно музыкальной мелодии, пробуждающей в нас различные мысли и воспоминания.
II
С момента своего возникновения церковь сумела учесть воздействие цвета, так же как и музыки, на чувства молящихся. С самых древних времен она использовала мозаику и живопись для утверждения религиозных догматов и пересказа своих легенд не только потому, что они оказывали влияние на людей, не умевших читать и писать, но также и потому, что искусство внушало известные понятия, принимаемые на веру, и побуждало к набожности и покаянию. Эту задачу, которую ставила перед собой церковь, прекрасно выполняли наряду с тончайшими мозаиками первых времен христианства ранние произведения Джованни Беллини — величайшего венецианского мастера XV столетия. Художники его времени достигли той степени технического совершенства, которая позволяла им беспрепятственно выразить в картинах сильные и глубокие человеческие чувства. Нельзя без волнения и восторга смотреть на ранние вещи Джованни Беллини с изображением мадонн или мертвого Христа, поддерживаемого богоматерью и ангелами. А ведь мастер был не одинок. Его современники Джентиле Беллини, братья Виварини, Кривелли и Чима да Конельяно начинали свой творческий путь вместе с ним, и их картины производят почти такое же впечатление.
Тем не менее церковь, воспитывавшая людей в понимании живописи как средства выражения глубочайших чувств, не могла рассчитывать на то, что и в дальнейшем будет использовать ее лишь в этих целях — то есть как источник религиозных переживаний. Люди начали испытывать потребность в живописи, подобно тому как мы в наши дни испытываем потребность в газетах; и это было естественно, так как до изобретения книгопечатания только живопись могла, помимо разговорной речи, выражать и пропагандировать понятия и идеи.
Именно тогда, когда Беллини и его современники достигли творческой зрелости, художественная культура Возрождения вступила в новую фазу своего развития, создателями которой стали не только ученые и поэты, но и живописцы. К концу XV века широкое распространение получили известные литературные произведения той эпохи. Естественно, что и живопись стремилась выйти из-под опеки церкви, для которой она в течение тысячелетий служила наиболее излюбленным и привычным проводником религиозных идей.
Чтобы уяснить себе эпоху Возрождения именно того периода, когда ее дух особенно ярко воплотился в живописи, полезно сделать краткий обзор культурной жизни Италии, потому что только при высоком уровне ее развития искусство смогло наиболее полно и естественно выразить его.
III
Тысячелетие, прошедшее между началом христианской эры и серединой XIV века, довольно удачно сравнивали с первым пятнадцати- или шестнадцатилетием в жизни человека. Полны ли эти годы горем или радостью, бурями или покоем, они неизбежно связаны со становлением человеческой личности, с ее еще неполностью развитым и самостоятельным отношением к окружающей действительности.
К концу XIV века в Европе случилось то, что случается в жизни всех одаренных людей. Пробудилось чувство индивидуальности. Хотя это в большей или меньшей степени произошло повсеместно, Италия ощутила это пробуждение раньше и гораздо сильнее, чем остальные страны Европы. Первым проявлением его была безграничная и ненасытная любознательность, побуждавшая людей узнавать все, что они могли, об окружающем их мире и человеке. Они ревностно принялись изучать классическую литературу и древние памятники, потому что последние давали им в руки ключ к необъятной сокровищнице забытых познаний. Действительно, их влекло к античности то непреодолимое стремление узнать мир, которое несколько позже привело, например, к изобретению печатного станка и открытию Америки.
ДЖОВАННИ БЕЛЛИНИ. ДОЖ ЛОРЕДАНО, Ок. 1507
Лондон, Национальная галерея
Первым следствием обращения к классической литературе было возникновение культа сильной человеческой личности. Римская литература, естественно ставшая доступной итальянцам много раньше греческой, касалась главным образом политики и войн и уделяла непомерно малое внимание индивидуальному человеку, выдвигая на передний план лишь участников великих исторических событий. Нужно было сделать только один шаг, чтобы, поняв величие того или иного события, поверить, что причастные к нему люди обладали таким же величием. Это убеждение, существовавшее в риторической римской литературе, совпало с новым представлением о человеческой личности в эпоху Ренессанса и привело к тому безграничному восхищению перед могуществом и совершенством человеческого гения, которое стало одним из наиболее существенных предвестников раннего Возрождения. Римская литература способствовала развитию культа гениальной личности, который в свою очередь порождал интерес к тому периоду мировой истории, когда ярко одаренные индивидуальности были отнюдь не исключением.
Страсть к открытиям и неутолимая пытливость этой эпохи привели к изучению античного искусства и литературы, а любовь к греческой и римской классике повлекла за собой подражание ее зданиям и статуям, так же как прозе и поэзии. До сравнительно недавнего времени едва ли была известна древняя живопись, тогда как здания и статуи были доступны всем, кто уделял им серьезное внимание. В результате оказалось, что, в то время как архитектура и скульптура Возрождения находились под непосредственным и сильным влиянием античности, живопись испытала его только в той мере, в какой изучение искусства древнего мира способствовало повышению качества рисунка и выработке хорошего вкуса. Таким образом, страсть к открытиям могла проявить себя в живописи только косвенно, поскольку она помогла художникам постепенно овладеть техническими знаниями, необходимыми в их мастерстве.
Безграничное восхищение человеческой гениальностью и восторг перед тем, что великие имена Древнего Рима, пережив свое время, не померкли в веках, привели к двум последствиям: любви к славе и стремлению оказывать покровительство тем искусствам, которые могли бы увековечить выдающиеся имена и дела их меценатов. Слава Древнего Рима, воплощенная в литературных и художественных образах поэтами и ваятелями, докатилась до людей Возрождения. Она стала для них своего рода религией, а итальянские поэты и писатели, подобно своим далеким предкам, также стремились прославить свою эпоху. Примерно через двадцать или тридцать лет — возраст одного поколения — стали выдвигаться архитекторы и скульпторы.
Страсть к славе, больше чем влечение к красоте, была первым стимулом к тому, чтобы оказывать покровительство искусствам в эпоху Возрождения. Однако, не обладая тонким художественным вкусом, сами меценаты прекрасно понимали, что, чем величественнее будет возведенное для них здание, чем совершеннее созданная статуя, тем большее уважение вызовут у потомков их имена. И они не ошиблись, потому что если изучение их истинных достоинств и недостатков было уделом специалистов или любителей старины, то здания и памятники, возведенные по заказу таких герцогов, как Сиджизмондо Малатеста, Федериго Урбинский или Альфонс Неаполитанский, заставили всех культурных людей поверить в то, что эти властелины и на самом деле были теми выдающимися личностями, за которых они себя выдавали.
Так как живопись в то время еще не могла удовлетворить их честолюбие, то первые поколения ренессансной знати ничего не ожидали от нее и не оказывали ей того покровительства, которое продолжала в своих интересах оказывать ей церковь. Живопись Возрождения начала развиваться, лишь укрепив свои позиции, когда страсть к знанию, власти и славе перестала быть единственной движущей силой эпохи. Тогда, следуя примеру церкви, люди обратились к этому виду искусства, призванному выражать их глубокие и горячие чувства. Любовь к славе, которую я назвал новой религией, по своей внутренней сущности — чисто земное понятие, основанное на человеческих взаимоотношениях. Безудержная любознательность Возрождения была теснейшим образом связана с интересом к реальной жизни и с восприятием конкретных явлений. С той минуты, когда взоры людей перестали обращаться только к небу, они увидели вокруг себя земной мир с его радостями. Собственная личность приковала к себе внимание и показалась неожиданно приятной, тем более что средневековые богословы игнорировали этот вопрос. Возникло новое ощущение ценности жизни, будь она даже простой или бедной, а вместе с ним родилась и новая страсть — к красоте и изяществу.
Уже было сказано, что эпоху Ренессанса в истории современной Европы сравнивали с молодостью человеческой жизни. Это время действительно обладало чисто юношеской любовью к украшениям и развлечениям. Чем больше людей проникалось новым светским духом, тем больше они стремились к пышным зрелищам. В них находили себе выход многие кипящие страсти того времени, в них человек мог выставлять напоказ великолепие своих нарядов, удовлетворять свою любовь к античности, маскируясь под Цезаря или Ганнибала; мог интересоваться обычаями, одеждой и триумфальными шествиями древних римлян, демонстрируя при этом себя, свое богатство и умение организовать эти церемонии; и что важнее всего — эти зрелища выражали его радостное и чувственное восприятие жизни.
Многие видные историки описывали до мельчайших подробностей различные празднества, на которых им довелось присутствовать. Мы уже говорили о том, что ранние предвестники эпохи Возрождения — страсть к знанию и славе — не могли стимулировать развитие живописи. Равным образом любовь к древности не оказала на нее того влияния, как на архитектуру и скульптуру. Правда, честолюбие людей Возрождения способствовало тому, что стены капелл стали украшаться фресками с робкими изображениями заказчиков, тех, кто не мог позволить себе роскошь возвести собственную монументальную постройку. Но это произошло лишь тогда, когда люди, полностью оценив мирскую жизнь и наслаждения, естественно и неизбежно обратились к живописи, ибо стало очевидно, что она создана для того, чтобы изображать различные жизненные явления, передавая при этом глубину человеческих чувств, используя все возможности цвета и света.
IV
Именно Венеция с наибольшей полнотой отразила в своей живописи ренессансное мировоззрение, и этим, возможно, объясняется тот постоянный интерес, который вызывает к себе ее искусство. С нее мы и начнем.
Растущее благосостояние венецианцев более высокое, нежели в остальных частях Италии; их настойчивость, энергия, оптимизм, а также привязанность к житейским радостям и благам способствовали гедонистическому жизневосприятию. Все это было в какой-то мере связано с характером венецианского правления, которое отличалось тем, что предоставляло мало простора для развития личного честолюбия и так регламентировало государственные обязанности своих граждан, что они поглощали почти весь их досуг. Венеция, во всяком случае, была единственным государством в Италии, долгое время наслаждавшимся миром. Все эти условия развили в венецианцах пристрастие к жизненным удобствам, покою и роскоши, привили им утонченные и обходительные манеры, создали им репутацию наиболее культурных людей в Европе. Так как в Венеции предоставлялось мало простора для развития индивидуализма, то гуманисты — ярые его приверженцы, находили в ней слабую поддержку, вследствие чего венецианцы почти не проявляли интереса ни к археологическому прошлому своей страны, ни к отвлеченным научным проблемам, которые так рано и сильно захватили Флоренцию.
Но для Венеции это оказалось благотворным, так как условия ее жизни были словно нарочно созданы для того, чтобы развивать понимание и вкус к прекрасному. Эстетическое чувство развивалось свободно, не встречая на своем пути препятствий. Археология с ее неизменной тягой к прошлому пыталась бы подчинить это чувство своим интересам, но не дала бы полностью раскрыться художественным вкусам венецианцев.
Слишком много археологии и слишком много науки могли бы сделать венецианское искусство академичным, а не таким, каким оно стало, — естественно созревшим плодом новых жизненных интересов и любви к наслаждениям.
Во Флоренции живопись развивалась почти одновременно с другими искусствами, и, может быть, по этой причине флорентийские художники никогда полностью не могли осознать отличие своих задач от задач архитекторов и скульпторов. Даже в то время, когда живопись стала играть большую роль в искусстве Возрождения, флорентийцы все еще придерживались классических идеалов формы и композиции, они были слишком академичны и чужды жизнерадостной и чувственной прелести венецианского искусства.
В венецианских картинах конца XV века уже не ощущается благочестивого или религиозного настроения, как раньше, когда церковь использовала живопись в своих целях, отсутствует в них также и рассудочность, отличающая флорентийскую школу. Правда, подчиняясь традиции, венецианские мастера продолжали писать мадонн и святых, однако в эти религиозные образы они вкладывали чисто светское содержание, изображая в своих картинах красивых, здоровых и спокойных, подобных им самим людей, наслаждавшихся жизнью и не нуждавшихся ни в каких моральных оправданиях. Короче говоря, венецианские картины последней декады XV столетия доставляли человеку чисто эстетическое удовольствие, не навязывая ему религиозных идей и не вызывая почтительного преклонения, как во Флоренции. Отныне, когда реальные, земные чувства получили право на существование и не были обязательно связаны с надеждами на блаженство в загробной жизни, от искусства, естественно, стали ожидать активного участия в выражении чисто человеческих стремлений и все большего отхода от церковных идеалов. Однако во Флоренции живописцы, казалось, не могли или не хотели сделать искусство действительно общедоступным. Да там в этом и не ощущалось такой необходимости, так как Полициано, Пульчи и Лоренцо Медичи были высокоодаренными поэтами, преклонявшимися перед древним миром, и их поэзия вполне отвечала художественным вкусам флорентийцев.
Только в Венеции живопись оставалась тем, чем она была для всей Италии в первые времена своего существования, — общим для всего народа языком. Венецианские художники особенно стремились к усовершенствованию своего мастерства, чтобы современное им поколение могло оценить правдивую наглядность созданных ими картин; а это поколение и в самом деле больше, чем какое-либо другое, существовавшее с начала христианства, было крепко привязано к миру реальной действительности. Здесь снова приходит на ум сравнение Ренессанса с молодостью. Жизненную энергию, которой обладает юность, не нужно сравнивать с мудростью зрелого возраста, и мы не можем ожидать от Ренессанса того проникновения в сущность и смысл вещей и событий, какое присуще современному нам искусству. Но стремление художников Возрождения преобразовать действительность и вмешаться в нее было много сильнее, чем в средние века.
Близко воспринимая идеи нового времени, живопись Возрождения обнаружила необходимость применять и новые светотеневые и пространственные эффекты, не удовлетворяясь только формой и цветом. Действительно, погрешности в рисунке простительны, тогда как ошибки в перспективе, пространстве и цвете совершенно искажают картину для тех, кто, подобно венецианцам, смотрел на произведения живописи ежедневно. Отныне мы замечаем, как венецианские художники стремятся придать живописному пространству реальную глубину, изображаемым предметам — трехмерность; они добиваются расположения различных частей человеческой фигуры в одной плоскости и сопоставляют различные предметы в картине таким образом, чтобы они занимали место в отведенном пространстве один позади другого. Однако в начале XVI века лишь немногим из величайших венецианских художников удавалось создать иллюзию дали путем постепенного уменьшения предметов и тем достичь подобия воздушного пространства.
Таковы немногие специфические проблемы живописи, отличающие ее, например, от скульптуры; среди всех итальянских мастеров их с успехом разрешили только венецианцы и живописцы, примыкавшие к этой школе.
V
Наиболее успешно справились с этими проблемами художники конца XV столетня Джованни и Джентиле Беллини, Чима да Конельяно и Витторе Карпаччо; каждый из них привлекает нас в той мере, в какой он отразил современную ему жизнь. Я уже говорил о том, насколько характерны были для Ренессанса торжественные церемонии, служившие своего рода отдушиной для различных житейских страстей.
Венеция была чрезвычайно властолюбива, и эта черта ощущалась в ней тем сильнее, чем больше интересы ее граждан были посвящены государству. Венецианцы были готовы на все, чтобы умножить его величие, славу и богатство. Чувство благоговейной преданности Республике привело их к мысли превратить свой город в небывалый по красоте памятник, вызывающий огромное восхищение и своим видом дающий больше радости, чем какое-либо произведение искусства, созданное руками человека. Они не довольствовались тем, что сделали свой город самым прекрасным в мире. Они совершали в честь него празднества, устраивая их в духе торжественных церковных обрядов. Организация шествий и зрелищ, происходивших на набережных и на каналах, была непреложной обязанностью венецианского правительства в той же мере, в какой католической церкви вменялось устройство торжественных месс.
Подобные церемонии с дожем и сенаторами во главе, облаченными в пышные одеяния, столь же обязательные для них, как ризы для церковников, происходили среди каналов или сказочной архитектуры Пьяццы и были долгожданным событием в жизни венецианца. Они вызывали в нем гордость за свое государство, удовлетворяли страсть к роскоши, красоте и веселью. Венецианец хотел бы участвовать в них ежедневно, но ввиду редкости подобных развлечений он желал по крайней мере видеть вокруг себя их изображения.
Поэтому в большинстве венецианских картин начала XVI века представлены величественные процессии или события, сходные с ними. Таковы шествия на Пьяцце в произведении Джентиле Беллини «Тело Христово» или празднество на воде в картине Витторе Карпаччо «Св. Урсула покидает свой дом»; часто они представляли пышное, но обычное для Венеции событие — прием или отъезд послов, как в некоторых сценах из «Жизни св. Урсулы» кисти Карпаччо, или просто показывали толпу роскошно одетых людей на Пьяцце, как в «Проповеди св. Марка» Джентиле Беллини. Не только жизнерадостный Карпаччо, но и строгий Чима да Конельяно, когда стал постарше, в каждой библейской и священной легенде видел повод для создания светской картины. Подобные картины были популярны еще и по другой причине. Большие полотна, выполнявшиеся наиболее видными художниками для зала Большого Совета во Дворце дожей, должны были иметь декоративно-зрелищный характер.
Венецианское государство поощряло развитие живописи в своих целях, ибо в образной и наглядной форме она неизменно внушала гражданам мысль о достоинстве и величии. Правда, Венеция была не единственным городом, который использовал искусство из политических соображений. Но если в Сиене фрески Амброджо Лоренцетти напоминали о том, что надо управлять государством согласно божеским законам, то картины в Большом зале Дворца дожей были задуманы так, чтобы демонстрировать венецианцам славную политику их Республики. Сюжетами стенной живописи были: «Дож примиряет папу с императором Барбароссой» — событие, отмечавшее первое вступление Венеции в сферу континентальной политики и характеризовавшее ее неизменную дипломатию — извлекать выгоду, сохраняя нейтралитет между союзниками папы и его противниками. Первое «издание» подобных произведений, если можно так выразиться, относилось к концу XIV — началу XV столетия, в конце его они уже не отвечали новым художественным требованиям, и потому их социальное значение понизилось. Обоим Беллини, Альвизе Виварини и Карпаччо было поручено вновь изобразить подобные сюжеты, и это дало венецианцам возможность любоваться зрелищами, исполненными кистью и красками на больших полотнах.
Любопытно отметить, что в то же самое время Флоренция заказала своим двум величайшим художникам расписать стены зала Совета во Дворце Синьории, предоставив им полную свободу в выборе темы. Микеланджело избрал для себя сюжет «Флорентийские солдаты, застигнутые во время купания пизанцами», Леонардо — «Битву за знамя». Ни один из них не ставил себе целью прославление флорентийской республики; гению художников было предоставлено широкое поле действия: Микеланджело — в изображении обнаженного тела, Леонардо — в передаче движения и жизненности фигур. Оба, создав единственные в своем роде произведения, потеряли в скором времени всякий интерес к ним, и ни один из этих картонов не был закончен. Нам также неизвестно, заслужили ли они одобрение флорентийских властей; картоны послужили образцами для многочисленных учеников, использовавших зал Совета как художественное училище.
VI
Зал Большого Совета в Венеции не был превращен в художественную школу, хотя картины, висевшие в нем, несомненно оказывали свое влияние на развитие мастерства молодых живописцев и производили огромное впечатление на широкую публику. Венецианские сенаторы были далеко не единственными ценителями этих восхитительных полотен с их праздничными шествиями и церемониями. «Общества взаимной помощи», так называемые «Дома братства», или скуолы, не замедлили предложить мастерам, которые работали во Дворце дожей, выполнить для них такие же великолепные картины. Скуола Сан Джордже Маджоре, Скуола святой Урсулы и святого Стефана пригласили Карпаччо; Скуола Сан Джованни и Сан Марко — Джентиле Беллини, остальные — менее значительных художников. Работы, выполненные для этих обществ, имели особое значение, во-первых, потому, что только они могли дать нам представление о картинах Дворца дожей, уничтоженных пожаром в 1576 году, во-вторых, потому, что они являлись переходной ступенью к искусству более позднего времени. Выбор сюжетов, прославляющих Венецию и ее политику, зависел от государственного заказа; Дома братства заказывали художникам картины, прославляющие их святых патронов, дабы деяния последних могли служить примером для верующих. Многие из этих картин изображали пышные празднества. Но, так как они предназначались для внутреннего обихода, то торжественный и парадный стиль был в них значительно смягчен и упрощен. В картине «Тело Христово» Джентиле Беллини изображает не только пышную процессию на Пьяцце, но и элегантных молодых людей, гордо выступающих в роскошных одеждах, праздных иностранцев и неизбежного нищего у портала собора св. Марка. В сцену с «Чудом святого креста» Беллини вводит изящных и стройных гондольеров и даже стоящую в дверях дома служанку, которая смотрит на негра, собирающегося прыгнуть в канал. Художник выполняет детали с присущим ему очарованием и с тем безошибочным чувством цвета и света, которое можно найти лишь у таких голландских художников, как Вермеер Дельфтский и Питер де Хоох.
Бытовые эпизоды в ранних произведениях выдающихся венецианских мастеров должны были действовать на зрителя, как искра на трут. Подобные сюжеты стали пользоваться широкой популярностью и начали играть большую роль в выполняемых для скуол картинах, в которых изображалась повседневная венецианская жизнь. Это особенно относится к Карпаччо. Наряду с празднествами он любил и уютные домашние сцены. В «Сне св. Урсулы» изображен мягко освещенный интерьер, где спит молодая девушка. Нас привлекает простое изображение высокой спальни с нежными световыми рефлексами, играющими на стенах, письменном столе, шкафах и цветочных горшках, поставленных на окна; эту картину никак нельзя назвать скупой иллюстрацией к эпизоду из жизни святой.
Возьмем еще одно произведение из той же серии — «Король мавров прощается с послами». И в этой композиции Карпаччо уделяет главную роль не фигурам, а эффекту солнечного света, льющегося через открытую дверь слева и освещающего бедного трудящегося писца.
Или возьмите картину «Св. Иероним, работающий в своей келье», находящуюся в Скуоле Сан Джорджо Маджоре. В ней изображен не кто иной, как венецианский ученый, окруженный своими книгами, сидящий в удобной и светлой библиотеке с небольшой полочкой на стене, украшенной безделушками. Ни в нем самом, ни в окружающей обстановке нет ничего, свидетельствующего о жизненном самоотречении или ревностном искуплении грехов. Даже на картине «Введение во храм», сюжет которой давал художнику великолепную возможность передать праздничное зрелище, Карпаччо изобразил простую девушку, идущую к первому причастию.
Карпаччо обладал характером жанрового живописца, являясь самым ранним представителем этого стиля в Италии; его жанр отличается от голландского или французского не по своей природе, а по характеру трактовки. Голландский жанр демократичнее и обладает более высокими живописными качествами, но сюжет в нем играет ту же второстепенную роль, что и у Карпаччо, на первый план выступают чисто живописные задачи и эффекты колорита и светотени.
Разобраться в творчестве Карло Кривелли, не пересматривая при этом наших взглядов на итальянскую живопись XV века, так же невозможно, как втиснуть в рамки узких и ограниченных формулировок такое глубокое и разностороннее явление, как искусство в целом. Кривелли стоит в одном ряду с лучшими художниками всех времен и народов и не надоедает даже тогда, когда «великие мастера» становятся скучными. Обладая свободой и духом японского рисунка, он выразил в своих картинах неистовую и глубокую исповедь веры, подобную вере Якопо да Тоди, и ту же сладость тонких и нежных чувств, какую мы встречаем в изображениях мадонны с младенцем, вырезанных из слоновой кости французским резчиком XIV столетия. Мистическая красота религиозных образов Симоне Мартини или мучительное сострадание святых в картинах Джованни Беллини отлиты Кривелли в формы, обладающие такой строгостью линий и блеском металла, какие можно встретить лишь в произведениях старого Сатсумы или в японских лакированных изделиях, столь привлекательных на взгляд и на ощупь.
Кривелли следует рассматривать как обособленное явление, созданное отсталой, почти реакционной средой. Прожив большую часть жизни вдали от главных центров культуры, в провинции, где священники старались призвать свою паству к возврату в мир первобытной цивилизации и детских иллюзий, Кривелли не примкнул к передовым течениям в искусстве, и потому мы не включаем его в число мастеров, рассматриваемых в этой книге.
VII
Как мы уже говорили, в начале эпохи Возрождения живопись почти всецело подчинялась авторитету церкви. Позже живопись стала играть большую роль в украшении зала Дворца дожей, а еще позже — в скуолах. Там художники ставили своей целью изображать богатую аристократическую жизнь Венеции. Когда живопись приобрела светский характер, ею стали украшать свои дома богатые венецианские граждане.
В XVI столетии на живопись не смотрели с тем почтительным уважением, какое оказывают ей теперь. Она была почти так же доступна, как печать в наши дни, и почти так же широко распространена. Когда венецианцы достигли высокого уровня культуры, они поняли, что искусство может доставлять им удовольствие. Зачем же идти для этого во дворец или в скуолы? Иметь картины у себя дома стало для венецианцев такой же потребностью, как для нас слушать музыку не только в концертных залах; это не надуманное сравнение, ибо в жизни венецианца XVI века живопись занимала почти такое же место, какое музыка занимает в нашей. В живописи уже не искали занимательности или богословских поучений. Печатные книги, становившиеся общим достоянием, удовлетворяли обе эти потребности. Венецианец эпохи кватроченто был не очень религиозен, и, следовательно, его не интересовали произведения, призывавшие к покаянию или благочестию. Он предпочитал иметь красивую картину, приводившую его в хорошее настроение, напоминавшую о радостях жизни, о пребывании на лоне природы, о сладостных мечтах юности. Из всех итальянских школ только венецианская могла полностью удовлетворить эти желания, и именно она первая стала отвечать художественным требованиям того времени. (Наиболее существенная разница между античным и современным нам искусством заключается в том, что наше искусство все больше и больше обращается к действительности, тогда как классика разрабатывала более отвлеченные и возвышенные темы.)
ДЖОРДЖОНЕ. СЕЛЬСКИЙ КОНЦЕРТ. Ок. 1508-1510. ФРАГМЕНТ
Париж, Лувр
Картины, предназначавшиеся для частного дома, были, конечно, другого рода, нежели те, что висели в зале Совета или в скуолах, где нужны были большие многофигурные композиции. Для дома требовались картины меньших размеров, из них, естественно, исключались изображения торжественных празднеств, к тому же их парадный характер не всегда соответствовал настроению заказчика, у которого могла возникать мысль о духовом оркестре, постоянно играющем у него в комнате. Содержание небольших станковых картин не нуждалось в словесном переводе, подобно тому как не нуждается в нем соната. К таким именно произведениям относятся некоторые поздние работы Джованни Беллини. Они полны той неуловимой утонченной поэзии, которую можно выразить только в формах и красках.
Но для веселой и беззаботной юности Возрождения эти картины были несколько аскетичны по форме и излишне сдержанны по колориту. Карпаччо написал незначительное число станковых вещей, хотя он и обладал восхитительной фантазией и любил веселые и радостные краски, что как нельзя лучше отвечало стилю станковой венецианской живописи. А Джорджоне, наследник обоих мастеров, сочетал поэтическое чувство Беллини с веселостью и нарядностью Карпаччо. Охваченный надеждами своего поколения больше, чем другие современные ему мастера, Джорджоне писал картины, столь гармонично выразившие дух Высокого Возрождения, столь пробуждающие в нас чувство прекрасного и дарящие нам его, что они рано заслужили всеобщее признание.
Жизнь Джорджоне была недолгой, и очень немногие из его работ уцелели до нашего времени. Но и их достаточно, чтобы дать нам представление о той короткой поре, когда Возрождение полнее всего выразило себя в живописи. Неистовые страсти той эпохи утихли, и на смену им пришло подлинное понимание красоты человеческих чувств. Трудно сказать о Джорджоне больше, чем говорят его картины, в которых искусство Ренессанса, достигшее вершины, нашло свое наиболее совершенное отражение. Произведения Джорджоне, как и работы его последователей, особенно ценятся теми, кто лучше всего чувствует дух той эпохи, а также теми, кто рассматривает итальянское искусство не изолированно, а в тесной связи с его временем. Именно в этом заключается главное значение живописи эпохи Возрождения.
Другие западноевропейские школы позже преуспели в области чистой живописи гораздо больше, чем итальянская. Рассматривая лучшие произведения итальянских мастеров с чисто технической точки зрения, серьезный ученый вряд ли решится поставить их в один ряд с работами великих голландцев, испанцев или даже художников нашего времени. Но мы глубоко чувствуем, что главное значение живописи Ренессанса заключается в том, что она в наиболее чистом виде отразила эпоху новой истории Европы, имевшую нечто общее с молодостью человеческой жизни. Возрождение обладает очарованием тех лет, когда нам кажется, что мы можем выполнить все обещания, данные и себе и другим.
VIII
Джорджоне создал спрос на камерную живопись, который остальные живописцы должны были удовлетворять даже с риском не иметь такого успеха, как он. Старые художники приспосабливались, как умели. Один из них удивительно выразил в своих поздних вещах чисто итальянскую красоту и очарование весенних дней. Имя Винченцо Катены, написавшего «Воин, поклоняющийся младенцу Христу» {Лондон, Национальная галерея), мало у кого способно вызвать предчувствие той необычайной радости, которая ждет его. Перед нами возникает благоухающий летний пейзаж с романтическими фигурами — рыцарь в восточных одеяниях преклоняет колено перед мадонной, а юный паж держит поводья его коня. Я специально говорю об этой картине, потому что она наиболее ярко напоминает стиль Джорджоне не столько по содержанию, мастерству и настроению, сколько по передаче прелестного пейзажа, по колористическим световым эффектам, по выразительности и нежности человеческого чувства. В том же духе создана самим Джорджоне его гениальная «Мадонна да Кастельфранко».
Поэтому молодые художники не могли надеяться на успех, если не умели подражать Джорджоне. Но раньше чем мы сможем оценить все то, на что они были способны, мы должны рассмотреть одну из наиболее замечательных областей искусства Возрождения, а именно — портретную живопись.
IX
Неуклонное стремление к увековечению собственной славы, ставшее настоящей страстью у людей Возрождения, повлекло за собой естественное желание сохранить для потомства память о своей внешности. Вернейшим путем к этому оказался тот, которым пользовались древние римляне, чьи изображения встречались все чаще и чаще, по мере того как раскапывались античные бюсты и медали. Первые поколения ренессансной знати полагались в этом отношении на скульпторов и медальеров. Эти мастера были готовы к выполнению своих задач. Материал, как таковой, придавал долговечность их произведениям — качество, которое с трудом давалось живописи. От этих художников требовалось лишь умение владеть материалом для изображения человеческого лица. Не нужно было ни фона, ни красок. Поэтому именно их искусство первым принесло богатые плоды. Кроме того, скульпторы и медальеры изучали памятники античного искусства и, испытав на себе его сильное и непосредственное влияние, раньше других способствовали выявлению основных художественных тенденций Ренессанса.
Стремление к типизации образа и присущий этим мастерам дух анализа побуждали их к тщательному изучению человеческого лица, которому они сумели придать цельность и выразительность, иными словами, выявить его характер. Вот почему Донателло, создавший непревзойденные по портретной характеристике бюсты, и Пизанелло, отливавший из серебра и бронзы свои поразительные по сходству портретные медали, опередили в этом отношении живописцев, для которых искусство портрета было в то время еще недоступно.
Тем не менее бюст Никколо да Удзано, исполненный Донателло, ясно показывает, что Возрождение не могло долго довольствоваться скульптурными портретами. Бюст раскрашен настолько натуралистично, что производит неприятное впечатление. Современники Донателло, вероятно, воспринимали его так же, потому что произведений подобного рода немного. По-видимому, необходимость в раскрашенной скульптуре сохранялась до тех пор, пока проблема портрета не была разрешена живописью; иными словами, пока живопись, а не скульптура заняла главное место в этой области.
Необходимость расцвечивать портрет ощущалась не только одаренными скульпторами раннего Возрождения, но и таким величайшим медальером, каким был Витторе Пизанелло. Будучи одновременно и художником, он стал одним из первых портретистов. В его время, однако, портретная живопись была еще слишком слабо развита и портрет нисколько не выигрывал в сходстве, даже если он был правдоподобно расцвечен. Два сохранившихся живописных портрета кисти Пизанелло — профильные изображения Джиневры и Лионелло д'Эсте — значительно уступают его лучшим медалям и кажутся скорее их увеличенными копиями, нежели портретами, написанными с натуры.
Только следующее поколение художников с его всепоглощающим интересом к образу и типу человека начало создавать портреты, полные жизни и энергии, подобные тем, какие создавал Донателло в начале века. Но даже и тогда лица редко изображались в фас, и только в начале столетия такие портреты стали обычными. Самый ранний из них — голова кардинала Скарампо кисти Мантеньи — бесспорно заслужил бы неодобрение венецианцев. Портрет, столь ясно выражавший характер кардинала — этого волка в овечьей шкуре, — возмутил бы их потому, что подобный облик был несовместим с их представлениями о государственном или церковном деятеле. В портретах дожей, украшавших собой зал Большого Совета, венецианцы желали видеть изображения людей, не столько выдающихся по своим внутренним качествам, сколько правителей, всецело преданных интересам республики. При этом индивидуальные черты их лиц скрадывались тем, что они все были изображены в профиль.
Интересно отметить, что деловые и практичные венецианцы, с уважением относившиеся к портретам своих правителей кисти Джентиле и Джованни Беллини, не удовлетворялись тем, что эти произведения служили украшением только зала Большого Совета. Церковь тоже должна была участвовать в прославлении венецианского государственного строя, поэтому в больших алтарных образах наряду со святыми нередко встречаются изображения дожей.
Утрата не пощаженных временем портретов дожей из зала Большого Совета была возмещена для нас тем, что они еще раз были воспроизведены в больших алтарных образах.
В начале XVI века, когда картины стали украшать собой не только общественные здания, но и частные дома, их сюжеты изменились и стали отвечать не только интересам церкви, но и личной инициативе заказчика. Однако живопись еще в значительной степени использовалась в государственных и религиозных целях и мало удовлетворяла художественные вкусы широкой публики. Вот почему изображение пейзажа сначала появилось только в картинах, посвященных житию св. Иеронима, удалившегося в пустыню, романтические библейские сюжеты, вроде «Нахождения Моисея» или «Суда Соломона», способствовали возникновению жанра, а портрет, полуприкрытый плащом святого покровителя или донатора, прокрался в религиозную композицию.
Однако, укрепив свои позиции, портрет быстро освободился от всякой опеки и оказался одним из самых привлекательных живописных жанров. Помимо явного удовлетворения заказчика, довольного своим сходством, портрет доставлял чисто зрительное наслаждение и душевную радость, присущие всем картинам Джорджоне. С изображениями, вроде кардинала Скарампо, было бы так же трудно ужиться, как и с его прототипом. Они угнетали бы зрителя, вместо того чтобы его успокаивать и радовать.
Джорджоне и его последователи тоже писали мужские и женские портреты; нежный и мечтательный облик людей, изображенных в легкой одежде, на фоне прелестного пейзажа, освежаемого ветерком, чем-то напоминал нам близких и любимых друзей. Но в этих портретах сходство не являлось главной целью; истинное назначение их было радовать глаз и внушать приятные мысли. Все это помогает нам понять причины популярности портретного искусства Венеции XVI столетия.
X
Последователям Джорджоне оставалось только разрабатывать открытую им золотоносную жилу, чтобы получать щедрое поощрение. Каждый, несомненно, внес свой личный вклад в это направление, но спрос на продукцию Джорджоне, если можно так выразиться, был слишком велик, чтобы позволить его последователям сильно отклоняться в сторону. Что представляла собой картина или для чего она предназначалась — уже не имело значения; трактовка любой темы должна была быть яркой, романтической и радостной. Многие художники все еще замыкались в церковные темы, но даже среди них такие, например, как Лотто или Пальма, как Тициан, Бонифацио Веронезе или Парис Бордоне, всецело примыкали к школе Джорджоне. После смерти последнего Тициан, несмотря на свою цельную и менее утонченную натуру, продолжал работать в том же стиле, почти не уклоняясь от него все последующее десятилетие. Разница между Джорджоне и Тицианом обнаруживается сразу, но их творения роднит общий, присущий им дух.
Однако картины Тициана, написанные им десять лет спустя после смерти своего друга, при сохранении тех же живописных достоинств обладали чем-то большим, как будто их создал другой, более зрелый Джорджоне, глубже проникший в свой душевный мир, с более широким и целостным мировосприятием.
Они полны неизбывной радости жизни и веры в ее ценность и неповторимость. Какое множество шедевров можно предоставить в доказательство этого! Полная мощи, вздымается Богоматерь над покорной ей вселенной в картине Тициана «Вознесение Марии». Кажется, во всем мире нет силы, которая могла бы противостоять ее свободному взлету на небо. Ангелы не поддерживают ее, а воспевают победу человеческого бытия над бренностью, и их ликующая радость действует на нас подобно восторженному взрыву оркестра в финале «Парсифаля» Вагнера.
Взгляните на «Вакханалию», хранящуюся в Мадриде, или на «Вакха и Ариадну» в Лондонской Национальной галерее! Как захлестывает их радость, бьющая через край! Здесь нет никаких коллизий, лишь одно ощущение свободной, сияющей и страстной жизни, почти опьяняющей нас.
Это поистине Дионисийские торжества, триумфы Вакха! Триумфы жизни над призраками мрака и холода, ненавидящими солнце и свет!
В портретах, написанных Тицианом в эти же годы, чувствуется властность и жизненная сила, в них нет и оттенка обыденности или корыстных стремлений. Подумайте о «Молодом человеке с перчаткой» в Лувре, о «Концерте» и о «Молодом англичанине» во Флоренции, о «Семье Пезаро» на алтарной картине «Мадонна дель Пезаро» в церкви Санта Мария деи Фрари в Венеции, — вспомните образы этих людей — и вы поймете, что они подлинные дети Возрождения, не знающие страха и низменных чувств.
XI
Но когда создавались эти произведения, реальные условия жизни уже не соответствовали духу итальянского Возрождения, неповинному в этом конфликте, ибо то был дух молодости. А молодость быстротечна. Как бы ее ни прожить, наступит зрелость и средний возраст. Жизнь повернулась к венецианцам суровой и более трезвой стороной, чем раньше. Люди начали понимать, что страсть к знанию, славе и личному успеху не лежит в основе всех выдвигаемых жизнью проблем. Флоренция и Рим, обнаружив это внезапно, были потрясены. Смотря на скульптуры Микеланджело в Сан-Лоренцо или на его «Страшный суд» в Сикстинской капелле, мы словно до сих пор слышим вопль ужаса тех, кого осенила жестокая истина. Но Венецию, хотя и униженную Камбрейской Лигой, обездоленную турками и пострадавшую от открытия морского пути в Индию, не раздавила пята испанской пехоты, как остальную Италию, и она не настолько лишилась доходов, чтобы не скопить в своих сундуках некоторый запас золота. Жизнь стала более трезвой и суровой, но все же она была достаточна хороша и люди хотели жить, хотя у них стала проявляться склонность и к стоицизму и к серьезным размышлениям. И если дух Возрождения медленно проникал в Венецию, то еще медленнее он покидал ее.
И блестящая венецианская живопись, став, правда, к середине века более вдумчивой и зрелой, продолжала хранить ему верность; хранить даже тогда, когда в остальной Италии искусство встало на службу лицемерной церкви, вступившей в мощный союз с испанской монархией; даже тогда, когда прекрасные итальянские юноши, запечатленные на портретах начала столетия, преобразились, следуя духу времени, в льстивых и элегантных придворных. Только венецианцы, как и все люди той эпохи, стали относиться к себе более серьезно, действовать обдуманнее и принимать жизнь с меньшими надеждами и ликованием. В них возникла потребность в иных, более тихих радостях, в дружбе и привязанности. Жизнь оказалась не вечным праздником, как обещала, и у людей зародилась мысль о том, не скрывается ли за обманчивой и грубой маской официальной религии нечто такое, что могло бы возместить им утрату молодости и утешить в разбитых надеждах.
Эти перемены во взглядах привели к тому, что в Италии в противовес национальной и государственной религии начало оживать личное религиозное чувство, в котором человек черпал силы в борьбе с вечным душевным смятением и жизненными тревогами.
XII
Едва ли следует удивляться, что именно венецианскому художнику, впервые испытавшему новые чувства и переживания, раньше других выпало на долю столкнуться с несчастиями Италии. Путешествуя по всей стране, он сумел увидеть то, чего не замечали люди, успевшие укрыться в Венеции от жизненных невзгод.
Лоренцо Лотто, оставаясь верным себе, не изображает на своих картинах ликования и радости. С его алтарных образов и еще больше с портретов на нас смотрит человек, молящий о сочувствии, нуждающийся в религиозном утешении, в освежающей мысли, в дружбе и поддержке. Но Лотто не смог стать выразителем новых религиозных устремлений, он был слишком чувствителен, разочарован и к тому же родился в период расцвета эпохи Возрождения, а новые веяния могли исходить лишь от того, кто лично не пострадал от политических невзгод Италии, от человека более независимого, от художника, подобного Тициану, который охотнее принял бы покровительство знатного сеньора, нежели поддался бы угнетенному настроению, вызванному общественными событиями, лично его не затронувшими. Или такого живописца, как Тинторетто, созвучного эпохе и не испытавшего душевных разочарований.
XIII
Остаться в стороне от событий, происходящих у ваших ближайших соседей, так же невозможно, как иметь ясное небо над своей головой, когда кругом бушует гроза. Господство Испании не распространилось на Венецию, но нельзя было избежать последствий ее почти полной победы над Европой. Жертвы испанского террора, среди которых были итальянские ученые, преследуемые инквизицией, устремились в Венецию в поисках убежища. Так впервые венецианские художники встретились с гуманистически образованными людьми. К счастью для себя, венецианцы были слишком сильны в своем искусстве, чтобы идти на поводу у науки или поэзии, поэтому содружество ученых с художниками было только полезно для обеих сторон. Это видно на примере дружбы и духовной связи двух величайших из них. В нашу задачу не входит говорить о заслугах Аретино, но Тициан вряд ли достиг бы такой прижизненной славы, если бы основатель современной журналистики Пьетро Аретино не находился рядом с ним и не оказывал ему своей дружеской помощи, то восхваляя его, то давая ему дипломатические советы, с кем надо поддерживать светские отношения.
Победа Испании повлекла за собой еще одно последствие. Она заставила итальянцев и даже венецианцев испытать чувство беспомощности перед организованной силой — чувство, которое раньше было незнакомо эпохе Возрождения с его верой во всемогущество личности. Это оказало определенное влияние и на искусство. В картинах Тициана, написанных в последние тридцать лет его жизни, мы не встречаемся больше со свободным и беззаботным человеком, подобным жаворонку в апрельское утро. Отныне художник изображает людей, стремящихся преобразовать окружающую их действительность и страдающих от своего бессилия. Их облик ясно показывает, что жизнь сделала с ними. Большие полотна «Се человек» и «Венчание тернием» проникнуты этим чувством не меньше, чем «Конный портрет Карла V». В первом из них мы видим скорбную фигуру Христа, униженного и беспомощного в своем сопротивлении. В «Венчании, тернием» тот же богоподобный образ человека, почти потерявшего сознание от боли и муки. В портрете Карла V перед нами не всесильный император, а усталый человек, который должен противостоять сокрушительному удару врага.
Все же Тициану неведомы подлинное разочарование и пессимизм. Многие из его позднейших портретов насыщены большей энергией, нежели написанные им в молодые годы. Он — умудренный опытом светский человек. «Не будь низким льстецом, — говорят его портреты, — но помни, что изысканные манеры и тонкое изящество не повредят тебе». К тому же Тициан был достаточно гибок и умел применяться к условиям, а изменение его стиля всегда шло в сторону овладения реальностью, что вело к естественному росту художественного мастерства.
Подлинное величие Тициана в том, что глубокое познание жизни приводило его к новым вершинам реалистического искусства. Реалистического эффекта в живописи можно достигнуть применением светотени, изображая в картине замкнутое пространство, насыщенное светом и воздухом, сквозь которые видны очертания предметов. Существуют разные способы овладения этим эффектом. Тициан, отказываясь от точных контуров изображения, достигает его смелостью и энергией красочного мазка, гармонией колористической гаммы.
Живописная манера старого Тициана близка даже к приемам некоторых лучших французских мастеров конца XIX века. Это придает художнику еще большую привлекательность, особенно когда он сочетает ее с мастерской передачей объемной формы,_ что так ясно выступает, например, в «Аллегории мудрости», находящейся в библиотеке Сан Марко в Венеции, или в «Пастухе и нимфе» Венского музея. Различие между старым Тицианом, создателем этих картин, и молодым, творцом «Вознесения Мадонны» и «Вакха и Ариадны», такое же, как между Шекспиром, из-под пера которого вылился «Сон в летнюю ночь», и Шекспиром времени «Бури». Внутреннее родство Тициана и Шекспира не случайно. Они оба — создания эпохи Ренессанса, оба прошли сложный творческий путь, и каждый из них наиболее полно и ярко выразил свою эпоху. Здесь неуместно развивать это сравнение дальше, но я так долго задержался на Тициане потому, что с исторической точки зрения он единственный художник, отразивший в своей живописи подлинную сущность Возрождения.
Это делает его более интересным, чем Тинторгтто, художника во многих отношениях более глубокого, тонкого и даже блестящего.
XIV
Творческая зрелость Тинторетто совпала со зрелостью искусства Возрождения, которое к тому времени принесло богатые плоды, привело к развитию идивидуальности и к уверенности, что мир создан для счастья человека. Если раньше на вопрос: «Почему я должен делать то или иное» — ответ гласил: «Потому что так приказывает стоящая над тобой власть», то теперь он звучал иначе: «Потому что это принесет людям пользу». И этим мы полностью обязаны эпохе Возрождения, которая своей конечной целью считала благо человека. Правда, она не довела эту идею до практического осуществления, но мы бесконечно благодарны ей за те результаты, которые сказались в наши дни. Уже за одно это следует считать эпоху Ренессанса выдающейся, даже если бы тогда не существовало никакого искусства. Но идеи, обладающие силой и новизной, почти всегда находят свое выражение в искусстве. В этот период они нашли его в творениях Тинторетто.
ТИЦИАН. КОРОНОВАНИЕ ТЕРНОВЫМ ВЕНЦОМ. Ок. 1570
Мюнхен, Старая пинакотека
XV
Развитие индивидуальности раскрепостило художника от цеховой зависимости. Ему стало ясно, что, освободясь от влияния своей среды, он станет более искусным мастером, коль скоро окажется в обстановке, пригодной для развития своего таланта. Однако это привело к неудачным эклектическим попыткам и препятствовало развитию местных школ живописи.
Искусство, порожденное этими школами, не отвечало вкусам итальянского народа, потому что было оторвано от родной почвы. Оно нравилось узкому кругу потребителей-дилетантов, считавших, что истинное понимание живописи является одной из наследственных привилегий их социального положения.
Однако Венеция мало пострадала от эклектизма, возможно, из-за того, что ярко выраженное чувство индивидуальности пришло туда с запозданием. А к тому времени художники уже были достаточно искушены в своей профессии, чтобы понять, что им нечему учиться у других. Тот единственный венецианец, который отдал дань эклектизму, остался все же великим художником. Несмотря на то, что Себастьяно дель Пьомбо подпал под влияние Микеланджело, бывшее в большинстве случаев вредным, его кисть не утратила своего владения цветом и тоном, ибо он учился у Джованни Беллини, Чимы да Конельяно и Джорджоне.
XVI
Тинторетто вообще не выезжал из Венеции, но он жаждал чего-то, чему Тициан не мог его научить. Город, в котором он родился, был уже не тот, где провел свои молодые годы Тициан, и юношество Тинторетто протекало в период, когда Испания стала фактической хозяйкой Италии.
Постоянное ощущение почти непреодолимого гнета придало страшную притягательную силу творениям Микеланджело. Они проникнуты демоническим чувством. Тинторетто испытал это полностью, потому что он был близок по духу великому художнику Возрождения. Монументальная скульптура Микеланджело была для венецианского мастера чем-то неизмеримо большим, чем образец, по которому можно было учиться лепке обнаженного тела, к чему стремились многие последователи Микеланджело. Тинторетто непосредственно ощущал огромное этическое воздействие микеланджеловского искусства. Его молодость совпала с усилением церковной пропаганды, связанной с наступившей почти во всей Италии католической реакцией. Охваченные эмоциональным порывом, люди обратились не только к религии, но и к поэзии, которая расцвела в Венеции, ставшей прибежищем для многих культурных людей XVI века и значительно развившей к тому времени печатное дело.
Тинторетто рос под влиянием поэзии и религии с первого дня своего рождения. Независимо от того, служили ли сюжетами его картин классическая фабула или библейский эпизод, он трактовал их крайне субъективно. Чувство силы присущее его замыслам, проявлялось не в изображении колоссальных обнаженных фигур, а в их огромной внутренней энергии и еще больше в эффектах света, которыми он пользовался так, будто его рукам дана была власть прояснить или затемнять небеса, покоряя их своей воле. Можно с уверенностью сказать, что если бы Тинторетто не превосходил Тициана в передаче светотени и воздушной перспективы, он не достиг бы подобных эффектов. Это позволило ему придавать такую жизненность различным евангельским легендам, ибо впечатление реальности не может быть достигнуто в живописи без умелой передачи света и воздуха; в противном случае действительность выглядела бы ужасной, как выглядит она у многих современных художников, которые пытаются писать людей в их повседневном окружении и будничной одежде. Не «реализм» делает эти картины уродливыми, но отсутствие той мягкости, посредством которой вещам придается жизнь, и той гармонии света, которой подчиняются все тона.
Без великого мастерства светотени Тинторетто не смог бы выразить в картинах поэзию своей души, которую нельзя пересказать словами. Его поэтические образы, написанные для Скуолы ди Сан Рокко, почти полностью созданы светом и цветом. Что другое, если не свет, преображает уединенные обители Марии Магдалины и Марии Египетской в страну мечты, о которой грезят вдохновенные поэты? Что, если не цвет и не свет, придает магическое очарование картине «Христос перед Пилатом» с ее вечерним мраком, холодом и одинокой фигурой в белом хитоне, скорбно стоящей перед судьей? Что все-таки, если не свет, цвет и звездное шествие херувимов, насыщает реализм «Благовещения» такой глубокой, проникающей в душу музыкальностью?
Поэзия и религия были близки Тинторетто не в силу греко-римских традиций или предписаний церкви, а потому, что они обе были лично ему нужны, как любому другому. Они заставляли забывать корыстную жестокость жизни, поддерживали в труде и утешали в разочаровании. Религия была ответом на вечно живущую в человеческом сердце потребность любви и веры. Библия перестала быть только свидетельством, подтверждающим христианские догматы; она стала для людей сборником символических притч и рассказов всех времен, в которых говорилось о лучшей и более достойной жизни. Зачем же снова изображать Христа, апостолов, патриархов и пророков только как людей, живших под владычеством римлян, одетых в римские тоги и гуляющих на фоне пейзажей, заимствованных с римских барельефов? Все эти религиозные персонажи стали отныне олицетворением жизненных принципов и идеалов.
Тинторетто так непосредственно ощущал это, что не мог думать о них иначе, как о людях, подобных себе, живущих в тех же условиях, как он и его современники. В самом деле, чем проще были внешность, одежда и окружение святых и отцов церкви, тем лучше понимались и воспринимались олицетворенные ими принципы и идеи. Поэтому Тинторетто, не колеблясь, превращал каждую библейскую легенду в картину, которая выглядела так> реально, как если бы это был эпизод, заимствованный из жизни, происходивший у него на глазах и проникнутый к тому же личным настроением.
Несмотря на колоссальные размеры фигур, Тинторетто в построении форм женского тела все же не избежал влияния маньеризма с его преувеличенно элегантными и изысканными линиями; последний возник как своего рода протест против излишне выражаемой физической силы.
Впечатление, производимое картинами Тинторетто на его современников и на нас, необычайно в силу их поразительного размаха, мощи и реализма. В картинах «Нахождение тела св. Марка» (Милан, Брера) и «Похищение тела св. Марка из Александрии» (Венеция, Академия) так блестяще разрешены проблемы света, перспективы и воздушного пространства, так легко и энергично передано движение фигур, хотя и превышающих нормальные размеры, что глаз без насилия воспринимает подобную масштабность построения, и вам кажется, что вы тоже участник этой грандиозной сцены, и вам передается ощущение мощи действующих лиц.
XVII
Великие мастера, стремящиеся к реалистической передаче окружающего мира, поняли, сколь необходимо для них овладеть художественными методами для построения трехмерного воздушного пространства в живописи. Они поняли, что кроме главных сцен можно изображать и дополнительные, усиливающие реалистический эффект картины и придающие ей больше правдоподобия. Это введение второстепенных эпизодов является одной из основных и характерных черт современного искусства, отличающих его от древнего. Это то, что делает драму елизаветинской эпохи столь непохожей на греческую. Это то, что отличает работы Дуччо и Джотто от античной пластики. Живопись начинает интересоваться мелкими жизненными эпизодами, что сообщает ей сходство с романом и сближает с современной ей действительностью. Подобная трактовка придает картине более живой характер, а свет и воздух спасают ее от статичности и безжизненности.
Нельзя подобрать лучшей иллюстрации ко всему сказанному, чем огромное многофигурное полотно Тинторетто — «Распятие», находящееся в Скуоле ди Сан Рокко. На обширной сцене, в центре, у подножия креста, — группа учеников, охваченных скорбью и отчаянием, тогда как остальные люди, изображенные на картине, смотрят на эту казнь как на привычное и скучное зрелище. Некоторые помогают ее выполнению, другие равнодушно за ней наблюдают, сохраняя при этом невозмутимость уличных сапожников, напевающих за работой. Художник и не стремится сделать их участниками своих переживаний. Тинторетто передал эту сцену столь же бесстрастно, как описал бы ее кто-нибудь из современных великих писателей, например Лев Толстой, раскрыв в ней тем не менее высокий нравственный смысл жертвы.
Пронизанная светотенью, эта огромная картина подобна безграничному световому и воздушному океану, в бездонной пучине которого разыгрывается драматическое событие. Без света и воздуха она была бы безжизненной и пустой, несмотря на оживленную толпу, и казалась бы дном высохшего моря.
XVIII
Одновременно с успешными поисками в области светотеневых живописных решений развивалось и искусство портрета. Тициан был слишком завален заказами со стороны высоких титулованных иностранцев, чтобы одному удовлетворить огромный спрос на этот жанр, существовавший в Венеции. Тинторетто тоже писал выдержанные в тициановском духе аристократические портреты, выполняя их к тому же с поражающей быстротой. Напоминаю еще раз, что от венецианского портрета требовалось не только простое сходство с оригиналом. Он должен был доставлять наслаждение глазу, действовать на чувства зрителя, и Тинторетто полностью удовлетворил эти ожидания. Хотя его портреты не так субъективны, как у Лотто, не так психологичны, как у Тициана, все же они всегда показывают нам человека с его лучшей стороны, полного здоровья, сил и решимости. Мы смотрим на них с чисто чувственным наслаждением, какое испытываем при взгляде на сияющие драгоценные камни. Одновременно они заставляют нас с удивлением вспомнить о государстве, которое настолько бережно относилось к душевным силам и здоровью человеческого рода, что изображения старых, но еще цветущих людей на портретах Тинторетто не являлись редкостью для венецианской живописи.
После смерти Тинторетто венецианское искусство стало медленно клониться к закату. Однако история его упадка не обладает той же привлекательностью, как история его возникновения и развития. Нам стоит познакомиться все же с творчеством художников — не венецианцев, но примыкающих по ряду причин к венецианской школе.
XIX
Ряд провинций подчинился Венеции не только в силу ее господства над ними. Общностью языка и образом правления они составляли единое и независимое целое на итальянском полуострове. Подобно тому как живопись Возрождения вскормлена почвой всей Италии, отдельные ее провинции были вскормлены Венецией, особенно в области живописи, музыки и литературы. Но все же надо отметить различие между такими городами, как Верона, имевшую самостоятельную художественную школу, со школами Виченцы и Брешии, живописцы которых были обязаны как Венеции, так и Вероне. То общее, что связывает между собой Романино, Моретто да Брешия и Монтанью из Виченцы, довольно сильного мастера, с эклектиками позднего Ренессанса, делает произведения первых, за некоторыми исключениями, менее привлекательными, чем работы венецианских художников. Они и сами чувствовали свое несовершенство: у них отсутствовали непосредственность, живость и естественность. Нередко их работы превращались в неловкие копии с картин венецианских и веронских живописцев, где колорит господствовал над формой, греша безвкусицей. Но были школы, не знакомые даже с традициями Виченцы или Брешии и где, если вы захотели учиться живописи, вы становились учеником того, кто сам был лишь учеником одного из последователей Джованни Беллини.
ВЕРОНЕЗЕ. ПИР В ДОМЕ ЛЕВИЯ. 1573. ФРАГМЕНТ
Венеция, Академия
Это особенно относится к городам, расположенным между Юрскими Альпами и морем, на длинной полосе равнины, известной под названием Фриули. Из Фриули вышел один талантливый, обладающий большой изобразительной силой художник — Джованни Антонио Порденоне, но ни его талант, ни сила, ни даже обучение в Венеции не могли стереть с его произведений отпечатка провинциальности, который он приобрел у своего первого местного учителя.
Но такие художники никогда не пользовались успехом в столице. Когда силы Венеции начали истощаться, как у Рима в эпоху упадка, она начала привлекать к себе чужих мастеров, например Паоло Веронезе, искусство которого хотя и созрело самостоятельно, но все же очень походило на венецианское, или приглашала живописцев с совершенно новым направлением, вроде Бассано.
XX
Паоло Веронезе был потомком четырех или пяти художественных поколений Вероны, из которых первые два или три обращались к народным массам на таком доступном им языке, каким обладали не многие живописцы. Поэтому в эпоху раннего Возрождения не было ни одного из североитальянских художников, тем более флорентийских мастеров, которых не коснулось бы влияние веронцев. Но непосредственные предшественники Паоло уже разучились говорить на языке, понятном пароду. Они также игнорировали те передовые и культурные круги, которые высоко оценили и поняли творчество Тициана и Тинторетто.
Верона, находившаяся под протекторатом Венеции, не отличалась прогрессивным образом мысли, и ее жизнь, простая, здоровая и беспечная, не была затронута приближающимися политическими потрясениями. Но если город медленно поддавался подлинно культурным воздействиям, то мода проникала в него быстро. Испанские фасоны одежды и испанский придворный этикет скоро дошли и до Вероны, и мы находим их в картинах Паоло Веронезе в прекрасном сочетании с цветущим видом, беззаботностью и простотой нравов ее обитателей. Эти отлично уживающиеся между собой противоречия составляли главное очарование живописи Веронезе, пленяющей нас и по сей день, так же как она, очевидно, пленяла современных ему венецианцев; последние, достаточно искушенные в искусстве, полностью оценили в его творчестве эту счастливую совокупность церемонного этикета и роскоши с чисто детской непосредственностью чувств. Возможно, что среди его самых сильных почитателей были те люди, которые особенно ценили изысканность Тициана и поэтичность Тинторетто. Но любопытно отметить, что главными заказчиками Паоло были монастыри. Искренняя жизнерадостность и светскость, то есть те качества, которые мы находим в изображениях его пиршеств, казалось, пришлись особенно по вкусу тем, кто утолял свой голод и жажду в совершенно другой обстановке. Это не только краткий комментарий к истории эпохи, но и доказательство того, как глубоко проник дух Возрождения, если даже религиозные ордена считали для себя возможным пренебрегать правилами аскетизма и догмами благочестия.
XXI
Венецианская живопись не отразила бы целиком идеалов Высокого Возрождения, если бы прошла мимо изображения сельской местности. Горожане испытывали естественную привязанность к деревне, но в средние века, когда жизнь человека подвергалась опасности, коль скоро он отваживался выйти за пределы городских ворот, эта любовь не могла проявиться открыто. Пришлось ждать до тех пор, пока городские окрестности не освободились от бродяг и разбойников. Это стало возможным лишь тогда, когда деревня постепенно подчинилась власти соседних городов, уже затронутых цивилизацией. В эпоху Возрождения любовь к природе и сельским развлечениям была в значительной степени подсказана латинскими авторами. Итальянец мгновенно откликался на назидания и советы великих римлян, особенно в тех случаях, когда они совпадали с его естественными склонностями и обычаями. Для состоятельных людей стало хорошим тоном проводить часть года на своей загородной вилле. Классические поэты были их друзьями в уединении сельской жизни, помогая оценить простоту, почувствовать ее прелесть. Многие хотели иметь изображение своих вилл и садов в городском доме. Может быть, в ответ на такое еще не ясно осознанное желание Пальма начал писать «Святые собеседования» — группы святых под тенистыми деревьями, на фоне живописных пейзажей. Его ученик Бонифацио Веронезе продолжал в том же духе, постепенно отходя, однако, от традиционного изображения мадонны и святых и называя свои картины «Пир у богача» или «Нахождение Моисея»; он писал разнообразные сцены светской жизни на лоне природы: концерты на террасе загородной виллы, охоты и пикники в лесу.
Ученик Бонифацио Якопо Бассано также любил изображать сельские сцены. Его картины предназначались для обитателей маленького торгового городка Бассано, откуда и произошло его имя и где внутри городских стен вы и сейчас сможете увидеть мужчин и женщин в грубой деревенской одежде, торгующих своими пестрыми изделиями, где сразу же за городскими стенами раскинулись поля и работают крестьяне.
Поддавшийся желанию, хотя и не вполне осознанному, придать бытовой характер библейским легендам, Бассано почти в каждую написанную им религиозную или мифологическую композицию вводил эпизоды из уличной жизни своего городка и близлежащих деревень. Даже Орфей в его исполнении превратился в деревенского парня, развлекающего домашних птиц игрой на скрипке.
Картины Бассано и его двух сыновей и последователей имели большой успех в Венеции и других местах, потому что они бесхитростно изображали простое деревенское существование, прелесть которого возрастала по мере того, как времяпрепровождение венецианских аристократов становилось все более светским. Но изображение сельской жизни было далеко не единственным очарованием этих картин. Люди научились понимать язык живописи, и потому им стали нравиться красивые вещи, которые она изображала. Искусство Бассано не преследовало никакой определенной цели, но доставляло удовольствие мастерством светотеневых эффектов и своим красочным богатством.
В третьей четверти XVI века появились особенные ценители подобных картин, и успех Бассано потому был очень велик. Венецианцы издавна отличались пристрастием к красивым вещам, вызывавшим в них чисто чувственное наслаждение. Они любили искусство, в котором почти отсутствовало глубокое интеллектуальное содержание, и первое место отводилось колориту, сияющему как самоцветные камни или опалы. И венецианское стекло служило той же цели, так как в нем особенно ценились форма и цвет. Когда живопись освободилась из-под церковной опеки и на нее перестали возлагать чисто декоративные функции, люди стали наслаждаться ею в той же мере, в какой наслаждались лицезрением драгоценных камней и венецианского стекла. Этому всецело отвечали работы Бассано. Его картины иногда так ослепительны и свежи по своему прозрачному, холодноватому колориту, что их можно сравнить с лучшими образцами венецианского стекла, а отдельные детали, ярко освещенные и насыщенные цветом, сияют, как рубины и изумруды.
После всего сказанного ясно, что Бассано превосходил и Тициана и Тинторетто в передаче света, воздушной среды и изображении реальной жизни. Если бы это было не так, то ни тогда, ни теперь работы Бассано не ценились бы столь высоко. Жизнь, представленная в них, более скромна, нежели в картинах Тинторетто, и если бы не его воздушные и светотеневые эффекты, он мог бы сравниться с маленькими голландцами. Следует даже добавить, что Бассано был бы превзойден Тенирсом, если бы не обладал своим изумительным и драгоценным колоритом.
Бассано писал пейзажи и сельскую жизнь, так как его живописное мастерство было создано для этой цели. Он действительно был первым художником-пейзажистом в современном смысле этого слова. Тициан, Тинторетто, Джорджоне и даже Беллини и Чима да Конельяно писали красивые ландшафты, но они редко были сделаны с натуры. Это были декоративные фоны или гармоничные аккомпанементы к религиозным или светским сценам. Они всегда были грандиозны и эффектны, Бассано не нуждался в таких декорациях для своих простонародных библейских сказок и пасторальных пейзажей. Деревня сама по себе оказалась подходящим и единственно возможным фоном. Поэтому Бассано был первым итальянцем, который старался писать деревню такой, как она есть, не делая ее искусственной декорацией.
XXII
Мы ценим Бассано за то, что он обладает жизненной правдивостью и непосредственностью. Он первый проложил путь, приведший в конце концов к Веласкесу. Действительно, одна из важных черт венецианской школы заключается в том, что она больше, чем какая-либо другая, повлияла на формирование этого великого испанского художника. Веласкес в какой-то мере начал как последователь Бассано, но стиль его определился только после многолетнего изучения работ кисти Веронезе, Тинторетто и Тициана.
XXIII
Бассано не обслуживал своей живописью какой-нибудь определенный класс потребителей и нравился коллекционерам картин чисто случайно. Художники, пришедшие на смену ему и Тинторетто, не были, подобно Тициану и Тинторетто, связаны только с культурной верхушкой Венеции, они отличались большей целеустремленностью, нежели Веронезе, и отвечали вкусам широких народных масс, понимавших и ценивших их искусство.
Пальма-младший и сын Тинторетто Доменико начали успешно работать в качестве последователей Тинторетто. Но, поняв превосходство своих учителей и не имея возможности превзойти их, они стали разрабатывать темы наиболее популярных картин Тинторетто и Тициана. Таким образом, их слабые работы лишь внешне напоминали произведения великих мастеров. Падованино, Либери и Пьетро делла Веккьо еще более откровенно занимались подражанием, и их картины в отдаленных от Венеции местах сходили за работы Тициана, Веронезе и Джорджоне.
Все же эти, пусть не оригинальные, вещи не лишены привлекательности. Бывают любимые мелодии, которые приятны нам даже тогда, когда они повторяются в пьесах третьестепенных композиторов.
XXIV
Но венецианской живописи не суждено было умереть в безвестности. В XVIII веке, до окончательного падения Республики, Венеция дала трех или четырех художников, которые по праву занимают место наряду с лучшими мастерами этого столетия. Государственный строй Венеции, казалось, был незыблем. Она была еще самым великолепным и красивым городом в мире и по-прежнему торжественно праздновала все выдающиеся события своей жизни. Если эти торжества были пусты и бессодержательны, то не более, чем в остальной Европе.
Восемнадцатый век был силен своей самоуверенностью и самодовольством. Казалось, исчезли разногласия, отсутствовали проблемы, которые человеческий ум, свободный от суеверий, не мог бы разрешить. Все были настроены празднично; веселье и легкомыслие этого века занимали такое же место, как политика и культура. Не существовало важных или крупных дел. Парикмахеров и портных встречали на утреннем приеме знатной дамы с таким же уважением, как философов и государственных деятелей. Люди развлекались и были довольны жизнью. Любовь к картинам не угасала в Венеции, и Пьетро Лонги изображал домашнее и светское времяпрепровождение венецианцев. В его маленьких жанровых картинах мы слышим сплетни парикмахера, облаченного в парик и причесывающего даму, болтовню служанки, звуки скрипки, аккомпанирующей уроку танцев. Нигде не слышно ни единой трагической ноты. Все наряжаются, танцуют, отвешивают поклоны, пьют кофе, как будто в мире нет ничего более важного.
Изысканно-любезный тон, светские манеры и яркая жизнерадостность отличают картины Лонги от работ Хогарта, одновременно и грубоватых и беспокойных.
XXV
Но даже в своем упадке Венеция осталась не менее прекрасной. Действительно, здание, так часто встречающееся в венецианских картинах XVIII столетия и остающееся поэтому надолго у нас в памяти, — церковь Сайта Мария делла Салюте — было построено только в XVII веке.
Именно ее изображение любили венецианцы, и каждый чужеземец хотел увести его с собой на память. Каналетто писал Венецию с таким мастерством и чувством воздушной перспективы, передавая легкий, окутывающий ее туман, что его живописные эффекты делают виды церкви делла Салюте, Большой канал и Пьяцетту более похожими на настоящую Венецию, чем все картины, существовавшие до него.
Следом за Капалетто шел Гварди, писавший небольшие городские пейзажи, обладавший даром удивительного живописного видения и схватывающий такие мгновенные цветовые эффекты, что своим творчеством он предвосхитил и романтиков и импрессионистов XIX столетен.
XXVI
Все же, как ни прелестны произведения Лонги, Каналетто и Гварди, как ни проникнуты они духом своего века, у них не было той мощи, которая необходима для создания собственного стиля, выражающего мировоззрение художника. Этим качеством в полной мере обладал лишь их современник — Джованни БаттистаТьеполо.
Огромный размах и темперамент, высокое живописное мастерство, художественный вкус ставят Тьеполо почти на один уровень с великими венецианцами XVI века, которым он был многим обязан, особенно Веронезе. Однако большие многофигурные композиции Тьеполо отличаются от произведений его предшественников не по мастерству, а по отсутствию той искренности и простоты, которые всегда были присущи Веронезе, какое бы значительное событие тот ни изображал.
Люди Тьеполо высокомерны, как будто считают, что для сохранения своего достоинства они должны быть всегда представительны и величественны. Они настолько чувствуют свое превосходство, что с ними неприятно находиться вместе, хотя они держатся с таким тактом и так великолепно одеты, что смотреть на них большое удовольствие.
Мировосприятие Тьеполо совершенно иное, чем у художников XVI века, потому что окружавший его мир не был уже прежним. Веронезе воспринимал жизнь, едва затронутую нравами испанского двора, а Тьеполо жил среди людей, чьи души были отравлены безграничным высокомерием испанского абсолютизма.
Но благодаря силе и темпераменту своей живописи Тьеполо смог дать новый толчок искусству. Иногда этого художника воспринимаешь не как последнего из старых мастеров, а как первого из новых. Работы, созданные им в Испании, в значительной степени способствовали возрождению ее живописи во времена Гойи, а Гойя в свою очередь имел большое влияние на многих лучших французских художников последнего времени.
XXVII
Таким образом, венецианская живопись, раньше чем замереть навсегда, дала еще одну яркую вспышку. В самом деле, едва ли не главной прелестью венецианских мастеров является то присущее им чувство современности, которое роднит их с нами, непосредственно связывая с искусством сегодняшнего дня.
Мы видели, как в двух разных случаях венецианские художники оказали влияние на испанских мастеров, а те в свою очередь — на современную нам живопись. Было бы также нетрудно, хотя это не входит в мою задачу, показать, чем обязаны венецианцам художественные школы XVII и XVIII веков: фламандская во главе с Рубенсом и английская — с Рейнольдсом.
Моей целью было обратить внимание читателя на некоторые привлекательные стороны венецианской живописи и главным образом подчеркнуть ее тесную связь с мыслями и чувствами эпохи Возрождения. В этом, может быть, и заключается ее основной интерес, потому что, выразив с таким совершенством дух Возрождения, она помогла нам глубже понять тот период, который обладает очарованием юности и потому нам особенно дорог.
В какой-то мере эта эпоха нам близка и понятна. Мы тоже охвачены безграничной любознательностью. Мы тоже испытываем опьяняющее нас чувство человеческой гениальности. Мы тоже верим в великое будущее человечества, и ничто не может сдержать радость, охватывающую нас на путях к великим открытиям, или поколебать нашу веру в торжество жизни.
Книга II. Флорентийские живописцы
I
ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ от Джотто до Микеланджело включает в себе такие имена, как Орканья, Мазаччо, фра Филиппе, Поллайоло, Верроккьо, Леонардо и Боттичелли. Поставьте их рядом с величайшими представителями венецианского искусства: братьями Виварини, семьей Беллини, Джорджоне, Тицианом, Тинторетто. Разница поражающая! Значение венецианского искусства исчерпывается его живописью. Не так с флорентийцами. Забудьте, что они были великими живописцами — они, кроме того, великие скульпторы; забудьте, что они скульпторы — они остаются еще архитекторами, поэтами, людьми науки. Все возможные формы художественного выражения были ими использованы, и ни об одной из них они не могли бы сказать: «Вот эта полностью исчерпывает мою сущность». Живопись являлась только одним и не всегда самым адекватным выражением их личности, и мы иногда ощущаем, что художник значительнее своего произведения и его индивидуальность много выше и интереснее, чем его творчество.
Личность художника независима от величайших произведений искусства, которые он творит по своему внутреннему велению; он созидает их, но не подчиняет им целиком свою индивидуальность.
Поэтому было бы нелепо рассматривать творчество отдельного флорентийского живописца только как звено в цепи неизбежной эволюции. Историю флорентийского искусства нельзя изучать в его медленном и постепенном развитии, как венецианского. Творцами его были великие люди, вложившие в это искусство свой гениальный интеллект и никогда не удовлетворявшиеся отдельными удачами. Они неустанно стремились к тому, чтобы выразить свое мировоззрение в таких художественных образах и формах, которые были .бы доступны пониманию окружающих.
В силу этого каждый гениальный художник принужден был, по существу, создавать свои собственные формы в искусстве. А флорентийская живопись творилась руками великих людей, и поэтому, берясь за решение важнейших проблем, она достигала в них непревзойденных результатов.
Задача настоящего очерка — показать, к чему они стремились и чего достигли.
II
Первой яркой индивидуальностью во флорентийском искусстве был Джотто — не исключение среди великих флорентийцев, занимавшихся разными видами искусства. Но, знаменитый архитектор и скульптор, остроумный собеседник и к тому же поэт, Джотто отличался от большинства своих тосканских последователей острым пониманием того, что для живописи, как для особого вида искусства, наиболее важно.
Прежде чем мы оценим подлинное значение Джотто, мы должны договориться о том, что в изобразительном искусстве (прикладное имеет свои особые законы) является существенным и основным; ибо мы должны сразу сказать, что проблемы фигурной живописи развивал не только Джотто — она составляла важнейший интерес для всей флорентийской живописи в целом.
Психологически доказано, что одним зрением невозможно воспринять объемность предмета. В детстве, задолго до того как мы начинаем это осознавать, нам помогает осязание, которое посредством наших мышечных ощущений позволяет чувствовать объем предметов и трехмерность пространства. В эти же годы осязание третьего измерения является для ребенка своего рода пробой на реальность той или другой вещи, но он еще неясно понимает тесную связь между осязанием и объемом. Позже мы забываем об этом, хотя каждый раз, как наши глаза начинают воспринимать окружающее, мы фактически наделяем осязательными функциями сетчатку нашего глаза.
Живопись — это искусство, фактически располагающее только двумя измерениями, поэтому живописец для полноты воспроизведения художественной реальности сознательно стремится воссоздать третье измерение. И он может осуществить эту задачу только так, как делаем это мы: заставить сетчатку нашего глаза выполнять чисто осязательные функции. Первый долг художника — возбудить во мне чувство осязания, потому что у меня должна возникать иллюзия, что я могу ощупать изображенную фигуру, что в моих ладонях и пальцах появятся ощущения реальных объемов, соответствующих формам фигуры, появятся задолго до того, как я приму ее за действительно реальную и позволю этому впечатлению продлиться некоторое время.
Отсюда следует, что самое существенное в искусстве живописи (в отличие от искусства расцвечивания, я прошу читателя принять это во внимание) — способность возбуждать определенным образом наше чувство осязания, чтобы картина в целом могла с такой же интенсивностью взывать к нашему осязательному воображению, как и отдельный предмет, изображенный на ней.
И вот это умение пробуждать в зрителе осязательные чувства и понимание того, что является самым важным и существенным в живописи, были в огромной мере присущи великому Джотто. В этом его вечная заслуга перед искусством, и именно это сделало его творчество источником высочайшего наслаждения, по крайней мере на то время, пока сохраняются следы его рук на старых иконах или на разрушающихся стенах церквей.
Джотто — увлекательный рассказчик, великолепный музыкант и поэт — только до известной степени превосходил своими талантами других живописцев, тех бесчисленных мастеров, которые жили и работали в разных частях Европы в течение тысячелетия, истекшего со времени падения античности до рождения в лице Джотто новой живописи. Но ни один из этих мастеров не обладал умением возбуждать осязательное воображение, и поэтому ни один из них не смог написать человеческую фигуру в ее реальном художественном воплощении. Их работы представляют интерес как тщательно выписанные и красноречиво выраженные символы, что-то обозначающие, но теряющие свою художественную ценность в тот момент, когда мы разгадываем их смысл.
Живопись Джотто, напротив, обладала не только властью над нашим осязательным воображением, какой обладали отдельные человеческие фигуры на его картинах или фресках, но и чем-то неизмеримо большим. Его искусство в целом внушало своим современникам более острое чувство реальности и жизненного правдоподобия, нежели отдельные изображенные им предметы. Нам же, чье знание анатомии глубже, чем у Джотто, нам, желающим видеть подвижность, гибкость и ловкость в изображенной человеческой фигуре, нам, полностью лишенным наивности джоттовских современников, его образы уже не кажутся более реальными, чем сама действительность. Но мы ощущаем их реализм в том, что они настойчиво взывают к нашему чувству осязания и этим заставляют нас признать самый факт их существования. Это и доставляет нам чисто художественное наслаждение, не имеющее ничего общего с тем отвлеченным интересом, который вызывает в нас символика.
Рискуя углубиться в безграничную область эстетики, мы все же должны задержаться на этом моменте, чтобы быть уверенными в том, что придерживаемся одного мнения с читателем относительно понятия «художественное наслаждение», хотя бы в той мере, в какой оно связано с живописью.
Где граница между обычным и специфическим наслаждением, которое вызывает в нас искусство? Любое наше суждение о достоинствах художественного произведения в значительной степени зависит от ответа на этот вопрос. Те, кто не в состоянии понять глубокое различие между природой живописи и природой литературы, рискуют впасть в ошибку, судя о достоинстве или недостатке картины по ее драматическому содержанию или по трактовке характера изображенных лиц, иными словами, требуя от нее, чтобы она прежде всего была хорошей иллюстрацией. Другие ждут от живописи того, что дает им музыка, — мечтательных эмоций; они будут предпочитать картины, вызывающие приятные воспоминания, с изображением красивых людей, утонченных развлечений, чарующих пейзажей. Во многих случаях эти неосознанные еще ожидания не имеют большого значения, поскольку картина часто им отвечает, обладая помимо этого специфическими живописными качествами. Однако эти определения иллюстративности или эмоциональности картины очень важны при характеристике флорентийских мастеров, потому что именно они среди всех европейских художников наиболее упорно и ревностно работали над специфическими проблемами фигурной живописи и больше, чем кто-либо, пренебрегали второстепенными, но тем не менее привлекательными сторонами живописного мастерства. Положение с флорентийцами ясно. Если мы хотим оценить их по достоинству, мы вынуждены отказаться от лицезрения прекрасных лиц, драматических ситуаций и фактически от какой-либо «литературности». Больше того, мы должны отказаться от наслаждения — подлинного художественного наслаждения, доставляемого нам цветом, потому что флорентийцы никогда не уделяли особого внимания колориту, который даже в лучших их работах бывает резок и неприятен.
Великие флорентийские мастера сосредоточивали свое внимание на форме, и только на форме, и мы постепенно убеждаемся в том, что в их произведениях именно форма является главным источником нашего эстетического наслаждения.
Каким же образом, спрашиваем мы себя, можно испытать удовольствие от живописной формы и чем она отличается от обычных впечатлений, получаемых от того или иного предмета? Каким образом объект, который сам по себе не доставляет мне удовольствия, становится источником эстетического наслаждения, когда я вижу его изображенным на картине; или вещь, достаточно приятная в натуре, вызывает в нас еще больший восторг, когда мы смотрим на нее, преображенную в искусстве. Ответ, мне кажется, заключается в том, что искусство порождает и стимулирует высокую активность ряда психических процессов, которые содержат в себе источник почти всех видов художественного наслаждения, свободных от каких-либо неприятных ощущений и никогда не угрожающих нам страданием.
Допустим, например, что я обладаю способностью воспринять данный объект с коэффициентом 2. Если я вдруг восприму его с коэффициентом 4, то я немедленно испытаю двойное удовольствие, отвечающее двойной силе моей умственной и психической деятельности. Но удовольствие не исчерпывается только этим. Непосредственное наслаждение от произведения искусства обычно влечет за собой длительный процесс его познавания, доставляющий нам радость и в дальнейшем. Те, у кого психический процесс восприятия развивается с необычной интенсивностью (4 к 2), переполнены приятным сознанием того, что они обладают удвоенной силой художественного восприятия. В силу его обостренности их охватывает душевный подъем, благодаря которому они испытывают к изображенному предмету повышенный интерес. И все это вызывается живописной формой. Она повышает коэффициент реальности изображенного предмета и вызывает в зрителе ответную, радующую его интенсивность восприятия. Этим и объясняется большее удовольствие, испытываемое нами от предмета, изображенного в живописи, нежели от него же в его естественном виде. Происходит это следующим образом: мы знаем, что ощутить форму можно только посредством осязательных свойств, которыми мы наделяем наше зрительное восприятие. Вне общения с произведениями искусства подобный процесс для нас затруднителен, потому что к тому времени, когда эти свойства достигнут нашего сознания, они утратят часть своей первоначальной остроты и силы. Очевидно, художник быстрее внушает нам впечатление осязаемости, чем может вызвать его предмет сам по себе, и именно эта живая реализация предмета доставляет нам наслаждение, связанное с ощущением внутреннего душевного подъема и обостренной восприимчивости.
ДЖОТТО. БЕГСТВО В ЕГИПЕТ. Ок. 1305
Падуя, Капелла дель Арена
Таким образом, мы видим, как повторные осязательные представления повышают наше восприятие и какое большое место занимает чувство осязания в нашей духовной и физической деятельности, убеждающее нас в собственной жизнеспособности и высокой сознательности.
Размер этой книги не позволяет мне дальше развивать эту тему, исчерпывающая разработка которой потребовала бы значительно больше места, чем то, которым я располагаю. Я ограничусь пока этим недостаточно разработанным и лишенным примеров изложением, но позволю себе добавить еще несколько слов. Я не собираюсь утверждать, что нельзя получать от живописи иное наслаждение, кроме удовлетворения наших осязательных чувств. Напротив, композиция, колорит и движение, не говоря уже обо всем остальном, доставляют нам не меньшее удовольствие, повод к которому дает каждое произведение искусства. Я хочу лишь сказать, что пока картина не удовлетворила наше осязательное воображение, она не вызовет в нас иллюзии вечно повышающейся, обобщенной художественной реальности. Мы сможем раскрыть ее замысел, проникнуться ее эмоциональной силой, но «красота» данного произведения покажется нам одинаковой и в первый и в тысячный раз, не возрастая по мере нашего ознакомления с ним.
Я повторяю, что задерживаюсь на этой теме потому, что приведенные здесь принципы, важные для других живописных школ, особенно существенны для флорентийской. Без должного их понимания невозможно было бы оценить флорентийскую живопись. Мы восхищались бы ее научностью или ее историческим значением, как будто историческое значение и художественная ценность — синонимы! Но без этих принципов мы никогда не смогли бы представить себе, какая художественная идея владела умами ее великих творцов, и никогда не смогли бы понять почему она так быстро впала в академизм.
Теперь вернемся опять к Джотто и посмотрим, каким образом он выполняет первое условие живописи, как искусства, возбуждающего наше осязательное воображение. Мы без труда поймем это, если сравним две картины, написанные почти на одну и ту же тему и висящие рядом в музее Уффици во Флоренции, одну кисти Чимабуэ, другую — Джотто. Сопоставление поражающее! Но оно проявляется не столько в отличных друг от друга образах и типах, сколько в различии их воплощения. В картине Чимабуэ мы терпеливо разбираемся в линиях и красках и наконец приходим к выводу, что они изображают сидящую женщину, стоящих и коленопреклоненных людей и ангелов. Мы должны сделать над собой усилие, чтобы понять, что здесь изображено, и все же наша способность разобраться во всем этом может в данном случае быть подвергнута сомнению.
Зато с каким чувством облегчения, с каким подъемом жизненных сил обращаемся мы к Джотто! Едва глаза успевают остановиться на этой картине, как мы уже воспринимаем реальное пространство, заполненное изображением трона, величественно восседающую на нем мадонну, ангелов, сгруппированных рядами вокруг нее. Наше осязательное воображение немедленно активизируется. Наши ладони и пальцы как бы следуют за зрением, и гораздо быстрее возникает ощущение реального, чем при знакомстве с самими предметами; ощущения все время меняются в зависимости от того, какие части фигуры — лицо, торс, колени — выступают перед нами на передний план. Эта картина утверждает нашу жизнеспособность. Мне не важно, что она, вызывающая такие чувства, имеет недостатки, что изображенные на ней лица не соответствуют моему идеалу красоты, что фигуры слишком массивны и невыразительны. Я забываю все это потому, что мне предстоит нечто лучшее, чем останавливаться на ошибках.
Каким же образом Джотто совершает это чудо? Самыми простыми средствами; элементарными познаниями в области света, тени и линии, выражающей объем, он умудряется из всех возможных контуров, из всех вариантов светотени, присущих данной фигуре, выбрать именно те, которые привлекут наше внимание. Это определяет характер его типов, красочное построение, даже композицию. Джотто стремится создать типы простых людей с ширококостными и массивными фигурами, то есть таких, какие и в реальной жизни возбуждали бы наше осязательное воображение. Он извлекает из зачатков светотени все, что может, он создает красочную гамму возможно более светлой, так, чтобы ее контрасты были максимально резки. В своих композициях он стремится к четкости группировок, чтобы каждая имеющая значение фигура обладала ясно выраженными осязательными свойствами.
Обратите внимание, как в его «Мадонне» распределены тени, подчеркивающие каждую вогнутость и свет, создающие выпуклость частей, и как эта светотеневая игра подчиняется линиям. Мы ощущаем благодаря этому объемность человеческой фигуры, независимо от того, задрапирована она одеждой или нет. Здесь все приобретает конструктивный смысл. Прежде всего каждая линия имеет свою нагрузку, иначе говоря, она функциональна и выполняет определенное назначение. Ее существование и направлен ;е полностью определяются необходимостью выявить осязательные свойства.
Проследите, например, каждую линию в фигуре коленопреклоненного ангела слева и посмотрите, как она очерчивает и моделирует, как объемно заставляет воспринимать голову, торс, бедро, ногу, ступню и как направленность и напряжение линии всегда определяются движением фигуры. Нет ни одного из подлинных фрагментов джоттовских работ, которые не обладали бы этими качествами в такой степени, что даже самая плохая реставрация не в состоянии их исказить. В доказательство посмотрите на восстановленные фрески в церкви Сайта Кроче во Флоренции!
Итак, мы знаем, что передача осязательной ценности предмета является достоверным и наиболее специфическим художественным свойством живописи Джотто и его личным вкладом в искусство. Но и другие его явные живописные достоинства не менее исключительны, они находятся на высоком реалистическом уровне, присущем его творчеству. Что же, если не гениальность, вела Джотто по пути овладения реальной действительностью? Что же иное может скрываться за передачей осязательной ценности предмета, как не показ его материальной сущности?
Художник, постигший материальность окружающего его мира, и сам должен быть жизненно-полноценным и выдающимся человеком, тем более что он пришел на смену целому поколению живописцев, придерживавшихся символики, аллегории и иллюстрации.
Не существенно, какова тематика произведений Джотто. Он всегда придает реалистический смысл любой евангельской сцене, в той мере, в какой это позволяют ему собственное умение и условные ограничения живописи. Излишне говорить о том, с какой проникновенностью, серьезностью и искренним благочестием он пишет сюжеты из священной истории. Взглянем на некоторые его аллегорические изображения в капелле Арена в Падуе, такие, например, как, «Постоянство», «Несправедливость», «Скупость». Джотто словно спрашивал себя: «Как изобразить человека, подверженного этим порокам ? Я напишу его скупым, несправедливым или непостоянным, и его образ невольно станет памятным для меня». Поэтому «Непостоянство» — это женщина с бессмысленным выражением лица, сидящая возле колеса, с бесцельно вытянутыми вперед руками и откинутым назад торсом. Вы испытываете головокружение при взгляде на нее. «Несправедливость» — человек сильного телосложения, средних лет, одетый в судейское платье, сжимающий в левой руке рукоятку меча, в правой — копье с двумя крюками на конце. Его жестокий взор неумолим, фигура полна напряженности и гигантской силы, с которой он стремится уничтожить свою жертву. Он сидит на высокой скале, подобной трону, у подножия которой качаются деревья, а его слуги грабят и убивают путника. «Скупость» — рогатая ведьма с торчащими ушами; змея, выползающая изо рта, извиваясь, жалит ее в лоб. Крадучись, двигаясь вперед, старуха сжимает левой рукой кошелек, в то время как правая готова схватить каждого, кто покусится на него. Нет необходимости пояснять, что это за аллегория. Пока существуют на земле эти пороки, они будут олицетворяться в тех же зрительных образах, какие дал нам Джотто.
Поясним, насколько важно для него изобразить движение и действие. Группировка фигур и их жесты полностью подчинены смыслу изображаемого. Линией и светотенью, выражающими всю значительность события, взглядами, обращенными к небу или опущенными вниз, говорящей без слов жестикуляцией, исходя из простейшей живописной техники, без знания анатомии (надо всегда это помнить), Джотто дает нам полное ощущение движения. Такое ощущение передано и в его падуанских фресках в «Воскрешении праведников», «Вознесении Христа», фигуре бога-отца в «Крещении» или в изображении ангела на фреске «Сон св. Иоакима».
Мироощущение Джотто проникнуто чувством полноценного материального бытия, которое привело его к столь жизненному изображению предмета, что мы воспринимаем его непосредственнее, чем в действительности. Это помогает нам верить в силу искусства и в наше понимание его, что уже само по себе сулит много неизведанных радостей. В этом великая и вечная заслуга Джотто как художника.
III
В течение ста лет после смерти Джотто во Флоренции не было ни одного столь же одаренного художника, как он. Прямые последователи мастера не понимали глубокой сущности его искусства, видя только внешние его стороны: массивность фигур, динамику линий, высветленный колорит. И никогда никому из них не приходило в голову, что объемная форма, лишенная своей материальной сущности и осязательной ценности, будет выглядеть как пустой мешок, что линия, не имеющая своего прямого назначения, превратится в пустую каллиграфическую игру и что сам по себе светлый колорит не может создать красочного строя картины, а придаст ей лишь приятную внешность.
Лучшие из этих мастеров сознавали свою неполноценность, но не видели иного пути, кроме усиленного копирования и искажения Джотто, пока не утомили себя и зрителей. Перемена была необходимой, и когда она наступила, то все оказалось очень просто. «Зачем ощупью искать чего-то, когда очевидное под рукой? Я буду писать то, что нравится публике», — сказал живописец, одаренный житейской мудростью. И вот Андреа да Фиренце начал писать: красивые одежды, привлекательные лица, обыденную жизнь, и результат был таким, какого следовало ожидать. Художник нравился — и тогда и теперь. До сих пор зрители толпами устремляются в Испанскую капеллу в церкви Сайта Мария Новелла во Флоренции, чтобы любоваться апофеозом будничности и ординарности. На миловидных лицах, приятных красках, красивых одеждах — отпечаток тривиальности. Есть ли хоть одна фигура на фреске «Торжество св. Фомы», олицетворяющая собой какую-либо символическую идею, которая была бы хоть в какой-то мере понятна без присущего ей атрибута? Одна хорошенькая женщина держит глобус и меч, и от меня требуется, чтобы я ощутил величие империи; другая изобразила на своем изящном платье лук и стрелу, которые должны мне внушать страх перед ужасами войны; третья держит музыкальный инструмент на чем-то, что изображает ее колени, и один вид его обязан привести меня в экстаз от звуков небесной музыки; еще одна красивая дама стоит подбоченившись, и если вам интересно знать, какое она предназначает для меня наставление, вы должны прочесть это на ее свитке. Ниже изящных женщин расположены мужчины с видом настолько важным, насколько им могут придать их мантии и бороды; один почтенный старый господин пристально и самозабвенно смотрит на кончик своего гусиного пера.
То же отсутствие смысла и та же ординарность характеризуют фреску «Церковь воинствующая и торжествующая». Какой может быть более явный символ для церкви, нежели изображение самой церкви? Что должно нагляднее всего показать роль св. Доминика, чем фигура опровергнутого его учением языческого философа, вырывающего страницу из своей собственной книги? Я коснулся этих фресок только как аллегорий, не говоря об их бессмысленной и путаной композиций; они не показывают нам ни одной фигуры, обладающей осязательной ценностью, то есть художественной убедительностью.
Я не буду, разумеется, утверждать, что живопись от Джотто до Мазаччо могла бы с успехом и не существовать; напротив, значительный прогресс был достигнут в области пейзажа, перспективы и выразительности лиц, но, за исключением произведений двух мастеров, в этой области не было создано ни одного шедевра. Эти двое — один, относящийся к середине того периода, на котором мы остановились, а другой — к его концу — .были Андреа Орканья и фра Беато Анжелико.
Об Орканье трудно говорить, поскольку сохранилась только одна его картина, почти не тронутая временем, — алтарный образ в церкви Сайта Мария Новелла во Флоренции, но в нем художник проявляет всю свою одаренность. Как и у Джотто, мы ощущаем осязательную ценность и материальную сущность предметов. Фигуры художественно убедительны. Но если этот мастер не склонен изображать красивые и выразительные лица, то фрески Нардо ди Чионе (его брата) в той же капелле, особенно его «Рай», являют нам образы, полные грации и очарования. Даже в сильно поврежденном виде эта стенная живопись свидетельствует о подлинной художественности, передаче медленного, величавого, ритмического движения и великолепной группировке. Она убеждает нас в своем высоком назначении. Мы, однако, разочарованы в скульптурном табернакле Андреа Орканьи в церкви Ор сан Микеле во Флоренции, где не чувствуется ни материальной, ни духовной выразительности образов.
Мы, к счастью, находимся в гораздо лучшем положении по отношению к фра Беато Анжелико, работы которого дошли до нас в достаточном количестве, чтобы раскрыть его достоинства как человека и как художника. Полная уверенность в намеченной цели, глубокая набожность, абсолютная преданность искусству — вот о чем говорят его произведения. Правда, он был не так человечен, как Джотто, и его образы не так материальны и выразительны. Но все же, хотя его реалистическое чувство было слабее, чем у Джотто, оно проявилось в тех областях, которые последний не затрагивал.
Подобно всем великим художникам, Джотто не проявлял своего личного отношения к изображенному предмету. Ему достаточно было суметь его выразить и передать в жизненно убедительных образах. У менее значительных мастеров получается обратное: на первый план выступает личное отношение к действительности или, если хотите, чувствительность. Вот в этой сфере фра Беато не знал себе равных! «Когда бог в небесах — благоденствие и мир на земле» — это было для него аксиомой, и он так непосредственно поддавался своим благостным настроениям, что не видел вокруг себя зла, превращаясь порой в настоящего ребенка. Он не мог вообразить себе ада и населял его домовыми и привидениями; его сцены мученичества — это спектакли с игрой в палача и жертву. Чисто детское отчаяние и плач св. Иеронима почти портят впечатление от одного из самых сильных произведений фра Беато — «Распятия» в монастыре Сан Марко во Флоренции. Но зато он щедро расточал свой талант на жизнерадостные и восторженные изображения бога, любовно заботящегося о человеческом роде. А ведь возможности фра Анжелико были не малыми! Осязательную ценность и чувство композиции, правда, уступающие джоттовским, но превосходящие других, он сочетал с очаровательными, живыми, выразительными лицами и нежной прелестью колорита. Что внушает нам большее чувство обновления, чем его «Коронование мадонны», где столько радостных улыбок, где линии и краски, подобные цветам, счастливо сочетаются с детской и простой, но в то же время несравненно прекрасной композицией? И ко всему этому — наличие осязательной ценности, которая заставляет нас увериться в реальности райской сцены, хотя мы и не можем понять до сих пор, как фигуры могут так стоять, так сидеть и так преклонять колени? Но, по правде сказать, нам это и не важно! Как удивительно передает фра Беато вдохновлявшие его чувства, хотя повествовательный смысл события остается для нас нераскрытым.
Однако при всей его простоте и бесхитростности он, как создание своей эпохи, необычайно сложен, будучи типичным художником переходного времени от средневековья к Возрождению. Если его чувства связаны еще со сферой средневековых представлений, то чисто земная радость, испытываемая им, почти адекватна нашей, так же как адекватны и средства ее художественного выражения. Мы слишком склонны забывать переходный характер творчества Беато Анжелико и, ставя его в ряд с художниками Возрождения, упрекаем за неуклюжесть фигур и неловкость их движений. Но как раз в этом отношении он настолько преуспел по сравнению со своими предшественниками, что если бы Мазаччо не превзошел его, то мы могли бы относиться к фра Беато Анжелико, как к новатору. Больше того, он был первым итальянским живописцем, писавшим пейзажи, если их можно так назвать (вид Тразименского озера близ Кортоны), и первым, кто дал нам изведать радостное чувство природы. Как непосредственно ощущаем мы свежесть и весеннюю прелесть садов на его фресках «Благовещение» и «Христос с Марией Магдалиной» в монастыре Сан Марко во Флоренции!
IV
Вновь рожденный Джотто и начавший творить, воспринявший все достижения прошлого столетия, ответивший новым условиям и требованиям, — вообразите себе такой миф перевоплощения — и вы поймете, что такое Мазаччо!
Мы уже знакомы с Джотто, но каковы же были условия и требования нового времени? Средневековые небеса рухнули, и над землей засияло новое небо. Люди, чей дух был смел и предприимчив, уже заселили эту землю. На передний план выступили новые интересы и стремления. Высоко ценилось умение повелевать и творить. Все, что помогало человеку познать окружающий мир и царить в нем, вызывало к себе огромный интерес. Для художника эти сдвиги предоставляли широкое поле действия, ибо его уделом всегда было раскрывать новые идеалы.
Но какое же место было отведено в ней скульптуре и живописи — искусствам, основная задача которых заключалась в передаче материальной сущности вещей и в реализации отвлеченных религиозных образов. Ибо мы знаем, что в средние века реальному изображению человеческого тела было отказано в праве на существование. В те времена фигурный живописец был явлением исключительным и мог преуспевать вопреки окружающей его обстановке, как это было с Джотто.
Напротив, в эпоху Возрождения живописи предъявлялись требования, каких не было и в помине с великих времен Древней Греции. От фигурной живописи ждали изображения новых людей, предназначенных для великих целей, потому что этого хотело новое поколение, которое верило в силы человеческого разума и в свою власть над миром. И так как эти требования были настоятельными, то появился не один, а сотни итальянских художников, из которых каждый по-своему был способен ответить этим задачам, а в творческом единении друг с другом они достигли такой вершины, что полностью могли соперничать с искусством древних греков.
Мазаччо начал свою недолгую творческую жизнь к тому времени, как Донателло уже воплотил в скульптуре новые идеи, и его влияние на молодого художника было огромным. Однако образы Донателло были еще не вполне индивидуализированы, не связаны между собой и несколько поверхностны, примером чего могут служить его барельефы в Сиене, Флоренции и Падуе. Мазаччо был свободен от этого недостатка. Созданные им типы людей насыщены таким глубоким чувством материального бытия, что мы полностью ощущаем их силу, мужество и духовную выразительность, которые придавали изображенным евангельским сценам величайший нравственный смысл. Мазаччо поднимает нас на высокий уровень своего реалистического мироощущения тем, что образ человека в его трактовке обретает новую ценность.
В живописи более позднего времени мы сможем обнаружить большее совершенство деталей, но осмелюсь утверждать, что мы не найдем в ней прежнего реализма, силы и убедительности. Как ни загрязнены и ни разрушены фрески Мазаччо в капелле Бранкаччи, я никогда не могу пройти мимо них без сильнейшего обострения моего осязательного восприятия. Я чувствую, что если прикоснуться пальцем к фигурам, они окажут мне определенное сопротивление, чтобы сдвинуть их с места, я должен был бы затратить значительные усилия, что я смог бы даже обойти вокруг них. Короче говоря, в жизни они вряд ли были бы реальнее для меня, чем на фреске. А какая сила заключена в юношах кисти Мазаччо! Какая серьезность и властность в его стариках! Как быстро такие люди могли бы подчинить себе землю и не знать иных соперников, кроме сил природы! Что бы они ни свершили, было бы достойно и значительно, и они могли бы повелевать жизнью вселенной! По сравнению с ними фигуры, написанные его предшественником Мазолино, выглядят беспомощно, а изображения его преемника Филиппино Липпи неубедительны и незначительны, потому что не обладают осязательной ценностью. Даже Микеланджело уступает Мазаччо в реалистической выразительности образов. Сравните, например, «Изгнание из рая» на плафоне Сикстинской капеллы с одноименным сюжетом, написанным Мазаччо на стене капеллы Бранкаччи. Фигуры Микеланджело более правильны, но менее осязательны и мощны. В самом деле, его Адам лишь отводит от себя удар карающего меча, а Ева жмется к нему, жалкая в своем раболепном страхе, тогда как Адам и Ева Мазаччо — это люди, которые уходят из рая с разбитым от стыда и горя сердцем, не видящие, но ощущающие над своей головой ангела, который направляет их шаги в изгнание.
Итак, Мазаччо подобен Джотто, но Джотто, родившемуся на столетие позже и попавшему в благоприятные для себя художественные условия. Мазаччо был великим мастером, понимавшим сущность живописи, он был в высокой степени одарен умением передавать осязательную ценность в художественных образах. Он указал флорентийской живописи путь, по которому та шла вплоть до своего заката. Во многом он напоминает нам Джованни Беллини. И кто знает, если бы Мазаччо суждено было дольше прожить, он заложил бы фундамент для живописи столь же превосходной, как венецианская, но более глубокой и значительной.
Как бы то ни было, фрески капеллы Бранкаччи почти сразу стали художественной школой для всех настоящих живописцев и оставались ею до тех пор, пока было живо флорентийское реалистическое искусство.
V
Флорентийская живопись после смерти Мазаччо осталась на попечении пяти художников: двух постарше и трех более молодых. Все они были высоко одаренными людьми и все испытали на себе влияние Мазаччо. Старшие — фра Анжелико и Паоло Учелло — в меньшей степени, так как были уже сложившимися живописцами и если бы не Мазаччо, то сами могли бы играть руководящую роль во флорентийском искусстве.
Младшие были — фра Филиппе Липпи, Доменико Венециано и Андреа дель Кастаньо. Так как все пятеро в течение целого поколения после смерти Мазаччо стояли во главе флорентийского искусства, воспитывая вкус публики и обучая молодых, то самое лучшее, что мы можем предпринять, — это попытаться получить представление как о каждом из них в отдельности, так и об общих тенденциях их искусства.
Фра Анжелико мы уже знаем как художника, посвятившего себя религиозной живописи и изображавшего средневековый рай, сошедший на землю. Задачи Учелло и Кастаньо были прямо противоположны задачам фра Беато. Однако, как бы они ни отличались друг от друга, в их произведениях было все же много общего. В зрелых же вещах Учелло и Кастаньо уже не звучали отголоски средневековья, не было в них и признаков переходного периода. Но, будучи всецело художниками Возрождения, они относились к двум разным направлениям, которые господствовали во флорентийской живописи XV века; отчасти они дополняли то, что завещал Мазаччо, отчасти отклонялись от него.
МАЗАЧЧО. ГОЛОВА АПОСТОЛА ПЕТРА. ФРАГМЕНТ ФРЕСКИ. ЧУДО СО СТАТИРОМ. 1426 — 1428
Флоренция, Капелла Бранкаччи в церкви Санта Мария дель Кармине
Учелло обладал чувством осязательной ценности и чувством колорита, но эти качества он подчинял экспериментальным решениям живописных проблем. Его подлинной страстью была перспектива, а живопись была своего рода наукой, помогающей ему овладеть законами перспективы. В соответствии с этим он вводил в свои композиции возможно большее количество линий, уводящих глаз зрителя в глубину картины. Упавшие лошади, мертвые или умирающие всадники, сломанные копья, вспаханные поля, Ноевы ковчеги почти не служат декоративным целям, а выполняют иную задачу — дать схему линий, математически сходящихся в одной точке. В своем рвении Учелло забывал натуральную окраску предметов и писал зеленых или розовых лошадей, упускал из виду действие, композицию и даже смысл изображаемого. Так, рассматривая его батальные картины, мы невольно чувствуем себя зрителями спектакля, где вместо битвы изображаются механические движения кукол, набитых опилками и неожиданно застывших из-за нарушения механизма. Во фреске «Потоп» он настолько увлекся демонстрацией своих знаний перспективы и ракурса, что вместо передачи самой катастрофы изобразил нечто подобное прорыву мельничной плотины. А соседняя фреска — «Жертвоприношение Ноя», — несмотря на наличие нескольких превосходно построенных фигур, уничтожает всякую вероятность эстетического воздействия тем, что мы лишь после известных усилий понимаем, что висящий в воздухе предмет оказывается человеческим существом, ныряющим в облака вниз головой. Вместо того чтобы эту фигуру, которая, кстати сказать, должна изображать бога-отца, обратить лицом к зрителю, Учелло умышленно заставляет ее устремиться вглубь, прочь от нас, показывая нам свою ловкость в обращении с перспективой и ракурсами.
Таким образом, Учелло вписал свое имя в историю флорентийской живописи кватроченто, как родоначальник двух направлений, из которых одно возглавляли натуралисты, а другое — те художники, которые подменили понятие искусства понятием искусности, или технической ловкостью и сноровкой. Последних было большинство, и так как они влияли на всю последующую историю флорентийской живописи как в хорошую, так и в плохую стороны, то мы должны заранее кратко определить для себя, что такое техническая ловкость или искусность, что такое натурализм и каковы их взаимоотношения с искусством. Самым главным в живописи, особенно в фигурной живописи, как мы уже говорили, является передача осязательной ценности изображения, потому что только таким путем искусство может заставить нас воспринимать форму реальнее, чем мы воспринимаем ее в жизни. Великий художник прежде всего тот, кто обладает великим даром осязательной ценности и великим умением передавать ее.
Сознательные усилия великого художника направлены на достижение различных способов и средств передачи этой осязательной ценности, о чем он и говорит, не скрывая от других своих затруднений, если они возникают. А так как его успехи в этой области достигнуты напряженным умственным трудом, то он, естественно, больше всего ими гордится. Чем крупнее художник, тем важнее для него задача воспроизведения, и он всегда бессознательно воспроизводит материальную либо духовную сущность предмета. А окружающие слышат от него только рассуждения об умении и технических возможностях, но не более того. И естественно, что они, как и все прочие, делают вывод, что техника и гениальность — одно и то же и что искусность сама по себе есть синоним искусства.
Такое, увы, понимание искусства существовало во все времена. Могли быть расхождения во взглядах, но не в принципах; расхождение в том, какого рода техническое умение следует ценить, причем каждое поколение и каждый критик выдвигали свой индивидуальный критерий, исходящий из некоторых специальных проблем и трудностей, интересовавших именно его. Во Флоренции эти искаженные понятия об искусстве чувствовались особенно сильно, потому что она была подлинной художественной школой, к которой принадлежало много гениальных людей и тысячи посредственностей. Все они соревновались друг с другом в стремлении выставить напоказ свое техническое умение, и в этом горячем соперничестве только подлинные гении могли остаться верными истинному существу искусства. Даже Мазаччо принужден был иногда демонстрировать свое техническое мастерство, как, например, в фигуре обнаженного человека, дрожащего от холода; сама по себе прекрасно выполненная и вызывающая всеобщее восхищение, эта фигура была не только лишней в композиции, но и рассеивала внимание зрителя, когда он смотрел на сцену «Крещения».
Менее одаренный человек, вроде Паоло Учелло, в своем рвении показать техническое умение и знание законов перспективы почти полностью пожертвовал чувством эстетического, которым обладал в начале творчества. Что же касается всяких посредственностей, то их произведения представляют сейчас интерес только с точки зрения соревнования на премию местной художественной школы, потому что многочисленность плохих художников лишь усилила быстроту падения флорентийского искусства.
Однако и техническая ловкость могла принести известную пользу искусству. Живописцы, лишенные понимания его сущности, все же могли усовершенствовать тысячу приемов и навыков, облегчавших процесс художественного творчества тем, кто явился в мир, чтобы сказать свое слово, подобно Боттичелли, Леонардо и Микеланджело. Их окружало немало художников, но во Флоренции после смерти Мазаччо не было живописца, равного им. В число посредственных мастеров входила своеобразная порода натуралистов, предком которых был Учелло. Очень развитые люди, они, однако, в художественном отношении стояли еще ниже, чем живописцы, обладавшие одной технической искусностью.
Что же такое натуралист? Я осмеливаюсь дать следующее определение: это человек, посвятивший себя искусству, но обладающий при этом природными склонностями к науке. Его целью является не выражение материальной и духовной сущности видимых явлений и не передача их в целях повышения нашего осязательного восприятия и, следовательно, нашей жизнеспособности. Его цель — исследование и сообщение нам фактических результатов. Это отвлеченное положение следует пояснить уже приведенным выше примером — фигурой бога-отца в картине Учелло «Жертвоприношение Ноя». Вместо того чтобы изображать ее в направлении к зрителю и с соответствующими движениями и выразительностью, которые вызвали бы в нас ответные чувства, как это сделал Джотто в своем «Крещении», Учелло, охваченный страстью экспериментатора, захотел показать падающего вниз головой человека, застывшего в пространстве. Подобная фигура может иметь математический, но не психологический смысл. Учелло изучил все детали этого невероятного явления и перенес их на полотно, но от этого его картина еще не стала художественным произведением, хотя она и выражена в формах и цвете.
В чем, по существу, разница между его произведением и раскрашенной географической картой? Мы легко можем представить себе рельефную карту местечка Кадоре (где родился Тициан) или Живерни (где работал Клод Моне) в таком большом масштабе, так тщательно раскрашенную, что это будет точным воспроизведением физико-географического вида этих областей, но никогда, ни на одно мгновение мы не повесим ее рядом с пейзажами Тициана или Моне и не сочтем ее за произведение искусства.
Между тем эта карта будет относиться к картинам Тициана или Моне точно так же, как учелловские опыты относятся к фрескам Джотто. Натуралист, то есть ученый, занимающийся живописью, не в состоянии передать нам то, что является уделом лишь подлинного искусства, — повышенную и обобщенную реальность изображенного предмета; художник-натуралист лишь репродуцирует предмет в том виде, в каком тот находится в действительности. От натуралиста мы получаем лишь точные зрительные впечатления, а искусство, как мы уже условились, дает нам не просто воспроизведение предметов, а способствует ускорению и интенсивности нашего восприятия. С художественной точки зрения натуралист Учелло и его последователи представляют слишком мало ценного. Но их достижения в области анатомии и перспективы, их стремление к изображению предметов такими, как они есть, привели к тому, что когда появились на свет новые гениальные художники, то ими оказались Леонардо и Микеланджело, а не художники типа Джотто.
Учелло, как я уже сказал, первым представлял в своем лице две тенденции флорентийской живописи: искусство ради искусности и искусство ради научных изысканий. Андреа дель Кастаньо обладал слишком большим дарованием, чтобы полностью поддаться этим искушениям. Он был наделен сильным и выразительным художественным воображением, правда, недостаточным для того, чтобы оно могло спасти его от угрожавшей всем флорентийцам западни — стремления во что бы то ни стало выражать чувство мощи. Заставлять нас ее ощущать, как это делают в лучших своих произведениях Мазаччо и Микеланджело, это действительно достижение, но оно требует величайшей гениальности и глубочайшего осмысления образа. Если все это отсутствует, то художнику не удается выразить мощь, зато он может передать ее разновидности: физическую силу или, что хуже, просто наглость, нередко сопровождаемую приподнятым настроением. Кастаньо, которому хорошо удались одна или две отдельные фигуры, как его «Кумская Сивилла» и «Фарината дельи Уберти», обладавшие действительно великой мощью, достоинством и даже красотой, в других своих произведениях доходит попросту до изображения чванства, как у Пипо Спано или Никколо да Толентино, или до известной жесткости, как в «Тайной вечере», или даже до подлинной грубости, как в «Распятии» в церкви Сайта Мария делла Нуова во Флоренции. Тем не менее некоторые сохранившиеся работы Кастаньо позволяют нам судить о нем, как об одном из крупнейших художников, оказавшем очень большое влияние на первое поколение флорентийских живописцев после смерти Мазаччо.
VI
Ясно представить себе почти через пятьсот лет различие между Учелло и Кастаньо и точно определить долю, которую каждый из них внес в формирование флорентийской школы, уже само по себе является очень сложной задачей. Также трудно, даже почти невозможно, составить себе точное представление о работах Доменико Венециано, сохранившихся до наших дней, и о его влиянии на современную ему живопись. То, что он был новатором в живописной технике и изобретал красочные растворители, мы узнаем от Вазари. Но так как эти нововведения, как бы полезны они ни были для живописи, относятся, скорее, к теоретической и прикладной химии, то они не интересуют нас в данном случае. Художественные достижения Доменико Венециано, по-видимому, заключались в том, что он придавал фигурам движение и выразительность, а лицам индивидуальные черты. В его произведениях мы не найдем ни технического мастерства, ни натурализма, хотя, несомненно, он изучал какую-либо науку или художественное ремесло, особенно распространенные в его время. В противном случае он не мог бы создать такого образа, как «Св. Франциск» в алтарной картине в Уффици, где, может быть, впервые осязательная ценность сочетается с характерностью движений и в фигуре проявляется то, что можно назвать индивидуальной «манерой держаться». Без этого не смог бы он достигнуть таких же успехов в изображениях «Св. Иоанна» или «Св. Франциска» в церкви Сайта Кроче во Флоренции, фигуры и лица которых красноречиво выражают религиозный пыл. Что же касается внутренней характеристики его образов, то есть значения Доменико Венециано как портретиста, то в доказательство его умения мы имеем несколько великолепных голов, которые можно поставить в один ряд с лучшими произведениями этого жанра в эпоху Возрождения.
Те затруднения, которые мы встречали при изучении Учелло, Кастаньо и Венециано, не встают перед нами, когда мы обращаемся к Филиппе Липпи, чьи многочисленные работы превосходно сохранились. Поэтому мы можем судить о нем, как о художнике, хотя чрезвычайно трудно найти ему должную оценку. Если бы одной привлекательности, в самом лучшем смысле этого слова, было достаточно, чтобы быть великим художником, то Филиппо Липпи был бы одним из величайших, может быть, более великим, чем все флорентийцы до Леонардо да Винчи. Где мы найдем более обаятельные и прелестные лица, нежели у его мадонн, например, у той, которая находится в Уффици; или более благородный и тонкий образ мадонны, чем на алтарной картине в Лувре? Где во всей флорентийской живописи можно увидеть более очаровательное зрелище, чем шаловливые игры его детей, более поэтичное, чем некоторые его пейзажи, колорит, более прелестный? И при этом всегда здоровая, чуть простоватая внешность и неизменное благодушие. Сами по себе эти качества присущи лишь первоклассному иллюстратору, а таким по своему природному дарованию, я думаю, фра Филиппо Липпи и был. Тем, что он достиг столь больших успехов, он обязан скорее Мазаччо, чем своей одаренности, потому что он не обладал подлинным чувством материальной и духовной сущности изображаемого, то есть важнейшими признаками подлинного художника. Находясь под влиянием Мазаччо, он иногда превосходно улавливал осязательную ценность, как, например, его «Мадонна» в Уффици; но чаще это удавалось ему лишь внешним изображением тщательно выписанных одежд и драпировок. Эту декоративную манеру он заимствовал у своего первого учителя — запоздалого последователя Джотто (вероятно, Лоренцо Монако). Сам же Филиппо Липпи находился в блаженном неведении относительно того, что осязательная ценность, которую он пытался усвоить, абсолютно несовместима с введением подобных декоративных элементов в картину. Его самое сильное побуждение было направлено на поиски выразительности и особенно на передачу чисто человеческих, жизнерадостных и любвеобильных чувств.
Его настоящее место среди жанровых художников. Только его жанр имел более духовный характер, чем более материальный жанр Беноццо Гоццоли. Отсюда вытекает и главный недостаток Филиппо Липпи, предельно надоедающий и вряд ли менее пагубный, чем ошибки натуралистов, — стремление выразить чувства во что бы то ни стало.
VII
Из краткого очерка о четырех главных представителях флорентийской живописи, развивавшейся между 1430 и 1460 годами, можно заключить, что эта школа преследовала не чисто живописные цели, но что там существовали и другие тенденции: с одной стороны, эмоциональная, почти литературного характера выразительность и, с другой стороны, — натурализм. Мы отметили также, что первая была выражена Филиппо Липпи, вторая возглавлена Учелло, отчасти Кастаньо и Венециано, которые также склонялись к натурализму. Поэтому можно сделать вывод, что ведущая тенденция флорентийской школы после смерти Мазаччо была натуралистической и что внимание молодых художников, начавших в эти годы свою деятельность, было также направлено в эту сторону. Далее, изучая Боттичелли, мы увидим, сколь трудно было тогда избежать этого стиля начинающему художнику, даже если по своему темпераменту он был очень далек от научных интересов.
Продолжим наше изучение натуралистов, но теперь обратимся ко второму их поколению. Его многочисленность и значение, которое оно приобрело между 1460 и 1490 годами, вытекали не только из того, что художественное образование преследовало цели главным образом натуралистического характера и что возникли реальные нужды в развитии художественных ремесел, но еще больше от научного склада флорентийского ума. И так как в то время научных специальностей в современном смысле этого слова не существовало, а к изучению искусства, находившегося уже на высоком уровне, стремилась большая часть флорентийской молодежи, неизбежно происходило то, что юноша с природными задатками Галилея принужден был идти в обучение к живописцу или скульптору.
Не владея никакими научными методами, имея мало досуга Для научных занятий, не обеспечивавших ему даже ежедневного пропитания, он стремился найти в искусстве то научное содержание и смысл, которые так сильно и инстинктивно влекли его к себе. Только таким путем он мог использовать свои познания и выразить их средствами искусства.
Так и произошло с одним из крупных художников нового поколения — Алессо Бальдовинетти, в немногих работах которого нельзя обнаружить и следа художественного чувства. В меньшей степени это относится к молодым, но гораздо более одаренным современникам Алессо — Антонио Поллайоло и Андреа Вероккьо.
Можно было бы думать, что последние больше преданы интересам науки, чем искусства, если бы они не создали удивительные художественные произведения, которые лишний раз подтверждают нашу уверенность в неисчерпаемых возможностях флорентийского гения, настолько в их работах не чувствуется сознательной учености.
Внимание Алессо Бальдовинетти было главным образом обращено на различные проблемы техники — своего рода живописную кухню, но свои досуги он посвящал изучению пейзажа, в изображении которого достиг многого. Андреа Вероккьо и Антонио Поллайоло поставили перед собой более важные задачи — развить искусство фигурного изображения в скульптуре и в живописи.
Оставляя пока в стороне вопрос о колорите, который, как я уже говорил, имеет второстепенное значение для флорентийского искусства, следует сказать, что живопись в том виде, как ее застали Поллайоло и Вероккьо, не достигла еще полного развития в своих трех главных направлениях: в изображении пейзажа, движения и обнаженного тела; Джотто не брался ни за одну из этих задач. Изображения обнаженного тела он, разумеется, почти не касался, движение он, скорее, угадывал и делал это замечательно, но никогда не передавал непосредственно, а в области пейзажа довольствовался немногим — лишь символическими намеками, достаточными для его задач, так как он полностью посвятил себя фигурному изображению. Во всех этих областях Мазаччо достиг большего успеха, руководимый своим, никогда не изменявшим ему чувством материальной сущности предмета, которое давало ему возможность передать осязательную ценность не только отдельной фигуры, но и группы в целом, а также окружающего их пейзажа в виде округлых холмов, то есть именно такой формы, которая повышает наше осязательное воображение. Примером его достижений в передаче обнаженной натуры и движения является «Изгнание из рая» и «Человек, дрожащий от холода» в сцене преследовало цели главным образом натуралистического характера и что возникли реальные нужды в развитии художественных ремесел, но еще больше от научного склада флорентийского ума. И так как в то время научных специальностей в современном смысле этого слова не существовало, а к изучению искусства, находившегося уже на высоком уровне, стремилась большая часть флорентийской молодежи, неизбежно происходило то, что юноша с природными задатками Галилея принужден был идти в обучение к живописцу или скульптору.
Не владея никакими научными методами, имея мало досуга Для научных занятий, не обеспечивавших ему даже ежедневного пропитания, он стремился найти в искусстве то научное содержание и смысл, которые так сильно и инстинктивно влекли его к себе. Только таким путем он мог использовать свои познания и выразить их средствами искусства.
Так и произошло с одним из крупных художников нового поколения — Алессо Бальдовинетти, в немногих работах которого нельзя обнаружить и следа художественного чувства. В меньшей степени это относится к молодым, но гораздо более одаренным современникам Алессо — Антонио Поллайоло и Андреа Вероккьо.
Можно было бы думать, что последние больше преданы интересам науки, чем искусства, если бы они не создали удивительные художественные произведения, которые лишний раз подтверждают нашу уверенность в неисчерпаемых возможностях флорентийского гения, настолько в их работах не чувствуется сознательной учености.
Внимание Алессо Бальдовинетти было главным образом обращено на различные проблемы техники — своего рода живописную кухню, но свои досуги он посвящал изучению пейзажа, в изображении которого достиг многого. Андреа Вероккьо и Антонио Поллайоло поставили перед собой более важные задачи — развить искусство фигурного изображения в скульптуре и в живописи.
Оставляя пока в стороне вопрос о колорите, который, как я уже говорил, имеет второстепенное значение для флорентийского искусства, следует сказать, что живопись в том виде, как ее застали Поллайоло и Вероккьо, не достигла еще полного развития в своих трех главных направлениях: в изображении пейзажа, движения и обнаженного тела; Джотто не брался ни за одну из этих задач. Изображения обнаженного тела он, разумеется, почти не касался, движение он, скорее, угадывал и делал это замечательно, но никогда не передавал непосредственно, а в области пейзажа довольствовался немногим — лишь символическими намеками, достаточными для его задач, так как он полностью посвятил себя фигурному изображению. Во всех этих областях Мазаччо достиг большего успеха, руководимый своим, никогда не изменявшим ему чувством материальной сущности предмета, которое давало ему возможность передать осязательную ценность не только отдельной фигуры, но и группы в целом, а также окружающего их пейзажа в виде округлых холмов, то есть именно такой формы, которая повышает наше осязательное воображение. Примером его достижений в передаче обнаженной натуры и движения является «Изгнание из рая» и «Человек, дрожащий от холода» в сцене «Крещения». Но ни ландшафт, ни движение, ни обнаженное тело на фресках Мазаччо не являются сами по себе источником нашего художественного наслаждения.
Оставив в стороне проблему передачи обнаженного тела, пока не дойдем до Микеланджело, первого, кто отчетливо представил себе высокие художественные возможности этой темы, мы не можем умолчать о других замечательных успехах флорентийских художников, особенно в изображении пейзажа и движения — в области движения Поллайоло, в области пейзажа Бальдовинетти, Поллайоло и Вероккьо.
VIII
Рассматривая проблему передачи движения, мы приходим к выводу, что воспринимаем его, так же как и другие явления, с помощью нашего осязательного воображения; только с той разницей, что чувство осязания отступает на второй план перед ощущением мускульного напряжения различной силы. Я смотрю, например, на двух борцов, но если мое зрительное восприятие не перейдет мгновенно в мускульное напряжение, распространяющееся по всему телу, то увиденное не будет живым впечатлением, а только чьими-нибудь услышанными мной словами: «Двое мужчин борются». Хотя борьба сама по себе и может содержать подлинно художественные элементы, однако наше удовольствие от нее не имеет эстетического характера. Этому препятствует не только наша драматическая заинтересованность в ее исходе, но также и то, что последовательность движений происходит слишком быстро, чтобы мы могли осознать каждое из них в отдельности, а также слишком утомительно для нас, даже если бы мы их осознали. Если бы можно было найти способ воспринимать эти движения без утомления, то мы смогли бы извлечь из борьбы гораздо больше, чем могли бы дать нам сами борцы; тот жизненный тонус, который мы испытываем всякий раз, когда остро ощущаем окружающую нас действительность, удвоится благодаря ясному, интенсивному и не утомляющему нас восприятию виденного.
Именно этого достигает художник, которому удается изобразить движение; активизируя наше восприятие, он повышает в нас чувство жизненной энергии и тем самым доставляет нам большее удовольствие от движения, чем то, которое мы испытали бы от него в жизни. Говоря уже знакомыми нам словами, живописец выражает сущность движения, подобно тому как передачей осязательной ценности он выражает материальную сущность видимых явлений. Однако задачи художника гораздо сложнее: в данном случае недостаточно выразить сущность того, что видишь своими глазами. Живописец должен изобразить то, чего в этот момент не существует, то есть движение. Он может выполнить эту задачу только путем фиксации одного отрезка движения, но так, чтобы мы могли представить себе все последующие этапы.
«Сейчас он схватился с противником», — говорю я о своем борце. «Какое наслаждение ощущать в своих мышцах, груди, руках и ногах могучую жизненную силу, кипящую в нем, когда он делает свое последнее, решающее усилие! И какое наслаждение, отведя глаза от картины, ощутить в себе самом расслабление мускулов и покой, подобно свежей струе, разливающейся по жилам!» И все это сможет дать мне художник, который заставит меня поверить в дальнейшее логическое развитие изображенного им движения.
Как раз в этом научный дух флорентийцев оказал огромную услугу искусству. Дальнейшее логическое развитие движения может быть показано художником в том случае, если он основательно, хотя и не обязательно эмпирически, знает анатомию. Для тех, кто по складу своего ума был ученым и лишь по профессии художником, как Антонио Поллайоло и отчасти Вероккьо, этот процесс познания был полон захватывающего интереса. Мы помним, как Джотто удавалось передать осязательную ценность: из всевозможных вариантов светотени и контуров, присущих той или иной фигуре, он избирал те, которые должны были ее моделировать и фиксировать на ней наше внимание.
Если же мы вместо слова «фигура» скажем «фигура в движении», то увидим, что Антонио Поллайоло передавал движение при помощи тех же приемов, что и Джотто, но с той только разницей, что изображал то, что в действительности мы никогда не видим изолированно, то есть линию и светотень, особенно выделяющие данное движение. Таким образом, художник должен создать его, руководствуясь своими мускульными ощущениями, своим умением передать механику движения во всей его логической последовательности, избирая для этого соответственные линии и светотеневые эффекты, которые усилят его выразительность.
Трудно найти более удачные иллюстрации к только что сказанному, чем одна или две работы самого Поллайоло, которые, по контрасту с другими его произведениями, являются подлинными шедеврами. Посмотрим сначала гравюру, известную под названием «Битва обнаженных». Что заставляет нас возвращаться к этому произведению со все новым и возрастающим удовольствием? Конечно, не безобразные лица, не менее уродливые тела и не декоративный рисунок, красивый, но не производящий приятного впечатления своими пропорциями. Гравюра не представляет интереса ни по своей технике, ни в качестве иллюстрации к истории графики. Но удовольствие, получаемое от изображения жестокой борьбы, заключается в жизненной силе этих фигур, возбуждающих в нас в свою очередь ответные ощущения. Взгляните на поверженного воина и склонившегося над ним врага; каждый стремится пронзить кинжалом друг друга. Посмотрите, как лежащий мужчина упирается ногой в бедро своего противника, и вы почувствуете огромную энергию, с которой тот отталкивает его; последний, резко повернувшись и охватив голову своего врага, прилагает не меньше усилия, чтобы удержать достигнутое преимущество. Напряжение мускульной силы одного и сопротивление другого переданы так, что мы не можем не почувствовать их; мы словно подражаем этим движениям и сами участвуем в борьбе, не затрачивая на это ни малейшего усилия. И если все это мы ощущаем, не двинув ни одним мускулом, то что бы мы почувствовали, приняв в ней участие!
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. ПОРТРЕТ МОНЫ ЛИЗЫ (ДЖОКОНДА). Ок. 1503
Парило, Лувр
Таким образом, не применяя чего-либо возбуждающего и сами не растрачивая силу и энергию, мы настолько покоряемся иллюзии участия в этой борьбе, что чувствуем себя обновленными, словно в наших венах не медлительно струится кровь, а бьет жизненный эликсир!
Теперь посмотрим на подлинный триумф движения в картине Антонио Поллайоло «Битва Геракла с Антеем». Когда вы почувствуете, как сильно уперлись в землю ступни Геракла, как напряжены его икры под тяжестью Антея, с каким яростным усилием он откидывается назад, какова сила его удушающего объятия, как могуч последний порыв Антея, одной рукой наносящего сокрушительный удар по голове Геракла, а другой выворачивающего ему руку, — вы сами испытаете бурный прилив энергии, разливающейся по жилам!
Я не могу удержаться от упоминания об еще одном шедевре. На этот раз не только по передаче движения, но осязательной ценности и красоты образа — это «Давид» Поллайоло (картина находится в Берлинском музее). Юный воин метнул пращу, отсек голову гиганта и перешагнул через нее; его изящная и сильная фигура охвачена дрожью после быстрой победы; он и ждет и страшится заслуженного отдыха. Какую легкость, какую душевную энергию испытываем мы при взгляде на этого чудесного юношу!
IX
В области движения Вероккьо был, скорее, учеником Поллайоло и самостоятельно не достиг бы, вероятно, мастерства своего учителя. К сожалению, у нас мало данных для этого сравнения, так как в картинах, которые с уверенностью можно приписать Вероккьо, не изображено движения. Его рисунок ангела {Британский музей) по своим достоинствам ниже, чем «Геракл» Поллайоло (там же).
Все же в скульптуре, предвосхищающей по своей манере стиль его ученика Леонардо и потому представляющей для нас ценность, он создал два таких шедевра в смысле движения, как «Мальчик с дельфином» (дворик палаццо Веккьо во Флоренции) и памятник Коллеони в Венеции. Последний грешит, если вообще это слово к нему применимо, перенасыщенностью движения, которое невольно ассоциируется с барабанным боем и звуками труб и проявляется как в осанке самого кондотьера, так и в поступи его коня.
В области пейзажа Вероккьо был подлинным новатором. Чтобы понять, какие новые элементы он ввел в него, мы должны выяснить, что именно доставляет нам удовольствие в пейзажной живописи, или, вернее, чтобы не слишком расширять эту тему, — в пейзажной живописи флорентийцев.
До Вероккьо его предшественники — Алессо Бальдовинетти, а затем Поллайоло — пытались изображать ландшафты предельно натуралистично. Их идеалом было абсолютно точное выписывание природы с определенной точки зрения; их сюжет, почти неизменный, — долина реки Арно; их достижение — вид тосканского рая, изображенный как бы с высоты птичьего полета.
Нельзя отрицать, что подобный пейзаж мог нравиться, но подлинное наслаждение дарит нам лишь осязательная ценность. Взамен усилий, которые мы обычно прилагаем к тому, чтобы издали смотреть на пейзаж, здесь, на картине, мы ясно и отчетливо видим все подробности и, естественно, испытываем от этого радостное удовлетворение. Если бы, как многим это кажется, пейзаж доставлял нам только зрительное удовольствие, то мастерство Поллайоло не могло бы быть превзойдено никем из последующих художников, разве только Рогиром ван дер Вейденом или странным немецким «Мастером Ливербергских страстей», который дает возможность рассматривать далеко отстоящие предметы с такой точностью и красочной интенсивностью, как если бы мы находились от них на расстоянии нескольких футов.
Если пейзаж действительно должен выглядеть так, насколько неправомерным было бы стремление живописца передать различные градации тонов, атмосферу и пленер, то есть все то, что способствует удаленности предметов, делая их изображения менее ясными и потому не повышающими силу наших зрительных впечатлений.
Но в действительности наслаждение, которое мы испытываем от настоящего пейзажа, только до известной степени зависит от зрительных впечатлений, а в гораздо большей мере — от охватывающей нас радости бытия.
Задача художника заключается поэтому не только в передаче осязательной ценности видимых предметов, но в том, чтобы быстрее и прочнее, чем это сделала бы сама природа, внушить нам чувство радостного и высокого душевного подъема. Эта задача — связать зрительные ощущения с впечатлениями не зрительного характера — настолько трудна, что до недавнего времени успехи в художественном изображении пейзажа были случайны и спорадичны. Только теперь, в наши дни, можно сказать, что живопись серьезно пытается разрешить эту проблему, и, быть может, мы увидим зарю такого искусства, которое будет относиться к тому, что называлось до сих пор пейзажной живописью, так же, как наша музыка относится к музыке Древней Греции или к музыке средних веков.
Вероккьо был первым, по крайней мере среди флорентийцев, кто понял, что тщательное воспроизведение контуров ландшафта не есть еще изображение пейзажа и что натурная живопись — это искусство, отличающееся от фигурной живописи. Он едва ли знал, в чем заключается эта разница, но чувствовал, что свет и атмосфера играют совершенно различные роли в этих видах живописи и что в пейзаже они имеют по крайней мере такое же значение, как и осязательная ценность. Пред ним возникло еще неясное, я должен это признать, видение плейера, и, чувствуя свою беспомощность удержать его при ярком свете итальянского солнца, как он пытался делать это в ранних вещах, Вероккьо предпочитал передавать сумеречное освещение, при котором в ясные тосканские дни, на фоне жемчужно-серого неба особенно тонко выделяются почти черные очертания деревьев.
Подобно Грею, так несравненно выразившему в своей «Элегии» нежную и росистую прохладу, сменившую знойный, пылающий полдень, Вероккьо-живописец стремился к тому же. (Томас Грей (1716 — 1771) — английский поэт.)
И мы чувствуем, что в «Благовещении» (Автор, однако, думает, что эта картина была написана в мастерской Вероккьо, но не им, а Леонардо с помощью Лоренцо ди Креди.) это удалось ему так, как после него удалось лишь одному тосканцу, его ученику — Леонардо.
X
Большое искушение сразу же от Поллайоло и Вероккьо перейти к Боттичелли и Леонардо, к этим гениальным людям и художникам, появившимся спустя два поколения после смерти Мазаччо, которые почти без усилия совершили то, над чем столько трудились их предшественники. Но после них еще сложнее будет обратиться к живописцам, не занимавшим выдающихся мест среди мировых величин и не игравшим видной роли в эволюции искусства. Однако их нельзя обойти молчанием отчасти из-за некоторых, присущих им качеств, отчасти потому, что их имен будет не хватать в очерке о флорентийской школе, хотя бы даже таком кратком, как этот.
Художники, которых я главным образом имею в виду, — это Беноццо Гоццоли, активно работавший в середине XV века, и Доменико Гирландайо — в конце его. Хотя их имена редко упоминаются вместе, все же у них много общего. Как живописцы они были посредственны и почти лишены того чувства, которое делает живопись великим искусством. Их истинная привлекательность находится вне чисто художественной сферы, скорее, в области жанровой иллюстрации. И на этом сходство прекращается, так как их жанр очень различен.
Беноццо был одарен не только необычайной легкостью в исполнении, но и очаровательной выдумкой, непосредственной, свежей и живой, пробуждающей в нас детскую любовь к сказкам. Со временем самые драгоценные черты его творчества исчезли, но кто мог противостоять очарованию его ранних работ, которые кажутся написанными Беато Анжелико, забывшим о небе и влюбленном в землю и весну? В своих фресках в Палаццо Рикарди во Флоренции Беноццо, правда, опускается до того, что воплощает сновидения флорентийского подмастерья об Ивановой ночи. Но какое это ослепительное сновидение, с наивными идеалами роскоши и великолепия!
Волшебные чары, сквозь которые Гоццоли пытался смотреть на мир, постепенно рассеялись, и в его пизаиских фресках (превосходящих картины Тенирса только более возвышенной темой) мы видим немало забавных жанровых деталей, в которых уже нет сказочности. А когда снижается качество жанровой живописи, это влечет за собой развитие плохого вкуса. Можно ли в лондонских, берлинских и нью-йоркских музеях найти что-либо более неудачное, чем фреска Беноццо Гоццоли из ливанского Кампо Санто «Построение вавилонской башни», где беспорядочно нагроможденные здания должны выражать идеальные представления художника о Вавилоне? Правда, вы скажете, что здесь налицо борьба со средневековыми традициями, и в какой-то степени это будет правильно. Но это произведение говорит в первую очередь о том, что место Гоццоли, хотя и усвоившего многие достижения XV века, не в одном ряду с художниками Ренессанса, а вместе с живописцами переходного периода — бытописателями, сказочниками и бутафорами, вроде Спинелло Аретино и Джентиле да Фаориано. И все же иногда Беноццо покажет нам такую характерную голову или такое легкое и свободное движение, что мы невольно спрашиваем себя: а не было ли в нем, в конце концов, задатков подлинного художника? Доменико Гирландайо родился тогда, когда наука и живописная техника были значительно более развиты, чем в годы Беноццо. Все, что может помочь художнику в его творческом пути, — владение техникой, прилежание и даже талант, было к услугам Гирландайо. К несчастью, в нем отсутствовала даже тень гениальности. Он постиг осязательную ценность Мазаччо, движение Поллайоло, световые достижения Вероккьо, но умудрился все это так подсластить, что флорентийский филистер мог бы радостно воскликнуть: «Вот человек, который пишет не хуже великих мастеров, но доставляет мне наконец большее удовольствие, чем они!» Пестрые краски, хорошенькие лица, жизненная достоверность, но всегда и на всем печать ординарности; все это привлекательно и временами, следует признаться, восхитительно, но, за исключением нескольких отдельных фигур, не представляет ничего значительного. Посмотрим на его знаменитые фрески в церкви Сайта Мария Новелла во Флоренции. Прежде всего они настолько не декоративны, что, несмотря на тон и поверхность, приданные им четырехсотлетней давностью, они все еще выглядят, как «живые картины», рядами вставленные в стену. Кроме того, композиции перегружены, подобно страницам иллюстрированной газеты. Взгляните на «Избиение младенцев» — сюжет, представляющий великолепные художественные возможности. В конечном итоге, второстепенные эпизоды и не относящиеся к делу групповые портреты делают все, чтобы отвлечь наше внимание от смысла изображаемого. Посмотрите на «Рождение Иоанна Крестителя»: стоящая на переднем плане Джиневра деи Бенчи так неподвижно уставилась на зрителя, словно собирается позировать фотографу. Большая группа нарядных флорентийских матерей семейств затемняет смысл сцены «Рождества богородицы», в которой к тому же помещен римский рельеф, дабы художник мог продемонстрировать свои познания в античном искусстве, а чтобы похвалиться умением передавать движение, изображена в раздувающейся от ветра юбке служанка, выливающая воду.
Тем не менее другие картины Гирландайо, такие, как его «Поклонение волхвов» в Уффици, обладает бесспорным очарованием; поднимаясь над уровнем посредственности, он проявляет подлинный талант в портретах, а во фреске «Святой Франциск воскрешает ребенка из семьи Сассетти» (в церкви Сайта Тринита во Флоренции) достигает почти гениальности.
XI
Все, чего достигли Джотто и Мазаччо в передаче осязательной ценности, Беато Анжелико и Филиппе Липпи — в выразительности, Поллайоло — в движении, Вероккьо — в области светотени, все это превзошел Леонардо да Винчи, к тому же без тех колебаний и мучительных усилий, которые были затрачены его предшественниками.
За исключением Веласкеса и, может быть, лучших творений Рембрандта и Дега, мы тщетно будем искать такую глубокую и убеждающую нас осязательную ценность, как в «Моне Лизе» Леонардо. Кроме Дега, мы нигде не встретим того безупречного мастерства в передаче движения, которым характеризуется незаконченное «Поклонение волхвов» в Уффици. И хотя в области световых решений другие художники значительно опередили Леонардо, никому не удавалось передать светотень с тем проникновенным и таинственным чувством, каким овеяна «Мадонна в скалах». Прибавьте к этому красоту и глубокую идейную значительность образов, к которым вряд ли кто-нибудь мог до конца приблизиться.
У кого еще юность так неотразимо привлекательна, зрелость так полноценна и мужественна, старость так полна достоинства и умудрена жизненным опытом? Кто мог, подобно Леонардо, передать материнское счастье и ликующую радость ребенка? Кто так, как он, мог выразить застенчивость, нежность и грацию девичества? Душевную проникновенность и неотразимую пленительность женщины в годы ее расцвета? Посмотрите на его многочисленные эскизы к мадоннам, на его рисунок Изабеллы д'Эсте в профиль или на прекрасную «Джоконду» и скажите, найдете ли вы что-нибудь равное им? Леонардо — единственный художник, о котором можно сказать: буквально все, к чему бы ни прикасалась его рука, становилось вечно прекрасным, будь то рисунок поперечного разреза черепа, стебля сорной травы или этюд человеческой мышцы — все с присущим ему чувством линии и светотени он преображал в глубоко жизненные, непреходящие ценности. И всегда как бы случайно, потому что большинство магических рисунков Леонардо были исполнены им в целях иллюстрации какого-либо научного факта, всецело поглощавшего его внимание в тот момент.
Подобно тому как его творчество, больше чем чье-либо другое, приобщает нас к жизни, так и изучение его личности настолько возвышает наш дух, как едва ли это может сделать биография какого-нибудь другого выдающегося человека.
Подумайте о том, что, будучи величайшим художником, он был не менее признанным архитектором, музыкантом и поэтом-импровизатором и что все эти занятия искусством были в его жизни только мгновениями, похищенными у трудов в области теоретических и практических научных вопросов. Кажется, нет области современного знания, которую бы он не предвосхитил в своем воображении или не представлял вполне отчетливо, кажется, не существовало ни одной сферы научной мысли, которая не привлекла бы его, и не было ни одного вида применения человеческой энергии, в которой Леонардо не испробовал бы свои силы. И все, что он ждал от жизни, — это возможности применить свои познания на деле!
Жизнь такого человека вызывает в нас высочайший душевный подъем, окрыляет нас верой в то, что и мы можем быть причастны к тем великим возможностям, которыми обладает человеческий род!
Живопись играла для Леонардо столь незначительную роль среди его остальных работ, что мы должны рассматривать ее только как одну из форм выражения его всеобъемлющей гениальной натуры. К ней он прибегал тогда, когда его не поглощали другие занятия, но в ней одной искал он путей к выражению высшей духовной сущности, воплощаемой им в формах, насыщенных глубоким содержанием. И, как бы ни было совершенно его мастерство, сущность задуманного им образа была настолько выше и совершеннее, что вынуждала его медлить над своими картинами, потому что его рука, казалось, не в силах была воспроизвести то, к чему он стремился. Поэтому он редко заканчивал их. Таким образом, мы потеряли в количестве, но потеряли ли мы в качестве? Мог ли обычный или даже выдающийся художник видеть и чувствовать так, как видел и чувствовал Леонардо? Мы сомневаемся в этом. Мы часто склонны рассматривать всеобъемлющий человеческий гений лишь как совокупность обычных человеческих мозгов, заключенных каким-то образом в одну черепную коробку и к тому же не всегда согласованных между собой. Мы забываем, что гениальность — прежде всего огромная умственная энергия и что в силу одной этой причины Леонардо не мог быть только живописцем, так как занятия искусством не исчерпывали и сотой доли запасов его энергии.
Но когда он обращался к живописи, то творил с такой глубиной и силой чувства, видения и воплощения, что его так же невозможно сравнить с другими, как невозможно, скажем, «Мону Лизу» поставить на один уровень с портретом «Жены художника» кисти Андреа дель Сарто.
Нет, не будем, как многие, упрекать Леонардо в том, что он так мало написал. У него было слишком много дела, кроме живописи, и он оставил нам в наследство одно или два величайших произведения искусства, когда-либо созданных руками человека.
XII
Некрасивый и непривлекательный в своем творчестве художник, часто неправильный в рисунке и редко приятный по колориту, с болезненными образами и мучительно взвинченными чувствами... Почему же искусство Боттичелли так непреодолимо, что и сейчас мы не знаем, как относиться к нему: преклоняться перед ним или ненавидеть его?
Секрет в том, что европейская живопись никогда не знала художника, который был бы настолько равнодушен к предмету своего изображения и настолько бы стремился к изобразительности. Выросший в годы, когда натурализм торжествовал свою победу, Боттичелли с полной самозабвенностью и серьезностью стал заниматься живописью. Ученик Филиппе Липпи, он усвоил дух его утонченного жанра. Будучи одарен чувством реального, он создал такой тип мыслителя, как «Святой Августин» на фреске в церкви Оньисанти во Флоренции. Однако в годы расцвета Боттичелли отходит от всего этого, даже от спиритуализма, характеризующего его ранние вещи, и стремится выразить в живописи те ее ни с чем не сравнимые свойства, которые непосредственным образом приобщают нас к жизни и повышают интенсивность нашего восприятия. Воздействие Боттичелли на зрителя двойственно: он властно привлекает тех, кто не ищет в произведении искусства ничего, кроме того, что там изображено, и отталкивает других необычностью художественных образов и какой-то лихорадочностью своих чувств.
Но если мы обладаем легко возбудимыми чувствами осязания и движения, то испытаем от Боттичелли такое наслаждение, какое вряд ли могут нам доставить другие художники. Только много спустя, после того как мы переживем и страстную привязанность и неистовую враждебность к тому, что внушают его картины, мы дойдем до объективной и полной оценки истинной гениальности Боттичелли. Потому что в высшие моменты своего вдохновения он достигал ничем не превзойденного сочетания осязательной ценности с сущностью движения.
Посмотрите, например, на «Рождение Венеры». Ваше осязательное воображение испытает такой высокий подъем, какой вызывается лишь музыкой. Но даже глубина музыкального воздействия отступает здесь перед живописным, ибо золотые волосы богини, развевающиеся не отдельными прядями, а тяжелыми, упругими волнами, своим живым, мощным и ритмичным движением непосредственно вливают в нас жизненную энергию. Вся картина насквозь пронизана ощущением движения и осязательной ценностью, и это доставляет радость нашему поэтическому воображению.
Как упиваемся мы силой и свежестью ветра, плеском волн! Боттичелли всегда манит нас к себе. Не важно, что его сюжеты могут быть фантастичными, как в «Весне», религиозными, как в Сикстинской капелле или в «Короновании Марии», политическими, как в «Афине, укрощающей кентавра» или наивно-аллегорическими, как во фресках «Виллы Лемми». Как бы примитивен и отвлечен ни был его замысел, Боттичелли неизменно взывает к нашему осязательному чувству жизненным воплощением своих образов. Временами даже кажется, что, чем менее художественна тема, тем более высоко ее исполнение, как будто он богаче всего наделяет осязательной ценностью и движением именно те фигуры, которые не имеют смыслового значения и легко могут быть приняты за символические.
Так, например, изображая кентавра, воплощающего в своем образе политические неурядицы Флоренции, Боттичелли щедро расточает на него самые сокровенные дары своего таланта. Он лепит торс и бедра так, что каждая линия, каждая вогнутость и каждая округлость вызывает в нас сильнейшее чувство осязания, словно наши пальцы могут ощупать его фигуру. Лицо кентавра передано еще более убедительно. Каждая линия в совершенстве выполняет свое назначение, обрисовывая структуру лица — лба, носа и щек; что же касается волос, то вообразите себе тончайшие линейные очертания, подобные трепещущим контурам пламени и в то же время необычайно пластичные, ласкающие руку, которая может придать им любую форму по своему желанию!
Действительно, сам сюжет и даже его изображение были так безразличны Боттичелли, что он кажется нам одержимым идеей воплощать то, что невоплотимо, — отвлеченные элементы осязания и движения. Правда, можно передать осязательную ценность почти без придания ей материальной телесности, выразив ее элементами движения. Например, мы хотим передать округлость кисти руки, не применяя светотеневой трактовки. Мы попросту придадим движение ее контуру и ткани, прилегающей к запястью, и нам будет видна округлость руки, выраженная элементами движения. Но сделаем еще шаг вперед: возьмем те линии, которые выражают движение развевающихся волос, вздувающихся от ветра одежд и колыхание волн в «Рождении Венеры», выделим только эти линии со всей силой их воздействия на наши чувства, возбужденные движением. Что же мы получим? Чистые элементы отвлеченного движения, существующего вне связи с каким-либо изображением. Но подобные линии, выражающие как бы сущность движения, способны сами по себе возбудить воображение и, следовательно, повысить наши ощущения.
Итак, представьте себе искусство, основанное всецело на элементах движения, и вы получите нечто, имеющее такое же отношение к изображению, какое имеет музыка к человеческой речи. Подобное искусство существует и именуется линеарно-декоративной живописью. И в этом единственном в своем роде искусстве Боттичелли не имел соперников в Европе, за исключением художников Японии или других стран Востока.
Подчиняясь требованиям передачи движения, он готов был пожертвовать всем, что приобрел в юности от Филиппо Липпи и Поллайоло, правда, настолько, насколько допускали требования его заказчиков.
Изображение само по себе было для него не более, чем либретто. Он был счастлив, когда его тему можно было перевести в то, что мы назовем линейной симфонией, и этой симфонии должно было подчиняться все; даже осязательные элементы переводились им в элементы движения. Не позволяя взгляду зрителя погрузиться в глубину картины, ради того, чтобы он мог сосредоточиться на ее линейном ритме, Боттичелли или совершенно не давал задних планов, или упрощал их насколько возможно.
Колорит он также полностью подчинял своей линейной схеме, игнорируя его изобразительные функции, а цвет в его картинах лишь выделял линию, не доминируя над ней, как это бывает обычно.
Во всем этом и заключается объяснение того, почему так ценны шедевры Боттичелли. В некоторых его поздних работах, например «Чудеса св. Зиновия» в Дрезденской галерее, мы видим, как эти симфонии преображаются в линейные вакханалии. В ранней картине «Поклонение волхвов» хомут и сбруя так видоизменяют поэтического Пегаса, что мы почти не отличаем его от ломовой лошади.
БОТТИЧЕЛЛИ. ВЕСНА. Ок. 1478 г. ФРАГМЕНТ
Флоренция, Уффици
Но, несмотря на все это, творец «Рождения Венеры», «Весны» и фресок «Виллы Лемми» остается для нас величайшим художником линии, который когда-либо существовал в Европе.
XIII
У Леонардо, Боттичели, так же как и у Микеланджело, не было преемников, но много подражателей. В самом деле, чтобы превзойти Леонардо в глубочайшей выразительности образа, понадобился бы более одаренный художник, чем он. Чтобы придать рисунку большую музыкальность, чем у Боттичелли, следовало найти живописца с еще большей страстью к перевоплощению осязательной ценности в движение. Во Флоренции таких не нашлось, и последователи Боттичелли (ученики Леонардо все были миланцами, и здесь мы их не касаемся) только подражали его образам, композиции, линеарности: снижая их качество, подслащивая все по своему вкусу, применяясь к уровню своего ограниченного восприятия. И хотя все, что они делали, было только имитацией искусства Боттичелли, все же его последователи приобрели широкую популярность в той среде, для которой их живопись была более доступна, чем подлинники великого мастера: вызывавшие лишь почтительные, но неискренние восторги публики. Нам незачем задерживаться на этих живописцах, даже на Филиппино Липпи с его деликатно-чахоточной манерой, или на Раффаэлино дель Гарбо с его проблесками никогда не выполненных обещаний.
Прежде чем перейти к творчеству единственного, гениального человека во Флоренции после Боттичелли и Леонардо — Микеланджело, в чьих творениях флорентийское искусство достигло своей наибольшей высоты, обратимся к нескольким живописцам, которые при своей многосторонности могли бы за пределами Флоренции почитаться за первоклассных мастеров.
Фра Бартоломео, Андрея дель Сарто, Понтормо и Бронзино были, вероятно, не менее одаренными художниками, чем Пальма, Бонифацио Веронезе, Лотто и Тинторетто. Но эти таланты не смогли достигнуть своего расцвета, так как их обладатели были одержимы страстью к техническому мастерству, подпали под влияние академизма и в конце концов были сметены ураганной силой искусства Микеланджело.
Фра Бартоломео — деликатный, утонченный и изящный живописец, напоминавший, скорее, миниатюриста, — стремясь во что бы то ни стало к изображению пластических эффектов и колоссальных, как бы механически построенных фигур, изменил своей природной склонности писать нежные женские образы и прелестные пейзажи. И так как это пошло ему только во вред, то такой шедевр фра Бартоломео, как «Мадонна с Иоанном Крестителем и св. Стефаном» (собор в Лукке), поразительный по светотени, цвету, движению и чувству, остался почти неизвестным широкой публике. Также неизвестны его крошечное «Рождество Христа» в Мельхетте и сотни мастерских рисунков пером. В представлении многих фра Бартоломео олицетворяет в живописи лишь помпезность и известен главным образом своими огромными, но неинтересными изображениями пророков и апостолов или черными как смоль алтарными картинами; все это можно рассматривать как возмездие художнику за пристрастие к чрезмерной рельефности форм.
Из всех флорентийцев Андреа дель Сарто насколько возможно ближе всех был к Джоржоне и Тициану, ощущая в то же время свою неполноценность рядом с Леонардо и Микеланджело. Он неглубокий живописец, но кто создал что-либо более жизнерадостное, чем его «Портрет дамы с томиком Петрарки в руках»? Где сможем мы, кроме Венеции, найти такие простые, искренние и психологические портреты, как его «Скульптор» или его автопортреты, которые, кстати сказать, являются самой полной, но трагичной автобиографией, созданной когда-либо кистью художника? Его картина «Св. Яков, ласкающий детей», написанная почти в венецианском духе, насыщена нежнейшим чувством. Как удивительно близок его «Диспут о Троице» к венецианской живописи и по колориту и по технике; как хороши эти черные и белые, серые и пурпурно-коричневые тона! Прибавьте к ним осязательную ценность, столь характерную для художников Флоренции — взгляните, например, на изображение спины св. Себастьяна!
Но в «Мадонне с гарпиями» — произведении едва ли меньшего технического мастерства — Андреа дель Сарто не столько выражает свою художественную индивидуальность, сколько стремится к величавой парадности образа. Однако и здесь он остается большим живописцем, потому что его спасает природная сила. Но его мадонна слишком монументальна, и зачем ему все эти драпировки?
Это стремление к преувеличенной монументальности и пышным складкам были своего рода ухищрениями художника, боявшегося утонуть в мощном разливе микеланджеловского искусства. Когда вы подробно рассматриваете живые, веселые и жизнерадостные фрески дель Сарто в Сайта Мария Аннунциата во Флоренции, вы замечаете, как от сцены к сцене растет его интерес к драпировкам. Также и во фресковом цикле монастыря делло Скальци во Флоренции — он делает все возможное, чтобы за драпировками спрятать очертания фигур. Большая часть этих сцен заполнена тяжеловесными изображениями, которые служат своего рода манекенами для развешивания собранных в складки одеяний; примером могут служить фигуры «Введения святого Захария в храм», где ни один из персонажей не смеет пошевельнуться из опасения смять свои одежды.
Таким образом, внутреннюю содержательность образа Андреа дель Сарто принес в жертву позам и драпировкам! Какое печальное зрелище представляет его «Успение», где главное внимание зрителя обращено на одежды Марии и апостолов, а не на них самих. Вместо того, чтобы возноситься на небеса рядом с мадонной, чувство, неизменно испытываемое нами, когда мы стоим перед «Ассунтой» Тициана, мы углубляемся в рассмотрение тканей, которые нам предлагают примерить подмастерья, при наиболее выигрышном освещении. Но довольно об этом! Лучше вспомним, что, несмотря на неудачи, Андреа дель Сарто написал «Тайную вечерю» — единственную, доставляющую нам наслаждение после леонардовской.
Понтормо, который мог бы стать замечательным декоратором и портретистом, был заведен в тупик своим благоговейным восхищением перед Микеланджело и кончил тем, что впал в академизм, изображая ужасные обнаженные тела. Но на что он был способен, когда следовал своему внутреннему призванию, мы можем судить по люнетам Виллы в Поджо а Кайано. По своему рисунку, колориту и фантазии это самые прелестные и жизнерадостные стенные росписи, сохранившиеся в Италии до наших дней и к тому же полностью отвечающие требованиям декоративного искусства.
Что Понтормо мог дать как портретист, мы видим по его изумительному декоративному панно в Сан Марко с изображением Козимо Медичи или по его портрету «Дамы с собачкой» (во Франкфурте), где, может быть, впервые индивидуальная характеристика модели сочеталась с раскрытием ее общественного положения. Но его картина «Мучения сорока святых» в Сан Лоренцо — бессмысленное нагромождение обнаженных тел, подлинных карикатур на фигуры Микеланджело — показывает, до чего мог опуститься этот художник.
Бронзино, прямой последователь Понтормо, не обладая его декоративным талантом, был, к счастью, главным образом портретистом. И если бы он не брался ни за что другое! Однако идеал композиций Бронзино — обнаженное тело, лишенное венкой привлекательности, плохо нарисованное и холодное по колориту; и как результат — картина «Сошествие Христа в чистилище». Но, будучи хорошим портретистом, Бронзино оставил после себя серию портретов в духе Понтормо, которые оказались не только подлинными произведениями искусства, но и повлияли на характер придворного портрета во всей Европе. Правда, их колорит жесток, а исполнение вяло, но по аристократизму и выразительной характеристике портретного образа они редко бывали превзойдены. В портретах Элеоноры Толедской, принца Фердинанда, принцессы Марии, находящихся в Уффици, мы словно видим прототипы королей, инфантов и принцесс Веласкеса. Как благороден и выразителен «Портрет молодой женщины с молитвенником в руках», находящийся в зале Барроччи в Уффици.
XIV
Великие флорентийские художники почти без исключения умели выразить материальную сущность видимых явлений. Во всяком случае, это было их сознательное намерение, хотя и не всегда точно сформулированное. Но по мере того как живописцы все больше эмансипировались от церковной власти и встречали среди своих заказчиков людей, способных понять их, эта задача — передать реальность окружающего мира — становилась все более и более отчетливой, а усилия все более энергичными.
Наконец появился человек, ни у кого не учившийся и в то же время все унаследовавший, человек, глубоко и сильно чувствовавший и умевший выразить то, что для его предшественников оставалось еще до конца неясным. Семя, породившее этого художника, успело уже принести плоды в творчестве Джотто и Мазаччо. Но в нем, последнем из целого поколения, рожденном к тому же в более благоприятную эпоху, была сконцентрирована вся свойственная этому поколению энергии; в его лице флорентийское искусство достигло своей логической кульминации.
Микеланджело, так же как до него Джотто и Мазаччо, обладал чувством материальной сущности, но, кроме того, он владел всеми изобразительными средствами, унаследованными от Донателло, Полланоло, Вероккьо и Леонардо, — средствами, которые были неведомы Джотто и Мазаччо. К тому же Микеланджело ясно представлял себе (о чем другие лишь смутно догадывались), что радость физического бытия полнее всего выражается изображением прекрасного обнаженного человеческого тела. Эта идея так же конкретна, как то положение, что восприятие осязательной ценности предметов основывается на психологии зрения. Иными словами, мы реально представляем себе сущность идей лишь тогда, когда переводим их в условия нашего собственного бытия, наших чувств.
Это явствует хотя бы из следующего: даже самые сухие прозаики скажут, что поезд идет или мчится, вместо того чтобы сказать катится на колесах, — настолько остро мы ощущаем его движение. При этом мы не в меньшей степени используем понятие антропоморфизма, чем самые невежественные дикари. В то же заблуждение мы впадаем всякий раз, когда неодушевленной вещи придаем какие-то человеческие свойства. И если мы наделяем ими данный предмет, то это еще не означает, что мы познаем его бытие, а только то, что антропоморфизируя его, мы тем самым приближаем его к произведению искусства. Во всей вселенной есть только один-единственный предмет, который не нуждается в антропоморфизации, чтобы реализовать свое бытие, — это сам человек. Его движения, его действия — единственное, что мы понимаем непосредственно и без всякого усилия. Следовательно, не существует ни одного реального предмета, обладающего такими художественными возможностями, как человеческое тело; ничего, что было бы нам так знакомо; ничего, в чем были бы так заметны перемены; ничего, что, будучи изображенным, не выглядело бы живее и естественнее, чем в жизни, что повышало бы с такой быстротой и силой нашу душевную энергию.
Осязательная ценность и движение, как мы видим, являются специфическими качествами фигурной живописи (по крайней мере флорентийской), потому что, в основном, именно они повышают нашу жизнеспособность. И хотя верно также и то, что осязательная ценность прекрасно может быть выражена задрапированной фигурой, как это доказали Джотто и Мазаччо, все же драпировки являются помехой и в лучшем случае только преодоленным затруднением, потому что мы чувствуем, как они маскируют подлинную материальную сущность той формы, которая скрыта под ними.
МИКЕЛАНДЖЕЛО. СОТВОРЕНИЕ АДАМА. 1508-1512. ФРАГМЕНТ ПЛАФОНА
Ватикан, Сикстинская капелла
Живописец, который удовлетворяется воспроизведением того, что видит всякий, едва ли поймет это чувство. Его главная цель — изобразить очевидное, то, что в фигуре бросается в глаза, — лицо и одежду, как это делается в большинстве портретов, фабрикуемых в наши дни. Но подлинный художник, даже если он принужден изображать задрапированные фигуры, умеет посредством ткани выделить контуры тела так, чтобы передать его материальную сущность. Но подумайте, насколько ярче выявится эта сущность, насколько убедительнее проявится истинная природа человека, если между художником и его превосходными изобразительными возможностями не встает никакой преграды?
А это может быть полностью осуществлено только изображением обнаженного тела. Если драпировки являются помехой для выявления осязательной ценности, то они делают почти невозможной совершенную передачу движении. Чтобы воспринять игру мускулов, чтобы ощутить силу различных напряжений и сопротивлений, чтобы непосредственно проникнуться расточаемой энергией, нужно обратиться к обнаженной натуре. Только тогда мы сможем проследить сокращение и упругость мускулов, эластичность и напряженность кожи, которые, претворясь в подобные же ощущения нашего тела, приведут нас к восприятию движения. Только тогда оно окажет мгновенное воздействие на нас благодаря своей жизненности и отчетливости, и последующее за ним интенсивное восприятие достигнет почти предела. В задрапированной же фигуре скрыта игра мускулов и изменения кожного покрова, и мы сможем воспринять ее движение только путем медленного изучения контуров ткани, так что наше восприятие явится далеко не полным.
Теперь мы сможем понять, почему каждое искусство, избравшее своей главной задачей изображение человеческой фигуры, должно в первую очередь интересоваться обнаженным телом и почему самой захватывающей проблемой классического искусства всех эпох всегда была обнаженная натура. Она не только лучшее средство выражения того, что способно повысить наши духовные и физические возможности, она сама значительнейшее явление в мире человеческих чувств. Первым, кто после замечательных греческих ваятелей попил, что обнаженная натура — главный объект в великом искусстве фигурного изображения, что, по существу, эти два понятия тождественны между собой, был Микеланджело. До него тело изучалось главным образом с точки зрения научной любознательности или как вспомогательное средство для изображения задрапированной фигуры. Он понял, что оно само по себе есть цель, при этом конечная цель его искусства. Обнаженное тело и искусство являлись в его представлении синонимами. В этом заключается тайна успехов и неудач Микеланджело.
Прежде всего об его успехах. Нигде, кроме лучших образцов греческого искусства, мы не найдем форм, чья осязательная ценность настолько усиливала бы интенсивность нашего восприятия, так непосредственно и сильно воодушевляла бы нас. Некоторые художники, как, например, Мазаччо, обладали таким же осязательным чувством, но лишь им одним; другие, подобно Леонардо, превосходно передавали движение. Но никто из художников, умевших выражать материальную сущность предмета, не применял ее в той области, где безоговорочно царил лишь один Микеланджело, — в изображении обнаженного тела.
Поэтому творчество Микеланджело больше, чем все современное искусство, проникнуто укрепляющей нас силой бытия. Нам не часто дано испытать такой высокий жизненный подъем, какой мы ощущаем, смотря на его Адама во фреске «Сотворение человека», Еву в «Искушении» и «Изгнании из рая» или на многочисленные обнаженные фигуры на потолке Сикстинской капеллы, изображенные на такой высоте, заметьте это, чтобы живительно воздействовать на нас. Когда мы смотрим на бога, создающего Адама, или ангела, стоящего возле пророка Исайи, нас захлестывает волна столь концентрированной жизненной энергии, какая может обрушиться лишь при небывалых мировых событиях. Или посмотрите на его рисунки, величайшие из существующих, на «Богов, состязающихся в стрельбе из лука» или «Геракла со львом».
И эту властную волю, направленную на выражение материальной сущности, и все свои многообразные художественные таланты Микеланджело сочетал с идеалом красоты и силы, с мечтами о великом, но реальном будущем человечества, которому не было равного в новой истории.
Только образы сикстинского плафона дают нам познать, что такое мужество, душевная и физическая энергия, готовность к действию, что такое мечта о великой душе, обитающей в прекрасном теле. Микеланджело завершил то, что начал Мазаччо, создал такой образ человека, который может подчинить себе землю и, кто знает, может быть, больше, чем землю!
Рожденный и выросший в эпоху, когда его гуманистические идеалы и чувство обнаженного тела могли быть поняты и оценены по достоинству, он, к несчастью, провел большую часть жизни в трагических переживаниях и, находясь еще в полном расцвете творчества, оказался одиноким; быть может, величайшим, но — увы! — также и последним из титанов, в таком изобилии дарованных нам XV столетием. Он принужден был жить в эпоху, которую не мог не презирать, в мире, который не понимал его и которому он был не нужен. Поэтому он не мог работать над тем, к чему призывал его гений, и вопреки глубочайшим склонностям своей натуры принужден был растрачивать свою энергию на такие сюжеты, как «Страшный суд». Его позднейшие работы несут на себе следы изменившихся жизненных условий; вначале это ощущалось в том избытке презрения и горечи, которыми проникнуты были создаваемые им скульптуры, позднее — в несоответствии его гения с тем, что он принужден был выполнять. Его страстью была обнаженная натура, его идеалом — сила. Но каким же исходом для этой страсти и идеалов могли быть сюжеты «Страшного суда» и «Распятия апостола Петра», сюжеты, которые по властным и незыблемым законам христианского мира должны были выражать смирение и жертву? Но смирение и терпение были так же незнакомы Микеланджело, как и Данте, как гениальным творческим натурам всех эпох. Даже испытывая эти чувства, он не сумел бы их выразить, ибо его обнаженные фигуры полны мощи, но не слабости, ужаса, но не боязни, отчаяния, но не покорности.
Во фреске «Страшный суд» обнаженные гигантские фигуры охвачены страхом, но не перед Христом, который, несмотря на свой карающий жест, скорее указует путь окружающим его смертным, чем обрекает их на то, чего нельзя предотвратить.
«Страшный суд» задуман настолько грандиозно, насколько это вообще возможно, как последний момент перед исчезновением вселенной в хаосе, как сон богов перед своим закатом («Сумерки богов»). Ибо, когда наступит катастрофа, никто ее не переживет, даже само верховное божество. Поэтому в концепции этого сюжета Микеланджело потерпел неудачу, и иначе это и не могло быть. Но где можно еще, даже если взять все мировое искусство в целом, ощутить такой грандиозный заряд энергии, как в этом сне или, вернее, ночном кошмаре гиганта?
Фреска в капелле Паолина в Риме «Распятие апостола Петра» тоже была обречена на неудачу. Искусство может только приобщать нас к жизни и усиливать нашу жизнеспособность. Вели оно говорит о страдании и смерти, то лишь как о неизбежном завершении жизни, полной энергии, страсти и решимости. Но как же возможно, спрашиваю я, при таком осмыслении образа соблюсти верность реалистической трактовке, показав человека, висящего вниз головой? Микеланджело и не мог изобразить зрителей и палача иначе, как жизненно-реальными и потому располагающими к себе людьми! Не удивительно, что он и здесь потерпел неудачу. Но какая трагедия заключается для нас в почти бесследном исчезновении картона «Купающиеся солдаты», единственном сюжете, точно созданном для него и написанном за сорок лет до последних вещей! Достаточно даже несовершенной копии, для того чтобы понимающий в искусстве человек признал, что погибшее произведение было, вероятно, величайшим вневременным шедевром в смысле искусства фигурного изображения.
То, что у Микеланджело были свои недостатки, не подлежит сомнению. По мере того как он старел, его гений коснел и застаивался. Преувеличив выражение мощи в своих скульптурах, он огрубил их; усилив осязательные свойства, он выразил их в излишней, хотя и мастерской моделировке фигур. Несомненно, порой он бывал столь же равнодушен к предмету своего изображения, как Боттичелли. Боттичелли стремился выразить самую сущность движения, но и Микеланджело, кажется, мечтал о том же — выразить самую сущность осязательной ценности. В его многочисленных рисунках часто встречается только изображение торса. Приведу еще один пример его страсти к осязательной ценности. Я уже говорил, что фигуры Джотто были так массивны потому, что обладали пластической ощутимостью. Микеланджело стремился к подобным преувеличениям, делая, например, плечи слишком широкими и мускулистыми только для того, чтобы сильнее возбуждать наше осязательное воображение. Я даже рискую пойти дальше и сказать, что его ошибки во всех видах искусства — в скульптуре, в живописи и в архитектуре — вызваны тем же пристрастием к рельефным, выступающим формам. Но все же ценитель фигурного искусства, понимающий его сущность, получит даже от более слабых произведений Микеланджело такое наслаждение, какое вряд ли дадут ему другие мастера.
В заключение повторим то, что вытекает из нашего, пусть краткого, очерка о флорентийской школе, а именно, что хотя ни один флорентиец не был просто преемником и подражателем своего предшественника, все они, от первого до последнего, боролись за одно общее дело. Между Джотто и Микеланджело нет никаких противоречий. Все усилия художников, живших в это время, были направлены на выражение осязательной ценности либо движения, либо того и другого вместе. А так как успешная попытка разрешить проблемы формы и движения лежит в основе всякого высокого искусства, то флорентийская живопись, несмотря на свои многочисленные ошибки, первой после древнегреческой классики достигла высокого уровня в мастерстве фигурного изображения.
Книга III. Живописцы Средней Италии
ХУДОЖНИКИ ФЛОРЕНЦИИ достигли совершенства в передаче формы и движения; венецианские — в красоте и гармонии колорита; что же внесли в волшебное искусство эпохи Возрождения живописцы Средней Италии? Редко краски так трогают и проникают в душу, как в живописи Симоне Мартини, Джентиле да Фабриано, Перуджино и Рафаэля. И все же если эти великие мастера кажутся иногда холодными и даже суровыми, то их младшие собратья имеют еще меньше заслуг как колористы. Редко проблемы формы и движения бывали удачнее разрешены, чем у Синьорелли, а между тем у него было мало последователей, если они вообще были. Нет, не в области колорита и не в создании новых форм прославилась живописная школа Средней Италии. Почему же тогда имена ее художников столь велики и популярны? Наше исследование, если оно будет успешным, даст на это ответ.
I
Всякий раз при взгляде на какой-либо предмет в нашей памяти запечатлевается как бы «тень» его формы и цвета. Это впечатление от одушевленных или неодушевленных вещей, обычно известное под названием «зрительного образа», присуще различным людям в различной степени. Некоторые почти не получают его, хотя знают, что зрительный образ существует; другие, напротив, могут вызвать в памяти впечатления, настолько определенные, что последние пробуждают в них ответные чувства. Третьим достаточно только закрыть глаза, чтобы представить несуществующий образ с живостью и теплотой непосредственного зрительного восприятия. Строго говоря, каждый человек отличается друг от друга богатством своих зрительных впечатлений, но для наших целей нам достаточно разделить всех людей на три категории: о первых мы скажем, что у них полностью отсутствует зрительная память; о вторых — что они обладают ею в умеренной степени; о третьих — что они владеют ею в совершенстве.
Развитие искусства было бы, вероятно, совершенно иным, если бы люди вообще не имели зрительной памяти или, наоборот, имели бы превосходную зрительную память. В первом случае нам, вероятно, не доставляло бы удовольствия смотреть на воспроизведения предметов. Да и зачем это было бы нужно? Напротив, во втором, если бы мы обладали возможностью по собственному желанию вызывать полноценные зрительные образы, у нас полностью отсутствовал бы интерес к простым репродукциям. Но большинство из нас принадлежит ко второй категории — к тем, кто обладает умеренной зрительной памятью. Упоминание предмета вызывает в нас некое представление о нем. Оно так неясно и неуловимо, что скорее дразнит нас, чем удовлетворяет. После бесплодных усилий удержать в памяти образ отсутствующего друга с радостью бросаешься даже на его плохую фотографию, которая кажется им самим, потому что она с внешней стороны выглядит более совершенной, нежели постоянно живущий внутри нас образ близкого человека.
Однако все это становится иным, если мы обладаем совершенной зрительной памятью. При имени друга мы можем представить себе его так же ясно, как если бы он был здесь. Не один, а тысяча его дорогих сердцу образов возникнет в нашей памяти, и каждый из них будет близок нам. И по тому, как подскажет нам настроение, мы мысленно изберем один, но будет ли он сходен с изображением друга? Если последнее и хорошо, то ведь здесь представлено лишь одно мгновение из целой жизни, а может ли оно выразить его индивидуальность целиком? Таким образом, если я получаю удовольствие от репродукции, сходной с моделью, то это происходит лишь вследствие несовершенства моей зрительной памяти.
А теперь представьте себе искусство, которое не ставило бы себе целью активизировать нашу зрительную память, так как каждый из ее образов совершенен. Как могло бы тогда искусство доставить нам чисто зрительное наслаждение? Оказывается, существуют два пути его развития, из которых один мы назовем «иллюстративным», а другой «декоративным». Оба эти понятия нуждаются в пояснении, если не в защите.
Под декоративностью я подразумеваю все те элементы художественного произведения, которые непосредственно взывают к нашим чувствам, как колорит и тон, или непосредственно воздействуют на наши осязательные ощущения, как форма и движение. Такое понятие декоративности никогда сознательно не использовалось в столь широком смысле слова, и, действительно, это один из самых неопределенных терминов в нашем языке. Но так как за последнее время появилась тенденция обозначать им многие элементы художественного произведения, за исключением разве понятий экспрессивности, академичности или чисто технического умения, то мы не слишком перегрузим этот термин, если возложим на него еще тот смысл, который я ему придаю.
Каково же определение иллюстративности? Это все то, что исключает декоративность. Но такое определение слишком негативно и буквально, чтобы оно могло нас удовлетворить. Мы должны придать ему большую конкретность. Обычно это понятие применяется слишком широко и в то же время (как я постараюсь доказать) слишком ограниченно. На фрески Рафаэля в лоджиях Ватикана, иллюстрирующих Библию, нельзя смотреть так же, как мы смотрим на иллюстрации или фотографии, заполняющие собой журнальные статьи о путешествиях. Мы все чувствуем эту разницу, но в чем она реально заключается? Ответ будет ясен, коль скоро мы уясним себе, что означает для нас каждый из видов иллюстраций. Воспроизведение вида природы есть только репродукция, и мы воспринимаем ее с фактической точки зрения, а не как произведение искусства. Оно может вызвать удовольствие тех, кого интересуют поиски точного зрительного образа. Фрески Рафаэля не воспроизводят ничего из того, что когда-либо существовало в окружающем нас мире или было кем-либо увидено, но разве они ничего не дают нашей зрительной памяти? Напротив, они загружают наше восприятие рядом образных сцен. Каких? Которые никогда не происходили? Да, именно так. И это, разумеется, не те зрительные образы, о которых мы только что говорили, что они лишь туманные отражения реально существовавших предметов. Тогда что же это такое? Думается, что это те же зрительные впечатления, но объединенные художником в стройную систему библейских легенд. Тот психологический процесс, который происходил в голове Рафаэля, до известной степени происходит и у нас, обладающих зрительной памятью. Слова вызывают у нас образы, заполняющие наше воображение, возникая по мере развитии фразы или фабулы, полностью соответствуя при этом их смыслу.
А что, если существует человек, не обладающий одинаковой с нами зрительной памятью, превосходящий нас богатством своего воображения? Что, если его зрительные образы ярче, что, если он, сплавляя их вместе, создает новые, более пленительные, чем наши? И если этот человек, читая, например, Ветхий завет, мысленно воспроизводит живописные образы, придавая им столь глубокий смысл, какой нам самим не обрести; что, если все это так? Тогда мы должны признать, что его художественное воображение несравненно более богато, пылко и совершенно, чем наше.
Но каким образом умственное представление подобного рода превращается в произведение искусства? Ответ довольно прост: оно должно быть точно скопировано в мраморе или перенесено на холст и тогда станет художественным произведением. В этом ли только дело? Большинство людей, не колеблясь, сказали бы — да. Старый спор об идеале, новый спор о темпераменте; Аристотель и Золя, удобно устроившиеся в одном кресле. На обычный вопрос: каково различие между фотографией и таким произведением искусства, как, например, портрет кисти Уоттса, большинство ответили бы так: первая дает только общее представление о человеке, а второй раскрывает нам его психологическую характеристику, сделанную с большей силой. Таким образом, искусство — не слепая имитация природы, а воспроизведение зрительных образов, теснящихся в голове художника.
И все же некоторые не удовлетворились бы таким определением. Репродукция, сказали бы они, это не искусство, независимо от того, прекрасно или возвышенно ее содержание. Удовольствие, которое она доставляет, имеет не художественный, а эстетический характер, в широком смысле этого слова, или, может быть, только интеллектуальный. И эти некоторые стали бы настаивать на различии между вещью, прекрасной самой по себе, или прекрасным зрительным образом и произведением искусства, а также на разнице между понятием «эстетический» и «художественный», допуская, что первое включает в себя второе. Далее, они сказали бы, что произведение искусства сравнительно мало может выиграть от привлекательности сюжета, что задача художника и состоит в том, чтобы осмысливать и возвышать этот сюжет своей интерпретацией. И простое воспроизведение действительности, какой бы возвышенной она ни была, какими бы грандиозными замыслами ни проникнута, сведется для них к понятию литературности, и я разойдусь с ними только в словах, так как скажу вместо «литературность» — «иллюстративность». Наконец мы нашли определение, которое искали. Ценность иллюстративной живописи заключается, следовательно, не в ее внутренних художественных достоинствах, форме, колорите или композиции, а в точном воспроизведении зрительных образов, заимствованных как из внешнего мира, так и из нашего, внутреннего. Таким образом, если в каком-либо произведении искусства мы не обнаружим присущей ему внутренней художественной ценности, то оно станет для нас не чем иным, как «иллюстрацией», и несущественно при этом, будет ли она нарисована, гравирована и расцвечена на бумаге или написана на доске или стене.
Если бы у Рафаэля и Микеланджело, Леонардо или Джорджоне мы не находили ничего, кроме точного воспроизведения на полотне и в мраморе их зрительных реальных или идеальных образов, то эти художники оказались бы иллюстраторами в гораздо большей степени, чем тот безвестный сонм живописцев, который поставляет рисунки для большой прессы. Правда, между первыми и вторыми лежала бы пропасть по качеству исполнения, но фактически это было бы одно и то же.
«Иллюстрация» (а я буду в дальнейшем пользоваться именно этим словом) имеет, следовательно, и узкий и более широкий смысл, нежели тот, который применяют к ней обычно, подчиняя ее всецело печатному тексту. Из нее следует исключить репродукции, воспроизводящие обычные предметы, слишком примитивные сами по себе, чтобы доставить удовольствие кому-либо, кроме разве совершенно неразвитых людей, для которых простое распознавание изображения уже сама по себе радость. Но, с другой стороны, иллюстрация содержит в себе простое воспроизведение тех зрительных образов, не важно, сколь они сложны или значительны и какой имеют вид, чьи формы мы не могли бы воспринять с полной отчетливостью, так как они не обладают внутренней, присущей им ценностью.
II
Из желания сократить путь, который приведет нас к пониманию многих сложных проблем, а не в целях академического поучения начал я свой краткий очерк о живописцах Средней Италии с рассмотрения, что такое зрительный образ и сколь необходимо нам отличать в произведениях искусства декоративное начало от иллюстративного; легче было бы идти по широкой и пологой дороге, но, одолев крутой подъем, мы пойдем быстрее и достигнем большего.
Что может сильнее ввести в заблуждение, чем перемены моды или вкуса? Большинство людей становятся насмешливыми скептиками и предлагают немногим любителям старины выбирать между молчанием и парадоксом. «О вкусах не спорят» — изречение, которого придерживаются сейчас не меньше, чем во времена варварства. Правда, правила вежливости запрещают заходить слишком далеко в спорах о вкусе, но если бы последним можно было уделить достаточно внимания и развить наши взгляды, не боясь кого-либо затронуть, то разве не могло бы случиться, что мы сошлись бы во мнениях? Я уверен в этом. К счастью, это не входит в нашу задачу, и мы постараемся избегнуть этой опасной попытки. Но одно, во всяком случае, должно быть разъяснено сейчас же. Дело в том, что отдавать чему-либо предпочтение в искусстве совсем не то же самое, что делать это в жизни. Жизнь выдвигает различные требования от поколения к поколению, от десятилетия к десятилетию, ото дня ко дню, от часа к часу, и по мере этого изменяются и предметы наших желаний и восторгов, а следовательно, и художественные темы. Иначе и быть не может. В искусстве же большинство культурных людей ценит глубокий замысел и красоту идей, а раз это так, то последнее должно отражать эти замыслы и идеи, или оно не будет выполнять своего назначения. Однако неустойчивость тех или иных взглядов выражается главным образом в изменении лишь одной стороны художественного произведения, именно иллюстративной, а это, как мы договорились с читателем, далеко не самый существенный фактор в искусстве. Остается еще декоративная область, которая не затрагивает идеологических моментов по той причине, что они могут быть выражены и без ее посредства. Поэтому декоративные элементы художественного произведения, независимые от тех или иных зрительных образов, положенных в его основу, стоят выше превратностей моды и вкуса. Наступают иногда времена, когда люди увлекаются иллюстративным видом искусства или чисто техническим мастерством. Это периоды попросту дурного, а не изменившегося вкуса. Многим может нравиться Гвидо Рени, а не Боттичелли, Караччи, а не Джорджоне, Бугро, а не Пювисс де Шаванн, но пусть они не заблуждаются относительно того, что их предпочтение основано на художественных достоинствах данных произведений. Истина заключается в том, что высокие живописные качества картины выше понимания этих людей, ищущих в ней только изображения действительности или, может быть, технического умения, которое они случайно могут оценить.
Грубое деление художественных элементов на две категории — иллюстративную и декоративную — в какой-то мере уже пригодилось. Оно дало нам возможность отделить то, что в произведении искусства подвергается изменениям, от того, что является в нем неизменным. Декоративное начало и внутренние качества живописи настолько же вечны, как и психологические процессы, которые, как мы думаем, только видоизменяются от века к веку, но, по существу, остаются такими же. Иллюстративность же меняется от эпохи к эпохе вместе с умственными представлениями и выражающими ее зрительными образами, и потому она так же разнообразна, как разнообразны расы и индивидуумы. Отсюда следует вывод, что искусство, которое содержит главным образом иллюстративные элементы, перестанет существовать тогда, когда выражаемые им идеи утратят свою ценность, а также то, что если мы не можем ощутить декоративное начало в художественном произведении, то оно скоро перестает нам нравиться.
III
Теперь на время мы можем оставить всякие абстрактные рассуждения и заняться живописью Средней Италии. Последняя не всегда отличалась красивым колоритом и редко достигала больших успехов в передаче формы, но тем не менее то одно, то другое направление в этой школе всегда привлекало внимание если не самых искушенных ценителей, то, во всяком случае, более сведущей публики. И мы поймем причину этого. Живописцы Средней Италии были не только величайшими иллюстраторами, каких мы, европейцы, когда-либо знали, но и самыми привлекательными среди них. Они видели и воспроизводили те образы, которые воплощали стремления и идеи двух разных эпох. Первая из них — средние века — настолько далека, что для нас ее представления уже непонятны, и искусство, выражавшее их, утратило свой блеск и очарование, которыми оно когда-то обладало; оно постепенно поблекло и стало скучным, как ветхий документ, подтверждающий подлинность умершей старины. Но другая эпоха нам еще очень близка, и ее стремления и желания, облеченные в художественные формы, понятны нам в той же мере, в какой они были поняты тогда, когда четыреста лет тому назад зародились в голове у Рафаэля.
Мы начнем с той школы, в которой развивалась иллюстративная живопись, посвященная средневековым темам. Графическое искусство в Италии, вероятно, никогда не умирало с момента своего возникновения, и было бы кропотливым трудом проследить его развитие в течение долгого времени. Оно то застаивалось, истощалось и почти исчезало, пока, вновь питаемое живыми и непостижимыми источниками, не превращалось в бурный поток. Оживал ли это этрусский гений? Приносилось ли это искусство вместе с морским ветром из Византии? Или приходило из-за гор, с улыбающихся полей Франции? Пусть историки ищут ответы на эти увлекательные вопросы. Потому что нас интересует не происхождение искусства, а доставляемая им радость, и для этого нам совершенно достаточно знать, что живопись как искусство процветала в конце XIII века, за стенами «нежной Сиены», бывшей в те времена, как и позже, обольстительнейшей королевой среди итальянских городов.
Первым цветком этого нового сада, цветком, из семени которого выросло все сиенское искусство, был Дуччо ди Буонинсенья. И именно потому, что он был типичен для своего времени и для сиенской школы и предвосхитил многое из того, что характеризовало всех живописцев Средней Италии, мы должны на нем остановиться.
Все, что средневековое искусство требовало от живописца, Дуччо выполнял с готовностью. Средневековый мастер должен был писать иконы с религиозно-символическим содержанием и делать это настолько тщательно, чтобы самый невежественный верующий мог в нем разобраться. Такие иконы наряду с остальной церковной утварью служили украшением храма и поэтому блестели и переливались, как настоящее золото.
ДУЧЧО. ЯВЛЕНИЕ УЧЕНИКАМ. КЛЕЙМО АЛТАРНОГО ОБРАЗА «МАЭСТА». 1308-1311
Сиена, Музей собора
Нужно и должно было преобразить эту отвлеченную символику в прекрасные иллюстрации к религиозным легендам. Испытала ли она такое превращение под кистью гениального Дуччо?
Чтобы получить на это ответ, рассмотрим оборотную сторону иконостаса, некогда украшавшего собой самый гордый в мире христианский храм. Ныне этот алтарный образ, находящийся в сиенском музее, постепенно разрушается, утратив свой интерес для людей и неугодный богу. Однако зеленые с золотом краски, отливающие блеском металла, хранят еще следы великолепия, такого же, какое никогда не поблекнет на бронзовых рельефах «Райских дверей» Лоренцо Гиберти.
Таинственным призывом манит к себе зрителя этот алтарный образ, в котором столь удивительно отражено сплетение духовных переживаний с чисто земными чувствами. Он подобен старинному переплету манускрипта с бесценными миниатюрами, с инкрустациями из слоновой кости, отделанного золотом и драгоценными камнями. Когда вы всматриваетесь в «Маэсту» Дуччо ближе, вам кажется, что вы листаете роскошно иллюстрированную книгу. Перед вами оживают давно знакомые образы, исполненные такой простоты и законченности, что для современников Дуччо эти иллюстрации, наверно, уподоблялись утреннему солнечному сиянию после глухой тьмы долгой ночи. Но, кроме того, по сравнению с условно-символическими изображениями эти церковные легенды обрели под кистью Дуччо ту новую жизнь и присущую им нравственную ценность, которую он сам ощущал в них. Иными словами, он поднимал зрителя на уровень своего восприятия.
Взглянем на некоторые из этих сцен: во дворце, посреди седобородых, погруженных в размышления мужей сидит мальчик с величественной осанкой. Изображенные слева женщина и старик с восхищением всплескивают руками. Никогда еще тема «Христос среди ученых» не получала более подходящей иллюстрации. Ни одной лишней фигуры, ничего тривиального и в то же время ни одного штриха, противоречащего выражению чисто человеческих чувств. Позы и жесты предельно выразительны.
Другая сцена: Христос с учениками. Божественный и величественный, он сидит перед ними, а они взирают на него так, как будто он открылся им впервые. И мгновенный взрыв высоких человеческих чувств и патетика религиозного экстаза даны здесь с предельной убедительностью. И, заметьте, возвышенная интерпретация религиозного образа не помешала Дуччо выявить индивидуальную выразительность каждого, а ведь здесь изображены различные возрасты и темпераменты. Следующая картина — «Омовение ног». На лицах учеников оцепенение, почти испуг и вместе с тем недоумение, словно они не верят своим глазам. Христос, омывающий ноги апостолу Петру, — весь сострадание и смирение. Петр сжимает голову руками, как будто хочет увериться в реальности всего происходящего.
Было бы нетрудно заполнить последнюю часть этого небольшого очерка описанием почти непревзойденных триумфов Дуччо в интерпретации и выразительности образов. Это встречается почти на каждом шагу. Но еще одного или двух примеров будет достаточно. В следующей сцене мы видим Христа в сияющих золотых одеждах, устремляющегося в ад для освобождения патриархов и пророков. Они толпой направляются ко входу в черную пещеру, и на их лицах застыла тоскливая надежда, с которой они ждали в течение тысячелетий появления Спасителя.
Потом на земле наступило пасхальное воскресение и, как только солнечный свет хлынул сквозь зазубренные скалы, три Марии приблизились к гробу и отступили, увидев его пустым. На отодвинутой крышке сидел сияющий и торжествующий ангел в белой одежде. Я не знаю более впечатляющей передачи этого самого чудесного из всех сюжетов. К драматической выразительности и жестикуляции Дуччо добавляет драматическое освещение во всей магии его внезапных переходов. Легкий прозрачный воздух овеян пурпурно-бронзовым солнечным сиянием, и мы чувствуем живительную прохладу весеннего дня.
Выразительной передачей образов, величием замысла и глубиной чувства — всеми этими качествами, присущими подлинному искусству, Дуччо обладал полностью, а это означало, что он владел также формой и движением, раз он мог создавать подобные эффекты.
Остаются еще два других необходимых условия, без которых «иллюстративное» искусство будет скорее хромать, нежели идти вперед. Это — группировка и расположение фигур. В том, что Дуччо постиг и эти условия, присовокупляя успехи в этой области к другим своим достижениям, мы убедимся, если посмотрим еще на несколько сцен оборотной стороны сиенского алтаря.
Обратимся сначала к сюжету, требующему драматического действия и многих актеров, — «Поцелую Иуды». В центре переднего плана мы видим неподвижную фигуру Христа; гибкий и подвижный Иуда заключает его в свои объятия, в то время как легко вооруженная стража, теснящаяся кругом, хватает Христа, а старейшины фарисеев при виде его лица, исполненного смирения, отступают, пораженные ужасом. Слева горячий и негодующий апостол Петр бросается на солдат с ножом, справа, толпясь и суетясь, убегают ученики, и только самые отважные решаются оглянуться назад. Мы видим здесь две группы людей, и каждая из них настолько выразительна, что ошибиться в их действиях можно только при полнейшем отсутствии разума. В другой сцене — «Неверие Фомы» — Христос изображен с поднятой правой рукой, открывающей рану для нечестивого прикосновения маловерного ученика. Эти две фигуры даны в отдалении, с обеих сторон от них стоят апостолы, размещенные так, что мы видим выражение лица каждого.
Что Дуччо сумел нам показать пространство, глубину и расстояние между фигурами, мы поняли уже по таким его композициям, как «Три Марии у гроба» или «Поцелуй Иуды», но не будет излишним добавить к этому еще несколько примеров.
Во-первых, обратимся к области жанра, введенного Дуччо. В сцене «Отречение Петра» мы видим группу людей, сидящих вокруг костра с протянутыми вперед руками, дабы согреться его теплом. Среди них Петр, произносящий слова отречения; мимо проходит служанка. Хотя перспектива далеко не совершенна, мы не можем пожелать более четкого размещения фигур, чем здесь. Внутренний двор, комнаты, лестница вдоль дома — все отдалено одно от другого, превосходно передана глубина пространства. И затем шедевр Дуччо — «Въезд в Иерусалим». Мы в саду. Если взглянуть поверх низкой стены, то можно увидеть Христа, едущего в сопровождении учеников по мощеной дороге. Перед ним, шаловливо оглядываясь, идут мальчики, несущие пальмовые ветви и оливковые побеги. Толпа устремляется в большие городские ворота. По другую сторону дороги — фруктовый сад с людьми, взбирающимися на высокую ограду и деревья. Вдали виднеются храм и башни Иерусалима. Нам не только дана возможность реально ощутить пространство, но, что самое удивительное, занять в нем определенное место в качестве свидетелей и участников этого легендарного события. Дуччо сумел преобразить условную религиозную символику, которую в течение веков пытались расшифровать набожные души, в наглядные иллюстрации, извлекающие из священной истории все то, что было существенно для восприятия средневекового человека.
Но мог ли Дуччо передать внутреннюю ценность своих зрительных представлений, помимо их чисто иллюстративных качеств? Присутствуют ли в его живописи те необходимые декоративные элементы, которые возвышают искусно выраженный зрительный образ до подлинной реальности?
Этим исследованием мы и должны сейчас заняться. С первого взгляда сцены оборотной стороны сиенского алтаря очаровывают своей поблекшей яркостью. Они настраивают нас на то, чтобы наслаждаться ими, как старинным золотом или мозаикой, принявшей оттенок античной бронзы. И если бы это было так, то радость, получаемая нами от произведений Дуччо, была бы лишь немногим выше той, какую мы испытали бы от древних ювелирных изделий, старинного шитья или тканей. Но впечатления от подобного рода предметов неравноценны впечатлениям, получаемым от живописи — искусства, в малой степени зависящего от материала, приятного самого по себе. Когда мы всмотримся в картины Дуччо, то обнаружим, что помимо хороших иллюстративных качеств они обладают и декоративной ценностью. Как удачно справляется Дуччо с построением пространства, мы уже знаем и потому не возвращаемся к этой теме. Это качество специфически-живописное, а не только иллюстративное, как это могут подтвердить большинство иллюстраторов нашего времени.
Мы уже заметили, что Дуччо мастерски группирует фигуры, что способствовало ясности его повествования. Но он пошел дальше, создавая эффект масс и линий, приятных для глаза и удачно размещенных в пространстве. Другими словами, он хорошо компоновал. Несколько примеров пояснят мою мысль. В одной или двух сценах мы уже отметили хорошую группировку фигур применительно к иллюстративным задачам. Но группировка в композиции имеет еще большие заслуги. «Неверие Фомы» было бы воспринято нами только как чисто исторический эпизод даже в том случае, если массы не были бы столь ритмично распределены, если бы фасад надлежащей величины и формы не создавал нужного фона. Выразительный образ Христа не изменился бы и тогда, если бы он стоял в центре, под вершиной фронтона, высота которого увеличила его фигуру, или не выделялся бы на фоне сводчатой двери. Точно так же мы не много потеряли бы, если бы композиция была изображена на квадратной доске вместо скошенной и подчеркивающей в силу этого покатые линии крыши, обрамляющие фигуру Христа.
Однако воображаемое пересечение этих линий под острым углом вызвало бы ряд неудач, и среди них одну особенно: точка их пересечения пришлась бы не на голову Христа, а на верхушку фронтона. Следовательно, направление нашего взгляда не совпадало бы с идейным центром композиции и противоречило помыслам зрителя, направленным на восхищенное созерцание Спасителя.
Таким образом, эта картина дает нам многое помимо легендарного рассказа. Это настолько тонкая по расположению масс и линий композиция, что мы вряд ли найдем ей подобную. Исключение составляет лишь один живописец, тоже работавший в Средней Италии и занявший такое же место среди художников Высокого Возрождения, какое Дуччо занимает среди мастеров Проторенессанса. Я имею в виду, конечно, Рафаэля. Не следует думать, что я выбрал единственный пример, в котором Дуччо показал себя великим мастером композиции. У него почти нет произведений, где бы массы, линии и пространство трактовались менее тонко. Краткость изложения и боязнь наскучить читателю описаниями, которые следовало бы делать точным языком геометрических формул, удерживают меня от того, чтобы привести много других примеров. Но позвольте мне сослаться еще на один, с которым мы уже знакомы, — на «Поцелуй Иуды». Какую компактность и значительность придают массе фигур два густых дерева; без них она казалась бы незаконченной и тяжеловесной. Заметьте, что Христос стоит под деревом, занимающим центр композиции и являющимся точкой схода всех линий над его головой, что придает фигуре жизненность и как бы слитность с природой. А как великолепна сцена с копьями и факелами солдат, перекрещивающимися и параллельными линиями — эффектом простым и в то же время значительным, а ведь он встречается еще в древней помпейской росписи — «Битва Александра Македонского» и позже во «Взятии Бреды» Веласкеса.
Если композиции Дуччо так совершенны, проникнуты чувством и мастерски по формальному решению, если ко всем своим достоинствам «иллюстратора» он добавляет чисто материальное великолепие колорита, если его можно сравнить с Рафаэлем и он к тому же создает ощущение пространства, то почему же мы так редко слышим о нем? Почему он не так знаменит, как Джотто? Почему он не стоит в одном ряду с величайшими живописцами? Джотто был немногим моложе его, и между ценителями того и другого могла быть только едва заметная разница в возрасте. Большая часть произведений Джотто, существующих и поныне, была фактически написана несколько раньше, чем иконостас Дуччо. Сравним — так ли значительна иллюстративность фресок Джотто, как у Дуччо? В целом, конечно, нет, а временами она даже ниже, ибо живопись Джотто редко отличалась таким разнообразием выражений и тонко оттененных чувств.
Итак, если Джотто не превосходит Дуччо как иллюстратор, если его фрески не более действенны, чем религиозные сцены Дуччо, образный строй которых мы так стремимся раскрыть, если они оба уже не соответствуют нашим представлениям и чувствам и выразили в своей живописи лишь злободневные интересы и восторги прошлого, то почему же один из них живет для нас и поныне, а другой ушел в небытие, оставив лишь слабую тень своего имени? Несомненно, здесь играет роль своеобразная «жизненность», постичь которую дано немногим. Поэтому отмеченный ею художник нам вечно близок, и в этом заключается тайна искусства Джотто, а Дуччо не познал ее никогда.
Что же это за таинственное средство? В чем оно состоит? Ответ короток. В самой жизни. Если художник сумеет уловить ее сущность и удержать ее в своих руках, то его картины, за исключением их чисто материальной утраты, будут жить вечно. Если он к тому же заставит этот «дух жизни» воздействовать на нас, возбуждать ток крови в наших жилах, то до тех пор пока мы существуем, его искусство будет властвовать над нами.
Я уже пытался объяснить, что такое эта «жизненность» — качество, настолько важное для фигурной живописи, что, лишаясь его, она чахнет, не достигнув расцвета. Я должен отослать читателя ко второй части моей книги — «Флорентийские живописцы», — где этот вопрос рассматривается. Здесь я ограничусь тем, что скажу: искусство становится жизненным не только потому, что оно привлекает нас своей чисто материальной красотой или очаровательной иллюстративностью, а потому что этому способствуют подчас неуловимые, декоративные элементы. Реализм фигурной живописи достигается передачей формы и движения. Я предпочитаю вместо понятия «форма» употреблять понятие «осязательная ценность», ибо форма доставляет нам наслаждение тем, что извлекает из изображенного предмета его конкретную сущность, воспринимаемую нами быстро и ясно.
Но эта сокровенная сущность изображения постигается лишь тогда, когда мы бессознательно переводим наши зрительные впечатления в воображаемые ощущения осязания, напряжения и объема. Отсюда выражение «осязательная ценность». Правильный рисунок, тонкая моделировка, искусная светотень — это еще далеко не все. Сами по себе они не имеют значения, и нельзя объяснить достоинство картины только тем, что она прекрасно построена, прекрасно освещена и нарисована. Мы ценим эти качества в той мере, в какой художнику с их помощью удается выразить осязательную ценность и движение. Но предположить, что мы любим картину только потому, что она хорошо написана, равносильно тому, как если бы сказать, что нам нравится обед, потому что он хорошо приготовлен, а не потому что он сам по себе вкусен.
Говорить о рисунке, моделировке, светотени так же, как о приготовлении обеда, — это дело тех людей, которые создают или готовят, а мы, чья привилегия состоит в том, чтобы ценить и наслаждаться тем, что приготовлено или написано, мы, я утверждаю, либо можем выражать наше удовольствие и душевные переживания, либо не выражать ничего.
Следовательно, осязательная ценность и движение являются существенными факторами в фигурной живописи, и она не будет иметь реального значения (независимо от того, сколь сложно ее содержание или идея, которую оно выражает), пока не доставит нам воображаемых ощущений осязания и движения. Пусть читатель простит меня за детскую аллегорию. Представим, что к нам явился некий посланец, принесший страстно ожидаемое нами известие. Мы не столько обрадованы его словам и его внешней привлекательностью, сколько самим посланием. Но если он сам к тому же благороден и талантлив, то его счастливый приход скрепит нашу дружбу на всю жизнь. Так же и с картиной; если она обладает осязательной ценностью и движением, то мы полюбим ее глубже, чем какую-либо другую, ибо эти качества дороги нам, как душевная привязанность друга.
А теперь вернемся к Дуччо. В его живописи отсутствуют эти качества, и поэтому она почти забыта, в то время как творения Джотто содержат их в такой высокой степени, что истинные любители искусства даже сегодня предпочтут их всем, за исключением разве нескольких шедевров.
Человеческая фигура нужна Дуччо как участник драматического действия, затем как составная часть композиции и лишь, наконец, как выразитель осязательной ценности и движения. Поэтому мы глубоко восхищаемся им как драматургом в живописи, подобным Софоклу, но относимся к нему как к художнику, стремившемуся к отвлеченности. Мы наслаждаемся его красочным богатством, его превосходной композицией, однако его искусство почти никогда не приобщает нас к жизни.
Несколько примеров лишний раз подтвердят мою мысль, и я выбираю сюжеты, отличающиеся большой изобразительностью. Вернемся к уже знакомому нам «Неверию Фомы». То, что эта сцена иллюстративна и много говорит нашему уму и сердцу, в этом мы убедились. Восхищаясь ею как композицией, мы видели, что она чудесно активизирует наш глаз и мозг, но это и все. Фигуры не пробуждают в нас, казалось бы, органически присущих им чувств осязания и движения, а ведь искусство должно вызывать их в нас еще сильнее, чем в жизни.
Посмотрите на апостола Фому. До тех пор пока вы видите в нем фигуру, наделенную определенным движением, он, вероятно, соответствует вашим мысленным представлениям и вы находите его вполне приемлемым. Но взгляните повнимательнее, и вы удивитесь, почти не обнаружив в нем осязательной ценности. Он неплохо задрапирован в длинные одежды, но, к сожалению, тела под ними не чувствуется, а ведь эта фигура — лучший пример моделировки Дуччо. Апостол Фома не может убедить зрителя в реальности своего существования и, уж конечно, не в состоянии активизировать наше восприятие. Что же касается действия и движения, то они совсем не выражены. Ноги, скрытые под одеждой, не устойчивы, не попирают собой землю, они почти отсутствуют, хотя одежда превосходно уложена в складки, чтобы подчеркнуть прикрываемые ею конечности. Вследствие этого мы не испытываем и в своих ногах воображаемых ощущений движения и силы, а между тем только эти ощущения могут убедить нас в реальности изображенного и заражают радостной и жизненной активностью.
Сцена «Отречение Петра» рассказана в духе фамильярного и даже юмористического жанра, однако и здесь фигуры, за исключением нескольких голов и рук, кажутся сделанными из папиросной бумаги. Все они не весомы, лишены сопротивления, не сидят, а как бы парят над своими сиденьями, хотя художник хорошо передает их склоненные к костру фигуры.
В «Омовении ног» мы видим одного из младших учеников, снимающего с ног сандалии. Здесь опять форма и поза хорошо выражены, их выбрал бы и большой художник, имевший при этом великолепную возможность передать осязательную ценность и движение. Но, увы! Все, что здесь есть, — это одежды из папиросной бумаги! Посмотрите на «Чудесный улов», где в совершенстве передано выражение лиц, позы и жесты людей, тянущих тяжелый груз, но ничто не может быть более плоским по форме и пустым, нежели изображение ученика, напрягшегося больше всех. Даже в неводе отсутствует вес, и рыба в нем не прыгает, не сопротивляется, не ощущает того, что она уже поймана в сети.
Указывать на ошибки великого человека — неблагодарная задача, и достаточно будет еще одного примера. Это снова тема, предоставляющая огромные возможности для передачи осязательной ценности и движения, — сцена «Снятие с креста». Более патетического, прочувствованного и достойного варианта этой темы в живописи не существует, и Дуччо скомпоновал ее так, будто стремился к чему-то еще большему. Старший ученик, перекидывая руку через перекладину креста и твердо упираясь ногой в лестницу, поддерживает безжизненно падающее & объятия богоматери тело Христа. Другой, стоя на коленях, вынимает гвозди из ног Иисуса, еще прибитых к кресту, а третий обнимает его тело, чтобы не дать ему упасть. С точки зрения формы тело Христа — превосходно переданная обнаженная натура, более прекрасная, чем все, что было написано самим Джотто. Беспомощность и бессилие жестов и положений выражены превосходно, но в них нет подлинности. Отсутствует осязательная ценность, ничто не обладает тяжестью, в объятиях и руках нет поддерживающей силы, и все это вполне объяснимо. Дуччо настолько поглощен передачей экспрессивности, что если бы он и хотел выразить осязательную ценность и движение, то все равно не смог бы этого сделать, увлеченный другими задачами.
Здесь возникает вопрос, требующий хотя бы краткого ответа. В результате всего виденного мы могли бы спросить: почему же Дуччо, не обладая ощущением осязательной ценности и движения или не обращая на них внимания, будучи занят другими задачами, все же выбирал такие действия и позы, которые всецело связаны с передачей этих свойств? Если он имел в виду только иллюстративные и композиционные задачи или чисто вещественную прелесть и выразительность своих образов, то есть ту область, в пределах которой он был великим мастером, то ведь и иное расположение фигур могло бы также удовлетворить его художественный вкус? Почему же он предпочитал именно те построения, какие интересовали бы художника иного склада, стремившегося к выражению полноценных и жизненных элементов в своих композициях?
Ответ, я думаю, прост. Дуччо не предпочитал их, а нашел готовыми, так же как, вероятно, и композиционные формы и веками отстоявшийся канон человеческой фигуры. Для меня по крайней мере непостижимо, как живописец, не обладавший чувством осязательной ценности и движения и не стремившийся передать их, все же изобретал мотивы, пригодные главным образом для моделировки фигур и выражения их действий. Дуччо, я повторяю, должен был найти эти каноны уже готовыми, но использовал он их не в тех целях, как их первооткрыватели, а ради простых форм и действий, которые пригодились ему как примеры для иллюстрации.
Следовательно, для него форма и движение — эти два наиболее важных элемента в фигурной живописи — не имели реального смысла. Он использовал их как дилетант, не понимая их действительной сущности, и здесь опять Дуччо, как это ни странно, — первый из великих живописцев Средней Италии — похож в этом отношении на последнего из них. Потому что Рафаэль тоже не видел в осязательной ценности и движении их принципиального значения для художника, а пользовался ими лишь как вспомогательными средствами для различных иллюстративных задач в живописи.
IV
Таков был Дуччо. В интересах среднеитальянской живописи было бы лучше, если бы он был менее значителен. Талантливые художники не тяготились бы тогда его авторитетом и могли свободнее развиваться, или же более решающим оказалось бы влияние Джотто. Дуччо же не только подчинил учеников своему стилю и методу, но, воспитав эмоциональных сиенцев в духе своего эмоционального искусства, невольно вынудил более молодых художников предаться этому пагубному, широко распространенному виду живописи.
Вполне возможно, что если бы Дуччо не имел такого могучего влияния на Симоне Мартини, то пример Джованни Пизано и Джотто, с работами которых тот был, конечно, знаком, пробудили бы в нем то чувство реальности, без которого невозможно создание художественных произведений.
В лице Симоне Мартини мы могли бы иметь еще одного художника с пониманием осязательной ценности и материальной вещественности, подобными джоттовским, но, разумеется, с иными идеями, которые он стремился выразить и донести до нас.
Но Дуччо оставил ему в наследство свой иллюстративно-декоративный стиль, хотя и далекий от совершенства, однако настолько удовлетворивший Симоне Мартини и его сограждан, что только гений смог бы видоизменить его наперекор всему средневековому укладу жизни.
Отойти от консервативных позиций Дуччо было не просто: единственный способ их преодоления заключался в дальнейшем усовершенствовании его же образцов и приемов.
Что Симоне Мартини чувствовал себя связанным традициями Дуччо, мы ясно видим по работам, говорящим о постоянном соперничестве с учителем. Своеобразная одаренность Симоне проявлялась не в изображении драматических и страстных евангельских сцен, в трактовке которых Дуччо, доводивший их до предельной экспрессии, превосходил своего ученика. Единственный выход для того, кто не хотел подражать прежнему, заключался в том, чтобы, отойдя от экспрессивности, посвятить себя задачам иллюстративного характера. И в сценах «Страстей господних» мы видим, что Симоне Мартини, намного превосходя Дуччо в передаче осязательной ценности, движений и прелести образов, оказался значительно ниже его в передаче драматических ситуаций. Ради изображения будничных и мелких переживаний он жертвует строгой и суровой выразительностью человеческого чувства.
СИМОНЕ МАРТИНИ. БЛАГОВЕЩЕНИЕ. 1383. ФРАГМЕНТ
Флоренция, Уффица
Однако, когда Симоне Мартини освобождается от влияния Дуччо, в нем чувствуется другой художественный темперамент. Он не стремится к изображению торжественных сцен и действий, его влечет прелесть, красота и радость жизни. Живопись заключалась для него не в передаче осязательной ценности и движения; так же мало интересовало его выражение духовной сущности изображаемого. Симоне Мартини подчиняет все (а он был достаточно силен, чтобы подчинять) своему чувству красоты.
В зале Совета Сиенской ратуши мы видим его во всем блеске. Одну стену украшает роспись, на которой изображена полная благородства небесная царица, сидящая на троне между святыми, прелестными девственницами и ангелами. Они вздымают над ее головой роскошный балдахин, преклоняют перед ней колени, подносят ей цветы. Это такое же пышное и утонченное видение, как фасад собора в Орвьето, но здесь все растворяется в страстном чувстве красоты, выраженной в чарующих лицах, изящных позах, чудесных красках.
На противоположной стене вы увидите олицетворение средневековой гордости — фреску с изображением кондотьера Гвидориччо да Фольяно, проезжающего мимо нас на коне. И конь и всадник украшены славными геральдическими гербами и длинной родословной. Как твердо сидит Гвидориччо на своем коньке, как властно сжимает свой командный жезл, как свысока взирает он на мир!
А какая изумительная красота движений и линий в «Чудесах блаженного Августина» в церкви св. Августина в Сиене! Какие очаровательные чувства выражены в восхитительной фреске в Ассизи, где мы видим святого Мартина, возведенного в рыцарское звание! Император опоясывает прекрасного юношу своим мечом, рыцарь прикрепляет ему шпоры, а группа оруженосцев смотрит на него — и все это под звуки струн и дудок менестрелей! Один из оруженосцев поражает изысканной красотой своего профиля; подобные лица, и даже еще более утонченные и таинственные, нередко встречаются в картинах Симоне Мартини. В маленькой капелле в Ассизи вы увидите образы такой странной и проникновенной прелести, что на мгновение они заставят вас вспомнить точеные лица японских гейш и древнеегипетских цариц. Их невозможно сравнить с излюбленными нами классическими или современными идеалами красоты.
Чтобы выразить свое чувство грации и изящества, Симоне Мартини обладал более чем достаточными возможностями. Он был таким колористом, как мало кто до или после него. У него было замечательное чувство линий, и по крайней мере однажды он достиг непревзойденной степени совершенства. Он знал цену своих декоративных эффектов, подобно тому как великий музыкант знает возможности своих инструментов. Где мы можем увидеть более утонченную симфонию красок, чем в некоторых изображениях на его фресках в Ассизи? Чья линеарность может превзойти чудесные контуры его «Коронации короля Альберта»? Как изысканна красота, изящны движения, нежна оливковая ветвь в «Благовещении» в Уффици! Когда вы смотрите на мантию ангела, вам кажется, что весенний солнечный луч упал на тающий снег!
Среди итальянских художников XIV столетия — Симоне Мартини самый любимый!
Тенденция к иллюстративности, столь присущая сиенскому искусству, не получила дальнейшего развития в произведениях Дуччо, так как он обладал ощущением материальности образа и тонким пониманием композиции. Симоне Мартини удерживало тонкое эстетическое чувство, восторг перед великолепием красок и плавной текучестью линий.
Братья Лоренцетти тоже не испытали воздействия иллюстративной живописи. Исключительно одаренные, они как-то равнодушно проявляют свои таланты. Красоту, которую они горячо чувствовали, форму, которую раскрыли перед ними Джованни Пизано и Джотто, даже осмысление человеческого образа — все то, чем они были воодушевлены, они рано или поздно принесли в жертву простому изображению вещей или тщетным попыткам выразить все это в неясных и неопределенных символах.
Какое очарование они могут придать фигурам, полным достоинства и торжественности, мы видим на переносном алтаре работы Амброджо в Сиене; мадонна в своем священном и неподвижном величии, подобная египетским статуям, сидит на престоле среди сияющих, как пламя, дев и древних святых, устремляющихся к ней. Там же, в Сиене, вы увидите «Благовещение» Амброджо, где святая дева радостно наклоняется вперед, чтобы принять из рук архангела пальму мученичества и весть о будущем рождении сына. В Ассизи, на фреске кисти Пьетро Лоренцетти, исполненной так рельефно, что сна кажется созданной из слоновой кости и золота, написана мадонна; сдерживая душераздирающие слезы, она пристально смотрит на сына, который, несмотря на свой младенческий возраст, обращается к ней, как взрослый. Нигде красота не кажется нам более проникновенной, чем в «Святой Екатерине» Амброджо Лоренцетти, а серьезность и глубина интеллекта — более убедительными, нежели в его «Святых Франциске и Бернарде». А что еще может показаться более фантастическим, нежели самая драгоценная из его картин в Уффици, где святой Николай из Миры, стоя на скалистом, морском берегу, смотрит на заходящее солнце?
V
Такими художниками Амброджо и Пьетро Лоренцетти могли бы остаться навсегда, если бы они сами не отреклись от своего искусства. Пьетро опустился до вздорной чепухи в «Сценах страстей» в Ассизи, доводя темы Дуччо до крайних пределов необузданных чувств. Было пожертвовано всем — формой, движением, композицией, даже глубиной и сущностью образов ради выражения самых обычных и мелких переживаний. Подобный анархизм редко овладевал итальянскими художниками даже в пределах болонской школы. Нечто сходное с этим можно обнаружить у испанских или, вернее, у некоторых немецких мастеров.
Что же касается Амброджо, более одаренного из братьев, то и его падение было не менее значительно. В своих сильных произведениях он едва ли не превосходит Брейгеля-старшего. Кажется, он жаждет воспроизвести все, что видит. Но когда Амброджо пишет фреску «Аллегория Доброго и Злого Правления» в Сиенской ратуше, он даже не делает попытки осмыслить свою задачу и выразить ее в формах, доступных нашему разумению. Джотто мог двумя или тремя фигурами не только дать нам попять, какова же правящая власть, но буквально заставить нас осязательно ощутить ее.
Амброджо Лоренцетти думал лишь о широкой панораме, наполненной фигурами, настолько незначительными самими по себе, что они принуждены занимать нас своими свитками и символами. Непрерывная смена эпизодов, очаровательных, но бесстрастных, подробно рассказывает нам, что случается в городе и деревне, когда ими хорошо или плохо управляют. Вы смотрите эти сценки одну за другой, знакомитесь с жизнью Сиены XIV столетия и получаете своеобразное удовольствие от ловкости, с какой все это изображено, однако в этих фресках нет ничего, приобщающего нас к жизни, ничего того, что дает нам живое восприятие мыслей и чувств, более значительных и глубоких, чем наши собственные. Действительность не становится реальнее от того, что ей на помощь призывается аллегория. Если фрески в целом напоминают раскрашенные шарады, то отдельные композиции Лоренцетти столь же загадочны, как ребусы. Лишенные конкретного художественного содержания, они не обладают и художественной ценностью: нет стройности композиции, чувства осязательной ценности, движения и даже ощущения красоты.
Но в тот период, когда Италия была охвачена смутными ожиданиями,, как два столетия спустя Германия, произведения Лоренцетти с их туманными излияниями странных и тоскливых чувств производили известный эффект, подобный тому, какой имели гравированные книжные заставки, получившие широкое распространение в более позднее время. С ними живопись братьев Лоренцетти имела действительно много общего. А иногда какой-нибудь яркий и талантливый мастер, превосходящий братьев Лоренцетти, тоже проявлял себя в подобного рода живописи.
Таков был художник, оставивший глубокий след на стенах Кампо Санто в Пизе своей знаменитой фреской «Триумф Смерти» (В настоящее время эта фреска многими учеными приписывается кисти Франческо Трашш, за исключением Роберта Лонги, который считает ее произведением Витале да Болонья. — Прим. пер.) которая как иллюстрация была, пожалуй, большим достижением средневекового итальянского искусства. Одаренный более глубоким пониманием живописных проблем, чем братья Лоренцетти, он все же примыкает к ним в моральном и философском отношениях. Он владеет формой и движением, хорошо представляет себе, что такое пластическая ощутимость, и настолько реалистически выражает жизненные, правдивые идеи, как редко можно встретить в живописи того времени. Его дьяволы и демоны, выдержанные в духе подлинного гротеска, отнюдь не слабые, а живые и забавные существа; его образ Смерти устрашающ и без крыльев летучей мыши и серпа.
Однако свою одаренность этот живописец принес в жертву контрастам ради контрастов, показу истин, невероятно увлекательных вчера и банальных сегодня, подобных тем, какие встречаются иногда у Мопассана, Ибсена и Льва Толстого.
«Триумф Смерти» построен на двух ярких противопоставлениях. Под тенистыми деревьями в беседке веселая компания рыцарей и дам услаждает себя музыкой и любовью. Нетрудно было бы описать эту сцену современным языком, но читатель, стремящийся целиком подпасть под ее чары, должен прочесть вступление к «Декамерону» Бокаччо. За стенами сада свирепствует чума, и разлагающиеся прокаженные тщетно простирают руки к Смерти, которая, не внимая их жалобам, устремляется в веселую беседку. В одном этом — достаточный контраст. Но художнику показалось этого мало, и он еще раз повторяет новеллу более популярно. Гордые и жизнерадостные кавалеры и дамы, веселая группа охотников дышат утренним воздухом. Внезапно их кони отпрянули, собаки зарычали, а руки тянутся зажать носы. Они наехали на гниющие трупы королей и прелатов. На этот раз эффект несомненно достаточный. Но нет! Художник явно не доверяет нашему восприятию, и отшельник, предназначенный для этой цели, заставляет нас прочесть еще текст на свитке. И тут мы убеждаемся, что вся фреска полна текстов на свитках. Кто же был этот художник и что он должен был думать о своих зрителях?
VI
После смерти Лоренцетти сиенская школа живописи пришла в упадок, от которого она никогда по-настоящему не оправилась. Бывали моменты, когда она оживала, но никогда больше не обретала той жизненной полноты, без которой искусство обречено на гибель. Правда, у Варна, Бартоло ди Фреди и Таддео ди Бартоло можно встретить нечто от блеска и великолепия Симоне Мартини и Лоренцетти. А Доменико ди Бартоло сделал даже неуклюжую попытку вдохнуть новую жизнь в сиенскую школу, применив те формы и пропорции, которые вывели из хаоса и раз навсегда утвердили великие флорентийцы. Но так как Доменико не уловил истинного смысла новаторства ни в осязательной ценности, ни в движении, то его товарищи и сограждане, проявив лучший вкус, предпочли незначительные, но привычные для них живописные формы ложной героике искаженного натурализма.
Неизменно обаятельный Сассетта работал так, будто он жил не в сорока, а сорока миллионах миль от Флоренции, будто Мазаччо, Донателло, Учелло и Кастаньо все еще обитали в стране неродившихся младенцев. И все же он обогатил нас своими картинами, отмеченными тонкой декоративной красотой, прекрасным и мечтательным «Обручением св. Франциска с Бедностью», находящимся в музее Конде в Шантильи. Но постепенно и в Сиену таинственно и бесшумно проникали новые зрительные образы и новое чувство красоты, хотя им и пришлось просачиваться через ее высокие и хмурые стены. И когда это произошло, новые идеи переплелись с сиенской линеарностью, живописной фактурой и декоративными эффектами. Живописцами, воспринявшими эти новшества, были Веккьетта, Франческо ди Джордже, Бенвенуто ди Джованни и особенно Маттео ди Джованни и Нероччьо деи Ланди — два величайших сиенских мастера.
Маттео понял, что такое движение, и оно привело бы его к подлинному искусству, обладай он необходимым знанием формы; не имея его, он оказался слабее Кривелли, врезая свои твердые линии словно в золоченую, кордовскую кожу или старую бронзу. Что же касается Нероччьо, то это был вновь родившийся Симоне Мартини, с его певучей линией и бесконечно утонченным чувством красоты, с его очарованием и грацией, уступающий ему по качеству, но дающий взамен немало — свежесть и радость чувства, более родственных нашему времени.
Уже наступил конец XV века, началось XVI столетие, и даже сиенцы не могли больше удовлетворяться теми немногими живописцами, которые оставались в их среде; художников стали приглашать извне: Синьорелли, Пинтуриккио и Перуджино из Умбрии, фра Паолино из Флоренции, Содому из Ломбардии. В результате этих смешанных влияний получился очень своеобразный и вместе с тем очаровательный эклектизм, спасенный от претенциозности и безрассудства, обычно характеризующих такие направления.
VII
Сиенская живопись не равнозначна другим великим художественным школам, потому что ее мастера никогда не посвящали себя полностью изучению формы и движения. Они предпочитали воплощать свои мечты, запечатлевали в картинах и фресках зрительные образы, наполнявшие их воображение. Но, как ни мало ценятся во все времена чисто художественные качества, лишенные иллюстративного и декоративного характера, еще меньше ощущается потребность в зрительных образах, порожденных идеалами и исканиями минувшей и почти угасшей эпохи. Грандиозный разлив искусства Возрождения настолько изменил манеру видения, что большинство из нас воспринимает сиенскую живопись XIV столетия почти как гротеск. Она вызывает к себе интерес и может нравиться, но она не в состоянии возбуждать нашу жизненную активность, как это делает живопись более поздней эпохи.
В нас уж укоренилось грубое заблуждение, что искусство есть простое воспроизведение действительности или идеализированной реальности, поэтому, не обнаруживая ее, большинство из нас не ищет в картине ничего другого.
Но, говоря откровенно, самая трудная в мире вещь — умение смотреть собственными глазами, смотреть непредубежденно и непосредственно. Бесчисленные формы, принимаемые одним и тем же предметом, часто не выражают его сущности. Если бы не стереотипность, которую этим предметам придало искусство, то вещи сами по себе вряд ли имели для нас определенные и ясные очертания, которые мы могли бы вызывать по собственному желанию в памяти. Задача научиться смотреть самому настолько трудна, что, за исключением немногих гениальных людей, обладающих даром видения, этому должны обучаться все. Только когда человек готовится стать художником, прилагаются систематические усилия в его обучении. Но как это происходит или по крайней мере происходило до последнего времени? Ученик копировал простые рисунки своего учителя или других художников. Затем перед ним ставили античные образцы и он должен был копировать их. К этому времени его привычка видеть уже приобретала устойчивость, и если он не сопротивлялся подобному обучению, то проводил остаток своей жизни в том, что искал и находил в предметах только те очертания и формы, которые были предоставлены и указаны ему рисунками и античными образцами. О том, каков результат этого видения, можно судить по очень широкому применению художниками фотоаппарата, даже при копировании чужих работ!
Что касается остальных, не художников по профессии, то нас совсем не учат смотреть, хотя, возможно, мы могли бы благодаря природным способностям или своему умственному развитию разобраться во многих деталях. То немногое, что мы познаем, мы получаем из иллюстрированных журналов и книг, от статуй и картин. И если годы, посвященные изучению всех художественных школ, не научили нас понимать и смотреть своими глазами, то мы вскоре привыкаем вкладывать наши зрительные впечатления в формы, заимствованные у знакомого уже нам искусства. Это наш стандарт художественной реальности. Пусть какой-нибудь художник покажет нам формы и краски, которых мы не обнаружим в нашем ничтожном запасе восприятия обычных форм и красок, и мы неодобрительно качаем головой над неудавшейся попыткой воспроизвести вещи такими, какими мы их знаем, и упрекаем художника в неискренности. Когда в шестидесятые годы прошлого века возникла живопись импрессионистов, какими тихими и слабыми были голоса, утверждавшие, что это красиво, и какими громкими и возмущенными были те, которые отрицали правду этого искусства!
Это возвращает меня к моей теме. Если мы недовольны, что художник в настоящее время не видит предметов в точности так, как мы, — то какими же далекими должны мы находить искусство народов, мысленно видевших совершенно иначе! Для скольких из нас как раз по этой причине китайское и японское искусство — вовсе не искусство! И не менее далеким оказывается средневековое искусство или, точнее говоря, та его часть, которая представляет собой лишь иллюстрацию для тех, кто не научился ценить его. Потому что с тех пор наш зрительный образный строй во многом изменился.
Что же вызвало эти изменения? Прежде всего неукротимая энергия, пробуждение научного духа, которые никогда не позволяют человеку долго пребывать в каком бы то ни было состоянии успокоенности. Затем тот факт, что, к счастью, большая часть этой пробудившейся энергии в первую очередь обратилась в искусство, а не в науку. В результате появился натурализм, который я уже определил как науку, пользующуюся для своего выражения художественными средствами.
Наука же, посвятившая себя в начале XV века изучению формы вещей, вскоре открыла, что объективная реальность была не на стороне существовавшего тогда искусства. Но благодаря появившемуся в тот момент человеку, имя которого Донателло, обладавшему силой не только противиться традициям, но и одаренному беспримерным умением видеть, искусство, оторвавшись от своего недавнего прошлого, мгновенно вырвалось на свободу, бросило на ветер весь запас средневековых представлений и ревностно обратилось к воспроизведению вещей такими, какими они стали выглядеть в результате научных исследований XV века.
Следов идеализма почти не осталось; каждый человек стал индивидуальностью, и любого можно было воспроизвести. Почему бы нет? Хаос, в который мог выродиться натурализм, был предупрежден, а питавшие его источники направлены по другому руслу, несравненно более благоприятному для дальнейшего развития итальянской живописи.
Сам Донателло был больше, чем натуралист; он был одержим желанием передать движение, выразить действие. Поэтому он выбирал из бесчисленных представлявшихся ему возможностей те, которые лучше всего выражали игру живых и подвижных сил. Доведенная до крайности, эта тенденция могла привести к искусству, более похожему на японское, чем на современное европейское. Тем, что мы не пришли к этому, мы обязаны главным образом Мазаччо, у которого было чрезвычайно развито контролирующее чувство осязательной ценности. Он выбирал среди различных форм только те, которые легче всего выражали осязательные ощущения, выбирал высокие, широкоплечие фигуры, полные силы и крепости. Его стремление монументализировать могло стать опасным для развития итальянского искусства, но оно было нейтрализовано донателловским чувством движения.
Выработанный в результате этого канон человеческой фигуры был бы одинаково далек и от средневекового и от современного, если бы в создании его принимали участие только Мазаччо и Донателло. Но к ним прибавилось влияние античного искусства, закрепившее существование этого канона до наших дней.
Античность — романтическая мечта и надежда передового общества XV столетия — оставила рассеянные по итальянской земле обломки своего искусства. Хотя это были грубые копии, очень далекие от оригиналов, они оставались творениями людей, не имевших себе равных в передаче и чувстве осязательной ценности, движения и их соотношений друг с другом; они были сходны с произведениями нового, зарождающегося искусства. И это сходство с античностью, явившееся не результатом подражания одного искусства другому, а возникшее в силу единства целей и однородности материала, привлекло гуманистов — этих ученых и всезнающих журналистов того времени — к искусству их современников. Нельзя сказать, что они отчетливо уяснили себе истинный смысл нового движения, да и как могли бы они, не обладавшие широким познанием различных художественных школ, его понять? Их единственным побуждением было подражание античности, и, так как им казалось, что они обнаружили его элементы в новом искусстве, последнее получило их полное одобрение. Но это подражание имело и плохие последствия, потому что в дальнейшем, как я надеюсь показать, гуманисты принуждали более слабых духом рабски подражать античности. К тому же они утверждали, что все искусство Ренессанса есть не что иное, как подражание греческой классике, хотя на самом деле это справедливо только по отношению к архитектуре, к остальным же видам искусства — только отчасти.
Созданный Донателло и Мазаччо и одобренный гуманистами новый канон человеческой фигуры и человеческого лица выражали силу, мужество и величие. Для правящих кругов этот канон представлял тот тип человека, который должен был одержать победу в борьбе с окружающим его миром, что было равносильно победе новой манеры видеть и изображать. А так как идеальные представления о репрезентативности и каноне человеческой фигуры не изменились с XV века, то тип человека, созданный искусством Ренессанса, несмотря на прихотливые изменения моды и чувств, будет отражать наш вкус, до тех пор пока европейская цивилизация сохранит черты эллинской культуры, которые она приобрела начиная с эпохи Возрождения.
Новое образное восприятие стало общим для художников-гуманистов и правящих кругов. Кто обладал властью, чтобы нарушить этот канон зрительных представлений и выдвинуть иные образы, быть может, более точно отражающие действительность, нежели установленные гениальными людьми? Никто. Люди невольно должны были смотреть на вещи, исходя именно из него, любоваться определенными образами, восхищаться одними идеалами. Но это было еще не все. В силу непостижимой и бессознательной привычки к подражанию люди пришли к тому, что становились похожими на новые идеалы, либо старались походить на них.
В результате пяти столетий подражания образам и типам, впервые созданным Мазаччо и Донателло, мы стали очень походить на них. Потому что не существует более любопытной истины, чем та, что природа иногда подражает искусству. Искусство учит нас не только как смотреть, но и какими быть.
VIII
Посвятив себя выражению средневековых идеалов и чувств, живопись Сиены довела себя до полного истощения, хотя ее художники отличались редкой работоспособностью и изяществом в исполнении. В этом они оказались непревзойденными даже близкими им по духу ваятелями Северной Франции, которые заставляют нас в минуты душевной слабости предпочитать их творения греческим статуям.
ПЬЕРО ДЕЛЛА ФРАНЧЕСКА. ГОЛОВА ЦАРИЦЫ САВСКОЙ. ФРАГМЕНТ ФРЕСКИ «ПРИБЫТИЕ ЦАРИЦЫ САВСКОЙ К ЦАРЮ СОЛОМОНУ». 1452 — 1466
Цреццо, церковь Сан Франческа
Другая среднеитальянская школа — умбрийская — пронесла сквозь все искусство Ренессанса идеалы, мало отличные от целей и стремлений Сиены, хотя по своим фактическим результатам они и могут показаться иными. Умбрийское искусство не менее серьезно относилось к передаче осязательной ценности и движения, чем сиенское, не менее было предано иллюстративным задачам, выражая идеи, мечты и желания своего времени.
Но раньше, чем мы обратимся к умбрийцам, наше внимание должно быть уделено учителю и двум его ученикам, не сиенцам и не умбрийцам, а жителям Южной Тосканы и Романьи, которые как высоко одаренные люди были значительнее, чем любой из умбрийцев, а как художники — более независимые и сильные; я имею в виду Пьеро делла Франческа, Луку Синьорелли и Мелоццо да Форли.
Сначала о Пьеро. Ученик Доменико Венециано по передаче характера и Паоло Учелло в области перспективы, сам энергично изучавший эту науку, Пьеро делла Франческа был гораздо одареннее своих учителей. Он едва ли уступает Джотто и Мазаччо в чувстве осязательной ценности. В выражении силы и мощи он мог соперничать с Донателло; Пьеро делла Франческа, быть может, впервые применил эффекты света ради их непосредственных свойств, а если его рассматривать как иллюстратора, можно даже усомниться, мог ли кто-либо другой создать более убедительный и насыщенный образами мир? Стремился ли кто-либо другой к более величественному идеалу? Придавал ли кто своим изображениям более героический смысл?
К сожалению, Пьеро делла Франческа не всегда пользовался этими дарами. Иногда вы чувствуете, что он обременен ученостью, хотя никогда, подобно Учелло, он не напоминает нам землемера и топографа больше, чем живописца. Порой те, кто привержен своему идеалу красоты, будут смущены некоторыми мужскими и женскими типами, созданными Пьеро делла Франческа. Другие же сочтут его слишком безличным и бесстрастным.
Безличность и есть то качество, которым он ошеломляет нас. Это его самое большое достоинство, которое он разделяет только с двумя художниками: безвестным творцом фронтонов Парфенона и Веласкесом, который писал, никогда не выдавая своих чувств.
«Безличность» в искусстве, или «имперсональность», — настолько необычное явление, что нельзя пройти мимо него без комментариев. Я имею в виду здесь два различных понятия: имперсональность как художественный метод и имперсональность как художественное качество. Для всех великих художников этот метод наиболее близок, равно как и для немногих выдающихся и искушенных художественных критиков. Они приняли во внимание тот факт, что в искусстве, как и в жизни, существует категория людей, понимающих, что невозможно целый мир замечательных явлений (которые непосредственно затрагивают нас) заключить в серию простых символических формул; они поняли, что те немногие, кто еще не всецело порабощен физическими привычками или складом своего ума и сохраняет известную свободу восприятия, будут реагировать на разные вещи разным образом, независимо от того, насколько велико это различие. Если некая жизненная ситуация или какой-нибудь ландшафт производят впечатление на художника, то что он должен сделать, чтобы заставить нас почувствовать их так же, как чувствует он? Существует лишь одна вещь, которую он не должен допускать, а именно — показывать свое личное отношение.
Изображение может быть интересным или не интересным, художественным или не художественным, но оно никогда не должно производить на нас впечатление подлинного жизненного происшествия или подлинного вида природы. Ибо художественное чувство не есть оригинальное или первичное явление, а явление, как бы преломленное сквозь творческое восприятие художника, а личное чувство — это совершенно другое понятие и производит совершенно другой эффект. Поэтому художник должен всячески избегать выражения своего личного отношения к чему-либо. Он должен полностью сбросить себя со счетов и облечь свое первоначальное восприятие в формы новых представлений, насыщенных глубоким, существенным и фактическим смыслом.
Воспроизводя определенные формы и представления, художник заставляет нас реагировать на все так, как реагирует он, и чувствовать так, как чувствует он.
Само собой разумеется, Пьеро делла Франческа был имперсонален именно в этом смысле, — разве он не был великим художником? Но он был имперсонален не только по своему методу, как все великие мастера; он был тем, кого можно называть бесстрастным или даже не эмоциональным. Он любил эту безличность и отсутствие индивидуальных эмоций как художественное качество в своих произведениях. Выбирая по ряду эстетических соображений типы более мужественные и по тем же доводам пейзажи суровые и величественные, он комбинировал и переделывал их так, как того требовал каждый объект; его величественные фигуры, величавые движения и суровые пейзажи подавляют нас своей предельной мощью, как это и должно быть, когда картина лишается своего эмоционального звучания.
Художник никогда не спрашивает, как чувствуют себя герои его картин. Их чувства его не касаются. В то же время «Бичевание Христа» впечатляет больше, чем что-либо написанное им, хотя ни у кого из участников этой драмы ничего не отражается на лице. И как будто бы для того, чтобы сделать сцену еще более суровой и безличной, Пьеро вводит в эту чудесную композицию три величественные фигуры, помещенные на переднем плане, такие же невозмутимые, как вечные скалы.
Во фреске «Воскресение» художник даже не подумал спросить себя, какого типа был Христос? Он выбрал мужественного и грубоватого на вид человека, и вы видите его восстающим из гроба, среди раскидистых кипарисов и платанов, во влажно-сером свете раннего утра. Вы чувствуете торжественное значение этой минуты, как, быть может, ни в каком другом варианте подобного сюжета, и если вы чутко воспринимаете искусство, то поймете это прежде, чем спросите себя, выглядит ли Христос, как подобает Христу, и соответствующее ли у него выражение лица?
Обаяние такого имперсонального и неэмоционального искусства, как у Пьеро делла Франческа (или Веласкеса), неоспоримо велико. Но почему это так? В чем заключается его прелесть, убедительность и привлекательность ? Мне кажется, что здесь сочетается многое. Во-первых, когда отсутствуют преувеличенные выражения чувств, столь привлекательные для нашей слабой плоти, мы свободнее и сильнее поддаемся чисто художественным впечатлениям, вызванным осязательной ценностью, движением и светотенью. Я нахожу настолько ненужным индивидуализированное выражение лица, что, когда прекрасная статуя оказывается лишенной головы, редко сожалею об этом, потому что форма и действие, если они согласованы друг с другом, и без того достаточно выразительны, чтобы дать мне возможность самому мысленно закончить скульптуру в том духе, который она мне подсказывает. Кроме того, всегда может случиться, что даже в творениях лучших мастеров голова будет выполнена в чрезмерно экспрессивной манере, не соответствуя формам и положению статуи либо в противоречии с ними.
Но есть еще другая причина, не столько художественного, сколько более общего характера, объясняющая необходимость этой бесстрастности в искусстве. Как бы горячо мы ни относились к тем, кто так же, как и мы, реагирует на некоторые явления, все же в моменты обостренной чувствительности мы испытываем еще более страстные чувства к ярко одаренным людям, которые тем не менее равнодушно проходят мимо того, что производит на нас огромное впечатление.
Считая их не менее восприимчивыми и видя, что их не волнует то, что потрясает нас, мы невольно приписываем им спокойствие и величие героев. А так как люди обычно стараются походить на тех, кем они восхищаются, то и мы сами на какое-то краткое мгновение превращаемся в героев.
Мы видим, что преувеличение героического начала отнюдь не означает собой байронизма. С чувством восхищения мы смотрим на пейзаж в стиле поэта Вордсворта и на человека в духе Пьеро делла Франческа. Изображая его полным презрения к бурям и житейским невзгодам, художник примиряет нас с жизнью и утешает так же, как поэт, который, наделяя природу человеческими переживаниями, радуется вместе с тем ее бесконечному превосходству над людскими страстями и печалями.
IX
За Пьеро делла Франческа последовали два его ученика — Мелоццо да Форли и Лука Синьорелли. Оба использовали то наследие, которое оставил им учитель; следуя побуждениям темперамента и благодаря своей одаренности, они достигли высокого совершенства. Мелоццо обладал более сильным темпераментом, Синьорелли более острым и глубоким умом.
Идеалом для Мелоццо были героические образы людей, созданные его учителем, людей, чьи сердца не знали, что такое чувство. Он усвоил познания, дававшиеся с таким трудом даже Пьеро делла Франческа, чьи произведения подчас в большей мере являют нам следы борьбы, чем доставляют удовольствие.
Величественные фигуры и превосходно угаданное движение, необходимое, чтобы оживить их, Мелоццо использовал для целей, очень отдаленных от целей своего учителя. Потому что образы Мелоццо никогда не бывают бесстрастны, никогда не замыкаются в себе, но всегда воплощают чувство. И эти чувства так сильны, его большие и монументальные фигуры так охвачены ими, что наша личность и даже сознание сметаются ими начисто; одухотворенные образы Мелоццо олицетворяют собой яркие эмоциональные порывы. Его фигуры, возможно, символизировали бы для нас то или иное чувство, если бы мы могли смотреть на них со стороны или оценивать с разумной точки зрения. Но они просто выбивают нас из колеи, и мы становимся словно одержимыми. Вместе с тем охваченные экстазом «Ангелы, играющие на музыкальных инструментах» (фреска в соборе св. Петра в Риме), все же безличны.
Однако Мелоццо умел изображать не одни только дионисийские празднества. Быть может, нигде живопись не дала нам такого яркого воплощения жизни, не выразила такой самозабвенной радости труда, такой живой игры мускулов, как в знаменитой картине Мелоццо «Аптекарский ученик толчет в ступке травы». А пророки в ризнице собора в Лорето так торжественны и далеки от окружающего, как это может быть только у Эсхила и Китса, когда они рассказывают о канувших в вечность династиях богов.
Лука Синьорелли не пылает таким всепожирающим огнем, как Мелоццо, и все же он выше его. Его ум утонченнее и глубже, его гений охватывал больший круг образов и представлений, его восприятие ценного в жизни и в искусстве более тонкое и правильное. Даже в своем поэтическом чувстве он не походил ни на кого другого. Кроме того, к ощущению осязательной ценности, едва ли меньшему, чем у Джотто, Лука Синьорелли добавлял умение передавать движение, присущее Мазаччо и Пьеро делла Франческа. (См. книгу II — «Флорентийские живописцы». ) В этом он действительно, мог почти соперничать не только со своим учителем, но и с несравненным мастером в этой области — Антонио Поллайоло. Обладай Синьорелли только этими качествами, он был бы уже великим художником, но для него они были лишь средствами к достижению определенной цели, которая, в отличие от стремлений Мелоццо, заключалась в изображении обнаженной натуры.
О том, что такое обнаженная натура и насколько велик ее удельный вес в фигурной живописи, я уже говорил в свое время . Я ограничусь здесь словами, что обнаженная человеческая фигура единственная в совершенстве может выразить осязательную ценность и особенно движение. Поэтому изображение обнаженного тела стало высшим достижением самых великих художников, и если оно к тому же удачно выполнено, оно становится еще более жизненным, чем в действительности, и сообщает эту же жизнеспособность нам.
Первым современным мастером, постигшим эту истину и доведшим ее до предела, стал Микеланджело, а Синьорелли был не только его предшественником, но даже соперником. Однако последний неясно понимал все значение обнаженной натуры и отставал в мастерстве исполнения. Его трактовка одежд и тканей гораздо суше, в изображении женского обнаженного тела он обнаруживает неумелость и жестокость. Обнаженные фигуры в произведениях Синьорелли не достигают красоты микеланджеловских, но обладают своими достоинствами — чрезвычайной крепостью и чисто первобытной энергией.
Причина, по которой Лука Синьорелли потерпел неудачу, не понимая всего значения и роли обнаженной натуры, заключается, по всей вероятности, не в том, что «время для него еще не настало», как часто принято говорить, а скорее, потому, что он был художником Средней Италии, что равнозначно определению его как художника-«иллюстратора». Поглощенный задачей выражать в зрительных образах различные идеи и эмоции, он не мог посвятить свою гениальную натуру более насущным проблемам искусства. Микеланджело тоже был иллюстратором — увы, — но по крайней мере там, где он не мог достичь идеального сочетания искусства с иллюстрацией, он жертвовал последней ради первого.
Но довольно об ошибках Луки Синьорелли! Пусть его обнаженные тела не всегда прекрасны, пусть его колорит не всегда великолепен, а композиция иногда перегружена и неудачна, он остается одним из величайших (заметьте, я не говорю из привлекательнейших) иллюстраторов нового времени. Его мировоззрение может показаться суровым, но оно уже принадлежит нам; его чувство формы равнозначно нашему, его образы — это наши образы. Следовательно, он первый, кто выразил наше мировоззрение.
Сравните его подготовительные рисунки к «Божественной комедии» Данте (к фрескам «Небо» и «Ад» в соборе в Орвьето) с одноименными рисунками Боттичелли, и вы увидите, насколько великий флорентийский мастер смотрел еще глазами средневекового художника, тогда как Синьорелли, порой отталкивая нас своей глубокой суровостью, не кажется нам далеким и необычным.
Мы должны расценивать его прежде всего как великого иллюстратора, а уж потом как великого художника. А теперь посмотрим на некоторые работы, обнаруживающие его мастерство в изображении обнаженного тела и движения, глубину и утонченность его эмоций, великолепие замыслов. С какой интенсивностью ощущаем мы во фресках Синьорелли и мрачное смятение воскресшего мертвеца, и светлую радость блаженных, и осуждение грешников. Невозможно было бы внушить нам эти чувства, если бы не обнаженная натура, усиливающая остроту восприятия. Как темны небеса на фресках «Страшного суда» (в Орвьето), заполненные ужасными видениями, как звучит трубный глас ангелов! Какое высокое, торжественное настроение навевает на нас его «Благовещение» (в Вольтерре) с пылающим закатным небом, девственным смущением Марии и благоговейным взором архангела Гавриила!
На картине «Положение во гроб» (Кортона) вы видите тело Христа, поддерживаемое ангелом, слетевшим из заоблачной блаженной сферы; черты его лица дышат величием, небесная роса сверкает на его крыльях.
Посмотрите на фреску «Музицирующие ангелы» в куполе собора в Лорето. Она обворожительна подобно творениям французской готики, а ангелы настолько погружены в звуки, что кажется, будто они сами пленены и зачарованы тайным духом музыки. Вы сами узнаете, каким утонченным чувством красоты обладал Синьорелли, когда, вдоволь наглядевшись на «Аврору» Гвидо Рени в зале Палаццо Роспильози в Риме, бросите потом взгляд на его «Мадонну», находящуюся там же.
Обнаженное тело ради изображения его мускульной красоты и силы мы увидим тогда, когда обратимся к одному из самых пленительных произведений искусства, унаследованных нами от прошлого, — я имею в виду «Пана» Синьорелли в Берлинском музее. Козлоногий Пан, олицетворяющий собой величественный пафос природы, сидит среди торжественной тиши солнечного захода; нежный серп луны венчает его кудри. Высокие обнаженные фигуры стоят вокруг. Молодой Олимп играет на флейте, юноша, лежащий у ног бога, извлекает звуки из тростниковой дудочки. Они ведут между собой торжественную беседу о «Бессмертной поэзии жизни». Порожденные солнечным закатом и росой земли, они шепчут о тайнах своей Великой Матери-Природы.
А как триумфально разрешает Синьорелли проблему движения! В пределлах, исполненных им на склоне лет, он в свободной манере, временами напоминающей Домье, изображает подвижные группы людей, связанные между собой, наподобие гибких звеньев кольчуги. Может быть, самыми лучшими из них являются пределлы, бронзовые по колориту, находящиеся в Умбертиде, деревне, расположенной на берегу Тибра, но легче рассмотреть написанное Синьорелли в ранние годы «Благовещение» (Уффици), где ангел вбегает так стремительно, словно рассекает вокруг себя воздух.
X
Пьеро делла Франческа, Мелоццо да Форли и Лука Синьорелли ярко выделяются среди остальных художников Средней Италии. Эти мастера были необычайно одарены чувством осязательной ценности, движения и всем тем, что может послужить на пользу искусству. Но мы не найдем художников, подобных им, в третьей живописной школе Средней Италии — умбрийской.
Умбрийская живопись при первом знакомстве кажется провинциальной; она не более чем ответвление сиенского искусства, за быстрыми шагами которого она семенила робкой походкой. Предоставленная самой себе, умбрийская школа произвела на свет такую болотную тину, как фрески Оттавиано Нелли в Фолиньо, продукт столь старческого слабоумия, что даже Сиена в моменты наивысшей беспомощности не смогла бы создать ничего подобного. И все же Умбрия, в противоположность гордой Сиене, была доступна чужеземным влияниям, хотя во многом она и унаследовала стремления, идеалы и методы сиенской живописи. А связь с Флоренцией, прямая или косвенная, дала возможность умбрийской школе не только достичь высокого расцвета, но послужить на пользу всему искусству Ренессанса, потому что она сделала для него то, что Сиена для средних веков, а именно: разобралась и извлекла из хаоса средневековых представлений те образы и идеи, которые в реальной действительности способствовали процветанию и миру, насытила новым смыслом и содержанием великие темы, ставшие уже привычными, поставила перед собой иные цели и одарила своим очарованием вновь созданные художественные формы. Этим скорее идеальным, нежели художественным целям умбрийская школа осталась верной до конца. Никогда она не стремилась к искусству ради искусства. Она сохранила в какой-то мере дилетантский характер, не обладая чувством формы, мало интересуясь движением, используя их уже в готовом виде, не ради присущих им жизненных свойств, но лишь в виде средств иллюстративного воздействия на зрителя.
Умбрийское искусство достаточно ясно раскрывается перед нами в работах одного из своих первых великих мастеров — Джентиле да Фабриано. К красоте чисто сиенского колорита и композиции, выработанной благодаря влиянию флорентийского искусства, Джентиле добавил пылкую и живую фантазию. Он посвятил свою жизнь изображению средневековых идеалов земного счастья, особенно ясного и полного тогда {как это обычно бывает с идеалами), когда очаровательно-преображенная в них действительность уже уходила в прошлое.
Прекрасные рыцари и изящные дамы, золотые шпоры, усыпанная драгоценностями парча, алые узорчатые ткани, пышные кортежи всадников на царственных конях — и все это под сенью золотого неба со сверкающим солнцем, которое ласкает своими лучами прелестные вершины гор. Все лица сияют весельем. Почему они так счастливы? Очнулись ли они от ночных кошмаров чистилища и ада? Очевидно, да, и они радуются тому, что кровь играет в их жилах, радуются свежему морскому ветру и благоуханию цветов. А какая любовь к цветам! Джентиле помещает их даже в уголки и щели резного деревянного обрамления, украшающего его великолепное «Крещение».
Однако в Умбрии так не хватало талантов, что даже среди своих соотечественников Джентиле не нашел никого, кто бы мог следовать ему (а как богато могла быть разработана такая золотоносная жила, мы можем судить по изумительным достижениям его североитальянских учеников Антонио Пизанелло и Якопо Беллини). После смерти Джентиле да Фабриано увядающая умбрийская живопись подарила нам лишь творчество Боккати да Камерино, подобное милому детскому лепету. Вполне возможно, что она иссякла бы, как мелкий ручеек, если бы не неожиданная помощь провидения: Флоренция послала в Умбрию своего сына, даже не одного из великих. Приехал всего лишь Беноццо Гоццоли, который уподобился римскому проконсулу — второстепенному или третьестепенному человеку на своей родине, но для населения далеких британских или дакских провинций олицетворявшему блестящую и светскую жизнь метрополии.
Беноццо не только активно пробудил нераскрывшиеся еще умбрийские таланты, не только предоставил им возможность познакомиться с искусством, ставшим для них образцом, но, что важнее всего, внушил умбрийцам необходимость обращаться к Флоренции и впредь за руководством и помощью в художественном образовании.
Самым одаренным из тех, кого пробудил Беноццо Гоццоли, был Лоренцо да Витербо, погибший в ранней юности, но оставивший своему маленькому городу великие произведения живописи. Там вы увидите капеллу, украшенную его пышными фресками, в которых много великолепных неудач, еще более великолепных обещаний, но все же замечательных по своим достижениям. Редко вы становитесь свидетелем такой грандиозной, праздничной и торжественной церемонии, как его «Обручение девы Марии», где шествуют величественные мужи, степенные матроны и гордые жизнерадостные юноши, более похожие на женихов Пенелопы, чем на спутников галилейской девы.
Совершенно иным был Никколо да Фолиньо, в какой-то мере основатель умбрийской школы, но в большей степени связанный с Перуджей и ее окрестностями. Это был художник с ярко выраженным темпераментом, то эмоциональным и страстным, то неистовым, мистическим и экстатическим, — словом, темпераментом соотечественника святого Франциска.
Если рассматривать Никколо да Фолиньо как иллюстратора, то он стоит высоко. С несомненной искренностью он выражает и фанатическую скорбь монаха, проникнутого страстями Христа и получающего стигматы веры на ладонях и ступнях ног, и святого, с такой болью размышляющего о страданиях девы Марии, что его пронзают семь ран ее скорби.
Художник откровенно выражал свои чувства и страсти, отличаясь большим прямодушием. Поэтому, несмотря на сходство его задач с задачами болонских мастеров XVII века, он интересует нас и даже производит острое и немного грустное впечатление, в то время как мы с невыразимым отвращением отворачиваемся от Гвидо Рени. Болонцы совершенно неподобающим образом кокетничают с человеческой плотью и дьяволом даже тогда, когда они распинают Христа или пытают невинную мученицу. Никколо да Фолиньо прямодушен. Вам он может не нравиться, как не нравится Кальдерой, но его сила неоспорима, и он настоящий художник, потому что обладает чувством линий и красок и умеет передавать движение.
XI
Наконец мы в Перудже — столице Умбрии, приютившей в своих стенах самую привлекательную и знаменитую школу живописи, которая достигла высшего расцвета в лице Рафаэля — любимейшего имени в истории искусства.
Но, несмотря на великую судьбу, Перуджа не была особенно одарена художественными талантами, иначе она не обращалась бы к Боккати да Камерино, фра Анжелико, Доменико Венециано, Беноццо Гоццоли, Пьеро делла Франческа и Луке Синьорелли, чтобы восполнить недостаток своей живописи. Не многого можно было бы ожидать и от первого значительного художника, уроженца Перуджи — Бонфильи.
Как художник он едва ли так же значителен, как Никколо да Фолиньо — его товарищ по мастерской Беноццо Гоццоли. Бонфильи менее самостоятелен, но, подражая Фра Анжелико или Беноццо, временами писал исключительные вещи и от природы был одарен тем необычайным очарованием, которым позже Перуджа пленила весь мир.
На алтарных образах и церковных знаменах кисти Бонфильи мы видим свежие и прелестные ангельские лики. Его колорит отличается золотистым оттенком, никогда окончательно не исчезавшим из умбрийской живописи. Но он был далек от того, чтобы дать в своих картинах хотя бы робкое прибежище чувству, что для искусства более важно, чем очаровательные лица и красивые краски.
И ни один из самых упадочных сиенских мастеров не был столь болтлив и безграмотен, как Бонфильи, когда он брался за историческую композицию. Такая задача была не по силам художникам Перуджи, пока их дальнейшие связи с Флоренцией не дали возможности ознакомиться по крайней мере с формой и движением, что было им весьма полезно.
Фиоренцо ди Лоренцо трижды погружался в живительные струи флорентийского искусства. Когда он был молод, его вдохновлял Беноццо Гоццоли; потом, во Флоренции, он стал учеником Антонио Поллайоло, великого мастера в области движения, и раньше чем вернуться домой, Фиоренцо научился многим живописным секретам у Луки Синьорелли. Под энергичным влиянием этих художников Фиоренцо написал ряд картин, например «Рождество Христа» (Перуджа, Городская галерея), превосходящее по рисунку и моделировке произведения его собратьев, так и не выезжавших из Перуджи, но столь же наивное в иллюстративном отношении.
Однако неумолимая провинциальная тупость скоро захватила Фиоренцо ди Лоренцо, и под конец жизни он опустился до того, что от его великолепных начинаний осталась одна карикатура.
Он, естественно, не мог соперничать ни с Перуджино, ни с Пинтуриккьо, двумя другими живописцами, связанными с его родным городом, слава которых была так велика, что и по сегодняшний день их имена считаются одними из самых знаменитых. Вначале почти невозможно было обнаружить разницу между ними, которая позже стала такой явной. Будучи почти на одном уровне с Пинтуриккьо, Перуджино в течение многих лет обновлял свои связи с Флоренцией, подобно Антею, черпая из нее свои силы. Пинтуриккьо же было неведомо раскрепощение от провинциальной затхлости нравов и будничной жизни, свинцовой тяжестью опустившейся ему на плечи. Живительный воздух внешнего мира не коснулся его.
Но природное дарование Пинтуриккьо было велико, самые ранние его произведения точно и верно отражают утонченную, великолепную и элегантную жизнь, которую вели вельможи и гуманисты его времени. Нежные чувства, красивые женщины и дети, романтические пейзажи, четкая композиция, великолепные портреты делают все, чтобы привлечь внимание и понравиться нам. Серьезные задачи тщательно избегались им, и нет ничего, что указывало бы на более высокий уровень художественной деятельности Пинтуриккьо. Мы лениво наслаждаемся его фресками, как неким утонченным жанром. И мы найдем те же черты в большинстве его ранних работ, находящихся в Риме, которые он выполнил сам и без особой спешки. Какие прелестные лица у ангелов в Аракоэли! Какие красивые женщины на фресках Пинтуриккьо в апартаментах Борджиа в Ватикане или в церкви Сайта Мария дель Пополо в Риме! Какие великолепные портреты и романтические пейзажи! И ко всему этому какое особенное чувство пространства и аранжировки, чувство, свойственное художникам Средней Италии, которое мы уже находили таким необычайным у ранних сиенцев и еще более привлекательным у мастеров Перуджи. Мы напрасно будем искать у ранних живописцев и в других школах более обширной сценической площадки, где фигуры были бы лучше расположены, где архитектура была бы более выдержанной, где сильнее доносилось бы благоухание далекого пейзажа, чем во фреске «Проповедь св. Иеронима» в люнете церкви Сайта Мария дель Пополо в Риме. Тщетно было бы искать более торжественного и благоговейного похоронного шествия, нежели на фреске Пинтуриккьо «Похороны св. Бернардина», и изображения городской площади, такой обширной и благородной по своим формам, где дышалось бы свободно и чище. Но если простая миловидность может так прийтись по вкусу, то, значит, чем больше привлекательных лиц, роскошных одежд и романтических пейзажей на один квадратный метр живописи, тем лучше?!
Пинтуриккьо, никогда не обладавший большим чувством формы или движения, совсем как будто забыл о них, но, будучи достаточно популярным и пользуясь расположением публики, стал превращать свои работы в своеобразную пряную испанскую похлебку, подходящую, однако, больше для провинциального дома, нежели для изысканного стола немногих гурманов. А когда его заказчиком становится такой богач и вельможа, как полукатолик-полуварвар папа Александр VI, тогда Пинтуриккьо не скупится на специи, пряности и приправы. Вы не скоро увидите более роскошные, но варварские в своем великолепии фрески, чем в апартаментах Борджиа в Ватикане, где сверкающее золото орнамента сливается с бесценным ультрамарином.
Мы могли бы пренебречь Пинтуриккьо как серьезным живописцем, ибо в его поздних работах, если их внимательно рассматривать, одна мишур,., корее изображение одежд и тканей, чем людей; его картины возвращают нас к самрму плохому периоду умбрийской живописи — началу XV века, но все же, когда я пишу эти строки, я не могу забыть его знаменитых фресок в библиотеке Сиенского собора. Эти росписи, повествующие о жизни и приключениях знаменитого дипломата и журналиста, впоследствии папы Пия II, приводят меня еще к одному заключению, которое я хочу сделать. Фигуры вряд ли могли быть изображены хуже. Ни одно существо не держится твердо на ногах и как будто бесплотно, даже красота женских лиц раздражает из-за постоянного бездумного и бессмысленного их повторения. Колорит этих фресок едва ли может быть безвкуснее. И все же они обладают бесспорным очарованием! Как ни плохи они со многих точек зрения, как архитектоническая декорация они превосходны.
Пинтуриккьо была предоставлена продолговатая комната средних размеров. Что же он сделал из нее? Под сенью искусно покрытого глазурью потолка, на изящно вделанных в стену живописных панелях изображены романтические пейзажи, обрамленные просторными и высокими арками. Вы находитесь под кровом, окруженные великолепием, которое может дать только богатство в сочетании с искусством, и в то же время вы словно под открытым небом, но вас окружает не бескрайнее и холодное воздушное пространство, а строго ограниченное. Оно обрамлено арками, исполненными столь совершенно, гармонично и соразмерно с органически-прирожденным пространственным ощущением, что вы начинаете дышать свободно и ритмично. К тому же под этим чарующим открытым небом происходит пестрая, не слишком торжественная церемония. Но вы или так настроены, что все это вам нравится, или относитесь к этому так, как к проходящему мимо вас в ясное весеннее утро духовому оркестру, когда ваш пульс весело бьется в едином ритме с его мелодией.
Таким образом, о Пинтуриккьо следует сказать, что он был велик в передаче пространственной композиции, но даже и в этом не равен Перуджино и уж никак не может быть допущен в то высокое святилище, где царит величайший Рафаэль. Однако даже в худших примерах своей мазни Пинтуриккьо настолько владеет редким и освежающим нас дарованием, что, если вы не слишком утонченная натура, то получаете от этого удовольствие и готовы поклясться в том, что это вовсе не мазня, а очень ценные картины.
XII
Если пространственная композиция так много значила для Пинтуриккьо, то насколько совершеннее она была у Перуджино или Рафаэля, которые гораздо лучше владели ею! Для них она важна была еще и потому, что художники, стремясь не обнаружить своей слабости в фигурной живописи, редко пытались выходить за пределы пространственных задач.
Все же, оставляя в стороне их иллюстративное значение, особенно Рафаэля, надо сказать, что единственной выдающейся заслугой как учителя, так и ученика была пространственная композиция, в искусстве которой Перуджино превзошел всех, кто был до и после него. Всех, за исключением своего ученика Рафаэля, оставившего далеко позади себя учителя.
Но что это за неслыханное искусство пространственной композиции? Начать с того, что это совсем не синоним слова «композиция» в его обычном смысле, под которым, как я понимаю, мы подразумеваем такое расположение предметов в пределах данного пространства, которое удовлетворяет наше чувство симметрии, гармонии, компактности и ясности. Но оно касается плоской поверхности, а не глубины или двухмерной протяженности в стороны от воображаемого центра; мы уже встретились с превосходным примером такого искусства в «Неверии Фомы» Дуччо. Пространственная композиция отличается от обычной композиции в первую очередь тем, что предметы размещены в ней не только параллельно плоской поверхности или вокруг воображаемого центра, но простираются в глубину. Это композиция трех измерений, а не двух, кубическая, а не плоскостная. И, хотя это менее очевидно, пространственная композиция значительно отличается от обычной по своему эффекту. Последняя, сведенная к своим элементам, оказывает воздействие только на наше чувство формы, то есть на сумму непосредственных зрительных ощущений, влияющих на наше восприятие. Пространственная композиция гораздо могущественнее. Оказывая мгновенный эффект, она действует изменением своего пространственного соотношения так, что это сразу отражается на повышении или понижении нашего настроения и чувства жизненной энергии.
Таким образом, непосредственный эффект, оказываемый на нас пространственной композицией, не так силен, как музыкальный, но производит впечатление подобного же рода.
Несмотря на то, что впечатление, производимое на нас музыкой, складывается из многих различных факторов, природа пространственного и музыкального воздействия на человека едина и заключается в бурных изменениях, испытываемых нашей нервной системой. Отсюда проистекает сходство между музыкой и архитектурой, столь часто ощутимое, но, насколько мне известно, никем еще не раскрытое. Именно в архитектуре торжествует могучая сила пространственной композиции, ибо совершенно ясно, что зодчество — это искусство, а не только техническое и строительное мастерство.
Те, кто с этим согласится, могут вместе с тем задать вопрос: какую же роль играет пространственная композиция в живописи, если она служит только вспомогательным средством для воспроизведения в ней каких-либо архитектурных памятников? На это следует ответить, что живописная композиция, изображающая архитектурное сооружение, отнюдь не является по своему существу более пространственной, нежели какая-либо другая. Пространственная композиция начинает воздействовать на нас только тогда, когда у нас возникает чувство пространства, но не в смысле пустоты или чего-то просто несуществующего, как это бывает обычно, а, напротив, как что-то весьма позитивное и определенное, способное подтвердить сознательность нашего бытия, повысить в нас чувство жизни.
Пространственная композиция — это искусство, которое одухотворяет пустоту, придает ей человечность, создает из нее дивный сад, обнесенный оградой, здание, увенчанное куполом, где наша духовная сущность обретает для себя убежище не в смысле удобного и комфортабельного дома, которым обладают лишь смертные, но убежище возвышенное, отвлекающее нас от жизненной прозы.
Музыкальность пространственной композиции явственнее чувствуется в живописи или в величавых архитектурных формах, именно потому, что в первой меньше ощущается тирания материала, неумолимо напоминающая нам о силе тяжести и опорном весе; в живописи гораздо больше ничем не ограниченной свободы, хотя это отнюдь не должно обозначать излишнего простора для своенравной фантазии. И рядом с этой обманчивой свободой в живописном искусстве звучат многие другие голоса, освобождающие нас от мучительных жизненных пут, растворяющие наше существо в изображенном пространстве, пока мы сами не сливаемся с ним, проникнув туда, подобно духу. Таким образом, пространственная композиция — не выскочка и соперница архитектуры, но ее прелестная сестра, искусство, которое способно выразить эффекты тонкие, привлекательные и выигрышные. И она производит их совершенно иными средствами. Архитектура наступает на пространство и замыкает его, ее область — скорее, интерьер. Живопись, напротив, раскрывает пространство и воображаемыми границами обрамляет небесный свод. Пространственная композиция пользуется всеми формами, будь то пейзаж, человеческая фигура или здание, и всех заставляет работать на себя, делая их своими соратниками в передаче и выражении чувства безграничного простора.
Как вольно дышится в таких картинах, как будто с вашей груди спало бремя; каким освеженным, каким возвышенным и могучим чувствуешь себя, к тому же таким успокоенным и как бы вознесенным в далекую блаженную обитель!
Многие из нас пережили подобные чувства в те счастливые мгновения, когда оставались наедине с природой, и это то, чего мы ждем, но слишком редко получаем от пейзажной живописи. И все же пространственная композиция отличается от последней так же, как и от архитектуры. Она может произвести эффект в изображении площади большого города (как в произведениях Пьеро делла Франческа) не хуже, чем в изображении гор или холмов. Но ее победы не зависят от тонкой моделировки атмосферы или от тщательного изучения света и тени. Более того, чтобы иметь успех в искусстве пространственной композиции, достаточно обладать такой небольшой технической ловкостью, таким незначительным мастерством и знаниями, что если художники хоть немного образованны, если им присуще пространственное чувство и они придерживаются хороших традиций, то даже самый ничтожный из них может добиться известного успеха.
Едва ли можно найти картину умбрийской школы, как бы плоха она ни была в других отношениях, которая не пленяла бы нас своим прелестным пространственным кругозором. А коль скоро наш интерес направлен на художественное произведение, а не на художника с его безумиями, взлетами и падениями, то мы не должны презирать пространственную композицию только потому, что она требует меньше технического мастерства и умения, нежели современная пейзажная живопись. Поверьте мне, если у вас нет врожденного чувства пространства, то никакая наука, никакой труд в мире не смогут внушить вам его. А ведь без этого чувства не может быть создан прекрасный пейзаж. Несмотря на превосходную моделировку Сезанна, который придает небу такую же великолепную осязательную ценность, как Микеланджело человеческой фигуре, несмотря на все стремление Моне передать трепещущую пульсацию солнечного тепла, заливающего поля и деревья, мы все еще ждем подлинной пейзажной живописи. И она явится тогда, когда некий художник, моделирующий небеса, как Сезанн, передающий свет и жару, как Моне, постигнет, помимо этого, то чувство пространства, которое будет соперничать с чувством пространства у Перуджино и Рафаэля.
И именно потому, что Пуссен, Клод Лоррен и Тернер, оставляя в стороне их неполноценность по сравнению с художниками нашего поколения, обладали этим чувством в большей степени, чем все другие, они до сих пор остались величайшими европейскими пейзажистами, ибо пространственная композиция есть костяк и сущность пейзажного искусства.
XIII
Теперь, когда мы имеем некоторое представление о сходстве и различии между пространственной композицией, архитектурой и пейзажной живописью, когда мы понимаем, почему пространственная композиция занимает особое место в искусстве, мы можем оценить подлинные качества Перуджино и Рафаэля, чего не смогли сделать бы раньше. Все же следует учесть еще один момент. Он заключается в следующем. Подобная композиция, как мы договорились, освобождает нас от мучительно связывающих пут, растворяет в изображенном пространстве, пока мы не становимся как бы его частью, проникнув туда, подобно духу. Другими словами, это чудесное искусство уводит нас от самих себя, дает нам возможность слиться с природой, доставляет глубокое эстетическое наслаждение, может порой вызвать чисто мистический восторг.
Для многих из нас, кто не признает религиозного догматизма и церковной обрядности, подобные переживания равносильны, по существу, религиозным эмоциям, которые, кстати сказать, настолько же не связаны с верой и нормами человеческого поведения, как и сама любовь. И я, действительно, не знаю другого пути, кроме того, каким живопись может внушить человеку религиозное чувство; я говорю внушить, а не изобразить.
Следовательно, если пространственная композиция призвана выражать религиозные эмоции, то, поскольку школа Перуджи проявила высокое мастерство именно в этой области, мы понимаем, почему произведения Перуджино и Рафаэля действуют, как никакие другие, на наше религиозное чувство. И оно настолько сильно выражено в их картинах, что обыватели постоянно недоумевают по поводу того, как Перуджино, будучи в жизни атеистом и к тому же непорядочным человеком, мог писать такие глубоко религиозные картины?
Если бы в нашу задачу входило обсуждение того, в какой мере личность художника отражается в его творениях, то можно было бы предположить, что он изображал нежных отроков и святых именно потому, что в жизни легко мог бы одержать над ними победу, или писал, прелестных и невинных женщин, могущих в действительности легко пасть его жертвами.
Но эта гипотеза, хотя и возможная, совершенно бесполезна в данном случае. Перуджино, как я уже сказал, добивается религиозного эффекта своей пространственной композицией. От его фигур мы требуем лишь, чтобы они не нарушали этого чувства, и если мы воспринимаем их так, как они задуманы, то есть как конструктивные элементы в пространственной композиции, то они никогда не мешают этим переживаниям. Фигуры Перуджино играют, скорее, роль колонн, поддерживающих своды, и мы не должны обращать внимание на стереотипные позы и выражение, так как от этих фигур и не нужно требовать никакого драматического разнообразия.
Нельзя сказать, чтобы Перуджино был слаб как иллюстратор. Отнюдь нет! Он чувствовал красоту женщин, обаяние молодых людей, достоинство старцев, и редко кто превосходил его в этом отношении. В молодости он написал ряд вещей (находящихся в галерее Перуджи), повествующих о чудесах св. Бернардина. Они очаровывают нас чисто умбрийской красотой, прелестью и грацией своих форм, выразительным чувством линии и движения, близким к флорентийским.
Как привлекательны эти картины с их изысканными зданиями в стиле Ренессанса, с гирляндами, увивающими триумфальные арки, сквозь которые открываются умбрийские дали под высокими небесами, с их романтическими пейзажами, прелестными женщинами, еще более прелестными юношами — высокими, стройными, золотоволосыми, изящными — подлинными переодетыми героинями Шекспира. Их отличает благородство и вместе с тем некая отчужденность, они душевно замкнуты, целомудренны и чисты.
Перуджино сдержан, избегает в своих картинах сильных и порывистых движений, так как не считает себя пригодным для выполнения таких задач, и, действительно, он настолько не умеет изображать движения, что его фигуры вместо ходьбы танцуют и никогда твердо не стоят на ногах.
Так же тщательно избегал он преувеличенного выражения чувства. Как холодны и спокойны его «Распятие» и «Положение во гроб»! Кругом стоит тишина, и люди больше никого не оплакивают; неслышный вздох, взор, полный тоски, — и это все. Как должны были успокаивать такие картины после шума, суматохи и кровопролитий в Перудже, самом кровавом городе Италии! Можно ли удивляться тому, что мужчины, женщины и дети бежали смотреть на эти картины? Да и теперь жизнь достаточно заполнена корыстными стремлениями и бессмысленными ссорами, чтобы мы могли отказывать себе в таком бальзаме для души, какой дает нам Перуджино. Пространственный эффект играл такую большую роль в его композициях, что трудно сказать, в чем еще заключаются их достоинства. Мы более уверенно сможем судить об этом, если рассмотрим портреты его кисти.
В портрете молодого «Мессера Алессанро Браччези» повторяются уже знакомые нам черты других моделей Перуджино, но от этого не утрачивается его очарование, несмотря на отсутствие заднего плана.
А в портрете «Франческа дель Опера» (Уффици), где звучит успокаивающий и особенный аккомпанемент пейзажа, Перуджино обнаруживает свое великое иллюстративное мастерство, показывая в ряду других ренессансных портретов чрезвычайно смело интерпретированный, четко охарактеризованный и убедительный образ, такой властный и сильный, что даже мечтательно дремлющий пейзаж не может смягчить его суровости. А как мало слабости и сентиментальности было присуще Перуджино, мы можем судить по тому суровому и реалистическому характеру, который он придал своему автопортрету в Камбио в Перудже.
Как бы ни были замечательны свойства Перуджино как иллюстратора, я все же сомневаюсь, следует ли нам помещать его среди великих художников только за эти заслуги. Их мало, если вообще высокие достижения иллюстрации могут быть достаточными, чтобы возместить не хватавшее художнику чувство формы и движения; но все это было не столь плачевно, как у Пинтуриккьо, благодаря тому, что Перуджино находился в постоянном контакте с Флоренцией. Однако очарование его пространственных композиций было так могущественно, что мы никогда не принимаем всерьез его фигур, а если делаем это, то ошибаемся, потому что придираться к ним не более разумно, чем подымать шум из-за глупого текста, на слова которого написана торжественная музыка. А по мере того как художник старел, исполнение этих фигур становилось все хуже и хуже. Оставаясь в тени, он не стремился выдвинуться; к тому же наступили годы, когда гений Микеланджело потряс уже все итальянское искусство. Перуджино не посещал более Флоренцию и утратил всякий интерес, если и испытывал его когда-либо раньше, к изображению фигур и обнаженного тела. Но прирожденного чувства пространства он не мог утратить, напротив, оно усилилось именно тогда, когда, не растрачивая свое дарование на тщетные попытки писать как следует человеческие фигуры, Перуджино полностью отдался во власть своему таланту и творческим порывам.
Последние годы жизни он провел, венчая умбрийские холмы своим золотым искусством, оставив на стенах многих затерянных и отдаленных церквей изображения несказанных по красоте небес и горизонтов.
А теперь рассмотрим более подробно некоторые композиции Перуджино. Одна из его ранних работ — фреска на стене Сикстинской капеллы «Христос, передающий ключи от рая апостолу Петру» — произведение, в котором он уделил особое внимание построению фигур. К нашему удивлению, некоторые из них твердо стоят на ногах, но, конечно, это не Христос и не апостолы, которых художник писал уже наизусть, а портреты его друзей. И, как бы для того, чтобы конкретизировать их реальность, он изобразил с левого края самого себя, стоящим рядом со своим другом Лукой Синьорелли. Однако вы не почувствуете, что эти изображения повышают вашу жизнеспособность, что они обладают осязательной ценностью или движением. В этой фреске фигуры Перуджино не более привлекательны, чем у Пинтуриккьо, не лучше построены, чем у посредственных флорентийских мастеров Козимо Росселли или Доменико Гирландайо, а движение фигур совсем никуда не годится, особенно по сравнению с Боттичелли. И все же среди настенной живописи Сикстинской капеллы работы Перуджино не самые плохие. Напротив, есть ли среди них хоть одна более восхитительная?
РАФАЭЛЬ. МАДОННА САДОВНИЦА. 1510
Париж, Лувр
Фреска Перуджино золотистого колорита, с тонким ритмическим распределением групп, а главное, с ее жизнерадостным простором буквально покоряет нас и держит в своей власти. Наше внимание обращено на фигуры переднего плана. Своими размерами и соотношением к мозаичному узору пола они вызывают представление не о слабых смертных людях, а о высших существах, обитающих в девственных природных пространствах. Но площадь не заполнена ими. Отнюдь! Просторная и даже пустынная, она простирается в глубину и поверх этих людей, виднеясь сквозь уменьшенные расстоянием фигуры, до тех пор пока ваш взгляд, достигнув линии горизонта, не остановится на храме с воздушными портиками и парящим куполом. Этот храм настолько пропорционален по отношению к фигурам переднего плана, настолько гармонично сочетается с перспективой мозаичного пола, что вам кажется, словно вы находитесь под сенью великолепного собора и в то же время не в замкнутом, а в открытом, свободном и безграничном воздушном пространстве. Этот эффект достигнут благодаря архитектуре храма, между портиками которого как бы проходит воображаемая ось этой идеальной полусферы и воображаемой окружности переднего плана. Только восприняв все это построение как сферическое, вы поймете, что позади храма дано такое же пространство, как впереди него.
За неимением времени мы не можем долго задерживаться на других картинах Перуджино. Но некоторые все же нельзя пропустить. Какой удивительный эффект производит его полиптих (находящийся в Олбени), написанный в холодноватых и в то же время в теплых тонах, с изображенным на створках пейзажем, виднеющимся сквозь прекрасные живописные арки, уводящие в благоухающие дали. Эта картина дает вам испытать редкое блаженство, подобное тем мгновениям, когда в ранний час летнего утра вы глубоко вдыхаете полноту и радость жизни.
Таким же золотым, мечтательным, летним настроением полны четыре луврские картины Перуджино: идиллия в стиле Теокрита — «Аполлон и Марсий», маленький, изящный «Св. Себастьян», создание его последних лет, и две более ранние картины; на одной из них, написанной в небесно-голубых тонах, изображена мадонна, окруженная воинами и святыми, мечтающими о чем-то в сияющий летний полдень. И, наконец, «Св. Себастьян» в рост, обрамленный полукружием арки, ведущей прямо в рай! Как далек этот человек, обитающий в раю, господствующий над природой, возвышающийся над горизонтом, подобно гигантскому монументу, от той ничтожной роли, которую отведут ему художники плейера, растворившие человеческую фигуру в бесконечности природы. И именно это господство человека над окружающим его миром делает картины Перуджино особенно значительными и нужными, несмотря на то, что во многом они довольно слабы, как, например, фрески в Камбио в Перудже. Это относится даже к худшей из них, с изображением двух прелестных женщин, роль которых была бы для нас неясна, если бы не изображенные рядом надписи, обозначающие их символический смысл: «Сила воли» и «Умеренность». Внизу на земле стоят томные, красивые и мечтательные рыцари и герои, в чьем облике никак нельзя разгадать воплощение этих прославленных добродетелей, хотя они величественно, подобно колоннам, возвышаются над обширным пейзажем.
Гораздо лучше, несмотря на несколько мрачные синие тона, триптих Перуджино (Лондон, Национальная галерея) с его сочным, золотым колоритом, где дева Мария, поклоняющаяся младенцу, словно господствует над окружающим ее пейзажем с высокими небесами, с поющими в них ангелами, чьи фигуры образуют подобие небесной апсиды незримого воздушного храма.
В чем заключались бы смысл и ценность картины «Явление Девы святому Бернарду» (Мюнхен), если бы не магическая сила ее пространственного дыхания, если бы не далекие виды умбрийской долины, обрамленной сводами арки?
Что так неуклонно направляет ваши шаги к «Распятию» Перуджино в церкви Сайта Мария Маддалена деи Пацци во Флоренции, если не дремлющие на горизонте дали и высокие небеса?
XIV
А теперь мы стоим лицом к лицу с самым знаменитым и любимым именем в современном искусстве — Рафаэлем Санцио. За последние пять веков бывали художники во много раз гениальнее. Микеланджело более велик и мощен, Леонардо более глубок и утончен. У Рафаэля вы никогда не обнаружите того сладостного ощущения жизни, как у Джорджоне, ни ее гордости и великолепия, как у Тициана и Веронезе. А я называю только итальянские имена, — сколько же еще других, если мы захотим перейти по ту сторону Альп! И ведь Рафаэль соперничает с ними только как художник-иллюстратор, ибо его нельзя поставить на один уровень с великими флорентийцами как мастера фигурной живописи. Он не расцвечивал мир лучезарными красками, подобно венецианцам. Если мерить его той же мерой, какую применяют к художникам, вроде Поллайоло или Дега, вы сразу же приговорите Рафаэля к заключению в чистилище, где царят грубо позолоченные посредственности, ибо движение и форма были так же противны его уму и темпераменту, как когда-то его далекому предшественнику Дуччо.
Тщательно просейте легионы рисунков, приписанных Рафаэлю, пока не доведете их число до тех немногих, которые бесспорно ему принадлежат. Рискнете ли вы тогда поместить даже их среди произведений величайших рисовальщиков? Или посмотрите на его «Положение во гроб», единственную композицию, которую он пытался трактовать так, как должна быть трактована каждая серьезная фигурная композиция, то есть с необходимой передачей осязательной ценности и движения. И вы увидите, как послушно, терпеливо и усиленно трудился он в поте лице своего над тем, чтобы выразить силу и мощь фигур, но это шло только от ума, а не от сердца. В результате получилось одно из самых странных и нелепых когда-либо существовавших «академических» произведений, тем более что оно было создано за пределами стен этого склепа для премированных картин, который именуется «дипломной галереей Школы изящных искусств» в Париже!
Всегда готовый учиться, Рафаэль испытывал одно влияние за другим. Кому он только не поклонялся? Тимотео делла Вите, Перуджино, Микеланджело и Леонардо да Винчи, фра Бартоломео и, наконец, Себастьяно дель Пьомбо. Будучи уже на вершине славы и триумфа, Рафаэль смиренно пытался научиться глубоким тайнам волшебного колорита даже у этого второстепенного венецианца. И хотя Рафаэль хорошо усвоил его уроки, потому что в области колорита умбрийцы всегда были дальними родственниками венецианцев, все же он только дважды мог одержать блестящую победу: в превосходной по живописи фреске «Месса в Больсене» в Ватикане и в восхитительном этюде в серых тонах — «Портрете Бальдассаре Кастильоне» в Лувре. Но что они значат рядом со стенной живописью Веронезе или портретами Тициана? Даже в своих лучших работах Рафаэль как колорист никогда не смог превзойти Себастьяно дель Пьомбо.
Поэтому, если мы ждем от Рафаэля выдающегося мастерства в передаче формы и движения или великих колористических достижений и чистой живописности, он, конечно, разочарует нас. Но художник предъявляет другие права на наше внимание. Он одарен таким зрительным воображением, что никто не мог соперничать с ним по разнообразию и нравственной чистоте его образов. Если эти качества и бывали превзойдены кем-либо, то лишь в отдельных случаях.
Высокоодаренный, родившийся в то время, когда натуралисты и другие ведущие художники вновь открыли для себя форму и поняли ее значение, когда зрительное воображение, по крайней мере в Италии, претерпело по сравнению со средневековым сильные изменения и стало в известном смысле для нас почти современным, а идеалы Ренессанса в какой-то непостижимый для нас миг откристаллизовавшимися, Рафаэль стал тем, кем он должен был стать.
Представления, профильтрованные сквозь его сознание, становились чистыми и прозрачными, как все, что он воспринимал и чувствовал. Он поставил перед собой задачу одарить современный ему мир художественными образами, которые, вопреки мятежным страстям и мрачным событиям позднейшего времени, воплотят для большинства культурных людей их духовные идеалы и чаяния. «Прекрасна, как мадонна Рафаэля» — эти слова все еще считаются высшей похвалой женской красоте среди европейцев, одаренных тонким художественным вкусом. И в самом деле, где можно найти большую чистоту и более совершенную прелесть, нежели в его «Мадонне делла Грандука», или более возвышенный женский образ, чем «Сикстинская мадонна»? Кто в юности, увлекаясь Гомером, Вергилием или Овидием, не воспринимал эти поэмы по-своему, не грезил об их героях во сне, не мечтал о них наяву, пока не увидел их полностью воплотившимися в знакомых уже образах фрески «Парнас» в Станца делла Сеньятура в Ватикане! Кто хоть раз, мечтая о благородном и духовном общении людей между собой, не смотрел с томительным желанием на «Диспут» или «Афинскую школу»?
Посещал ли вас когда-нибудь образ Галатеи? Признайтесь, не стала ли она в тысячу раз более жизненной, свободной и обновленной с тех пор, как вы увидели ее среди тритонов и морских нимф в вилле Фарнезина? Сама античность не оставила нам более ликующего и яркого воплощения своих утонченных и фантастических видений. Мы благодарны Рафаэлю за те прекрасные одежды, в которые он облек античность — предмет наших поэтических мечтаний. И пока она живет в нашем представлении, на что я горячо надеюсь, не только как некогда существовавшие государства, а как мир, по которому мы страстно и сильно тоскуем, мы будем всегда воспринимать ее сквозь образы, внушенные нам Рафаэлем, особенно тогда, когда читаем и перечитываем древних авторов. И тогда мы увидим античный мир таким, каким видел его Рафаэль, мир, в котором никогда не умолкало пение утренних птиц.
Что же удивительного в том, что Рафаэль в одно мгновение стал, и навсегда остался, самым любимым из художников?
Наша культура, обязанная классической древности всем самым благородным и лучшим, что она имеет, нашла наконец в его лице современного ей художника-иллюстратора. Рафаэль воплотил античность в образах, превосходящих все высочайшие представления о ней, и понял самые возвышенные стремления человеческого рода. Можно смело сказать, что он — знаменитый художник и ученый-гуманист — остался любимым и понятным для народных масс, с молоком матери впитавших классическую культуру.
В нашей цивилизации присутствует еще один элемент, хотя и мало значащий в развитии интеллектуальной жизни, но представляющий интерес для живописной фантазии. Я имею в виду древнееврейский эпос Ветхого и Нового завета, высокий по своему моральному и поэтическому смыслу. Рафаэль и здесь достиг успеха, плодами которого мы наслаждаемся до сих пор, потому что, глубоко восприняв дух Древней Эллады, он облек в эллинские одежды и весь ветхозаветный мир. В картинах, написанных им самим или выполненных под его руководством, художник полностью иллюстрировал Ветхий и Новый завет. И так велико было очарование этих произведений, что оно проникло в самые разнообразные слои общества. Однако в его образах не больше древнееврейского, чем в образах Вергилия, воспевающего то идеальное существование, когда лев будет лежать рядом с ягненком. Рафаэль достиг удивительного слияния древнееврейского эпоса с эллинской мифологией. Каким мощным воздействием обладал он на современную ему культуру, если настолько сумел эллинизировать единственную, противостоящую и враждебную Элладе силу — древнееврейскую цивилизацию! Если вы потребуете доказательств, посмотрите на «Библию Рафаэля» на потолке лоджий в Ватикане, посмотрите на картоны для шпалер, на гравюры Марк Антонио Раймонди, но прежде всего обратите внимание на «Видение Иезекиила» в палаццо Питти. Разве это Иегова спускается с небес к своим пророкам, а не Зевс, явившийся Софоклу? Нежную человечность христианства и чарующую красоту античности Рафаэль выразил в таких лучезарных образах, что мы вечно возвращаемся к ним для обновления наших душевных сил. Но разве он не создал также своего идеала красоты? Для флорентийцев слишком много значило искусство фигурного изображения, так же как для венецианцев — колорит и живописность, чтобы они могли еще принимать во внимание столь незначительный фактор, который в обыденной жизни мы именуем красотой.
Легко могло оказаться, что «прекрасная женщина» в жизни не может быть хорошей моделью для художника, что ее трудно и просто невозможно изобразить на картине, и ее портрет, как бы желанна и восхитительна она ни была во всех отношениях, превратится в вульгарную цветную фотографию. Много усилий было приложено и в наше время художниками-иллюстраторами для того, чтобы видоизменить этот идеал. Но созданный ими образ роковой и надломленной женщины, который они стремились сделать популярным, хотя она и привлекала, вероятно, лишь вкусы людей, пресыщенных здоровьем, не есть более художественный образ, чем какой-либо другой.
Итак, тот тип красоты, к которому неизменно возвращаются наши взоры и желания, создал Рафаэль, и в течение четырехсот лет именно он очаровывал Европу.
Не обладая столь исключительной натурой, чтобы совсем игнорировать красоту, Рафаэль, унаследовавший чисто сиенское чувство прелести, находился под таким влиянием флорентийского искусства, что, руководствуясь его сдержанным и возвышенным характером, создал свою «идею» красоты, в которой сочетались феррарское, среднеитальянское и флорентийское представления о прекрасном женском образе, оказавшемся золотой серединой между непосредственными человеческими желаниями и сознательными требованиями искусства.
Успех Рафаэля потому и был так велик, что действительно никто, за исключением Леонардо, не умел писать более привлекательных и полных достоинства женских и мужских лиц, как старых, так и молодых. Разве лишь в изображении зрелых и мужественных людей он был слабее, и то я в этом не уверен.
Но здесь нас ждет сюрприз. Этот художник, который мягко и мечтательно влечет нас за собой в идиллические вергилиевские сады Гесперид, может быть в одно и то же время суровым, бесстрастным, независимым и великим в своих замыслах. Это происходило с ним тогда, когда он становился портретистом, и его портреты ни с чем не сравнимы в смысле правдивости. Они не только очень сходны, они дословны в своей характеристике модели, которая выступает перед нами в безжалостном свете, проницательно разгаданная Рафаэлем. Но при этом столь преображенная интеллектуальной энергией и высокой артистичностью художника, что его портреты являются почти непревзойденными.
Следует ли приводить примеры? Вызовите в своей памяти различные изображения «Папы Юлия II» в «Станцах» Ватикана, тонкие и жестокие черты лица молодого кардинала, чей погрудный портрет находится в Мадриде, сердечные и добрые лица Навагеро и Беаццано, чувственную и тучную, но при этом чем-то привлекательную внешность папы Льва X и величественное изображение молодой римской матроны, такой, какой должна была бы быть Корнелия (Мать Тиберия и Кая Гракхов — политических деятелей Древнего Рима II века до н. э.), известное в Питти под. названием «Портрет донны Велата».
XV
Однако вся ли заслуга Рафаэля в том, что он был самым любимым художником-иллюстратором, какого мы вообще когда-либо знали? Если вместе с исчезновением мира, в котором мы живем, исчезнут плоды античности и Ренессанса, то возникнет ли после этого какая-нибудь другая культура и с нею люди, способные ценить искусство? И если благодаря чуду произведения Рафаэля до тех пор сохранятся, то что будущее поколение найдет в его творчестве? Он станет для них не больше, чем иллюстратором, как представляются нам великие художники Японии или Китая. Даже такой великий мастер, как Рафаэль, не смог бы воплотить их идеалы и стремления, их неуловимые и тонкие переживания, чувства и мечты, таящиеся в подсознательных глубинах их существа. Эти будущие люди стали бы им наслаждаться в той мере, в какой мы наслаждаемся китайским или японским искусством, хотя почти не знаем истории, мифов и поэзии этих стран, как искусством, независимым от любых событий и обстоятельств, призванным лишь к тому, чтобы повышать умственную и физическую жизнедеятельность человека.
Что такое пространственная композиция, нам уже известно, и здесь незачем обсуждать это снова. Достаточно рассмотреть некоторые шедевры Рафаэля так же, как это мы делали раньше по отношению к Перуджино. Самое раннее и, быть может, прелестнейшее откровение Рафаэля мы найдем в его «Обручении девы Марии со св. Иосифом». Как пространственная композиция — это, по существу, только вариант фрески Перуджино «Христос, передающий ключи от рая апостолу Петру», которую мы рассмотрели в Сикстинской капелле; та же группировка фигур на переднем плане, та же пропорциональность расстояний, то же замыкание горизонта купольным храмом. Элементы и принципы остались теми же, но дух живущий в них, уже не прежний. «Обручение» Рафаэля с его неуловимым чувством пространства, с утонченностью и даже некоторой изысканностью источает такие благоухание и свежесть, каких не знает фреска Перуджино. При взгляде на картину молодого Рафаэля вы охвачены трепетным и волнующим чувством, словно ранним утром, когда воздух прохладен и чист, вас вдруг перенесли в прекрасную страну, где необычайные и привлекательные люди устроили красивый и изящный праздник. Далекие очертания гор и холмов, простирающиеся до самого горизонта, составляют задний план этой картины. Пространственный эффект фрески Перуджино мы сравнивали с сенью невидимого, небесного собора, но здесь это, возможно, ускользнет от вас, если вы не всмотритесь внимательно.
Однако Рафаэль, уверенный в своих силах, повторил абсолютно безупречно подобный же эффект, выполнив его в гораздо больших масштабах. Посмотрите в Станца делла Сеньятура на величественное собрание богов, известное под именем «Диспута», или «Триумфа религии». На вершине Олимпа боги и герои собрались на совет. Их фигуры расположены так, что реальный архитектурный купол не смог бы лучше обозначить глубину и округлость храма, чем это сделано здесь. Но никакой храм не мог бы так прекрасно выразить чувства громадного пространства и в то же время его соразмерности и внутренней связи с общим воздушным пространством. Каким великим, очищенным и преображенным чувствуешь себя здесь! Формы в «Диспуте», как и всегда у Рафаэля, благородны по замыслу. Но мысленно изымите их из пространственного окружения. Что останется от их торжественного величия и лучей славы? Они исчезнут, как божественность от бога.
А «Афинская школа» еще больше бы пострадала от такого превращения. Сравним эскизы фигур на картоне Рафаэля с самой фреской. Как ординарны и невысоки по качеству изображения на картоне! Зато какими неузнаваемыми становятся они, когда мы снова видим их под сводами этих поразительных арок! Кажется, что не только фигуры философов обретают благородство, но и вы сами. Вы чувствуете себя подобными полубогу в этом легком и чистом воздухе! А как декорирована эта небольшая зала! В помещении средних размеров, далеко не соблазнительном для декоратора, где на стенах написаны «Диспут», «Афинская школа», «Парнас», а на потолке «Аллегория Правосудия», вы чувствуете себя, словно под открытым небом, среди пейзажа райской красоты, где человек, скинувший с себя бремя корыстных забот и борьбы, видит единственную цель в том, чтобы глубоко и свободно размышлять об искусстве. И все это потому, что Рафаэль не только безупречно владел пространством, как никто до и после него, но был величайшим мастером композиции в группировке и распределении фигур на плоскости. Перед тем как уйти из Станца делла Сеньятура, взгляните еще раз на «Диспут». Обратите внимание на равновесие масс вокруг фигуры Вседержителя, заметьте, как плавно струятся все линии по направлению к нему, потому что на нем, как на идейном центре композиции, должен задержаться наш взгляд. Или посмотрите, как в «Афинской школе» все линии сходятся к фигурам Платона и Аристотеля, причем этот эффект централизации повышается еще больше от того, что фигуры обрамлены перспективно-сокращенными арками, под сводами которых они оба находятся. Аналогичный эффект мы находим в «Неверии Фомы» Дуччо, но у Рафаэля он разрешен почти в космическом масштабе. На потолке той же Станцы изображен «Суд Соломона». Видели ли вы когда-нибудь более удачно заполненную плоскую поверхность, более четкое расположение фигур, более устойчивое равновесие масс? Эффект, сходный с этим, вы обнаружите в вилле Фарнезина в Риме, где вогнутые сферические треугольники плафона так превосходно заполнены живописью, изображающей различные приключения Психеи, что вы легко можете вообразить себе вместо стен пролеты, сквозь которые виднеются мифологические сцены, происходящие на открытом воздухе. Вы совсем забываете, что перед вами безнадежно трудная для обработки стенная плоскость. Но, как ни сложно покрыть живописью стены, подобные этим, еще сложнее изобразить группу, даже одну фигуру так, чтобы, полностью господствуя над имеющимся в ее распоряжении пространством, она не стала бы слишком отвлеченной, схематичной и неподвижной, а внушала чувство свободы, ощущение воздуха и солнечного света. Замечали ли вы, что «Мадонна делла Грандука» не целиком изображена на картине? Группировка отдельных частей так совершенна, что внимание зрителя всецело поглощено расположением голов мадонны и младенца, равновесием между прикрытой плащом руки Марии и телом ребенка. Вам не нужно даже спрашивать себя — как закончена ее фигура? Заметьте манеру и изящество ее осанки; заметьте, что размеры картины таковы, что ее фигура вписана в них совершенно свободно, так, чтобы не оставалось незаполненного пространства и не было излишней тесноты.
Но как ни велико наслаждение, доставляемое нам группой фигур, превосходно заполняющей пространство, оно становится еще глубже, когда человеческая фигура господствует над пейзажем.
Рафаэль неоднократно повторял подобные композиции в «Мадонне со щегленком», в «Мадонне дель Прато», но наибольшего успеха он достиг только раз: в «Мадонне садовнице» (Лувр). В ней нет и намека на пленер и на соотношение пленерного пейзажа с человеческой фигурой. Мадонна полностью заполняет куполообразное небесное пространство, столь же искусно исполнена, как «Мадонна делла Грандука». Но в «Мадонне садовнице» изображен целый мир, вся природа и человеческое существо господствует над ними. Как это грандиозно задумано!
Духовная связь с природой выражена здесь в своем единственном и возможном смысле, который может и должен воспринять всякий, если только падение культуры не превратит его в варвара, а развитие науки не лишит остатков человечности. Ибо цель искусства изображать то, что человек чувствует, а не то, что он знает. Все остальное — наука.
XVI
Итак, Рафаэль не был художником в том смысле, в каком были Микеланджело, Леонардо, Веласкес или даже Рембрандт. Он был великим иллюстратором и великим мастером пространственной композиции. Но достигнутый им успех был одновременно и его гибелью, потому что, принужденный в последние годы своей недолгой жизни напряженно и много работать, руководить толпой помощников, редко при этом имея досуг для размышлений, он слишком спешил. В большинстве его последних работ отсутствуют те качества, которые были столь высоки в начале его творчества.
Если так обстояло с ним, насколько же хуже было с учениками и исполнителями его замыслов, учившимися в спешке и суматохе, причем никто из них не обладал ни талантом иллюстратора, ни даром пространственной композиции. Что может быть безвкуснее их работ? Они даже не обладают тем чувством пространства, которое нравится нам пусть у худших, но непосредственных последователей Перуджино. Нет у них и того приятного колорита, которым привлекает к себе даже самый посредственный венецианец. Не удивительно, что мы предали забвению Джулио Романо, Пьерино дель Вага, Джованни Франческа Пенни, Полидоро да Караваджо и их собратьев. Это все, чего они заслуживают.
Пусть не они возникают в нашей памяти, когда мы вспоминаем художников Средней Италии. Но пусть она верно хранит имена могучей армии великих иллюстраторов, великих фигурных живописцев, великих мастеров пространственной композиции во главе с блестящими и гениальными Дуччо и Симоне Мартини, Пьеро делла Франческа и Синьорелли, Перуджино и Рафаэлем.
Книга IV. Живописцы Северной Италии
I
В УСПЕХАХ И ОШИБКАХ раннего итальянского искусства живопись Северной Италии тоже сыграла свою роль. Рожденная в Византии, ярко освещенная лучами Дуччо, она распространилась по всему итальянскому полуострову благодаря гению Джотто. В окрестностях Милана, Вероны, Падуи и поныне можно увидеть в маленьких часовнях фрески не менее интересные, чем стенные росписи Флоренции или Сиены. Но в североитальянской живописи, развивавшейся между Альпами, Апеннинами и морем, все же не встречалось крупных живописцев до тех пор, пока во второй половине XIV столетия не появился Альтикьеро Альтикьери из Вероны. (К сожалению, большая часть его подлинных работ в Италии погибла, и его участие в двух циклах фресок в Падуе недостоверно. Его соотечественник д'Аванци работал с ним, и было сделано много тщетных попыток определить руку каждого мастера. Есть, без сомнения, незначительная разница в качестве, но замысел и руководство принадлежат, конечно, Альтикьеро. В настоящей книге мы считаем, что живопись в Санто и в смежной капелле св. Георгия можно считать принадлежащей ему).
Фреска в церкви св. Анастасии, где изображены три дворянина из семьи Кавалло, представленные мадонне их святым патроном, — это единственная из его работ, находящихся в Вероне, и несомненно одно из немногих великих произведений искусства последних лет треченто. Большая легкость рисунка, геральдическая пышность костюмов, величие святых, выразительность девы Марии, миловидные лица ангелов, — все это делает художника одним из последователей Джотто, не уступающим даже Орканье, на которого Альтикьеро так неожиданно похож. И мы уже готовы подумать, что семя, посеянное Джотто, нашло здесь более плодородную почву, но наш энтузиазм несколько остывает перед фресками Альтикьеро в Падуе. Правда, его колорит превосходит флорентийский, краски ярче и более гармоничны. За исключением Орканьи, никто из тосканских фрескистов не рисовал так превосходно, как веронский мастер. Однако при всех своих достоинствах фрески Альтикьеро разочаровывают нас по сравнению с тосканскими, потому что ни один флорентийский живописец, обладающий достоинствами Альтикьеро, не допустит таких ошибок, как он.
Высокое качество веронских фресок заключается в их ясной повествовательности, удачной композиции, тонких пространственных интервалах, в типах лиц, таких свежих и памятных. До тех пор пока веронская живопись достойна называться искусством, эти фрески украшают ее. Падуя и даже Венеция заимствовали оттуда прелестные живописные мотивы. Архитектура изображалась с любовной точностью, достойной Каналетто, а перспектива, хоть и наивная и математически неправильная, редко имела недостатки. Сильные, простые и полные достоинства портретные изображения были крайне индивидуализированы для своего времени. И к этой непосредственной наблюдательности прибавьте реалистическую передачу видимых предметов, превзойденную разве одним только Джотто.
Но эти положительные стороны живописи Альтикьеро затенялись многими его недостатками, свойственными художникам позднего треченто. Он перенял у них излишнюю склонность к изображению одежд и украшений, пристрастие к банальным деталям, заботу о локальном колорите. В силу этого Альтикьеро тщетно старается произвести впечатление, ему не хватает изысканности, у него отсутствует внутренняя сущность изображаемого. Он до такой степени поглощен второстепенными деталями, что мелким юмористическим происшествиям уделяет больше внимания, чем главным действующим лицам. Так, несмотря на удачное распределение групп, он слишком их детализирует, что приводит к перегруженности композиции. Нигде вы не встретите удачно незаполненного пространства, помогающего вздохнуть легко и свободно, которое встречается в лучших произведениях Джотто, Симоне Мартини или Орканья. Альтикьеро превращает «Распятие» в сценку, носящую почти рыночный характер, и зритель находится под естественной угрозой того, чтобы не заметить распятого Христа, ибо его вниманием завладевает собака, лакающая из плошки воду, красивая женщина, ведущая за руку своевольного ребенка, и старуха, утирающая нос. Художник столь мало заботится об экономии художественных средств, что постоянно пренебрегает ею ради быстротечной моды дня. Альтикьеро, например, увлекался изображением одежд на своих фигурах, подменяя выразительность образа подобной мишурой. Но как будто в доказательство того, что он знал, как надо по-настоящему писать, он не упускал случая задрапировать своих героев, будь то св. Георгий, св. Лючия или св. Екатерина, в широкие и простые одежды, изображенные в величественной манере Джотто.
Другой модой дня было то, что можно назвать передачей «местного колорита», то есть подчеркивание некоторых обыденных и характерных явлений времени и места. Так как почти все легендарные события священной истории происходили на Востоке, то Альтикьеро не упускает случая ввести в картину калмыцкие типы лиц и косицы татарских завоевателей — самой выдающейся восточной народности того времени. Если бы в те годы инквизиция была столь же назойлива, как двести лет спустя, то первый веронский мастер отвечал бы перед ее трибуналом так же, как последний великий из них — Паоло Веронезе. Следует вспомнить, что он был отдан под суд за то, что изобразил на своей картине, посвященной не столь уж возвышенной теме, «Пир в доме Левита», карликов, попугаев и германцев.
Ошибки тосканских мастеров, я повторяю, можно обнаружить и у Альтикьеро, но у него есть свои достоинства, что необходимо подчеркнуть, так как они чрезвычайно характерны для большинства североитальянских живописцев. Последние — мало эмоциональны и не подвержены духовным и возвышенным настроениям. Они больше работают руками, чем головой. Можно подумать, что большинство из них стремились выразить в живописи скорее активное действие, нежели отражение колеблющейся и меняющейся интеллектуальной жизни. В доказательство этого предложим следующую гипотезу: если бы Альтикьеро и Паоло Веронезе обменялись местами, то никто из нас не заметил бы разницы. Другими словами, живи Альтикьеро в XVI веке, он превратился бы в Паоло Веронезе, а последний работал бы в стиле Альтикьеро, живи он в XIV столетии.
II
После Альтикьеро, писавшего пышные фрески, детально изображавшие средневековую жизнь, за ту же задачу взялся его последователь Антонио Пизанелло — широко известный художник эпохи Ренессанса.
Большая часть его работ, фактически все декоративные росписи дворцов и общественных зданий, погибли. Даже теперь, после серьезных усилий собрать воедино его произведения, разбросанные в разных местах, обнаружены только шесть или семь вещей: две фрески, два религиозных сюжета и два или три портрета. Медальер Пизанелло был несравненно более знаменит, чем Пизанелло-художник. И действительно, со времен древнегреческих мастеров, чеканивших монеты для своих гордых городов-государств, никто так тонко и изящно не отливал миниатюрные бронзовые рельефы. Однако Пизанелло никогда не подписывал своего имени без добавления к нему слова «pictor» и именно как живописец получал денежные дары от вельмож и выслушивал льстивые похвалы поэтов.
Хотя он был более передовым мастером, чем Альтикьеро, его произведения не таили в себе ничего того, что могло бы прийтись не по вкусу кругу его потребителей — князей, поэтов или менее избранных лиц, — ибо их художественный уровень основывался на знакомстве лишь с тем искусством, которое их окружало с детства или юности. Это часто случается и в наши дни.
Пизанелло, хотя его и считают одним из великих мастеров Возрождения, никогда не порывал с прошлым. Он, правда, так же далек от Альтикьеро, как Альтикьеро от своих предшественников, но невозможно обнаружить принципиальной разницы между этими двумя мастерами как в смысле их художественных замыслов, так и по духу их искусства. Известное продвижение вперед неизбежно, потому что с трудом завоеванная позиция одного гениального художника служит лишь отправной точкой для следующего. Таким образом, если Альтикьеро наблюдал различные видимые явления, то Пизанелло был еще наблюдательнее; если Альтикьеро индивидуализировал их и придавал им характерные черты, то Пизанелло детализировал их еще тщательнее; если Альтикьеро успешно изображал пространственную среду, то Пизанелло делал это с еще большим эффектом.
Не оставаясь чуждым трудной и жестокой борьбе за новаторство, Пизанелло вместе с тем обладал утонченностью и изысканностью последнего отпрыска старинного знатного рода. В его лице история выдвинула художника, наиболее приспособленного к тому, чтобы, подобно безупречному зеркалу, отразить в своем искусстве закат рыцарства как социального явления, характерного для конца XIV столетия. Не удивительно поэтому, что его приглашали к себе, наряду с родовитым Джентиле да Фабриано, богатые и знатные заказчики и что именно он был избран для продолжения работ при Умбрийском дворе.
Из семи живописных произведений Пизанелло шесть явно написаны для двора, и их сюжеты свидетельствуют об его интересе к придворному образу жизни. Фреска в церкви св. Анастасии в Вероне — прежде всего чисто рыцарское зрелище. Маленькая фигурка св. Евстафия («Видение св. Евстафия», Лондон, Национальная галерея) изображает рыцаря-охотника. И на другой лондонской картине — центральный персонаж святой Георгий, изображенный в виде рыцаря в парадном вооружении, стоящий около своего гордого коня («Мадонна с двумя святыми»).
Герцог Лионелло д'Эсте, данный в профиль, — надменный и знатный вельможа, а женщины в портретах Пизанелло если и менее гордые, то все же достаточно важные дамы. Единственная его работа, которая выполнена не в придворном стиле, — «Благовещение», ибо далеки еще были те времена, когда подражатели Микеланджело, нарушив все традиции, преобразили кроткую иудейскую деву в высокомерную принцессу. Но даже эта композиция Пизанелло украшена фигурами наиболее чтимых покровителей рыцарства — святых Георгия и Михаила.
Дальнейшее рассмотрение работ художника покажет нам, насколько он был далек от подлинного понимания духа итальянского Возрождения. На той же фреске «Благовещение» в церкви Сан Фермо в Вероне Дева Мария со сложенными на коленях руками совершенно не похожа на итальянку ни типом, ни позой, ни силуэтом, хотя коленопреклоненный ангел с величественными очертаниями сложенных крыльев, струящимися прядями волос и длинной ниспадающей одеждой выполнен в среднеитальянской манере. Келья Марии с тщательно выписанными готическими сводами, коврами и утварью напоминает нидерландские картины XV века из дальнего Брюгге. Однако фигуры святых Георгия и Михаила возвращают нас назад к творениям Альтикьеро.
Фреска, написанная по обеим сторонам готической арки в церкви св. Анастасии в Вероне, помещена так высоко, что она могла бы произвести впечатление на зрителя, стоящего внизу, только в том случае, если бы изображенные в ней фигуры превышали человеческий рост. Однако они не только слишком малы, но художник даже не сделал попытки расчленить их на отчетливые группы или яснее выделить на общем фоне. У него отсутствуют какие бы то ни было мысли о композиции и о значительности благородного поступка. Расстановка фигур, которую он дает, вызвана желанием вместить в эту фреску все, что возможно, независимо от требований сюжета. Ничто в правой части композиции (которая никогда не имела прямого отношения к левой, ныне почти утраченной) не указывает на то, что это «Легенда о св. Георгии и принцессе Трапезундской». Мы видим рыцаря, собирающегося вскочить на коня. Между двумя лошадьми, из которых одна, принадлежащая оруженосцу, изображена со спины, а другая — головой вперед, дабы Пизанелло мог продемонстрировать свое мастерское владение ракурсом, стоит обращенная в профиль дама. Одетая в платье с длинным шлейфом, она неподвижна, безжизненна и напоминает собой манекен. Однако лицо ее имеет портретные черты.
Написанные на переднем плане собаки вполне естественны, но изображение барана, так явно бросающееся в глаза, может быть объяснено только непреодолимым желанием художника похвастаться, как хорошо он умел писать животных. В центре фрески — невысокий холм, на котором виднеется каменное кружево готических дворцов, похожих на свадебные торты. Даже современные Пизанелло венецианские мастера не решились бы на своих картинах изобразить подобные здания. Из ворот выезжает процессия всадников, напоминающих скорее архитектурный стаффаж на фресках Альтикьеро, чем живых людей; только профиль одного из них выдает портретное сходство с персонажами Пизанелло. Над головами всадников на высокой виселице качаются двое бродяг, в глубине высится утес, у подножия которого пристает к берегу судно с надутым парусом.
С левой стороны арки, на переднем плане, виднеется туловище мертвого дракона, лежащее среди множества ползающих тварей. Все эти изображения, почти стершиеся от времени и невидимые из-за своей высоты зрителю, переданы тем не менее с точностью, достойной натуралиста, и чисто миниатюрной детализацией. Действительно, эта изумительная фреска скорее произведение миниатюриста, чем художника, и в большей мере могла бы служить иллюстрацией для страницы молитвенника.
В двух других картинах Пизанелло (Лондон, Национальная галерея) можно проследить те же черты средневекового искусства, но дополненные чем-то новым. На одной из них — «Видение св. Евстафия» — изображен изысканно одетый всадник на богато разукрашенном коне; окруженный стаей гончих, он встречает на своем пути спокойно стоящего оленя с изображением распятия между рогами. Веселый охотник удивленно поднимает руку, но не обнаруживает признаков волнения, тогда как взгляд животного передан чрезвычайно выразительно. Кругом чудесная природа — скалы, деревья, цветы, звери, летающие и плавающие птицы — все вырисованы тончайшими мазками миниатюриста, с чисто натуралистической точностью и наблюдательностью. Красота отдельных деталей поистине бесконечна, однако форма и строение каждой птицы и животного выражены не так удачно, как их движение. Наш взор мог бы вечно покоиться на этих прелестных изображениях, плененный тонким художественным чувством Пизанелло, в который раз убеждающего нас в том, что его истинное призвание заключалось в имитации природы. И если бы это действительно было единственной целью искусства, то произведения такого рода считались бы высокохудожественными.
На другой картине изображена мадонна, окруженная лучами славы на фоне солнца, восходящего над темнеющей лесной опушкой, где стоят св. Георгий в латах и св. Антоний в монашеской одежде. Исключительная простота композиции и свет, заливающий картину, производят возвышенное и благородное впечатление; но и здесь наше внимание направлено главным образом на серебряные латы рыцаря, на изумительное плетение его соломенной шляпы, на бешеную энергию кабана, чья морда виднеется у ног св. Антония, на чисто геральдические очертания дракона.
Портреты Пизанелло мало чем отличаются от его картин. Несомненно, «Портрет герцога Лионелло» (Бергамо, коллекция Морелли) и «Портрет принцессы д'Эсте» (Лувр) выполнены умело и охарактеризованы соответственно своим моделям: один рожден и воспитан, чтобы повелевать, другая — милая девушка из знатного дома. Но в обеих картинах на первый план выступают не лица, а узоры на платьях и фактура цветной ткани, служащей фоном.
Альтикьеро превосходит Пизанелло в передаче интеллектуальности и внутренней значительности образов — два высочайшие качества иллюстративной живописи. Но в изображении животных или растений Пизанелло был не ниже любого из своих современников. Действительно, он рисовал птиц так, как их рисовали только японцы, а его гончие собаки и олени не были превзойдены даже ван Эйками. Все же его место между позднесредневековыми франко-фламандскими миниатюристами, вроде Лимбургов, с одной стороны, и ван Эйками — с другой, но при этом он гораздо ближе к первым, чем к последним. И, уж во всяком случае, он связан с ними теснее, чем с Мазаччо, Учелло и даже с Беато Анжелико. Тем не менее у Пизанелло более тщательный рисунок, а живопись его много приятнее, чем у современных ему флорентийских мастеров. Но почему же тогда все они как живописцы гораздо значительнее его, почему именно они предвестники нового движения и вдохновляют своим примером художников не менее, но даже более великих, чем они сами, в то время как Пизанелло остается маленьким средневековым мастером и его искусство умирает вместе с ним?
Правильный ответ на этот вопрос потребовал бы для своего изложения гораздо больше места, чем ему предназначено в этой небольшой книге, и затронул бы важные проблемы как эстетики, так и истории. О подробном ответе здесь даже и думать нельзя, но я рискну намекнуть на него, предупредив читателя, что мои размышления принесут ему мало пользы, если он не ознакомился с предыдущими разделами этого тома.
III
Возможно, что если бы Пизанелло не был под таким влиянием Флоренции и античности, его постигла бы другая судьба. Его рисунок был подобен рисунку братьев ван Эйк, а его живопись лишь немногим ниже их. Недостаток его интеллектуализма легко мог бы быть восполнен последующим великим художником в такой небывалый век прогресса, каким было Возрождение. Преемником Пизанелло в североитальянской живописи должен был бы стать такой художник, как Ян ван Эйк. Или если не ван Эйк, то какой-либо другой его последователь. Переняв любовь веронского мастера к птицам и животным, чувство линии, тонкий и деликатный мазок, он должен был бы положить начало тому стилю, которому суждено было завершиться в творчестве Хокусаи. Тем, что Мантенья не похож на Пизанелло, на братьев ван Эйк и на их последователей (Ван Эйки заставляют меня вспомнить об их величайшем итальянском последователе Антонелло да Мессина. То, что дошло до нас из его работ, подтверждает легенду, что он сформировался под влиянием ван Эйков и их непосредственного последователя Петруса Кристуса. Он научился у них не только секретам их превосходной техники, но унаследовал их любовь к линейной перспективе, пирамидальным или коническим очертаниям и массам. В конце своей сравнительно короткой деятельности Антонелло жил некоторое время в Венеции и больше заимствовал от Джованни Беллини, чем сам дал ему и другим венецианцам. Его позднейшие работы по духу венецианские, а разница между его портретами и портретами Джованни Беллини незначительна. По имперсональности и иллюстративности своего искусства Антонелло приближается к Пьеро делла Франческа. Он обладает чувством сценического пространства, и в одной из его двух больших картин — «Св. Себастьяне» в Дрезденской галерее (другая — «Благовещение» — в Сиракузах) выдержаны великолепные и внушительные архитектурные пропорции. Но его осязательная ценность несравнима с Пьеро делла Франческа или Сезанном и не выше, чем у Джованни Беллини. Антонелло ценят больше всего за портреты, хотя они кажутся менее значительными по сравнению с его мадоннами, из которых одна находится в Мюнхене, другая в Палермо, третья полная благородства «Мадонна» в Национальной галерее в Вашингтоне. Последнее произведение не менее поразительно, чем «Голова девушки» кисти Вермеера Дельфтского, находящаяся в Гааге, которая напоминает Пьеро делла Франческа и в то же время предвосхищает Сезанна.), или на Хокусаи и его предшественников, он обязан Флоренции и античности.
ПИЗАНЕЛЛО. СВ. ГЕОРГИЙ ОСВОБОЖДАЕТ ДОЧЬ ТРАПЕЗУНДСКОГО ЦАРЯ. 1430-е гг. ФРАГМЕНТ
Верона, церковь Сайта Анастазия
Живопись Пизанелло, так же как и ранних фламандцев, была слишком наивна. В своем восхищении перед красотами природы эти художники были подобны детям, которые, отправляясь в свою первую весеннюю экскурсию на соседний луг или в лес, рвут все полевые цветы, ловят птиц, обнимают деревья и наблюдают за пестро расцвеченными тварями, ползающими в травах. Все вызывает их интерес, и все, что можно собрать, они с торжеством несут домой. К этому радостному восприятию простых жизненных явлений величайшие из ранних фламандцев ван Эйки присоединили свою высокую духовную одаренность и поразительную мощь в передаче характера. Они обладали несравненно более высокой техникой, чем та, о которой когда-либо мечтали в Тоскане. И все же почти вся фламандская живопись в той мере, в какой она не была затронута флорентийским влиянием, имеет значение только как подражательная или иллюстративная. Может быть, поэтому она постепенно вырождалась, пока через сто лет после смерти Пизанелло не погибла окончательно, оставив после себя лишь великолепную технику. Все это наследство получил Рубенс, первый великий фламандец после ван Эйков. Но по своему творчеству он был итальянцем, а назвать кого-либо итальянцем, после того как жил и работал Микеланджело, равносильно определению его как флорентийца.
Было бы любопытно поразмыслить о том, что произошло с Нидерландами, если бы они были расположены ближе к Тоскане и если бы Рубенс появился там не в XVII столетии после братьев Каррачи, а как Мантенья в середине кватроченто. Мы попытаемся уяснить себе характер тех явлений, которых не хватало северной живописи XV века и которыми, наоборот, в избытке обладало флорентийское искусство.
Несчастье северной живописи заключалось в том, что при всех ее высоких качествах в ней отсутствовали определенные специфически художественные идеи. Если бы она преследовала только иллюстративные цели, то, несомненно, при наличии ее замечательной техники раннефламандская живопись захлебнулась бы в декоративных изображениях великолепных тканей и превосходно написанных драпировках. И если это не произошло, то лишь потому, что к северу от Апеннин, в чем я не сомневаюсь, нельзя найти почти ни одного истинного произведения искусства, не находившегося под флорентийским влиянием, и где рисунок не определялся бы чисто художественными задачами, то есть задачами, продиктованными передачей формы и движения.
В предыдущих разделах этого тома я указывал, что человеческая фигура является главным материалом изобразительного искусства. Каждый видимый предмет должен быть подчинен человеку и исходить из его мерила. Мерило, о котором я говорю, нельзя рассматривать в узко утилитарном или чисто нравственном смысле. В первую очередь это мерило счастья, не счастья человека, изображенного на портрете, а счастья людей, которые смотрят на этот портрет и воспринимают его. Это чувство возникает в зависимости от того, как изображен человек, а он должен быть показан так, чтобы мы не только распознали в нем определенный человеческий тип, не только рассматривали бы строение и моделировку его фигуры, но могли вживаться в его изображение, пока оно не вызвало бы в нас ответных душевных движений. Оно может заставить нас испытать счастливые мгновения, пробуждающие к активной и повышенной жизнедеятельности.
Фигуры должны быть изображены так, чтобы их движение можно было легко вообразить себе, не испытывая утомления, но ощутив приятное физическое напряжение. И, наконец, каждая фигура в композиции должна быть представлена в таком соотношении с другими, чтобы не уменьшать, а увеличивать эффект целого и так соотноситься с отведенным ей пространством, чтобы мы не чувствовали себя затерянными в пустоте или стиснутыми толпой. Мы в свою очередь обязаны воспринимать пространство так, чтобы оно усиливало нашу уверенность в постоянстве и прочности земного существования, раскрепощая нас от тирании повседневных, будничных дел.
Если все сказанное правильно, то напрашивается вывод: изображать все то, что мы видим, или то, что пробуждает в нас фантазия, недостаточно. В действительности мы воспринимаем гораздо больше умом, чем зрением, и лишь глупец не подозревает этого. Большая доля человеческого прогресса состоит в замене наивной условности осознанным законом, то же присуще и искусству. Вместо того, чтобы писать без разбора все, что привлекает его, великий художник преднамеренно выбирает среди массы зрительных впечатлений только те сочетания элементов, которые могут составить картину, где каждая линия должна выражать осязательную ценность, передавать движение, а пространственная композиция должна повышать их эффект.
Не всякая фигура подходит для выражения осязательной ценности, не всякая поза — для передачи движения, не всякое пространство возвышает наш дух. Можно даже усомниться в том, существует ли в природе необходимый арсенал средств, из которых строится произведение искусства. «Благородный» дикарь, который может послужить сюжетом для художника, отнюдь не является первобытным существом; его формировало в течение долгих и незапамятных веков облагораживающее искусство охоты, танца, мимики, войны и слова. Но даже и дикарь в том виде, в каком он есть, вряд ли мог подойти в качестве темы для великого художника. В природе нельзя найти готовых образцов, редко можно встретить их и в наше время. Эти образы, фигуры и их расположение в пространстве должны быть созданы и воплощены в искусстве самим художником. Как он приходит к этому, я уже говорил в предыдущих разделах книги, правда, слишком кратко, но все же подробнее, чем здесь.
Многими художественными достижениями современная Европа обязана Флоренции. Только там эти задачи были поняты более широко, только там была найдена преемственность между людьми, передающими художественный опыт и приемы своего мастерства. Правда, некоторые, устав прорубать торные тропы сквозь дремучие леса, отдыхали на первой же полянке, залитой солнцем, ласкаемой ветерком и заросшей дикими фруктовыми деревьями. Но все же многие продолжали покорять хаос, стремясь к своей цели.
IV
Если бы не влияние Флоренции, живопись Северной Италии мало чем отличалась от современной ей живописи Нидерландов или Германии. Но еще в дни жизни Пизанелло флорентийские скульпторы наводнили его родной город. Далеко не первоклассные мастера, они тем не менее выполняли роль миссионеров, прокладывающих путь искусству Донателло. Великий новатор приехал в Падую задолго до смерти Пизанелло и работал там в течение десяти лет. Ему предшествовали и за ним следовали такие соратники, как Паоло Учелло и фра Филиппе Липпи, его постоянно сопровождала толпа сограждан в качестве помощников и учеников. Невозможно было противостоять их влиянию, но оно могло вызвать лишь странные и даже глупые подражания, если бы Падуя не обладала в то время большими талантами, чем те, которыми были наделены ученики Скварчоне. К счастью, это время совпало с годами ученичества властителя падуанского искусства — Андреа Мантеньи.
В возрасте десяти с небольшим лет Мантенья был усыновлен подрядчиком по имени Скварчоне. Был ли тот художником, мы не знаем, но знаем, что он брал заказы на рисунки и живописные произведения, которые выполнялись работающими у него учениками. Он также торговал антикварными изделиями, и его лавку посещали разные выдающиеся лица, проезжавшие через Падую, и гуманисты, преподававшие в знаменитом Падуанском университете. Для Италии это было время, когда античность превратилась в религию, даже в своего рода мистическую страсть, заставлявшую умудренных жизнью людей преклоняться перед обломками римских статуй, почитаемых как священные реликвии, и мечтать об экстатическом слиянии с великим прошлым. К тому же оно оказывалось прошлым собственной страны.
Выросший в своеобразной среде антикварной лавки, которую часто посещали знаменитые профессора Падуанского университета, ценимые к тому же как служители культа национального прошлого, гениальный юноша не мог не стать вдохновенным поклонником античности. Светлый путь открывался перед ним, и вдали виднелась манящая, но доступная цель — Рим, город его стремлений и желаний. Воскресить этот город во всем великолепии было непосильной задачей, которая могла быть выполнена только неустанным трудом многих поколений, а пока что он возрождался из своих руин только в мечтах художника, и это видение воплощалось в пророческих и целеустремленных формах.
Таким образом, античность обернулась к Мантенье другой стороной, нежели к современным ему флорентийским художникам. Если можно употребить здесь слово «романтика», а под ним я имею в виду восприятие не голых, а преображенных в художественные и литературные образы фактов, то отношение Мантеньи к древности было именно таковым. Он не имел нашего фактического знакомства с античным искусством. Мантенья познавал его чисто зрительным путем, по небольшому количеству монет и медалей, по немногим статуям и барельефам, по нескольким древнеримским аркам и храмам. Он слышал об античности со слов падуанских гуманистов, которые воспламеняли его любовью к латинским поэтам и историкам. То, что первый из римских поэтов был уроженцем Мантуи, а первый из римских историков — Падуи, — сыновья его родной земли, должно было только усиливать в нем любовь к прошлому своего отечества. Не удивительно, что Древний Рим заслонил от него все остальное и явил ему античность в целом.
Но в своем чувстве к древнему миру Мантенья был наивным романтиком. Так как его знакомство с римским искусством было ограничено несколькими скульптурами, он, забывая, что римляне тоже были людьми из плоти и крови, изображал их в виде мраморных статуй, придавал им торжественную походку, богоподобную наружность и величавые жесты. Весьма возможно, будь он свободен в своем выборе, он писал бы картины только на римские исторические и поэтические сюжеты. И в последние двадцать лет своей жизни Мантенья почти добился этого, потому что его заказчики в такой степени «романизировались» под его влиянием, что тоже стали предпочитать римские темы — такие, как «Триумф Цезаря», «Триумф Сципиона» или «Муций Сцевола». Поэтому, несмотря на свою более чем полувековую деятельность в качестве придворного художника, Мантенья ни в одном из сюжетов не избежал «романизации»; исключение составляют портреты семьи герцога Гонзага в «Камере дельи Спози» — «Брачном покое» Мантуанского дворца. А уж как художник христианских мистерий он и вовсе не проявляет религиозных чувств.
Не важно, что мы возьмем в качестве примера. На всех его картинах изображены старцы в образе высокомерных и гордых сенаторов, молодые люди в виде статных и красивых воинов, женщины, полные достоинства и грации. Они шествуют по улицам, мимо храмов, дворцов и триумфальных арок или изображаются на фоне окаменелых, подобных барельефам, пейзажей. Я не буду приводить в качестве примера фрески Мантеньи в капелле Эремитани в Падуе, которые легко было трактовать в античной манере, но обращу ваше внимание на религиозные сюжеты.
Мы удивимся, как мало картин подобного рода создавал Мантенья. В то время как его зять, молодой Джованни Беллини, и товарищ по мастерской Карло Кривелли вдохновлялись легендами о «Воскрешении св. Бернардина» и писали символические сцены «Страстей господних», полные глубочайшего раскаяния, нежной жалости и мистического восторга, Мантенья оставался холодным и равнодушным к этим сюжетам. Лишь его раннее произведение — «Оплакивание Христа», — второстепенная картина в многостворчатом складне (Милан, музей Брера), полна настроения, но и она не может быть сравнима ни с одной из подобных же картин Джованни Беллини. В Лондонской Национальной галерее висят две картины Беллини и Мантеньи на одноименный сюжет «Моление о чаше». Торжественная тишина и глубокое настроение одной не находят отклика в другой. В картине Мантеньи изображена словно высеченная из скалы коленопреклоненная гигантская фигура Христа, возносящего свои молитвы к группе печальных херувимов. Кругом простирается каменная пустыня, обрамленная вдали стенами Рима. Нам может нравиться эта вещь, но в ней полностью отсутствует религиозное чувство.
В таких сюжетах, как «Распятие», «Обрезание», «Вознесение», дающих возможность выразить христианские чувства, Мантенья искал только предлога для воспроизведения памятников древности. Так, в бесценном луврском «Распятии» на первом месте изображение римского солдата. В «Вознесении» (Уффици) — прославление римского атлета. В «Обрезании» (парной картине к предыдущей) — интерьер римского храма с великолепной мраморной отделкой, инкрустацией и позолотой. Висящее рядом с одноименной картиной Амброджо Лоренцетти, произведение Мантеньи сразу же выдает разницу между двумя мастерами: христианином и язычником.
Мантенья с возрастом не становился более религиозным. Наоборот, он жил так, что больше, чем Гёте, заслуживал прозвище «старого язычника». В середине своего творчества он создает картину (Копенгаген, Музей) с изображением скорбящего Христа, поддерживаемого двумя грустными ангелами с широко распростертыми крыльями. Если вы в состоянии отвлечься от бессмысленного лица Спасителя и глупых гримас ангелов, то постарайтесь насладиться рисунком, линии которого вознесут вас на небо, но отнюдь не крылья веры!
Или посмотрите на религиозную картину Мантеньи (Лондон, Национальная галерея), написанную им уже в немолодые годы. Младенец Христос похож на маленького Юлия Цезаря, у него столь повелительный вид, которым не всегда отличаются даже статуи императорского Рима. А к поздним годам Мантеньи относятся произведения, в которых чувствуется еще больше негативизма по отношению к христианству. Например, посмотрите на святых Лонгина и Андрея, стоящих рядом с Христом, подобных древним римлянам; они похожи на фигуры с одной из его гравюр, изображающей языческое в своей пышности «Положение во гроб». Мантенья столь же мало заслуживает порицания за «романизацию» христианства, как Рафаэль за «эллинизацию» иудейства. Действительно, оба так прекрасно выполнили свою задачу, что большинство европейцев и по сей день представляют себе библейскую историю в образах, выраженных этими двумя мастерами Возрождения. К тому же Мантенью можно упрекнуть меньше, ибо дух христианства нелегко воплотить в зрительных образах, и я стремился не к тому, чтобы перечислять его ошибки, а показать, что, преследуя цели иллюстративности, он пытался перевоплотиться в древнего римлянина.
Если бы Мантенье это удалось, то, по всей вероятности, мы предали бы его забвению, несмотря на то, что Европа с ее страстью к латинской культуре неустанно восхищалась им в течение трех столетий. Но нас больше не интересуют его реконструктивные попытки. Мы хорошо изучили вид и характер того Рима, великолепие которого так поражало воображение Мантеньи. Кроме того, мы уже не задерживаемся в столице древнеримской империи, а стремимся дальше, к первоисточнику всей античной культуры, к Афинам. Если Мантенья все еще ценен для нас как иллюстратор, то именно потому, что он не достиг своих намерений и показал нам вместо археологически точной реконструкции Древнего Рима — страну своих романтических грез, своих сновидений, воплощение своей мечты о благородной жизни человечества.
Мантенья воспринимал античность не так, как мы, а романтически, и в этом он был далек от современных ему художников Тосканы, которые не разделяли его целей и еще меньше пользовались его методом. А его целью было воскресить древний мир путем неуклонного подражания античному искусству.
Можно различным образом использовать приемы искусства прошлого. Некоторые пользуются им, как ребенок кубиками, которые дают ему возможность построить игрушечный город, но ребенок по наивности не понимает, что план его постройки предопределен набором кубиков, которые не научат его построить другой игрушечный город, если он прибегнет к помощи карандаша, кисти или глины. Подобное применение античных мотивов может быть названо архаистическим, и именно так использовались фрагменты римских памятников в средние века, особенно в XIII столетии в Реймсе и в Капуе, тем же путем шел величайший итальянский скульптор Проторенессанса Никколо Лизано.
С другой стороны, древнее искусство может быть использовано так же, как опытный винодел использует в наши дни высококачественный бродильный фермент старых вин для улучшения букета обыкновенных сортов. Нечто подобное происходит и в искусстве, до известной степени принося пользу. Но самое важное для искусства заключается не в подражании прошлому и не в стремлении к облагороженности и утонченности, а в раскрытии тайны глубокого родства античного искусства с природой.
В то время как Мантенья шел по первому из этих путей, используя римское искусство архаистическим образом, его флорентийские современники шли по второму. Изображая человеческую фигуру, они настолько воздерживались от прямого подражания античной пластике, что мы почти не можем уловить влияние последней на скульптуру и еще меньше на тосканскую живопись кватроченто. Больше всего они стремились к восприятию античного культа красоты, выраженного в прекрасных мраморных изваяниях, к изучению греко-римских пропорций человеческой фигуры. Правда, многие тосканские художники, как и Мантенья, разрабатывали темы, непосредственно взятые из латинской поэзии, но они пользовались своими зрительными образами, своими художественными формами. Если мы сопоставим картины: «Миф о Геракле» Поллайоло, «Весну» и «Рождение Венеры» Боттичелли и «Пана» Синьорелли с «Парнасом» Мантеньи, то должны будем признать, что только картина последнего создана, так сказать, в «латинской манере», в то время как другие написаны чисто по тоскански. Флорентийская скульптура и живопись избегали прямого подражания античности. Творчество Микеланджело кажется более античным лишь потому, что он вновь завоевал исходные позиции древнеклассического искусства.
Если поставить себе целью последовательно передавать в живописи осязательную ценность и движение, не забывая при этом иллюстративного начала, то это приведет не только к созданию типа классической фигуры, но и черт лица, выдержанных в классическом духе. Несмотря на различие в целях и методах между Мантеньей и флорентийцами, несмотря на то, что первый стремился выразить в зрительных образах тот мир, каким его видел римлянин эпохи Империи, а вторые трудились собственно над овладением формой, движением и рисунком, несмотря на все это, Мантенья был больше обязан Донателло и его соотечественникам, чем античному искусству. Он обязан им теми необходимыми знаниями и мастерством, которые отличали его от флорентийцев и приближали к античности.
Мы уже говорили о том, что в XIII веке в Реймсе, Капуе, Равелло и Пизе было много мастеров, сознательно подражавших греко-римской скульптуре. Но это были бесплодные попытки, и Джованни Лизано, сын самого способного и значительного из них Никколо Пизано, обратился к французскому искусству, под влиянием которого стал едва ли не величайшим из готических скульпторов.
В XIV веке начался подъем гуманизма. Петрарка, его величайший адепт, провел конец жизни подобно божеству, окруженный всеобщим преклонением и прославляемый звоном падуанских колоколов; он сочинил на латыни эпическую поэму, пробудившую память о Древнем Риме и выражавшую страстное желание воскресить его былое великолепие. Петрарка не был к тому же равнодушен к изящным искусствам и даром убеждения внушал друзьям-художникам следовать его примеру. Но это было также бесплодно. Художник, дерзнувший подражать древним до появления на свет Донателло, оказался бы в положении Петрарки, пытавшегося изучать греческий язык. Калабрийский монах читал ему вслух Гомера и излагал общий смысл поэмы, но не смог научить Петрарку самого читать по-гречески, так как не обладал аналитическими и грамматическими знаниями древнего языка, тогда как современный ученый может овладеть древнегреческим, унаследовав филологические знания предшествовавших ему поколений.
Раньше чем подражать античному искусству, живописец должен иметь представление, в чем же заключаются его художественные достоинства. Недостаточно восхищаться красотой голов или выразительностью движений (если только возможно допустить, что готический скульптор или художник действительно мог найти греко-римские типы лиц и движение более выразительными, чем готические). Но когда живые традиции великого искусства нарушены, архаистические подражания ему так же наивны и бесполезны, как подражания самой природе.
Вновь рожденное искусство должно заново проникать в тайну художественного созидания. С каждым шагом оно будет приближаться к античности, направляющей его дальше по верному пути. Прогресс искусства, развивающегося при таких условиях, будет столь же быстрым, как развитие человеческой личности, которая в течение нескольких десятилетий познает то, на что человечеству понадобилось тысячу веков. Но чтобы оказать такое влияние, античность должна быть представлена лучшими памятниками, а человек, столкнувшийся с ними, должен быть настолько независим в своих суждениях и вкусах, чтобы эти шедевры не смогли вызвать в нем искушения только копировать их или им подражать.
Донателло и Брунеллески, Учелло и Мазаччо были достаточно умны и независимы в своих взглядах, чтобы не впасть в это искушение, да оно и не могло быть сильным, ибо древние памятники, известные в те времена, были не высокого качества. Эти мастера принуждены были заново открывать для себя тайны творческого созидания.
Не следует задаваться вопросом, что могло бы быть, если бы Донателло знал статуи Фидия или (домысел еще более фантастический) искусство греческой архаики! Но так как ни он, ни его сограждане никогда не видели фронтонов Парфенона, Эгинских фронтонов и Дельфийских барельефов, то надо воздать им должное — они поступали умно, не подражали доступным им образцам полуразрушенной греко-римской скульптуры и дерзали по-своему быть архаиками. Потому что никакое искусство не может надеяться стать классическим, если оно сначала не было архаическим. Следует ясно представлять себе разницу между архаистическим подражанием и архаической реконструкцией, как бы проста она ни была. Искусство, просто усваивающее готовые образцы, дошедшие до него из более ранних времен, — архаистично, в то время как искусство, подвергшееся длительной реконструктивной и творческой переработке, например в изображении человеческой фигуры, и поставившее перед собой цель — передачу осязательной ценности и движения, — архаично. Искусство, завершившее этот процесс, называется классическим.
МАНТЕНЬЯ. РАСПЯТИЕ. 1457-1459. ФРАГМЕНТ
Париж, Лувр
Таким образом, если Никколо Лизано можно оценить как архаистического мастера, то Джотто и его ученики уже представители не архаического искусства, а классического, так же как и ван Эйки и их последователи или французские скульпторы XIII столетия или старые китайские и японские художники. Простое примитивное искусство и даже искусство дикарей не обязательно архаично. Например, в большей части египетского искусства так же мало архаических черт, как в ацтекской резьбе или тотемах Аляски. Напротив, Дега — художник XIX века — может похвалиться своей архаичностью. И уж конечно, большинство флорентийских мастеров XV столетия были архаиками, потому что стремились к искусству, не преследующему никаких целей, кроме выражения специфически художественных мотивов и образов.
Это определение дает нам даже больше, чем обещало, потому что ясно раскрывает, почему так нравится архаическое искусство. Да потому, что оно возникло в результате борьбы за форму и движение. Но оно не может полностью их выразить, не может в совершенстве сочетать их друг с другом, иначе оно станет классическим. Иногда оно склонно преувеличивать ту или иную тенденцию до пределов карикатурности, как часто и делает, но своей передачей формы или движения или того и другого вместе оно быстро и безошибочно повышает нашу жизненную энергию.
То же определение объясняет нам, почему искусство итальянского кватроченто, несмотря на то, что оно возникло на двадцать веков позднее античности, не достигло таких же замечательных результатов.
Искусство Ренессанса не было знакомо с лучшими образцами древности и в силу этого не особенно тяготело к архаике. В известном смысле его можно назвать архаистическим, так как оно никогда не смогло полностью эмансипироваться от искусства недавнего прошлого, как и от древнеримского. Даже такой большой и оригинальный мастер, как Антонио Поллайоло, исполнил аллегорические фигуры на «Гробнице папы Сикста IV» с пустой и бессодержательной элегантностью, свойственной, скорее, стилю средневекового «Романа о Розе».
В эпоху кватроченто возникла к тому же трудность в выборе сюжета картин, навязываемого художнику извне, по ряду искусственных соображений, и сопротивляться этому было почти невозможно. Греческий архаический скульптор в этом отношении был счастливее, обладая неоценимой свободой действий в создании своих собственных богов. Благодаря сотням причин он сам диктовал свои условия жрецам, а не был их рабом. Образ жизни и поведение богов, созданные зрительным, художественным воображением, были превосходным материалом для греческих ваятелей или живописцев. Не так обстояло дело с христианскими богами, образы которых были выдуманы аскетами, мистиками, философами, логиками и монахами, а не скульпторами или живописцами. Греки имели еще одно преимущество: они верили, что боги обитают в их прекрасных статуях, в то время как христиане, раньше чем уверовать в то, что их божества действительно соответствуют своему изображению, подвергали это спорам, исходя не из зрительной красоты образа, а из понятий мистицизма, догматического богословия и канонических законов.
Не удивительно, что при таких условиях Микеланджело не стал равным Фидию, а его предшественники — греческим скульпторам VI века, посвятившим себя чисто художественным проблемам.
Однако великие флорентийцы все же шли по правильному пути и их архаичность была подлинной и многообещающей, несмотря на чрезмерное почитание прошлого и постоянное ощущение тяготевшего над ними долга писать картины на религиозные темы. Даже Мантенья никогда не смог бы выразить свое представление об античности в адекватных ей формах, принимая во внимание его гуманистический пыл, если бы серьезно не изучал проблем форм и движения, к которым он стремился и по традиции и под личным влиянием Донателло. Созревший слишком рано, что удивительно даже для этого столетия молодых гениев, Мантенья еще в юности впитал в себя все, что могли ему дать флорентийские учителя. И хотя он проявил в искусстве фигурного изображения способности до того неизвестные даже тосканским мастерам и был к тому же весьма одаренным живописцем, его ранние работы обнаруживают известную несамостоятельность. Врожденное стремление к живописности было в нем настолько подавлено, что невозможно было бы заподозрить вообще ее существование, если бы не сохранились два или три его смелых рисунка. Что касается формы и движения, то, еще не достигнув двадцати пяти лет, он, кажется, постиг все, что дается лишь в зрелом возрасте. Его дальнейшие успехи были сделаны им по инерции, ибо он никогда не размышлял над проблемами формы и движения по существу, уделяя главное внимание иллюстративным задачам, гонимый вечным стремлением возродить своей живописью древний мир.
Мы не порицаем Мантенью за предпочтение языческих тем христианским. Мы сочувствуем его увлечению античностью и любим его за мечты о прекрасном человечестве, потому что среди многих грез о совершенстве его грезы, несомненно, одни из самых возвышенных и благородных. Но мы порицаем его за некритичность по отношению к античному искусству. Даже если бы он был знаком с лучшими памятниками древности, то вместо слепого копирования Мантенья должен был стремиться раскрыть тайну их силы и обаяния; и только так он мог бы извлечь чистую пользу из греческого искусства. Но известные ему образцы, за редким исключением, были невысокого качества и дошли до него в виде позднеримских копий. В целом они, правда, сохранили кое-что от своей первоначальной красоты, но были безличны и безжизненны. Покоренный ими и утративший в силу этого тонкую проницательность итальянского гуманиста, Мантенья не видел, что античные копии во всем, кроме общей идеи построения, были ниже работ его современников. Если же он стремился использовать искусство прошлого, подобно бродильному ферменту старых вин, то ошибка его была в том, что он искал его в бочке, откупоренной столь давно, что аромат ее содержимого уже выдохся. Мантенья спасся от безвкусицы только благодаря силе и неподкупности своего гения. Безупречность вкуса и стиля — дар, который утрачивается только с годами, и Мантенья, обладая им, не причинил себе вреда, перенимая манеру значительно менее совершенную, чем его собственная.
Усилия примениться к этой манере не продвинули его вперед. Возможно, при меньшей затрате энергии его усердные поиски линии увенчались бы большим успехом.
Однако Мантенья не только не достиг триумфа Боттичелли, но никогда полностью не использовал функциональных возможностей контура, затормозив свое художественное развитие на линии, лишь очерчивающей фигуру, но не моделирующей ее.
И еще одно обстоятельство способствовало ошибкам Мантеньи. Вместо того чтобы выработать свой канон человеческой фигуры, основываясь на собственном опыте работы над формой и движением, он стремился усвоить античную манеру и канон, созданный древними. Ему это вполне удалось, но активные люди не стоят на одном месте, а спешат вперед, не всегда следуя своему непосредственному желанию, но все же не сворачивая с избранного ими пути. Благо им, если это действительно прямой путь, а не тупик. Плодотворность художественной деятельности и заключается в свободном избрании одного из этих путей.
Однако существует целый ряд других моментов, соблазнительных и показных, сулящих выгоды в обмен на издержки; они не всегда обманывают, а иногда даже частично окупаются.
Это часто проявляется в изображении фигур, когда художник охвачен непреодолимым искушением использовать формы и положения, разработанные до него. Кажется, что таким путем можно легко и быстро достигнуть очарования, красоты и благородства. К сожалению, форма и положение фигуры не терпят над собой насилия, а допускают только известную схематизацию; Мантенья же, воспринимая их как готовый античный канон, стремился свести все к чисто каллиграфической линейной игре. Но лишь художник, смотрящий вперед, а не назад, может овладеть контуром, выполняющим определенные функции, или линией, выражающей форму и передающей живое биение пульса.
Легкость и внешняя законченность — первые признаки упадка — могут быть иногда ошибочно приняты за обратные симптомы, особенно когда эти шаги сделаны художником, творчество которого столь полнокровно и целостно. Но результаты прямого подражания античности можно легко обнаружить. Мы уже говорили, что он изображал людей, будто изваянных из раскрашенного мрамора, а не созданных из плоти и крови, что было плодом его наивных представлений о древних римлянах, которых он стремился воскресить, но не в облике реальных живых людей, а лишь в виде мраморных статуй или барельефных изображений.
Тем не менее нам нравятся эти стойкие и, казалось бы, нетленные создания мантеньевской кисти, особенно когда они красивы, изящны и даже наделены человеческими чувствами. Поэтому так трогают нас их переживания, подобные словам любви и нежности, выраженным в латинской поэзии на жестком и лапидарном языке древнего римлянина.
Мы не ставили бы в вину Мантенье это пристрастие к древнему Риму, если бы он так часто не вдохновлялся грубой и даже вульгарной позднеримской скульптурой. В этом он зашел слишком далеко, посвящая все внимание римским статуям и почти ни разу не взглянув на окружающую его жизнь — единственную неисчерпаемую область для размышления и чувства. Можно усомниться, смотрел ли Мантенья вообще на что-нибудь собственными глазами (ибо я осмеливаюсь думать, что можно быть замечательным художником и все же не научиться смотреть), если бы в портретах «Камера дельи Спози» в Мантуанском дворце мы не обнаружили бы доказательств его почти непревзойденной наблюдательности. К несчастью, он мало пользовался ею, выше всего ценя римские барельефы.
Последние все больше привлекали его. В них он находил нужные ему формы, свой идеальный мир, и, кажется, все видимое он стал воспринимать не в трех измерениях, а в искусственно-пространственных соотношениях рельефных композиций. В последние годы, отбросив разнообразие цветовых оттенков, Мантенья стал писать в монохромной манере, дойдя до картин такого каменно-серого цвета, как его «Триумф Сципиона» в Лондоне, «Суд Соломона» в Лувре или «Юдифь» в Дублине. Следует добавить, что эти произведения таили опасность превратиться в репродукции с римских барельефов времен Антонинов. Но от этого бесчестия он был до известной степени спасен своей гениальностью, а еще больше живой и нервной линией, очерчивающей силуэты фигур, которой он научился у Донателло.
Слишком большая преданность античному искусству препятствовала Мантенье во всех его намерениях, обуздывала его природные дарования. Гений его все же был так могуч, что прорывался через все препятствия, несмотря на то, что он запеленывал его, как мумию.
К списку его заблуждений следует добавить и выбор тем. Его флорентийские соперники понимали, что настоящего триумфа в искусстве добивается тот, кто сам разрабатывает основные и неисчерпаемые источники формы и движения. Боттичелли даже в том случае, когда тема была ему предложена, как это, несомненно, было с «Весной» и «Рождением Венеры», создал настолько декоративные картины, что иллюстративная тема сама по себе растворилась в них без остатка. В еще большей степени это относится к Антонио Поллайоло, который тоже любил античное искусство. Но заметьте, он выбирал для своих иллюстраций «Сражение гладиаторов» и «Подвиги Геркулеса» потому, что в подобных сюжетах лучше всего выявлялось его владение формой и движением. А Мантенья и в выборе сюжетов связывал себя по рукам. Решив воскресить античность, он не думал о том, могут ли данные темы, позы и движения быть пригодны для создания действительно великого произведения искусства. Гуманист всегда убивал в нем художника. Поэтому, несмотря на все мастерство и убедительность образов, он никогда не создал вещи, приближающейся к «Сражению гладиаторов» Поллайоло, или картины, могущей соперничать с «Весной» Боттичелли. «Борьба Добродетели и Порока» Мантеньи смущает нас своей неприкрытой иллюстративностью, и даже «Парнас» рассеивает внимание зрителя различными археологическими деталями, не связанными с основной композицией картины.
Вот кратко то, что я хотел сказать о Мантенье, которого за многое люблю. Жаль, что высокоодаренный художник нередко заблуждался. Если бы Мантенья посвятил свой талант реальным проблемам фигурной живописи, то помимо создания шедевров он мог бы силами своего конструктивного и созидательного таланта повлиять на все школы Северной Италии и помешать Корреджо быть таким бескостным, а Веронезе столь неискусным в передаче движения. Но он смог лишь внести известные изменения в систему зрительных представлений и завещал потомству свою страсть к античности. Не случайно, что из местности, где он жил, вышел ряд наиболее архаизирующих скульпторов, литейщиков из бронзы и архитекторов Возрождения. Сам Мантенья не оставил нам прямых наследников своего искусства и повлиял на живопись только как иллюстратор. Его культ язычества подготовил путь для создания «Сельского концерта» Джорджоне и «Вакханалий» Тициана.
V
Вероятно, художественный критик XVIII столетия, умело сочетавший проницательность с рационализмом, обратил бы сначала внимание на Леонардо, а затем на Корреджо. Признаюсь, я завидую тем гигантским шагам, какими писатели старых времен перешагивали с одной вершины на другую, не замечая, что находится между ними! Любую картину, которая их интересовала, они приписывали какому-нибудь хорошо известному им художнику, и если она была ломбардского происхождения, автором ее должен был быть Мантенья, Леонардо или Корреджо. Художественная атрибуция таких критиков часто бывала ошибочной, но их позиция в основном была правильной. На наши возражения, знатоков более позднего времени, они могли бы ответить, что искусство не составляло для них исключения из суммы всех интеллектуальных интересов, а с подобной точки зрения не важно, что привлекает нас в картине художника, если она по своему стилю близка к произведениям его знаменитых современников. Может быть, эти критики были слишком рационалистичны и высокомерны в своих взглядах, но их позиция была освежающе контрастна по сравнению с микроскопическим анализом вещей и изучением их на ощупь, которыми страдаем мы. Если бы можно было вновь стать на позицию критиков XVIII века, мы посвятили бы оставшийся в результате этого досуг подлинному изучению искусства.
Изучение искусства, в отличие от вымыслов и от штудирований биографий художников, должно заключаться в первую очередь в изучении идей, воплощенных в художественных произведениях. С этой точки зрения говорить что-либо о североитальянских мастерах — современниках Мантеньи — после того, что было уже сказано о нем, значит по существу ничего не сказать. Он определяет их всех. Их цель, если они имели ее, не отличалась от его цели; большинство следовало за ним. Некоторые шли сплоченно, остальные, спотыкаясь, брели самостоятельно, но все продвигались по его пути. Трудно найти у них что-либо своеобразно новое в передаче формы и движения, что Мантенья не использовал бы лучше.
Историк искусства может вполне игнорировать этих второстепенных мастеров, но те немногие, кто действительно интересуется искусством, редко бывают историками искусства. Остальные — любители или педанты — и я, принадлежащий к их числу, буду говорить о художниках эпохи кватроченто, живших и работавших в долине реки По.
VI
Среди живописцев Северной Италии, начинавших работать в третьей четверти XV века, не было ни одного выдающегося художника, который сам не учился бы в Падуе либо у кого-нибудь, недавно вышедшего из ее мастерских. Сначала кажется удивительным, что этот город, далеко не самый крупный и значительный в Италии, мог оказывать такое влияние на развитие искусства. Но при внимательном анализе понимаешь, что вся страна была подготовлена к тому, чтобы присоединиться к новому движению, возрождающему идеалы античности, ибо гуманисты в течение трех поколений призывали к эмансипации от канонов и символов средневековья. Поэтому Северная Италия, подобно Тоскане, в интеллектуальном отношении была готова сделать этот шаг, и не хватало только инициативы и практического знакомства с методами и приемами древних мастеров.
Этот шаг сделал Донателло в Падуе, и если вы прибавите соревнование среди художников, вызванное успехами юного Мантеньи, и соблазнительную рекламу, пущенную восторженными гуманистами, то будет легко понять, почему все молодые и одаренные люди устремлялись в мастерскую Скварчоне. Там каждый энергично приобретал знания, пропорционально своей одаренности и в значительной степени предопределенные предшествовавшим обучением дома у местного учителя. Из мастерской Скварчоне они выносили даже больше того, что им было обещано, так как наряду с восторженным отношением к античности они заражались горячим, хотя и недолговечным реализмом. Когда молодые живописцы возвращались домой, они распространяли эти веяния и, раньше чем большинство из них умерло, гуманистический переворот был полностью завершен; за исключением отдаленных горных долин, нигде не оставалось больше художников, которые воспринимали бы и изображали окружающий мир по-старому.
В толпе молодых людей, устремившихся в Падую, никто не был одареннее, чем Козимо Тура, глубоко впитавший в себя искусство Донателло и имевший к тому же наиболее интересную судьбу. Он положил начало поколению художников, процветавшему не только в его родном городе Ферраре, но повсюду во владениях герцогов д'Эсте и в прилегающих к ним областях от Кремоны до Болоньи. Судьбе было угодно также, чтобы он породил Рафаэля и Корреджо.
И в то же время ничего не могло быть менее сходным между собой, чем благородное изящество Рафаэля или экстатическая чувственность Корреджо и стиль их патриархального предка Козимо Тура.
Его люди, словно высеченные из кремня, высокомерны и неподвижны, как статуи фараонов; подчас конвульсивно изогнутые в приступах небывалой энергии, они уподобляются искривленным стволам олив. Их лица редко озарены нежностью, их улыбки готовы превратиться в гримасу, их руки, похожие на когти, не знают легких прикосновений. В его картинах архитектура громоздка и барочна, не в пример работам мастеров раннего Возрождения, это, скорее, великолепные дворцы, построенные для мидян или персов. Его пейзажи — это суровый скалистый мир, веками не знавший цветов и деревьев, потому что в нем нет ни земли, ни почвы, ни дерна. Тура редко находит место даже для сухого кизилового дерева, столь излюбленного другими падуанцами.
И все же во всем этом существует великолепная гармония. Его будто высеченные из скал люди не могли бы обитать в менее «кристаллическом» мире и были бы неуместны среди смягченных и легких архитектурных очертаний. Твердые как алмаз, они должны быть отлиты в окаменевшие формы или так искривлены в своих движениях, что их лица застывают в гримасе. Но там, где присутствует гармония, должна быть и цель, а цель Туры ясна — выразить сущность предмета с почти маниакальной твердостью. В воображаемом им мире нет ничего мягкого или неопределенного, все покорно его жестоким, почти смертельным объятиям. Его мир — наковальня, его восприятие — молот, и ничто не должно заглушить гулкого удара. Лишь кремень и алмаз могли служить строительным материалом для такого художника.
Возможно, Тура слишком глубоко впитал в себя искусство Донателло и был слишком очарован ранними работами Мантеньи. И кто знает, какое средневековое изображение, подобное засушенному цветку или тени прошлого, так неистово оттолкнуло его от себя, что привело к единственной для него, сильно преувеличенной манере изображения, усвоенной им в Падуе? Хокусаи в глубокой старости имел обыкновение подписывать свои картины: «Человек, помешанный на рисунке», и с таким же основанием Тура мог обозначать свое имя, как «Человека, помешанного на осязательной ценности».
Этой единственной задаче он принес в жертву всю свою гениальность, родственную по духу Поллайоло и, быть может, не уступающую ему. Не обладая особенно глубоким умом и, как все провинциалы, лишенный тонкого и критического отношения к своим серьезным соперникам, Тура никогда не выходил за пределы узкосформулированной творческой программы в более интеллектуальную область искусства. Поэтому его можно сравнивать не с его флорентийскими собратьями, а с другим художником падуанской школы — Карло Кривелли. Один преувеличивает четкость очертаний предмета, другой преувеличивает их точность, и подобно всем одаренным живописцам, не представляющим себе художественной цели своего искусства, они кончают гротеском. Но не такой уж это злой жребий, если художнику есть что высказать.
Рядом с Джотто, Мазаччо, Леонардо, Микеланджело и их славными собратьями мы должны поместить художников, которые, обладая высоким чувством стиля, никогда не забывали о рисунке, придававшем максимальную жизненность каждой детали их картин. Но рисунок, возникший лишь как следствие восхищения какой-либо одной, пусть даже реалистической деталью, неизбежно приводит к гротеску, и создатели таких рисунков всегда мастера в своей области, как, например, японцы.
Быть может, они обладают меньшей ценностью, но трудно не любить их, так же как великих живописцев, потому что любить — это значит испытывать волю и радость к жизни, а эти чувства охватят вас при взгляде на любимое произведение искусства. Итак, Тура любим, потому что был великим мастером гротеска, в самой утонченной его форме. Он любил изображать символических животных, и в картине «Св. Георгий с драконом» пишет лошадь с такой гордой геральдической головой, как это сделал бы настоящий рисовальщик гербов.
Допустимо и другое понимание Туры. Возможно, его цель была чисто иллюстративной и он любил свой бесплодный каменный мир, населенный древними витязями, рожденными из скал, как иные любят пустыню, ледники или Арктику. На некоторых людей такие ландшафты действуют успокаивающе, а в своем эстетическом выражении они нравятся всем. Художник-иллюстратор, который может приобщать нас к идеальным чувствам, который вливает в нас такое мужество, гордую стойкость и выносливость, — несомненно большой художник. Какое из двух истолкований Туры правильно, не имеет значения, ибо, как каждый законченный мастер (а он был таковым, несмотря на свою узость), он сочетал воедино в своей живописи иллюстративное и декоративное начала.
VII
Не потребуется значительных изменений, чтобы страницы о Туре отнести и к его более младшему соотечественнику — Косее. Они образуют двойное созвездие, и каждая из звезд так похожа одна на другую, что неизвестно, какая является центральной, а какая вращается вокруг другой. Более длительное знакомство с ними все же обнаруживает различие между их целями и качеством, вызванными отчасти разницей в орбите. Тура ближе к Падуе, в то время как Косса увлечен больше живописностью Пьеро делла Франческа, могучего тосканца, некоторое время работавшего в Ферраре.
Косса полностью воспринял мир, воплощенный Турой, и, насколько было возможно, даже преувеличил его. Его пейзажи так же грандиозны и бесплодны, а для того чтобы усилить впечатление их пустынности, он вместо зданий изображает руины. Его фигуры не менее конвульсивно изгибаются, и если они не так высокомерны, то только потому, что они наглы. Косса заимствовал от Туры неистовое выражение сущности предмета, но был избавлен от последствий этого преувеличения тем, что воспринял от Пьеро делла Франческа широкие планы и спокойные композиции. Благодаря этому он сумел придать рельефу выпуклость, которая у Туры превращалась в выпячивание. Пьеро делла Франческа возбудил у Коссы интерес к свету и наделил его умением передавать рассеянное освещение, но лишь своему таланту Косса обязан мастерством в передаче движения.
Там, где Косса в изображении фигур отходит от Туры, он придает им большую подвижность и детально разрабатывает механику движения. Подобно всем художникам, обладающим необычайным чувством движения, Косса понимал значение линии, а контуры его фигур усиливают их осязательность так же убедительно, как у Поллайоло или молодого Боттичелли. Даже выражение дерзости его персонажей вызвано приданным им резким движениям, а дерзость есть не что иное как возбужденное высокомерие. Косса припадает к тому же источнику, что Поллайоло и Боттичелли, когда неожиданно для нас изображает на фресках дворца Скифанойя в Ферраре праздничную жизнь своего времени. Он пишет состязание в беге лошадей, мужчин и женщин, придавая каждому индивидуальные движения и сливая их вместе в один общий узор рисунка. На это состязание с явным удовольствием смотрят зрители, среди которых виднеются элегантные придворные дамы, сидящие на балконах и вытягивающие вперед свои прелестные, стройные шеи. Для того чтобы передать такое быстрое движение и такие гибкие очертания, линия Коссы достигает удивительной пластичности. Ни на одной греческой вазе или барельефе мы не встретим такого стремительного рисунка.
А для того чтобы создать такую женскую фигуру, как «Осень» (Берлинский музей) (Сейчас это произведение приписывается Галассо Галасси, — Прим. пер.), нужны способности самого высокого уровня. Она так мощна в своем сложении, так крепка, так твердо стоит на ногах, как если бы ее писал сам Пьеро делла Франческа, а своей воздушностью картина напоминает нам Милле и Сезанна.
Кто знает, что мог бы оставить своим потомкам Косса, обладавший такими данными и такой живописной манерой, если бы он имел еще ясно выраженную цель и, будучи молодым, поселился бы вместо Болоньи во Флоренции.
VIII
Неистовые и первобытные создания Туры и Коссы, обитавшие в бесплодных, каменных пустынях, несколько видоизменили свой облик и предстали перед нами в ином виде, когда к ним обратился один из способнейших учеников и последователей этих двух художников — Эрколе Роберти. Будучи с ранних лет одаренным живописцем, он гораздо больше внимания уделял иллюстративным задачам, нежели декоративным. Поэтому он был особенно восприимчив к «литературным» элементам в работах своих предшественников и пользовался ими, уверенный в силе их эмоционального воздействия. Однако подлинной удачи Эрколе Роберти мог достигнуть при условии самостоятельной работы над сюжетами, что привело бы его к новым результатам, не заимствованным у других мастеров. Лишь тогда его сюжет приобрел бы новый смысл и возбудил поэтическое настроение, в противном случае, не выражая ничего нового, он превращался в мираж.
Но с Эрколе Роберти это случалось редко благодаря некоторым положительным качествам. Потому ли, что у него не было того ощущения сущности предмета, как у Туры и Косса, или потому, что последние сами были недостаточно развиты, чтобы учить его, но так или иначе работы Эрколе Роберти никогда не производят того впечатления, какое внушают картины его учителей.
Его образы несколько каллиграфичны, как и должно быть, когда фигурная композиция не столько объемна, сколько растянута по плоскости, когда конечности уменьшены по сравнению с силуэтами фигур, причем последние скорее парят над землей, чем ступают по ней ногами, а руки ничего не могут схватить или сжать.
Стоя перед дрезденскими пределлами Роберти — «Взятие Христа под стражу» и «Несение креста», вы настолько не чувствуете крепости в изображенных фигурах, что делаете заключение, будто они пусты внутри и подобны тонким металлическим штампам. Но, с другой стороны, Эрколе Роберти обладал чувством линии, которая давала ему возможность если не изображать движение, то выражать действие так, что оно успешно передает смысл реально происходившего события.
Так же хорошо, как его умбрийские современники или как Милле среди художников XIX века, Роберти понимал все величие линии горизонта и глубокую значительность, которую она придает фигурам, возвышающимся над ней, как это видно по его «Иоанну Крестителю» (Берлинский музей).
Возвращаясь к дрезденским пределлам, надо отметить, что, несмотря на подчеркнуто силуэтные фигуры, словно оттиснутые в металле, зритель, забывая о недостатках, все же очарован их своеобразием. К тому же колорит, выдержанный в тонах поздних осенних листьев, удивительно гармоничен.
Но все выше сказанное не раскрывает нам очарования Эрколе Роберти, который по своим дарованиям является, скорее, иллюстратором. Его способности были блестящими, хотя и не очень разносторонними. В уже упомянутых работах, как и в «Оплакивании» (Ливерпульский музей) и в «Медее» (из собрания Кука), а также в монохромных, декоративных пределлах на алтарной иконе в Брера (Милан), ощущается такая страстная сила, такая необузданная, сверхчеловеческая свобода, что мы преклоняемся перед ним, как преклоняемся перед благородным человеческим порывом, счастливые уже тем, что являлись его свидетелем.
Если человек когда-либо изображался с глумящейся усмешкой и властным выражением лица, то это был именно Ирод в жестокой сцене «Избиение младенцев» кисти Роберти. Но ее выполнение в виде мелкого, почти живописного рельефа, украшающего подножие трона на алтарном образе в Брера, не вызывает в нас ничего, кроме удивления перед бессердечной трактовкой столь драматического сюжета; подобное отсутствие чувства встречается лишь в «Исландских сагах» или в «Сказаниях о Нибелунгах».
Как иллюстратор Эрколе Роберти напоминает своих учителей Туру и Коссу, и описание его картин выдает это, но работы Эрколе Роберти как иллюстратора имеют известное преимущество перед ними хотя бы потому, что он преследует определенную цель; однако и его работы показывают нам довольно ясно, насколько малую роль для искусства играет даже самая привлекательная иллюстрация.
В своих лучших произведениях Эрколе Роберти варьирует темы Козимо Туры, а своими худшими вещами, вроде «Лукреции» (Модена, Музей), доказывает, что может служить подходящей темой для проповеди о том, что иллюстратор, не обладающий мастерством в области формы и движения, не имеет преимущества перед другим художником, образцами которого он пользуется после того, как исчерпал свои собственные.
IX
Если даже на долю Эрколе Роберти выпал жалкий жребий, который достается тому, кто познает жизнь через вторые или третьи руки, то чего же мы можем требовать от его ученика Лоренцо Коста, знакомство которого с реальной действительностью и развитием художественной мысли происходило через третьи или четвертые руки.
Коста начал с таких произведений, как «Портреты семьи Бентивольо» и изображений «Триумфов» на стенах церкви Сан Джакомо в Болонье, которые отличались от последних работ Эрколе только более вялой манерой и банальностью построения. А кончил картинами (одна из них находится в церкви св. Андрея в Мантуе), в которых осталось только отдаленнное подобие его прежних замыслов. Однако в промежутке между этими периодами у него все же были счастливые мгновения.
Несмотря на пристрастие к типам, напоминающим американских краснокожих, алтарный образ Лоренцо Коста, находящийся в церкви Сан Петронио в Болонье, отличается не только блестящим колоритом, подобным мозаике, но и торжественным достоинством изображенных в нем персонажей. Но не все они обладают реальным существованием. Часто фигура выглядит так, как будто это шест с перекладиной, завешанный одеждой, к которому привинчена голова, и то не всегда прямо. Однако, несмотря на ошибки, Коста повествует так весело, композиция его так приятна, колорит так чист и нежен, что он совершенно пленяет вас, когда вы смотрите, например, на его картину «Изабелла д'Эсте в саду Муз» (Лувр).
Коста нравится своими пейзажами, одними из самых прелестных среди современной ему пейзажной живописи, хотя они и не особенно серьезны по выполнению. Мерцающая дымка, отливающие серебром быстрые речки, рассеянный солнечный свет, купы тонкоствольных деревьев с прозрачной перистой листвой заставляют мечтать нас о чудесной жизни на лоне природы, помогают забыть о том, каким плохим художником был Коста, и мы отдаем ему место среди любимых нами мастеров. Конечно, имена, которые я назвал, это самые высокие деревья в маленькой роще феррарского искусства. Многие другие прячутся под сенью их ветвей, некоторые цепляются, как омела, за сучья самых крепких дубов. Местами стволы и ветки так перепутаны и переплетены, что до сих пор трудно разыскать отдельно растущие корни.
Бианки, например, если действительно он написал производящего сильное впечатление «Св. Иоанна Крестителя» (Бергамо) и «Портреты семьи Бентивольо» (Вашингтон, Национальная галерея), занимает видное положение в феррарской школе. Но еще более почетное место принадлежит автору алтарной иконы, находящейся в Лувре и приписываемой Бианки. Строгая дева Мария, молодой воин, одновременно суровый и нежный, задумчивые ангелы, высокая простая композиция, спокойный пейзаж, виднеющийся сквозь стройные колонны, неподвижное небо — все это производит впечатление, подобное тихому солнечному закату, когда чувствуешь себя во власти какой-то высшей ритуальной силы и гармонии окружающей нас природы. Раньше чем расстаться с феррарской школой, надо сказать несколько слов о Франческо Франча и Тимотео дель Вите.
Франча, известный мелочной законченностью своих вещей, изящными лицами ангелов и присущим ему чувством душевного равновесия, был с точки зрения мирового искусства небольшим художником. Золотых дел мастер, он стал живописцем только в зрелом возрасте и поэтому был мало знаком с фигурной живописью. Но созерцательное, религиозное чувство Франческо Франча было столь же поэтичным и тонким, как у Перуджино, до тех пор пока оно не перешло в экзальтированность; последняя же опередила подобные переживания его сограждан почти на целое столетие.
Даже у умбрийских мастеров нельзя найти более торжественной и в то же время изящной, нежной и полной тихого благоговения картины, чем его «Мадонна» (Мюнхен, Музей) со скрещенными на груди руками, поклоняющаяся младенцу, лежащему около изгороди из роз. Даже Перуджино, при всей его магии пространственных эффектов, не мог бы нас так тронуть, а Франча заслужил свою скромную славу главным образом пейзажами. Кто из нас не ощутил их изысканную прелесть и не испытал сладостное чувство покоя при взгляде на его тихие и глубокие озера, sine labe lacus, sine murmure rivos («Без единой ряби на их водной глади, без журчания ручьев...» (лат.)), на низкие зеленые берега и небесные горизонты, которые составляют главное очарование его алтарного образа в церкви Сан Витале в Болонье.
Тимотео дель Вите оставил после себя две картины — «Марию Магдалину» (Болонья) и «Благовещение» (Милан), которые в смысле фигурной живописи так же хороши, как любое произведение Франча. Но все же Тимотео дель Вите заслуживает здесь упоминания не из-за них. Он известен потому, что был первым учителем Рафаэля, и благодаря ему гениальный мальчик унаследовал многие традиции, которые в свою очередь перешли к Тимотео от его великого предка — Козимо Туры. Правда, это наследие дошло до Рафаэля в таком виде, что лучше было бы не пользоваться им совсем. Во всяком случае, если бы он не прибавил к нему живописные богатства Флоренции, то само по себе это наследие ничего ему не дало.
X
Мы возвращаемся в Верону, на этот раз не как в столицу всех искусств или к хозяйке той части Италии, которая расположена между Альпами и Апеннинами, но как к провинциальному городу, чьи гордые воспоминания служили Вероне только помехой в том, чтобы в нужный момент плодотворно примкнуть к новому направлению в живописи. Мало кто из молодых веронцев был в Падуе, когда там разразилась художественная революция, вызванная пребыванием Донателло. Большинство оставалось дома, угрюмо дожидаясь того, чтобы революционный поток достиг их порога.
Приезд в Верону Мантеньи именно тогда, когда его дарование находилось в полном расцвете, был торжеством, а алтарный образ, написанный им для церкви св. Зенобия, можно уподобить триумфальной арке, воздвигнутой в честь его гения. В течение двух поколений Мантенья — полноправный властелин Мантуи — держал у своих ног Верону, подобно зачарованной пленнице.
Со многих точек зрения это было неудачно, так как веронские живописцы не знали ни Донателло, ни его скульптур и потому были далеки от реализма; они не могли понять, чем вдохновлялся Мантенья, и могли только подражать ему. Как мы помним, Мантенья не поддался влиянию флорентийцев, утверждавших, что основа рисунка заключается в форме, движении и пространстве. Он же стремился выразить свое восприятие римской античности на ее языке. К счастью, мертвая рука древнего мира, охватившая живую и крепкую руку Мантеньи, не совсем парализовала ее, а только ослабила жесткую напряженность его контуров, особенно по сравнению с твердыми чеканными линиями, к которым были пристрастны его соученики по мастерской Беллини и Тура. Подражания Мантеньи вначале были удачны и сохраняли кое-что от превосходных качеств оригинала, но последующие копии привели к обычным последствиям — к упадку и гибели подражательной живописи.
Если веронская живопись была спасена от подобной катастрофы и, продолжая существовать, даже могла похвалиться своим великим мастером Паоло Веронезе, то этим она была обязана солидному наследию, полученному от Альтикьеро и Пизанелло — природной наблюдательности, чувству цвета и сильной технике. А это, как уже указывалось выше, составляло ту часть капитала, который Верона совместно с остальной Северной Европой вложила в общее достояние итальянского искусства.
XI
В искусстве веронских художников эпохи кватроченто отчетливо проявляются две различные тенденции: одна наиболее ясно и сильно прозвучала в творчестве Доменико Мороне, который, отступив от идей средневековой живописи, воспринял новый образный строй, введенный в нее Мантеньей.
Выразителем другой был Либерале да Верона, склонный сохранить старый типаж и некоторые из старых методов, могущие вступить в компромисс с новым мировосприятием; причем приверженцы старых традиций были так упорны, что им удалось перенести их в живописные школы чинквеченто.
Доменико Мороне известен нам только своими последними работами. В его выдающейся картине «Изгнание герцогами Гонзага семьи Буонакколси» (Мантуанский дворец) мы видим одну из тех битв Возрождения, которые больше напоминают театральный костюмированный парад, нежели поле кровавой бойни. Аристократические всадники на холеных конях делают элегантные выпады оружием, иногда склоняются друг перед другом, будто охваченные недобрыми намерениями, но ясно, что они никому не причинят вреда. Они только принимают изящные позы и осанки, демонстрируя стройные фигуры и ретивость коней, образуя прелестные группы среди широкой городской площади, окруженной необычайными фасадами зданий на фоне дальних гор.
Живописец, создавший на склоне лет такое произведение, должен обладать настойчивым характером, потому что в искусстве, как и в любви, «лишь смелый заслуживает награды». Действительно, в церкви Св. Бернардина в Вероне находятся полуразрушенные фрески, не особенно изящные, но обнаруживающие все признаки владения формой и движением. Возникает вопрос, не учился ли Доменико Мороне в Падуе? Слабые отголоски минувших битв за форму и движение доходят до нас в работах его учеников, среди которых находятся лучшие художники своего поколения, за исключением разве одного Карото. Но влияние Мантеньи на Мороне шло вразрез стремлениям последнего к реализму и потому придало его работам известную схематичность и изысканность, иногда не лишенную приятности.
Немногое осталось довершить его сыну Франческо Мороне и другим последователям — Джироламо деи Либри и Каваццола. Простые подражатели Доменико Мороне, лишенные подготовки и питавших его художественных источников, не смогли даже достичь умения изящно и живо передавать движение. Но в их пользу говорит то, что они и не пытались делать это, а ограничивались лишь непритязательной, честной, а временами прелестной имитацией и повторением мотивов, приемов и стиля своего учителя. В области серьезной фигурной живописи они стоят не выше умбрийцев, и если им не хватает пространственной гармонии умбрийских мастеров, то все же они доставляют удовольствие и успокаивают нас своими поэтическими пейзажами и мягким рассеянным светом.
Композиции Либри и Каваццола спокойны и просты, но группировка фигур несколько сложна. Люди, изображенные в них, часто созерцательны и иногда погружены в состояние экстаза, хотя отличаются цветущим видом, заставляющим нас вспоминать их предшественника Паоло Веронезе с его полотнами, подобными храмам здоровья.
Этих художников окружает сияние славы, которую они разделяют только с венецианцами, потому что для них цвет составляет материальную сущность и выражение видимого мира, в то время как в остальной Италии краска рассматривалась не больше, чем аппликация, наложенная на холст. По этим причинам школу Доменико Мороне можно поставить на один уровень со школой Перуджино, при условии исключения из последней Рафаэля. Это, правда, равносильно тому, чтобы исключить из нее самое главное, но оставшиеся умбрийцы почти настолько же ниже средних веронских художников, насколько Рафаэль выше умбрийцев.
О последователях Доменико Мороне можно говорить вместе, потому что их сходство поражает сильнее, чем различие. Тем не менее каждый из них вводил нечто новое, свойственное своему темпераменту.
Франческо Мороне, сложившийся в период, когда его отец был полностью погружен в свое архаическое и серьезное искусство, самый строгий из его последователей. Действительно, его «Распятие» в церкви Св. Бернардина в Вероне с гигантским крестом, возвышающимся над низким горизонтом, крепкими и сильными фигурами — одна из самых вдохновенных передач этой возвышенной темы. Утрачивая постепенно художественную силу и энергию, Франческо Мороне сохранил, однако, тонкое, поэтическое чувство главным образом в изображении небес с пурпурными, отливающими бронзовым оттенком облачками и меняющимся освещением при восходах и закатах солнца. У него был почти джорджоновский дар придавать пейзажу и фигурам, как бы сливающимся вместе, чисто романтическое звучание. Его «Самсон и Далила» (Милан) переносят нас в мир нежных томлений и несбыточных надежд, в ту лирическую атмосферу, которая действует на нас подобно музыке Джироламо деи Либри, возможно, был самым талантливым из учеников Доменико Мороне. Он не только удачно передавал действие, но и правдиво изображал пейзаж, и хотя он не был законченным мастером, он все же кажется нам магом и волшебником.. Как величественна прекрасная, одухотворенная природа, полная мягких и поэтических воспоминаний, погруженная в теплое спокойное освещение! Какие просторы в его «Мадонне с Петром и Павлом», где три фигуры обрамляют, подобно арке, гармоничные дали рек, полей, гор и лугов! Джироламо мог стать великим мастером пространственной композиции, вторым Перуджино.
Каваццола — самый молодой из них и неустойчивый во взглядах — несколько безвкусен в своих работах, за исключением портретов и пейзажей. Но иногда, как в «Мужском портрете» (Дрезденская галерея), он достигает интенсивности, почти равной дюреровской, сохраняя при этом широкую живописную манеру своей школы. А в пейзажах, как, например, в его картине «Положение во гроб» (Верона), он предвосхищает спокойные, пространственные дали Каналетто.
XII
Во главе второй группы веронских живописцев, которая соперничала со школой Мороне, стоял Либерале да Верона. По своему стилю он был миниатюристом, и, может быть, оттого что традиции дольше удерживаются в искусстве малых форм как в типах лиц, так и в колористической гамме, он в течение всей жизни сохранял тесную связь со старой школой. Однако и Либерале не избежал влияния нового искусства. Потому ли, что он встречался в Сиене с Джироламо да Кремона, самым интеллектуальным, самым образным и совершенным из всех итальянских миниатюристов, потому ли, что по возвращении в Верону испытал на себе влияние крупного скульптора Риццо, или на него произвели впечатление шедевры молодых Мантеньи и Беллини, но так или иначе все это способствовало тому, что он вкусил плоды нового направления. К сожалению, Либерале да Верона так и не понял, кто на него влиял больше, и отсюда проистекла неопределенность его художественной индивидуальности. Одаренный от природы глубоким пониманием формы и внутреннего строения предмета, а также тонким поэтическим чувством, Либерале, если бы ему посчастливилось пройти флорентийскую или даже падуанскую художественные школы, не удовлетворился бы немногими замечательными произведениями — случайными плодами своего таланта, а научился бы систематически извлекать пользу из своих способностей, подобно опытному геологу, проводящему систематическую разведку горных недр в поисках драгоценных металлов, а не глупцу, радующемуся случайной находке, обнаруженной на поверхности почвы. Не стал бы он тогда в старости, когда иссякает вдохновение, писать слабые и недостойные его картины.
Начинания Либерале да Верона были блестящими; с ранних лет он занимался миниатюрой, которая, хотя и уступала миниатюрам Джироламо да Кремона, все же почиталась в Италии как одна из тончайших. В ней выражена мгновенность действия и исключительная смелость колорита, а временами она достигает редкостной высоты рисунка имажинистов. Те немногие, кто рассматривал его миниатюры в библиотеке Сиенского собора, забывали и о голубых телах дующих Бореев, и о священниках, увенчанных белыми тюрбанами, подобных магу Клингзору, и о Замке святого Ангела. (Очевидно, автор ссылается на «Рождение Венеры» и на фреску в Сикстинской капелле «Очистительная жертва прокаженного», написанными Сандро Боттичелли. — Прим. пер.)
Вскоре после исполнения этих миниатюр Либерале написал свою наиболее интеллектуальную и достойную восхищения картину «Оплакивание Христа» (Мюнхен), созданную, быть может, под влиянием Беллини и особенно Риццо. Несмотря на чрезвычайно изощренный контур, выдающий руку миниатюриста, и на то, что драпирующие фигуру складки беспечно заимствованы от скульптур Риццо (где их наличие если не красиво, то по крайней мере понятно), картина Либерале производит большое впечатление. Даже не задаешь себе вопроса, реальны ли эти фигуры и их действия, подлинен ли их пафос и экспрессия? Все еще находясь под влиянием Риццо, он написал две картины, изображающие «Св. Себастьяна» (одна из них в Берлинском, другая в Миланском музеях). Среди современных им изображений обнаженных фигур картины Либерале, несомненно, принадлежат к числу самых красивых и по своим достоинствам и недостаткам могут быть сравнимы лишь со «Св. Себастьяном» Перуджино. Фон миланской картины представляет собой прекрасный канал в Венеции с роскошными дворцами и жизнью под открытым небом. Еще большее восхищение вызывает самая очаровательная картина Либерале да Верона — «Дидона» (Лондон, Национальная галерея) с ее архитектурой, чисто материальным великолепием, соотношением фигур, декораивным убранством и пейзажем, то есть всеми теми качествами, которые позже сыграли такую роль в искусстве Паоло Веронезе.
ЦОССО ДОССИ. ЦИРЦЕЯ. Ок. 1515. ФРАГМЕНТ
Вашингтон, Национальная галерея
С другой стороны, «Крещение» Либерале в Веронском соборе, хотя и созданное под влиянием великого произведения Мантеньи, находящегося в Уффици, имеет в себе что-то грубоватое и напоминающее тирольский пейзаж, среди которого пастух, поющий народные напевы, вдруг попытается исполнить «Рождественскую ораторию» Баха.
А последние работы Либерале да Верона показывают нам, как мало он уделял времени серьезной живописи, потому что большая часть его фигур совершенно не материальна.
XIII
Нам нечего задерживаться на таких последователях Либерале, как Джольфино с его уродливым вкусом, ни на Торбидо, который, раньше чем захлебнуться в потопе, вызванном творениями Джулио Романо, утолил свою жажду из чистого источника джорджоновского искусства и, обновленный этой живой водой, написал два или три оставшихся в памяти портрета: задумчивого молодого человека (Рим, Галерея Дориа) и увенчанного плющом юношу (Падуя, Музей).
Лучший из учеников Либерале да Верона — Франческо Карото — наиболее способный из веронских живописцев своего поколения. В бытность его в Мантуе он подпал под сильное влияние Мантеньи, которое подействовало на него не только более живительно, чем на других, но и сблизило его стиль со стилем Мантеньи. Таким образом, в нем превосходно сочетались обе тенденции, причем ни одна из них не утратила от этого своих качеств.
Но живопись Карото, во-первых, отличалась отсутствием интеллектуальной цели, во-вторых, Мантенья на склоне лет уже не мог дать настоящей школы. Так Карото и жил без нее, лишенный к тому же собственных идей: все же смутно ощущая в них потребность, полный смиренного рвения, он готов был заимствовать их у Рафаэля или Тициана и даже копировал рисунки других мастеров. По существу, Карото всего лишь эклектик. Но, к счастью, традиционные живописные приемы так крепко привились к нему, что, даже ошибаясь, он оставался верным чувству цвета и высокой, благородной технике старых веронцев. Более того, он смог улучшить и углубить эти изобразительные средства настолько, что в других руках они стали почти непревзойденными, особенно под кистью Паоло Веронезе.
Есть что-то пленительно-простое в миловидности женских образов Карото, как, например, в его «Св. Урсуле» в церкви Сан Джордже, а также в крепком сложении мужских фигур, изображенных на алтарном образе в церкви Сан Фермо в Вероне. В пейзажах передана даль, затянутая дымкой, и временами они проникнуты таинственным чувством, присущим Леонардо. В редких случаях колорит Карото достигает утонченной гармонии, подобной монохромной гамме тонов старого Тициана.
XIV
До сих пор мы имели дело с художниками, зрительное восприятие которых никогда не выходило за пределы форм, созданных под влиянием Донателло и развитых Мантеньей, вдохновленном античностью. Я уже говорил в разделе «Живописцы Средней Италии» о той важной роли, какую в искусстве играет полноценность зрительных образов, вызывающая успех или неудачу в понимании специфически художественных проблем, и о том, насколько произведения, выражавшие их, видоизменяли наши взгляды на окружающий мир и даже управляли нашим восприятием. Мне незачем повторять то, что было сказано там. Но здесь, где я излагаю материал в целях его лучшего понимания с исторической точки зрения, я должен добавить в краткой и даже зашифрованной форме, вызванной размерами этой небольшой книги, одно или два замечания. Если бы я мог развить их полностью, снабдив комментариями и примерами, они заняли в своем изложении несколько томов.
В течение тех трех столетий, с 1275 по 1575 год, когда Италия создавала шедевры, привлекавшие общее внимание, дважды изменялось зрительное художественное восприятие. В начале существовал метод, основанный на мертвой и неподвижной линии, что придавало форме безжизненность, затем линия стала более гибкой и оживила ее, дав форме не только контур, но и возвышенную красоту, присущую, например, картинам ранних сиенских мастеров.
При Никколо Пизано, Арнольфо ди Камбио и Джотто линеарное зрительное восприятие начало уступать место пластическому, основанному на чувстве планировки предметов и стремлении выразить их реальную сущность и объем. Однако пластическое восприятие достигло апогея лишь в XV веке, так как в XIV столетии не существовало еще художников, которые могли бы следовать по стопам этих трех пионеров нового движения.
Едва была завершена одна победа, как великий, но не осознавший своего значения новатор Джованни Беллини — до тех пор адепт пластического зрительного восприятия — полностью изменил ему и стал смотреть на все окружающее другими глазами; в отличие от линеарной и пластической я назову его манеру видения — живописной.
Произошло это потому, что Беллини постиг неисчерпаемые возможности цвета. До него колорит, за исключением его примитивного использования веронцами и несмотря на чарующие тона, считался простым орнаментальным украшением, лишь дополнявшим реальные изобразительные средства, которые в XIV веке выражались линией, а в XV — линией, снабженной светом и тенью. Начиная с Беллини краска стала для живописца главным, если не единственным средством художественного выражения. Однако Беллини и не думал отказываться от достижений пластического восприятия. Он просто выражал свои зрительные образы цветом, вместо того чтобы выражать их линией и светотенью, сменив пластически-линеарный метод на пластически-живописный.
Но великие последователи Беллини — Джорджоне и Тициан — были слишком интеллектуальны, слишком связаны с великим и недавним прошлым, чтобы отказаться, как их учитель, от прекрасного пластического чувства формы, движения и пространства, завоеванных эпохой кватроченто. Они и их сотоварищи и ученики остались верными пластически-живописному зрительному восприятию, но даже Тинторетто и Бассано никогда не достигли чисто живописного воплощения. И лишь веронцы, впервые оценившие цвет, как материал, из которого должна строиться картина, оценили открытие Беллини; лишенные традиций и какой-либо определенной интеллектуальной цели, они легко отбросили пластический элемент восприятия и использовали его чисто живописную сторону.
XV
Первым чистым живописцем Италии был ученик Карото Доменико Брусасорчи, но это утверждение нужно понимать в историческом, а не в положительном смысле. Хотя большая часть работ Брусасорчи доставляет нам удовольствие, а временами даже вызывает восхищение, все же его картины рассказывают о том, как он ощупью и спотыкаясь, таща на спине тяжелый груз принципов и методов Карото, брел вслед за Микеланджело и Пармиджанино, вслед за Тицианом и Бонифацио Веронезе. Но в его алтарном образе в церкви св. Ефимии, во фресках Епископского дворца или в более низких по качеству росписях в Палаццо Ридольфи в Вероне, а также в декоративных работах для тирольского города Трента и в некоторых портретах, из которых один, в Уффици, близок по своей манере к Джорджоне, а другой — «Женский портрет» — к Тьеполо, мы видим совершенно новую живописную трактовку. Если бы не чрезмерная перегрузка формой и движением, свойственными эпохе чинквиченто, то его решительные и смелые контуры, распределение живописных масс, расположение групп и их координация между собой напомнили бы нам не только живопись Тьеполо, но и манеру некоторых современных знаменитых художников.
Историческое значение Брусасорчи (Теперь кажется менее достоверным, чем три десятилетия тому назад, когда писалась эта книга, что новатором был Брусасорчи. Вероятно, это был Паоло Веронезе. Разнообразие, плодовитость и живописное мастерство этого художника все еще ждет признания от нашего поколения, в котором ему никогда не отказывали прошлые века.) исключительно велико, потому что его зрительное восприятие было тесно связано с почти полной эмансипацией колорита от пластической формы и линии. Он как бы заново начал рисовать то, что попадало ему под руку, почти так же, как делали до него Джотто и Мантенья, но придерживаясь при этом своей манеры в аранжировке фигур, освещении и композиции, которые его последователи перенимали у него, внося лишь незначительные изменения.
Можно задать вопрос: почему же, если Брусасорчи был таким новатором, он не признан в той мере, как Джотто или Мантенья? Ответ прост. Новаторство — второстепенное явление в мире искусства, где ценится только передача внутренней сущности предмета, а эта сущность, какие бы средства и какой бы зрительный образ она ни использовала, всегда должна быть выражена формой, движением и пространством, гармонично согласованными между собой. И как раз в этой гармонии Брусасорчи был далеко не совершенен.
Его последователи — Паоло Фаринати, Дзелотти и Паоло Веронезе, — не говоря уже о других, например, о его сыне Феличе Брусасорчи и Бернардино Индиа, применили давно испытанный способ для иллюстрации ценности и смысла новых живописных средств, потому что до сих пор именно эта манера зрительного восприятия царит в мире живописи. Гению она поможет создать величайшие в мире ценности, но посредственностям не принесет никакой пользы. Она не будет способствовать художникам в их движении вперед, не привьет нужных навыков, какие несли с собой традиции эпохи Джотто и кватроченто, давая им возможность создавать то лучшее, что они могли. Напротив, подобная манера зрительного восприятия снабдит живописцев таким инструментом, играть на котором он не в состоянии в силу своих слабых способностей; более того, она откажет им в руководстве, поощрит их к оригинальничанию, привьет им анархический образ мыслей.
Паоло Фаринати, несмотря на большую и превосходную картину, созданную по образцам Брусасорчи, кончил самым жалким образом, тогда как Паоло Веронезе, используя те же формы, но благодаря гениальности своей натуры полноправно занял место в том ряду, где можно встретить мастеров не равных друг другу, но все же значительных.
Я уже говорил в книге «Венецианские живописцы» о творческом пути Паоло Веронезе, и здесь я могу только кратко сослаться на него в связи с его предшественниками. Несмотря на то, что Веронезе относится к Брусасорчи так же, как Джотто к Чимабуэ или Мантенья к Скварчоне, он не находится в числе великих художников. Недостаток интеллектуальных традиций в воспитавшей его школе помешал Веронезе достигнуть высочайшей вершины. Но в целом он был столь же велик в живописном видении, как Микеланджело в пластическом, и можно даже усомниться, был ли вообще Паоло Веронезе как живописец кем-либо превзойден.
XVI
Мы должны вернуться на столетие назад, к началу Возрождения, в Милан и подчиненные ему области. Искусство живописи должно было найти здесь всяческое материальное поощрение, так как это была цветущая страна с богатыми городами, богатой земельной знатью, управляемая к тому же герцогами — любителями роскошной жизни. Как мы можем заключить из деятельности миланцев — Джованни да Милано, работавшего во Флоренции, и Леонардо да Бизуччо, уехавшего в Неаполь, живописцев в Милане было более чем достаточно. Но жизнь искусства зависит не только от экономических и политических причин, в противном случае не пришлось бы говорить, что Милан и его окрестности за все время их существования не произвели ни одного художника, даже приближающегося к первоклассным. Миланской живописи не хватало гениев, и потому она всегда находилась в зависимости от чужих эстетических законов. В XIV веке ее художники были провинциальными подражателями Джотто. В первые десятилетия XV века они были скромными и несколько странными последователями Пизанелло. И хроника миланской живописи XV и первой половины XVI столетия была действительно краткой, если бы мы изъяли из нее имена Фоппа, Браманте и Леонардо да Винчи. Но Фоппа был уроженцем Брешии, учившимся в Падуе, Леонардо — флорентийцем, им же по своему образованию был Браманте. И хотя в Милане существовала школа живописи, так же как и в Риме, но едва ли она имела местный характер.
Самая значительная работа раннего периода миланского кватроченто — небольшой цикл фресок в соборе в Монце, повествующих о жизни королевы Теодолинды. Ясно, что он написан под влиянием Пизанелло, и интересно, что его авторы, упустив из внимания моделировку фигур, смягчили линию и сделали лица более красивыми. Хочется даже обвинить их в умышленном намерении убрать все, что может вступить в противоречие со своеобразным понятием красивости.
То, что сказано о фресках собора в Монце, относится и ко всей миланской школе в целом. Красивость с оттенком слащавости составляла, как видно, сущность миланской живописи, в которой было немало странных черт. Так, ее образы, даже наиболее очерченные и выпуклые, обрамлялись как бы расплывчатым, радужным ореолом, подобным множеству мыльных пузырей, в которых, как капли росы в сияющем море, растворялись самые устойчивые формы.
Если мы остановимся на проблеме — какова же природа и происхождение красивости, то вскоре поймем, почему она является источником более низкого художественного качества и в то же время способствует популярности искусства. Красивость — это то, что остается от красоты, когда исчезает сила ее воздействия на наши чувства. Красота в свою очередь — качество, присущее тем вещам, которые могут усилить нашу жизненную энергию. В живописи это качество проявляется как следствие полной гармонии между осязательной ценностью (или формой) и движением. Красота находит свое воплощение в таких формах, положениях и композициях, которые дают возможность художнику, управляющему своим зрительным воображением, наиболее полно выразить желаемое. Формы, положения и композиции сами по себе ничего не значат, они не более чем внешняя оболочка, подобная коже, снятой с живого тела, которая быстро засыхает, сморщивается и распадается в прах.
Живописцу, не обладающему способностью к передаче осязательной ценности и движения, другими словами, не имеющему созидательного таланта, остается ограничиться подражанием тем, у кого он есть, потому что в искусстве все формы и их аранжировка являются тем средоточием, из которого исходит жизненная сила картины или скульптуры. Любое подражание станет пустым и не сможет иметь той формы, которая была у оригинала, потому что тот, кто способен выразить внутреннюю сущность художественного образа, не нуждается в подражании. В противном случае его произведение будет лишь красивой, безжизненной оболочкой, без внутреннего содержания. Но искусство способно сохранить свою привлекательность даже тогда, когда становится пассивным, подобным застывшему в момент смерти лицу любимого друга, когда еще не исчезли до конца следы жизни, но безвозвратно ушло то, что наполняло человеческое существование.
Это и есть момент упадка искусства, когда оно создает красивость (отсюда, кстати, и прелесть первых плодов упадка). А красивость сама по себе, как уже сказано, неизбежно связана с понижением художественного качества, и в то же время она популярна, потому что доступна всем, а многим даже льстит своей понятностью.
Из сказанного следует, что красивость проявляется тогда, когда какое-либо направление в искусстве достигло своей кульминации, когда красота полностью созрела; она так радует нас, что искушает копировать ее или хотя бы тот источник, который ее породил, — какой-нибудь образ или рисунок. Красивость никогда не связана с архаическим искусством, потому что последнее всегда борется за жизненность своих форм и движения, а никакая имитация не сможет этого скрыть и, следовательно, разделить хотя бы в малой степени эту трудность с подлинным искусством. Слепое подражание архаическому искусству приводит не к красивости, а к странной незрелости и детской нелепости; если же красивость прочно внедряется в архаическое искусство, то можно смело утверждать, что наступила его последняя фаза.
То немногое, что я сказал о красивости, было необходимо, потому что борьба, которую она вела с настоящим искусством, занимает много места в истории миланской живописи, правда, скорее в более поздний период ее развития, чем в ранний.
XVII
Миланская живопись XV века, как мы знаем, обязана своим существованием художнику Винченцо Фоппе. Хотя в композиции и пейзаже иногда чувствуется влияние Пизанелло, у которого Фоппа учился, все же настоящую школу он прошел в Падуе вместе с Джентиле и Джованни Беллини, Мантеньей и Турой. Его картины, дошедшие до нас, уступают и в количестве и в качестве работам его современников. И все же можно задать вопрос, был ли Фоппа по своим природным способностям ниже (оставляя в стороне Мантенью) Туры и даже обоих Беллини? Если бы Джентиле и Джованни были лишены живительных художественных источников, если бы они в период формирования своего пластического восприятия не знали здорового соперничества друг с другом, то вполне возможно, что и братья Беллини остановились бы в своем развитии там, где остановился Фоппа, или даже где Козимо Тура, несмотря на близкую связь последнего и с Падуей и с Венецией.
О том, что замедленное художественное развитие Фоппы было связано не с присущей ему апатией, а, скорее, с отсутствием творческой инициативы, можно судить по передаче света, пространства и перспективы в его «Поклонении волхвов» (Лондон, Национальная галерея), которые свидетельствуют о том, что, хотя художнику к тому времени было уже свыше пятидесяти лет, он начал интенсивно учиться у Браманте.
Вполне возможно представить себе, в каком направлении пошло бы его развитие, живи Фоппа при более благоприятных условиях. В трактовке фигур и пейзажей он проявляет подлинную силу и выразительность, но к четкости и точности архитектурных форм, написанных под влиянием Браманте, относится со странным равнодушием. Фоппа стремится смягчить границу между контурами здания и окружающей атмосферой, и его чувство цвета полностью соответствует этому, так как он предпочитает серебристые, почти мерцающие красочные эффекты, граничащие с монохромом, но с разнообразием оттенков, ценимым сторонниками живописной законченности картины. Этих немногих слов достаточно для понимания того, что по своим внутренним побуждениям Фоппа был ближе к Джованни Беллини, чем к Мантенье и Туре. Будь обстоятельства более счастливыми, брешианский художник так же рано достиг живописного восприятия, как венецианский, а может быть, и раньше, потому что Фоппа совсем не любил резких очертаний видимого предмета, с чего начинал Беллини.
Хотя Фоппа достиг немногого, оно значительно. Обладая глубоким пониманием внутренней сущности образа, он изображал величественные фигуры, временами напоминающие фигуры Пьеро делла Франческа, и, хотя ему не хватало поэзии пространства и он скорее избегает, чем ищет действия, картины Фоппы одни из самых впечатляющих среди произведений его столетия. У него всегда есть чувство меры. Мы должны признаться, что на двух его изображениях «Св. Себастьяна» (Милан) действие передано мастерски, а в картине «Снятие со креста» (Берлинский музей) оно достигает высокого уровня. Разве трактовка этого сюжета не предвосхищает благороднейший стиль Микеланджело? В суровых картинах Фоппы чувствуется нежная улыбка, совсем как у Джованни Беллини, а некоторые его мадонны особенно близки по духу к венецианским мадоннам, как, например, находящаяся в музее Кастелло в Милане. Его излюбленные серебристо-серые и приглушенно-зеленые тона превосходны.
В североитальянской живописи он занимает первое место после Мантеньи и обоих Беллини, а его влияние было едва ли меньшим, потому что не осталось ни одного уголка между Брешией, Генуэзским заливом и альпийской вершиной Мон-Сени, которых бы оно не коснулось.
XVIII
Мы не можем задерживаться на Бутиноне и Дзенале. Первый и старший из них похож на Грегорио Скьявоне, странного, причудливого, но привлекательного и скромного подражателя Донателло и Мантеньи. Второй оказался способным привить некоторым слабым отросткам леонардовского искусства мощный древесный сок живописи Фоппы. Бутиноне и Дзенале вдвоем написали великолепный многостворчатый складень, который до сих пор украшает грязный торговый городок Тревильо, где они оба родились. По существу, их живопись — это ответвление от искусства Фоппы, но менее серьезная, более приятная и прежде всего более великолепная.
Одним из крупных последователей Фоппы был Амброджо Боргоньоне, о котором хочется сказать, что он самый замечательный из всех миланских художников. Правда, его возможности были ограничены и он редко превосходил своего учителя, правда и то, что он не привлекает к себе внимания какими-либо особыми достижениями в области формы, движения или пространственной композиции. К тому же он не был свободен от слабости к подражанию и красивости, которые к концу его жизни наводнили все миланское искусство. Но он донес до нас в своей живописи одно из наиболее сдержанных, глубоких и утонченных выражений религиозного чувства. Если бы именно это доставляло нам наслаждение, то мы решительно предпочли бы Боргоньоне своим теперешним любимцам — фра Анжелико, Франческа Франча или Пьетро Перуджино. Но эти мастера привлекательны своими сладостными образами: Беато — бессознательной прелестью линий и красок, Франча — изображением прохладных зеленых лугов, Перуджино — пространственной гармонией. Боргоньоне завлекает нас не этим, при редкостной и замечательной иллюстративности он все же довольно слабый живописец.
Как художник с твердо установленными принципами пластического восприятия, он был своего рода Уистлером эпохи Ренессанса. У него была чисто уистлеровская страсть к гармонии тонов и обобщенному, сжатому и символическому рисунку. Но такой рисунок едва ли мог отстоять свое право на существование рядом с пластической объемностью фигур, помещенных среди пейзажа на алтарных образах кисти Боргоньоне. Однако вкус его свободно следовал своему влечению, когда он изображал, словно невзначай, городские улицы, узкие каналы, сельские сцены, а порой и крошечные фигурки. И тогда он снова напоминает, как никакой другой из итальянских мастеров, этого восхитительного американского художника.
В «Сценах из жизни св. Бенедикта» (Нант, Музей) дана такая идеальная гармония серых, голубых и черных тонов, что ее нелегко превзойти и художникам нашего времени.
XIX
Со смертью Боргоньоне традиции Фоппы исчезли из миланской живописи. Но они уже пустили широко разветвившиеся ростки в Брешии — родине Фоппы, и прижились в тех условиях, в каких развивалось живописное зрительное восприятие. Теперь на время оставим эти традиции и закончим обзор миланской живописи. Мы возвращаемся к началу семидесятых годов XV века, когда стиль Фоппы еще не полностью проявил себя. В этот период он получил подкрепление от Браманте, который приехал на долгие годы в Милан. Неизвестно, было ли влияние последнего благотворным для развития ломбардской архитектуры, так как созданные им формы были так совершенны, что вызывали не столько понимание, сколько подражание. Архитектура Браманте скорее растворяла в себе формы местного зодчества, чем способствовала его самостоятельному развитию, подобно тому как искусство Леонардо да Винчи с огромным напором подчинило себе всю миланскую живопись. Однако на последнюю Браманте оказал несомненно хорошее влияние. Иначе и быть не могло, потому что проблемы, поставленные Фоппой, были ему чрезвычайно близки, и он посвятил их изучению свой возвышенный и блестящий ум, развившийся под воздействием наиболее передовых и серьезных учений XV столетия. Что представлял собой Браманте в искусстве фигурного изображения, мы можем заключить скорее по картинам его последователей, чем по его собственным вещам. Хотя он занимался скульптурой, живописью и даже графикой — все это, несомненно, находилось в подчинении у архитектуры. Все же в своих немногих картинах, дошедших до нас, он выявляет себя декоратором в самом серьезном смысле слова. Героические типы, статуарность поз, грандиозность форм, величественность движений — близки по духу и стилю к Пьеро делла Франческа и его ученикам Мелоццо да Форли, Луке Синьорелли и Бартоломео делла Гатта. Но Браманте мало занимался живописью, иначе его влияние на нее было бы гораздо заметнее. Хотя оно распространялось на Дзенале и других, но в основном было направлено на Брамантино, через посредство которого проникло в более поздние течения миланской живописи, принеся свои плоды в искусстве Бернардино Луини и Гауденцио Феррари.
Но, как и следовало ожидать от того, кто идет по стопам учителя и чей основной интерес направлен уже не только на живопись, Брамантино начал писать бесформенные, лишенные всякого содержания произведения, хотя иногда и делал превосходные успехи, как, например, в изображении фигуры Христа. Брамантино унаследовал нечто от поэтического безумия умбро-тосканских мастеров, чего, несмотря на врожденную миланскую страсть к красивости, он не мог целиком изжить. Временами он положительно пленяет нас, как, например, своей фреской «Мадонна и ангелы» (Милан, Брера) или «Бегством в Египет» (Локарно). Его образы величественны, как у Мелоццо да Форли, и в то же время предвосхищают собой утонченную чувственность Пармиджанино и Россо. Как ученик Браманте он обладал исключительным чутьем к архитектурному оформлению пространства, так что, по правде сказать, многие из его картин ничего не потеряли, за исключением общей композиции, если бы фигуры в них вовсе отсутствовали. Манера Брамантино давать освещение по возможности снизу и его пристрастие к поэтическим контрастам света и тени дополняют впечатление от его стиля, который сохраняет свою заманчивость, несмотря на его часто невысокое качество. Если мы будем искать в его основных вещах, как, например, в «Поклонении волхвов» (Лондон, Национальная галерея) или в «Бегстве в Египет», серьезного изображения фигур, то нас постигнет разочарование. Но в его картинах есть что-то неотразимо привлекательное, как в оратории Берлиоза «Детство Христа».
XX
Остальная миланская живопись эпохи Возрождения сосредоточена вокруг имени художника, который до такой степени определил ее характер и наметил дальнейший путь, что она с тех пор известна как его школа — школа Леонардо да Винчи, причем ее лучшие произведения обычно выдавались за его.
Когда около 1485 года этот наиболее одаренный из всех флорентийцев поселился в Милане, ему было немногим больше тридцати лет, и, хотя Леонардо уже создал свое «Поклонение волхвов» — по меньшей мере странный и наиболее интеллектуальный из всех когда-либо написанных эскизов, — хотя он уже вышел за пределы сферы влияния Мантеньи и стоял в стороне от задач, поставленных его последователями, он все еще не достиг полной зрелости. Придерживаясь многих простых наставлений, преподанных ему Вероккьо, Леонардо все еще искал свой путь к прекрасной свободе. Едва ли можно было думать, что этот путь пролегал через миланские улицы, и можно весьма сомневаться в том, сумел ли бы он его найти, если бы не вернулся обратно во Флоренцию. Иногда даже думаешь, не достиг ли Леонардо большей внутренней независимости, и при этом гораздо раньше, если бы никогда не покидал своего родного города. И можно только пожалеть о том, что это случилось к несчастью для Леонардо, оторванного от той среды, в которой, как в фокусе, сосредоточивались все виды искусства, к несчастью для Флоренции, к несчастью для общечеловеческой вечной красоты.
Вообразите себе, что могло произойти, если бы его учениками, или хотя бы последователями, были Микеланджело и Андреа дель Сарто, вместо Амброджо да Предиса и Больтраффио! А взамен этого он провел свои лучшие годы в Ломбардии, слегка зараженный повсеместно распространившейся страстью к красивости. Едва ли Леонардо пошло на пользу то, что он писал портреты придворных красавиц, находившихся в свите утонченного сластолюбца Лодовико Моро. Но так как успех всегда влечет за собой повторение того, в чем он проявляется, то многочисленные клиенты были, вероятно, настойчивы в просьбах, обращенных к этому могучему гению, который нисходил до изображения миловидных женских лиц.
Так, вопреки самому себе, Леонардо стал главным соучастником тайного заговора в пользу красивости, именно потому, что его великое искусство придавало даже красивейшим из женщин новую одухотворенную красоту, что было совершенно недосягаемо для одаренных, но обычных людей, какими были его ученики.
Подобные предположения могут до известной степени объяснить то исключительное внимание, которое Леонардо уделял изображению лица, доводя его выразительность до предельно опасной границы. Этим же может объясниться и тот факт, что никогда во время своего длительного пребывания в Милане он не имел исчерпывающих возможностей проявить свой высочайший дар, свое мастерство в передаче движения.
Если Милан ждал от Леонардо чего-то большего, то и Леонардо ничем не был обязан Милану. Смотря на картины Амброджо да Предиса, Джанпетрино, Больтраффио, Андреа Соларио, Марко д'Оджоно, Бернардино Луини, Содома и других, может показаться парадоксальным, что приходится сомневаться в пользе, оказанной Леонардо своей школе. Большая их часть обладает незначительной внутренней ценностью. Их единственная и серьезная заслуга в том, что они в какой-то мере увековечили идеи Леонардо, уподобив их простым зарифмованным строчкам, которые без усилия запоминаются самыми обыденными людьми. Извлеките из этих картин долю, принадлежащую Леонардо, и окажется, что вы отняли все, что составляло их красоту. Мы обязаны ломбардским мастерам тем, что они сохранили нам рисунки великого флорентийца, как признательны безвестным ученикам, сохранившим высказывания мудрецов, слишком поглощенных размышлениями или равнодушных к тому, чтобы увековечить их своими руками. И все же не исключена возможность, что если бы миланские живописцы были предоставлены своему естественному развитию, то смогли бы показать себя с более выгодной стороны. Возможно также, что если бы великий повелитель Этрурии не свел их до рабского положения секретарей и переписчиков, то эти второстепенные художники создали бы под германо-венецианским влиянием и на основе живописных традиций Фоппы свою школу, подобную брешианской, но более широкого диапазона и большей глубины. И не исключено, что она достигла бы расцвета в лице художника, вроде Веронезе, а не Бернардино Луини.
Хорошо известно, что умы, более развитые, и идеи, более передовые, чем наши, порабощают людей. Однако эти идеи могут быть полезны только тогда, когда способствуют формированию лучших навыков и методов и лишь при условии терпеливого подчинения им и полного подражания.
Так же обстоит дело и в искусстве. Временный контакт между человеком, полностью овладевшим своей профессией, и тем, кто в ней еще недостаточно сведущ, приводит к тому, что последний пренебрегает даже тем, что знает, и копирует то, что в силах скопировать, то есть самое простое; копирует в зависимости от способностей до тех пор, пока не начинает понимать, как надо это выразить собственным образом. Но эта пора, для него часто так и не наступает.
XXI
Вначале влияние Леонардо на миланскую живопись было незначительно. За исключением некоторых случаев, его испытали только немногие помощники и ученики художника. Возможно, он писал главным образом для двора и его окружения, оставаясь почти неизвестным для других, или местные ремесленники не в силах были оценить и понять его значение. Первые пятнадцать лет его пребывания в Милане оставили сравнительно слабые следы. И, только возвратившись вновь, Леонардо начал оказывать на миланскую живопись огромное и, возможно, губительное влияние.
Настало время, когда энтузиазм его немногих поклонников обернулся молвой о беспримерном триумфе Леонардо во Флоренции, приковавшем к нему всеобщее внимание, когда молодежь пала к его ногам. Самые ранние миланские последователи были немногочисленны и даже не вполне им порабощены. Они знали и другие имена и сами обладали определенными художественными навыками. Помимо того, сам Леонардо еще только нащупывал свой путь, а в его вещах отсутствовала та законченность, которая могла бы увлечь учеников. Подражая ему во всем, они подражали и его поискам, а это не отвечало их интересам. Леонардо, например, непрестанно стремился к более утонченной светотеневой моделировке, которую достиг в своей «Моне Лизе». Довольно серьезное отражение этих задач можно случайно обнаружить лишь у Предиса и Больтраффио, но никогда у более молодого поколения живописцев, несмотря на эффектную законченность их работ.
Несомненно, что только благодаря близкому знакомству с методами и приемами Леонардо Предис смог выполнить копию с его картины «Мадонна в скалах» (Лондон, Национальная галерея), столь близкую к оригиналу, что любая из копий «Тайной вечери», сделанная более бойкими подражателями младшего поколения, уступает ей в качестве.
Но и ранние последователи Леонардо, оставившие нам столько честных и полных достоинства мужских портретов, находились порой под влиянием красивости, особенно тогда, когда пытались следовать учителю в изображении очаровательных женщин и мальчиков с лицами, подобными персикам. Предис, написавший полный ума и характера «Портрет Франческо Бривио» (Милан, музей Польди-Пеццоли), опустился до изображения чисто цыганской миловидности в портрете «Девушки с вишнями». То же произошло и с Больтраффио, который, начав с сильного «Мужского портрета», дошел до изображений слащавых женских лиц, написанных на хорах церкви св. Мауриция в Милане, или же женственных отроков, вроде его юных спасителей или святых Себастьянов. Даже прелестные мадонны, исполненные, вероятно, по эскизам Леонардо с отзвуком его очарования (вроде тех, которые находятся в Милане и Лондоне), становятся приторными и надушенными под кистью Больтраффио.
Сам Леонардо всегда стремился передать сладостное и нежное чувство на лицах женщин и детей, однако оно никогда не переходило в крайность, сдерживаемое и управляемое его великим и властным инстинктом формы.
Еще хуже было с теми учениками, кто поступил к Леонардо после его возвращения в Милан. Слишком занятый, чтобы серьезно учить, он превратил их в своих помощников, тогда как его искусство достигло в это время полного расцвета, а образы «Моны Лизы» и «Св. Анны с Марией», созданные в эти годы, совершенствовать было уже невозможно. Каждая попытка воспроизвести их вновь, за исключением той, которая могла бы быть выполнена каким-нибудь вторым Леонардо, была обречена на неудачу и привела бы только к излишней красивости.
По мере того как последняя поглощала собой все другие художественные интересы, она становилась все более приторной, аффектированной и даже вульгарной, что так часто проявляется у Джанпетрино, Чезаре да Сесто и Содома.
Мы, европейцы, даже полностью не отдавая себе в этом отчета, любим сохранять свое лицо и никогда не довольствуемся просто копированием произведений своих учителей, как бы велики они ни были. Как же может второстепенный мастер, желающий отстоять свою индивидуальность, не попытаться придать своей копии еще большую утонченность и красоту, особенно в том случае, когда его умение не адекватно красоте и значительности того образа, который он изображает?
Но почему же, спросите вы, красивость и выразительность не могут быть источниками художественного наслаждения? Ответ только один — красивость воздействует не на идеальные представления, которые являются настоящей сферой искусства, а влияет непосредственно как действительность. Поклонники красивой женщины, изображенной на портрете, смотрят на него глазами Стендаля, видя в нем залог тех обещаний, которые эта женщина выполнит в реальной жизни, ибо живая красота неотразима и привлекательна. Красивость подобна пиктографическим знакам и едва ли обладает художественными достоинствами, в то время как фигурная живопись пользуется единственным в своем роде материалом, который будучи художественно выражен, повышает нашу жизненную энергию, то есть, формой, движением, пространством и колоритом, практически независимым от понятия красивости.
Выразительность и красивость — сестры-близнецы. Разумеется, я не имею в виду ту выразительность лица, которая бессознательно отражает какое-либо действие, она допустима и является одним из качеств иллюстративности, хотя, чем выше искусство, тем надо быть осторожнее, чтобы не дать этому качеству выйти из повиновения. Нет, я имею в виду эмоциональное выражение лица, которое надо воспроизводить за его внутреннюю ценность. В искусстве оно может иметь мало значения, потому что самое главное зависит от передачи осязательной ценности, движения и их гармонии друг с другом, в то время как мышцы лица, выражающие неуловимые эмоциональные изменения, играют незначительную роль и своей неуловимой игрой могут лишь слегка повысить нашу жизненную энергию.
Помимо этих специфических, художественных причин есть еще одна, более общего порядка, но крайне существенная и противоречащая эмоциональным переживаниям в искусстве. Она заключается в следующем: в тех случаях, когда мы не можем объяснить себе, почему лицу, изображенному на картине, придано то или иное выражение, а в живописи это обычно связано с различными действиями и движениями фигуры, мы принуждаем себя искать причины, породившие его за пределами художественного произведения. В этом случае отсутствует эстетическое переживание — пусть краткое, но прекрасное и полное экстаза мгновение, когда мы и произведение искусства сливаемся в единое целое. Потому что изображение, на которое мы смотрим, отвращает нас от себя, дает лишь повод для любопытства, для поисков различных сведений о нем, и вместо того чтобы целиком поглотить наше внимание, дать нам возможность погрузиться в созерцание огромного мира, испытать блаженное ощущение слияния с ним, оно вселяет в нас чувства, враждебные чистой радости, которая дается лишь подлинно художественным произведениям.
Верное по отношению к отдельным фигурам и композициям, это требование еще больше относится к изображениям отдельных голов, что превосходно понимали гениальные художники и скульпторы. Даже в лучших художественных произведениях выражение лица не может полностью исчерпать человеческую индивидуальность, так как возможности художника в передаче экспрессии ограничены. И потому настоящее искусство легко выходит из затруднения, придавая лицу не индивидуальное, а наиболее типическое выражение.
Но подобная художественная интерпретация могла быть по плечу только гениальному художнику и требовала соответственной оценки со стороны зрителей. Художник-ремесленник пишет как умеет и может, удовлетворяя массовый спрос, и производит то, чего эти массы жаждут, то есть портреты, дающие какие-то сведения о человеке взамен выражения жизни и красоты.
XXII
После всего сказанного читатель поймет, как мало энтузиазма вызывает у меня такое очаровательное произведение, как «Женский портрет» (Ленинград, Эрмитаж) кисти Франческо Мельци, ученика Леонардо, и будет подготовлен к моей оценке Луини, Содома, Гауденцио Феррари и Андреа Соларио.
Луини всегда нежен, сладок и привлекателен. Из его произведений легко было бы составить целую картинную галерею, посвященную женщинам, прелестным, оживленным, милым и без исключения обворожительным, женщинам, неизменно взывающим к нашим глубочайшим мужским инстинктам своей обманчивой беззащитностью. В более ранних вещах он под влиянием фантастически настроенного Брамантино свежо, мягко, но сдержанно повествует о библейских и мифологических сказаниях. Как художник он отличается, особенно в ранних фресках, гармоническими теплыми тонами и тщательной законченностью рисунка, временами не слишком высокого качества.
Но среди знаменитых художников Луини наименее интеллектуален и по этой причине наиболее надоедлив. Как устаешь смотреть на ту же щеку цвета слоновой кости, на ту же сладкую улыбку и грациозные формы, на то же полное отсутствие событий. Никогда ничего не происходит! Нет движения, руки ничего не держат, ноги не стоят, ни одна фигура не оказывает сопротивления.
Луини даже смутно не представлял себе, что рисунок кроме простого аккуратного изображения чего-то должен быть основан на различных вариациях формы движения и пространства. Все эти серьезные проблемы, как я уже говорил, пред ставляли слабый интерес для учеников Леонардо либо потому, что картины, выполненные учителем в Милане, не были для них примерами, либо потому, что у них не хватало ума постичь их. Правда, Марко д'Оджоно попытался понять их, но другие разумно воздерживались. Однако перед тонкостью леонардовской моделировки даже Луини не мог устоять. А так как стать еще утонченнее он был не в состоянии, то дошел до хромолитографической законченности картины «Христос среди ученых» (Лондон, Национальная галерея). Он действительно усердно писал лилии и розы, но в серьезном искусстве был беспомощен. Посмотрите на его всемирно известное «Распятие» (Лугано): всякая попытка выразить экспрессию кончается карикатурой. Фрески Луини в Саронно подобны поздним работам Перуджино, но полностью лишены замечательных пространственных эффектов, компенсирующих все недостатки умбрийского мастера.
Содома, наиболее одаренный из всех последователей Леонардо, отнюдь не великий художник, но в своих лучших вещах он наполовину убеждает нас в том, что, если бы его научили строго и интеллектуально мыслить, он мог бы стать им. Возможно, что ему не хватало только образования и характера, чтобы быть вторым Рафаэлем. Он явно обладал смело выраженным чувством красоты и был готов к восприятию и оценке самых высоких достижений других мастеров при условии, чтобы они были не слишком индивидуальны. Но его с самого начала неправильно учили; не отличаясь прилежанием, он слабо усвоил художественные достижения других, и знаменательно, что во время своего долгого пребывания в Риме он копировал только Рафаэля, не знакомясь даже с творениями Микеланджело.
Большинство его работ являет собой жалкое зрелище. Нет формы, нет настоящего движения, даже нет привлекательных лиц или приятного колорита. Нет никакого признака его связи с Леонардо, если не считать поспешно выполненных светотеневых эффектов, которые просто извращают полную смысла и значения светотеневую трактовку великого мастера.
Гауденцио Феррари еще меньше, чем его товарищи, находился под влиянием Леонардо. По своему темпераменту это был энергичный горец, несколько грубоватый и полный сил. Его ранние картины — «Сцены страстей» (Варалло) — провинциальные, сильно увеличенные в масштабе, красивые миниатюры. Стремление к красивости, однако, никогда не заглушало у Феррари грубоватого чувства реальности, которое помогло ему создать произведения, овеянные (как это ни странно!) дыханием Рубенса. Среди них его фрески в Верчелли.
Андреа Соларио по своему обучению был столь же венецианцем, сколь миланцем — последователем Леонардо. Его великолепный «Портрет сенатора» (Лондон, Национальная галерея) напоминает портреты Антонелло да Мессина, Альвизе Виварини и Джентиле Беллини. И даже его «Портрет кардинала д'Амбуаз» (Париж, Лувр) скорее венецианский, чем миланский. Но большинство работ Соларио выдают ломбардские влияния. И все же, несмотря на их законченность и почти заглаженно-фарфоровую поверхность, несмотря на красивость и постоянную улыбку, он никогда не бывает так безжизнен и стереотипен, как Луини. И надо признаться, что труднее забыть свое восхищение «Мадонной с зеленой подушкой» (Лувр), работы Луини:, чем начисто отречься от прежних восторгов, вызванных ломбардской школой! Какие мечты о прекрасных женщинах будили в нас эти художники, столь безвкусные теперь! Как они владели нашими помыслами, какие возбуждали надежды! Юность и сейчас смотрит на них такими глазами, а они улыбаются, глядя на меня с небес, и как бы говорят: «Мы создавали эти образы для молодых! При чем здесь вы?» (То, что сказано о Луини, Джанпетрино и Содома, относится также и к обоим кастильским Феррандос, одному по имени Ибаньес, а другому Лланос, которые писали многочисленные алтарные иконостасы Валенсийского собора. Они по меньшей мере такие же миланцы, как Чезаре да Сесто.)
XXIII
Раньше чем повернуться на восток, к Брешии, где, как я уже сказал, были особенно живы традиции искусства Фоппы, мы должны на мгновение взглянуть на запад.
Уже сказано, что влияние этого мастера распространилось от берегов Средиземного моря до альпийских хребтов. Докатившись до Пьемонта и столкнувшись на своем пути с последними волнами франко-фламандских влияний, традиции Фоппы оттеснили их назад, утратив при этом кое-что из своего итальянского характера и приобретя в свою очередь нечто от северян. Для историка все эти скрещивания художественных форм и их значение для живописца тех времен представляют огромный, может быть, всепоглощающий интерес. Но мы должны довольствоваться тем немногим, что можем сказать о Деффенденте Феррари, как о наиболее сложном явлении этого исторического процесса.
Его нельзя рассматривать как серьезного художника, потому что он не обладает ни одним из качеств, существенных для фигурной живописи. Но Деффенденте обезоруживает критику той наивностью, с которой отстраняет от себя все ее претензии и соблазняет нас вообще забыть об их существовании. Он предоставляет нам любоваться вялыми образцами своей живописи с приятными красками, наложенными словно на эмалированную или лакированную поверхность картины, иногда светящуюся, как блеск драгоценностей. В эти сияющие арабески он вплетает очертания набожных, типично фламандских мадонн и порой чеканный профиль донатора, один из тех профилей, которые так хорошо удавались даже самому посредственному ломбардскому мастеру.
Я вспоминаю большой, с тонко выточенным готическим обрамлением, роскошно позолоченный трехстворчатый складень, в центре которого изображена дева Мария в облике нежной фламандской мадонны, несущая младенца в своих ласковых объятиях. Она словно плывет в воздушном пространстве, паря над полумесяцем, сияющим у ее ног. Я признаюсь, что память об этой картине наполняет меня горячим желанием снова повидать ее, во много раз более сильным, чем по отношению к другим знаменитым вещам. Деффенденте, как и Кривелли, живший вне времени и событий, так же как и этот прелестный венецианский мастер, обращал главное внимание на чисто декоративную сторону своих картин, придавая им даже дух современности. Поистине, живопись — понятие, объединяющее в себе многие, независимые друг от друга жанры, и этот маленький пьемонтский мастер упражнялся в одном из них. Его ценность для большого искусства аналогична ценному изделию из меди, а мы предпочитаем хорошее медное изделие плохой мраморной статуе.
XXIV
Настоящими последователями Фоппы, теми, кто довел до логического конца его стремление к серовато-серебристой гамме красок и живописно-пластическому видению, были его собственные соотечественники — брешианцы. Мы не будем задерживаться на Чиверкио и Феррамола, потому что один — очень неясная, а другой слишком незначительная фигура, и поспешим перейти к их ученикам — Романино и Моретто.
Несмотря на многие недостатки последних, приятно от поздних миланцев с их несложным и поверхностным колоритом, простой и пластической светотенью обратиться к брешианским художникам, менее талантливым, но свободно развивавшимся под гениальным воздействием Венеции. Говоря о Фоппе, мы заметили, как много общего у него с Беллини. Мы обнаружили в нем ту же содержательность и склонность смягчать форму окружающей ее атмосферой, не обводя ее острым контуром. Последователи Фоппы, естественно, были готовы принять все достижения Джованни Беллини, усовершенствованные к тому времени его учениками Джорджоне и Тицианом. Следовательно, в известном смысле Моретто, Романино и их товарищи, уроженцы Брешии, которая в силу социальных и политических условий была подчинена Венеции, сами стали почти венецианцами по своему искусству. Они унаследовали от Фоппы его серые, серебристые, темнеющие тона, а затем ту неполноценность рисунка и отсутствие интеллектуальной цели, которые почти всегда сказываются у провинциальных или находящихся под чьим-нибудь влиянием живописцев, в результате чего их производительность отличается крайней неровностью. С другой стороны, художники Брешии не уступали лучшим венецианцам в передаче поэтического и вдохновенного настроения, торжественного и в то же время умиротворенного, достигая это игрой света и тени. Поэтому некоторые их произведения причастны к миру большого искусства.
Романино — старший из них, — умный, но поверхностный при всем своем блеске, наиболее необузданный и провинциальный, испытал такое сильное влияние Джорджоне, что многие его картины, созданные в духе венецианского мастера, до сих пор приписываются Джорджоне или Тициану. Его алтарные образы, как правило, слишком богаты и пламенны по своим тонам, и лучшие качества Романино проявляются только во фресках. В них он уносит нас на парящих и легких крыльях в небеса, пленяет свежим и чистым колоритом, простым, но безупречным рисунком. Как восхитительны солнечные колоннады на фресках Романино в замке Дель Буон Консильо в Тренте, несмотря на следы времени все еще сохраняющие дивную окраску великолепных бабочек, порхающих в прозрачном весеннем воздухе! Какое восхитительное чувство охватывает вас, когда, блуждая среди живых, благоухающих изгородей в окрестностях Бергамо, вы замедляете шаги у небольшой часовни в Виллонго и любуетесь спокойным величием, достоинством и прелестью ее стенных росписей!
Моретто — сотоварища Романино по мастерской — можно было бы назвать самым великим художником Северной Италии, не считая, правда, венецианских, но если мы обратимся к Венеции, то и среди ее мастеров он был более чем способен постоять за себя рядом с такими живописцами, как Парис Бордоне или Бонифацио Веронезе. Он не оставил нам, правда, такой блестящей летописи о жизни, полной наслаждения и радости, почти осуществленной мечте Возрождения, как это сделали Бордоне и Бонифацио в своих картинах «Рыбак и дож» и «Пир богача». Его колорит не так радостен, и в своих худших произведениях Моретто просто слаб, но он превосходный рисовальщик и к тому же еще поэт. Вот почему его лучшие картины так ценятся, ибо его фигуры плотно стоят на ногах, а торсы крепки и реальны. А там, где эти качества проступают менее явно, мы можем простить многие недостатки ради мерцания и поэтичности его красок, пронизанных светом и тенью. Он обладал необычайной выразительностью и подлинным внутренним чувством. Поэтому не удивительно, что, хотя Моретто и не оставил нам таких шедевров, как Бордоне и Бонифацио, он создал замечательные рисунки, более реалистические портреты, чем венецианские и великолепные отдельные головы. Его «Св. Юстина» (Вена) — одно из героических созданий итальянского искусства — выполнена с почти античным величием и прямотой. Его картина в церкви Паломников в Пайтоне «Явление мадонны крестьянскому мальчику» чуть менее выразительна и не так величественна по рисунку. Рядом с ней достойна занять место фреска в Брешии, на которой мы видим древнего отшельника перед небесной царицей, явившейся ему из объятого пламенем куста. Замечательна в иллюстративном отношении его картина «Илья, пробуждаемый ангелом» с удивительно поэтическим пейзажем, на переднем плане которого изображены две большие фигуры, их невольно принимаешь за спящего кентавра Хирона и оседлавшую его богиню Победы. В таком полотне, как «Христос с фарисеями» в церкви Сайта Мария делла Пьетта в Венеции, Моретто предвосхищает трактовку подобных сцен у Паоло Веронезе. Что же касается портретов Моретто, то я упомяну только «Портрет прелата» в Мюнхене, но его не так легко превзойти, настолько проникновенно схвачен и искренне передан в нем характер модели. По рисунку он чрезвычайно прост, а с точки зрения колорита это совершенная гармония в темных, мягких, сумеречных тонах.
Учеником Моретто был Морони — единственный в своем роде портретист, которого когда-либо породила Италия. Даже в более поздние времена или в периоды своего упадка эта страна — родина всех искусств — никогда не имела столь непривлекательного и даже беспомощного сына! Его алтарные картины — лишь жалкие тени работ его учителя или плохие с них копии, включая и удачную «Тайную вечерю». Даже имея перед собой модель, Морони как живописец редко достигал тончайших достоинств своего учителя, и хотя иногда бывает трудно отличить его работы от Моретто, это относится главным образом к менее удачным произведениям последнего. Морони одновременно обладает и более горячим и более холодным колоритом, чем Моретто, но у него полностью отсутствует поэзия света, столь присущая стилю его учителя, и он почти никогда не применяет его холодноватые и мрачные тона. С другой стороны, он стоит не ниже Моретто как рисовальщик, а в его шедевре «Портрет портного» (Лондон, Национальная галерея) форма и движение переданы лучше, чем в самых хороших картинах Моретто.
Лучше судить о Морони как о простом портретисте, хотя даже в этой области он не может быть поставлен рядом с величайшими из них. Названный выше «Портрет прелата» Моретто неожиданно напоминает Веласкеса. В нем чувствуется рисунок и стиль, художник достигает высокого обобщения образа, сочетая достоинство с простотой. А Морони изображает своих натурщиков просто, как в жизни, в характерных для них позах или в тех, которые они принимали. И потому, за исключением «Портрета портного», у него получается не изображение человеческого характера, а, скорее, анекдотический рассказ. Его люди слишком неинтересны сами по себе. Их надо сравнивать не с героями портретов Тициана, Веласкеса или Рембрандта, а с моделями второстепенных голландских художников. И если бы Морони был таким же блестящим живописцем, как они, он нам напомнил бы Франса Гальса.
XXV
Едва ли поздние феррарцы были подвержены венецианским влияниям меньше, чем художники Брешии; способнейший из них, Доссо Досси, которым нам следует заняться до Корреджо, всем, что делает его достойным внимания, обязан Джорджоне и Тициану.
Как фигурный живописец Досси незначителен. Его рисунок мучительно неряшлив, его моделировка напыщенна и пуста. Но богато одаренный от природы поэтическим восприятием света и цвета, он уловил нечто от призрачной магии Джорджоне. Как романтический иллюстратор он почти не имеет соперников. Доссо Досси писал с такой же легкостью, с тем же богатством тонов, с тем же блеском и юмором, как и его друг Ариосто.
В живописи Доссо так же мало внутреннего содержания, как в сходных по духу и характеру поэмах Ариосто. Но у обоих так богат и фантастичен образный строй, что рассуждения здравого смысла здесь просто неуместны. Поэтому мы как зачарованные смотрим на «Цирцей» Доссо, поглощенных своими заклинаниями, и блуждаем в лабиринте его пленительных цветовых оттенков. Его пейзажи будят в памяти утренние часы юности, вызывают почти мистический восторг, его образы насыщены страстью и тайной. На картины Доссо не следует смотреть слишком долго или слишком часто, но, когда вы находитесь перед ними, вас овевает на какой-то волшебный миг воздух сказочных стран.
Источники искусства Корреджо легко проследить только до известных пределов. Чтобы начать с них, надо упомянуть имена его первых учителей — Коста и Франчи — и затмившего их Мантенью. Помимо этого, Корреджо поддерживал личный контакт с Доссо Досси и, может быть, с Карото. Венеция в лице Лотто и Пальмы — также звала его к себе, и, наконец, он знал, возможно, рисунки Рафаэля и Микелэнжело.
Естественно, эти ручейки, отделившиеся от стремительных рек, не могли, просто соединяясь, вылиться в тот чудесный поток, имя которому Корреджо. Подобные же влияния испытывали и другие мастера, однако они не дали подобных результатов. Корреджо был гением и являет редкий пример своей независимости. Микеланджело, быть может, был неизбежен для Флоренции, Рафаэль для Умбрии, Тициан для Венеции, но для мелких княжеств Эмилии с их будничной, повседневной жизнью появление Корреджо было подобно чуду.
Его век имел на Корреджо не больше прав, чем место его рождения, потому что по своему темпераменту он был сыном Франции XVIII века. Корреджо нашел бы в эту полную соблазнов эпоху самое дружеское отношение, и его гениальность была бы полностью признана, ибо он заключал в своем лице и иллюстратора и декоратора,, а на, свете мало было таких живописцев, в искусстве которых так тесно сплетались бы оба эти начала.
В искусстве XVIII века всего сильнее проявляется одна отличающая его черта — необычайно чувствительная реакция на очарование женственности. Древние греки тоже были подвластны этому чувству и выражали его в многочисленных терракотовых статуэтках, до сих пор восхищающих нас. Много веков пролетело, в течение которых прелесть женственности так и не получила своего должного выражения, пока не блеснул луч, охвативший своим сиянием все небо.
Этим лучом был Корреджо. Никто из его старших и молодых современников не сумел выразить всю глубину женственности, даже его ближайший последователь Пармиджанино, у которого она переродилась в элегантность. Джорджоне интуитивно ощущал прелесть женской красоты, Тициан чувствовал ее величие, Рафаэль — ее благородную нежность; Микеланджело влекло пророческое могущество Сибилл и Пифий, Паоло Веронезе — цветущее здоровье и великолепие венецианских женщин. Но никто из них и никто из европейских художников в течение веков не посвящал целиком своего творчества выражению ее прелести.
Исходя из того, что Корреджо необычайно чуток к выражению женственности — что является отличительной чертой его творчества, посмотрим, сможет ли это дать нам ключ к объяснению его успехов и неудач как художника.
Прежде чем приблизиться к этому вопросу, мы должны ознакомиться с достоинствами и недостатками Корреджо, для того чтобы понять, на что он был способен что он выполнял превосходно, что хуже и чего не мог совсем. Если мы сравним достоинства и недостатки его и его современников, в особенности Рафаэля, то увидим, что Корреджо проявляет меньше интереса к вещественной сущности изображаемого предмета, чем любой из них, даже Рафаэль. Оба художника начали с обучения в плохой школе, где проблемы формы не подвергались строгому и интеллектуальному изучению. Но позже Рафаэль испытал сильное влияние флорентийских мастеров, в то время как у Корреджо отсутствовало серьезное художественное образование и он не видел перед собой других примеров, кроме зрелых работ Мантеньи. Но Корреджо был гораздо тоньше и изысканнее в области движения. Его контуры так мягки и плавны, что уподобляются самым чудесным примерам живописи XVIII века. Передача движения в лучших картинах Корреджо никем не превзойдена, как, например, в фигуре «Данаи» с ее рукой, покоящейся на подушке, и Амура, ноги которого словно льнут к ее ложу; или в картине «Леда», где шея лебедя скользит по ее груди; или в будапештской «Мадонне», где рука младенца касается груди матери; или погруженной в глубокий сон «Антиопе» с плавными линиями ее рук.
И все же, несмотря на все свои достоинства, Корреджо редко превосходит Рафаэля в области движения, а его форма, неполноценная сама по себе, менее эффектна, чем могла бы быть. В обоих случаях недостаток не специфически-живописный, а интеллектуальный. Корреджо не хватало сдержанности и мудрой экономии художественных средств. Обладая высоким мастерством в передаче движения, он буйствовал, расточал его, подобно моту, иногда почти превращая его в иллюзионистские фокусы, например в знаменитом «Вознесении мадонны». Он практически разрушал границы фигурной живописи, которая преследовала цель повышения наших жизненных функций, путем быстрого восприятия сущности предмета и его движения.
Но для достижения подобного эффекта фигура должна быть изображена с такой ясностью, чтобы мы могли охватить ее взглядом гораздо легче и скорее, чем в действительности, ощутив при этом повышение в себе жизненной энергии. Однако ни одно из художественных произведений, претендующих на наше внимание, не могло хуже разрешить эту задачу, чем фреска Корреджо на плафоне Пармского собора. Эта беспорядочная масса тел, драпировок и облаков, в которой мы мучительно стараемся разглядеть форму и движение, доставляет нам только беспокойство, как если бы мы увидели подобное зрелище в действительности. А как изображение действия эта фреска вряд ли выше современных танцев, в которых непрерывное кружение тесно сплетенных между собою пар не доставляет никакого удовольствия зрителю, только утомляя его глаза.
Насколько Корреджо при всей своей одаренности излишне расточал изобразительные средства, показывает нам его картина «Ганимед» (Вена, Картинная галерея). Мы с явным восхищением любуемся этим юношей, парящим над вершинами гор, но он лишь повторение фигуры, изображенной в нижней части картины Корреджо — «Вознесении мадонны». Может быть, именно в том и заключается удача «Ганимеда» — шедевра в смысле богатого и поэтического рисунка, — что художник изобразил его изолированно, тогда как фигура мальчика в «Вознесении» дана в сложной композиции. Если можно было бы таким же образом выделить многие его фигуры, они несомненно выиграли от этого и мы смогли бы в большей мере понять и оценить безрассудную и баснословную расточительность Корреджо в области движения.
Эта фатальная легкость, с которой он изображал движение, привела его к явным ошибкам, театральным позам, нервному беспокойству и балаганным жестам фигур, которые лишь унижали поздние алтарные образы этого мастера. При всем этом персонажи картин Корреджо выполняют свою роль независимо от того, соответствует ли она декоративному или иллюстративному смыслу его живописи. Своенравный гений Корреджо мог даже выворачиваться наизнанку, дабы угодить страстям своего господина, примером чего может служить проказник-мальчишка, с гримасой нюхающий сосуд с миррой, стоящий возле Марии Магдалины (Алтарный образ «Мадонна со св. Иеронимом»).
XXVI
Мы склонны продлить наши объяснения потому, что иначе трудно понять, отчего Корреджо питал такое отвращение ко всему неподвижному и статическому, то есть ко всему монументальному. Связанный традициями современного ему искусства, он должен был изображать монументальные архитектурно-декоративные фоны на своих алтарных иконах, и в этом отношении он предвосхитил идеи барокко. Но, будь Корреджо предоставлен самому себе, он, весьма вероятно, сразу же окунулся в стиль рококо, а может быть, кончил и тем, что эмансипировался бы от всякой тектоники, как японские мастера.
Такой художник, разумеется, не смог бы разрабатывать принципы пространственной композиции в сколь-нибудь положительном смысле; имя Корреджо поэтому не следует упоминать рядом с именем Рафаэля. Кроме того, Корреджо добавляет к своей беспокойной экстравагантности, столь несовместимой с пространственной композицией, одну из самых больших ошибок своего времени — перенасыщенность композиции фигурами. Так, в его «Св. Иоанне Евангелисте» — бесспорно вдохновенном творении — вы не увидите ни одной благородной головы.
С другой стороны, Корреджо превосходил Рафаэля в изображении пейзажа, что и понятно, принимая во внимание его мастерство светотени. В ней он, возможно, был величайшим из итальянских мастеров. Леонардо и его школа использовали светотень в целях придания форме большей рельефности; другие, подобно Джорджоне, уловили магические световые возможности и воспроизвели их на полотне. Но Корреджо любил свет ради него самого и был вознагражден за свою любовь, потому что именно искусство передачи света вознесло его выше всех современных ему мастеров, особенно в изображении пейзажа. «Рождение Христа» (Милан, Брера) и «Прощание Христа с богоматерью» (Лондон, Национальная галерея) показывают, что он не хуже других умел выразить таинственную тишину и нежную прохладу раннего утра и поздних вечерних часов.
Никто не мог превзойти Корреджо и в понимании световых контрастов, как мы это видим в его картине «Поклонение младенцу», получившей название «Ночь» (Дрезден, Картинная галерея). Он не знает себе соперников и в передаче яркого дневного света, который дан в большинстве его мифологических картин и в «Мадонне со св. Иеронимом», справедливо названной «День». Это единственная известная мне картина, которая в совершенстве передает широкие дали, целое море света, равномерно рассеянное повсюду и пронизанное тонкими, просвечивающими сквозь дымку лучами, что представляет одно из наиболее величественных откровений природы в ясный итальянский полдень.
Свет и тень, восхитительная прохлада и в то же время солнечная прозрачность оттенков, которыми в совершенстве владеет Корреджо, открывают новые источники красоты в изображении его фигур. Он был не только одним из самых первых (вопрос приоритета не имеет отношения к искусству), но и одним из лучших мастеров, пытавшихся передать нежность человеческой кожи. Люди Мазаччо с их лицами цвета терракоты значительнее людей Корреджо, потому что выразить цветом образ человека гораздо важнее, нежели передать краской тончайшую поверхность кожи, хотя и это имеет значение. Ее жемчужность, ее солнечные и радужные переливы, как, например, в «Антиопе», тоже являются источником живого и изысканного наслаждения. Никто, кроме Корреджо, не смог так утонченно выразить чувственный трепет, пробегающий по обнаженному телу «Данаи», подобный легкому дуновению ветерка над уснувшей водой.
Достоинства колорита Корреджо — в мастерской передаче света. Последний — враг слишком разнообразного и локального колорита, и там, где цвет находится под контролем света, Корреджо пытается растворить его оттенки в монохромной гамме тонов. Отсюда можно сделать вывод, что подлинные мастера света никогда не привлекали нас красотой своих красок, хотя именно по этой причине и были великими колористами. И хотя в области колорита Корреджо можно считать выше Рафаэля, рядом с Тицианом его поставить нельзя, Корреджо ниже его. Поверхность его картин слишком лоснится, слишком глянцевита и масляниста, чтобы вызвать в нас иллюзию колорита как чего-то материального.
Продолжая изучать работы Корреджо и учитывая его одаренность и недостатки, я пытался найти причины его редких успехов и частых неудач. Предположив на время, что последние были связаны с расточительностью в области движения, я все же не мог понять, почему испытываю так мало удовольствия от сравнительно простой и монументальной композиции его алтарных картин и религиозных сюжетов, где для чрезмерной экспрессивности почти не оставалось места. Мне пришло в голову, что подобные сюжеты сковывали его страсть к движению, но, хотя эта мысль и была правильной, она не могла объяснить всех его неудач. Тогда я подумал: быть может, Корреджо познает свои триумфы, обратившись к мифологическим или другим светским сюжетам, там, где художник Возрождения, чувствуя себя раскрепощенным от традиций, враждебных его искусству, мог наслаждаться свободой творчества, подобно древнегреческому скульптору. Но это объяснение также оказалось не совсем верным, хотя и почти удовлетворительным. И, наконец, я пришел к выводу, что вся нервозность Корреджо, его преувеличения и беспокойство исчезают в тех картинах, где главную роль играло обнаженное женское тело и где можно было особенно полно выразить неотразимую силу женственности. И именно в них проявились тончайшие качества его живописи, подобные мелодичным созвучиям, чья гармония столь сладостно вторила человеческому чувству. Я понял тогда, что его религиозные сюжеты не могли нравиться, ибо в них Корреджо не проявлял должного отношения к передаче мужских фигур. Что касается женских образов, то их очарование в сочетании с религиозным пафосом в итоге создавали неискренность, а последняя предвосхищала то, что мы называем в искусстве фальшью или иезуитством.
Я понял тогда, почему так притягивают к себе «Даная», «Леда», «Антиопа», «Юпитер и Ио», и мне стало ясно, что они совершенны именно потому, что гений Корреджо творил их вдохновенно и свободно, без помех и препятствий, ибо все его возможности были раскрыты до конца, выполняя свое высшее назначение.
Эти картины — подлинные гимны женской прелести и красоте, подобных которым не было известно ни до, ни после Корреджо во всем европейском искусстве. Потому что XVIII век при всем его стремлении выразить подлинную женственность, не был в состоянии породить столь же гениальную натуру или сковывал ее творческие порывы слишком тривиальными женскими образами. Корреджо посчастливилось, потому что в его время форма, которая является азбукой искусства, все еще вызывала к жизни великие творения.
И все же если мы не можем поставить Корреджо рядом с Рафаэлем и Микеланджело, Джорджоне и Тицианом, то это не потому, что в том или ином случае он ниже их по каким-либо специфически живописным данным, нет, его ущербность в том, что величайшие в мире ценности, которые являются своего рода пробой на вечность, были ему до конца недоступны. Корреджо слишком чувствен и потому ограничен: величайшие человеческие ценности проистекают из совершенной гармонии чувства и интеллекта, той гармонии, которая с благородных времен Древней Греции не звучала во всей своей полноте даже у Джорджоне или Рафаэля.
XXVII
Моя повесть закончена. Она была слишком краткой, чтобы нуждаться в подведении итогов, и я прибавлю только еще одно слово о Пармиджанино — последнем из действительно ренессансных художников Северной Италии. Он обладал такой непреодолимой склонностью к элегантности, что его не удовлетворял и Корреджо. Но эту элегантность Пармиджанино выражал с такой искренностью и пылом, что создал свой подлинный, хотя и ограниченный стиль утонченной грации и хрупкой изысканности, который может мимолетно понравиться. Других живописцев этого периода в Северной Италии, заслуживающих упоминания, не осталось, разве что Джулио Кампи — изящного и элегантного эклектика, который, если говорить о его лучших вещах, оставил нам одну из самых сложных декоративных схем в искусстве Ренессанса, в церкви около Сончино, и исключительные мифологические фрески в заброшенном теперь летнем дворце в Саббионета.
Упадок искусства
В мое намерение входило набросать очерк по теории искусства, в частности искусства фигурного изображения и специально фигурной живописи. Я выбрал примеры из итальянского Возрождения не только потому, что я близко знаком с искусством Италии, но также и потому, что Италия — единственная страна, где искусство фигурного изображения прошло через все стадии своего развития: от подсознательного до утонченного, от почти варварского до высоко интеллектуального и обратно к варварскому, только прикрытому потускневшей, превращенной в лохмотья одеждой минувшего великого века.
Я уже говорил, из чего складываются зрительные и законченные образы фигурной живописи. Чтобы проверить теорию, мы должны посмотреть — объясняет ли она что-либо, в противном случае она не имеет права на существование.
Было бы не лишним еще раз изложить ее. Вкратце она сводится к следующему: все виды искусства покоятся на идеальных или воображаемых представлениях, не существенно, каким путем выраженных, но выраженных так, чтобы непосредственно повышать нашу жизнеспособность. Вопрос, следовательно, в том, что именно в данном искусстве способствует повышению нашей жизнеспособности? Ответы будут столь же отличны друг от друга, как отличается сущность одного вида искусства от другого, как различны средства их выражения и воображаемые представления, составляющие содержание искусства.
По отношению к фигурной живописи — наиболее типичной представительнице всей живописи в целом — я попытался выставить то положение, что главными, если не единственными источниками повышения нашей жизнеспособности являются: осязательная ценность, движение и пространственная композиция, под которыми я подразумеваю наши воображаемые представления о связи, строении, весомости, тяжести, энергии и единении с окружающим миром. Дайте одному из этих источников иссякнуть — и уровень искусства понизится. Дайте иссякнуть нескольким из них — и искусство в лучшем случае превратится в арабеску. Если же они иссякнут все — искусство погибнет.
Есть, правда, еще один источник, который, хотя и не так жизненно важен для искусства фигурного изображения, все же заслуживает большего внимания, чем я уделил ему. Я имею в виду колорит. Книга о венецианских живописцах, где обсуждается этот вопрос, написана много лет тому назад, раньше даже, чем я пришел к моей теперешней, ощупью найденной концепции о смысле и ценности художественных явлений. Когда-нибудь я, может быть, смогу исправить этот недостаток, но здесь не место, да и не тот это случай. Но так как краска играет менее существенную роль во всем, что отличает произведение живописи от персидского ковра, то и роль ее в судьбах искусства менее значительна.
Чтобы избежать повторения стереотипных фраз, я часто заменял неопределенный объективный термин «форма» субъективным понятием «осязательная ценность». Эти же слова имеют отношение к самым постоянным источникам повышения нашей жизнеспособности, как: к объему, массе, внутреннему содержанию и ткани построения. Различные способы выражения энергии, одинаково эффективно передающие как состояние покоя, так и действия, заключены в один объединяющий их термин — «движение».
Ясно, что если высочайшее достижение живописи заключается в совершенной передаче формы, движения и пространства, то живопись не может прийти в упадок, пока она придерживается этого доброго, никогда не устаревающего правила. Но мы созданы так, что не можем долго стоять на одном месте. Достигнув горной вершины, мы останавливаемся только для того, чтобы перевести дух, и, почти не глядя на земные царства, расстилающиеся под нашими ногами, бросаемся, очертя голову, вперед, редко зная куда, пока не оказываемся, весьма возможно, в болоте. Мы больше интересуемся нашей функциональной деятельностью, чем ее результатами, следовательно, более склонны к действиям, чем к созерцанию, а активная деятельность, особенно в среде наиболее одаренных представителей нашей расы, ведет к тому, что они не останавливаются на достигнутом, а в безумии устремляются за новизной. Кроме того, мы больше заботимся о самоутверждении, чем о совершенстве. В глубине души мы инстинктивно отдаем предпочтение правде и новизне, как мы ее понимаем, но не доброте и красоте. Так мы непрерывно изменяемся. И циклы нашего искусства весьма кратковременны, они продолжаются не более трех столетий, а гений нашего времени стремится к разрушению в той же мере, как к созиданию.
Ряд житейских предрассудков вводят нас в заблуждение относительно истинной природы человеческого гения, определяя его только как благородную и высокую духовную силу. Исходя из этой предпосылки, мы, естественно, ошибаемся, пытаясь искать гений в периоды упадка искусства, и бессмысленно удивляемся, когда от столетия к столетию его не удается обнаружить. Но так как существует значительная разница между человеческими культурами разных поколений, то незачем высокомерно утверждать, что эти различия исключают возможность появления гениальной натуры, если, разумеется, не наступит активное вырождение, как произошло в IV — V веках нашей эры у средиземноморских племен.
Даже в самые унизительные периоды истории, когда древний мир, подобно сморщенной старухе, становился все более и более дряхлым, сохраняя силы лишь, на то, чтобы удержать душу в своем бренном теле, гений не угасал окончательно хотя и принужден был раболепствовать перед силой военщины, правительствами, рекламой и ханжеством.
Но Италия после смерти Рафаэля и Микеланджело, Корреджо, Тициана и Веронезе не была в состоянии упадка. Нация оставалась не только сильной, но и достаточно экспансивной для того, чтобы по-настоящему осуществлять через посредство бесчисленных и самозванных эмиссаров свое огромное влияние на европейскую культуру. Она проявила гениальность и в других областях искусства, например в музыке, и было бы странным, если бы в это время Италия не произвела никого, кто бы имел склонность к фигурной живописи.
Если мы определим понятие гениальности как активную способность к сопротивлению против принудительной художественной тренировки, то мы сможем приложить это определение к ряду профессий, развивавшихся и менее блестяще. Мы говорили, что гений может не только созидать, но и разрушать, мы сумели объяснить его самоутверждение и понять инстинктивную симпатию, какую он вызывал к себе даже в тех случаях, когда он оказывался наиболее губительным в своих действиях.
Представьте себе, что за Микеланджело, Рафаэлем и Корреджо последовали бы художники, которые так же успешно противодействовали им, как противодействовали эти трое своим учителям — Гирландайо, Тимотео дель Вите и Лоренцо Коста. Если вы вспомните, что к этому времени возникает своеобразный стиль маньеризма, что Микеланджело жил настолько долго, что его поздние произведения с трудом можно отличить от произведений его ученика Марчелло Венусти, что только преждевременная смерть спасла Рафаэля от того, чтобы опуститься и стать лишь менее грубым, чем его ученик Джулио Романе, то нетрудно вообразить себе, что неистовый флорентийский гений мог вдребезги разбить своим молотком уже отлитые в качестве неприкосновенных образцов формы и закончить свои деяния тем, что сблизиться с Курбе и Мане теснее, чем с их далеким предшественником Караваджо. Какой-нибудь другой гений, обладающий умбрийской мягкостью и чувством пространства, мог бы превратиться в нечто более восхитительное, чем Доменикино, а владеющий даром Корреджо выражать очарование женственности мог объединить в себе лучшие черты творчества Фрагонара, Наттье и Буше. Каждый стал бы заметной и с исторической точки зрения интересной фигурой, но никто из них, несмотря на бесспорную гениальность, не смог бы занять трона в самых священных покоях Искусства.
Таким образом, то незначительное противодействие по отношению к наследию мастеров классического искусства, которое проявилось со стороны наиболее выдающихся представителей маньеризма, эклектизма и реализма с его контрастной светотенью, было скорее всего вызвано не отсутствием у них энергии, а тем, что она направилась не по тому руслу, рассеялась по разным направлениям и была неправильно растрачена. Возможно, такие талантливые мастера, как Караччи, Гвидо Рени, Доменикино и Караваджо, смогли бы подняться до уровня Синьорелли, Перуджино, Пинтуриккио и Учелло, если бы искусство фигурного изображения находилось на должной высоте в XVII веке.
Но упадок в их дни был неизбежен. Искусство формы подобно дрезине, которая обеспечивает движение по рельсам, но не дает возможности двигаться в каком-либо другом направлении. В период архаического искусства, как я уже говорил, ни один талантливый художник не может сбиться с пути, потому что оно преследует одну цель — выразить форму и движение. Художник может осуществить их не полностью или в неправильной комбинации друг с другом, может сочетать их идеально и стать классиком. Он может, наконец, преувеличить одну из этих сторон, превратив ее в карикатуру, как это склонны были делать наименее одаренные из архаических мастеров. Но выраженные ими форма и движение или их сочетание, органически присущие архаическому стилю, должны во всех случаях способствовать повышению нашей жизнеспособности.
В результате этого интереса к форме и движению художник XVII века вырабатывает различные типы и приемы работы, и все это находит свое выражение в его рисунке; последний, становясь все более совершенным, заставляет нас забывать о том, как он создавался, и наше восхищенное внимание целиком сосредоточивается на достигнутом результате. Таким образом, канонизируется то, что не было первоосновой искусства, то есть типы, очертания, художественные приемы и расположение фигур, и упускается из виду то, что они лишь следствие изучения разработанных ранее проблем формы и движения.
Талант отныне преследует новую цель, и его развитие подгоняется не только инстинктивной страстью к самоутверждению, не важно какому, и к перемене, не важно зачем, но и к широкой популярности. Потому что большинство из нас обладает чувственно-эмоциональным восприятием, а архаика со своей сухостью ничего не дает этому большинству. В искусстве, достигшем своей вершины и ставшем классическим, как я уже говорил, когда определял, что такое красивость, всплывают на поверхность некоторые другие элементы, которые, помимо обращения к чувствам толпы, прославляют ее и обещают одно из излюбленных удовольствий — чувствительные переживания при минимальной затрате разума.
Но классическое искусство, для которого эти моменты являются побочными, потому что оно мало затрагивает сферу эмоциональных переживаний, слишком сдержанно по выражению и слишком строго в своей красоте, чтобы удовлетворять вкусы широких масс. Последние поэтому встречают аплодисментами всякую попытку самоуверенного молодого художника, руководимого лишь своим инстинктом видоизменить этот стиль, но любые вариации на тему классического искусства ведут к схематизации и утрате его благородной ясности. Если конечная цель классического искусства понимается неправильно, то может статься, что какому-нибудь умному юноше придет в голову изобразить лицо посредством лишь одного овала, лишив его при этом обычной моделировки, выразив, таким образом, его привлекательность как бы в отвлеченно-чистом виде. Следовательно, он удовлетворится красотой овала, и, чтобы сделать лицо более интересным, художник новой школы не будет углублять и усиливать его выразительность. Но и на этом он не остановится, а будет поступать подобным же образом с передачей действия, пренебрегая его единственным источником — движением — и изображая фигуры лишь в виде силуэтов, до тех пор пока они не превратятся в условные знаки пиктографического письма.
Зайдя так далеко, этот живописец, рожденный уже на следующей остановке, попытается каким-то образом сплести эти условные линии в рисунок, основанный, однако, не на форме и движении, а на выявлении лишь наиболее красноречивого и привлекательного. И на этот раз, не сознавая, куда влечет его за собой эта слепая сила, хотя она и сопровождается аплодисментами толпы, художник выкинет за борт и форму и движение. Иными словами, он выбросит искусство за дверь, но, в противоположность природе, оно не влетит к нему обратно через окно.
Для искусства, как и для всех духовных материй, десять лет жизни — редко достигаемый предел. Новое поколение неуклонно следует по пятам за старым. Его стремления к переменам, его самоутверждение далеки от предыдущих и, естественно, противоположны тем, какие были до него, и новые художники, холодно взирая на достижения своих ближайших предшественников, испытывают смутное чувство крайнего неудовлетворения. Они сами еще не понимают, что именно им не нравится, потому что учителя, в противоположность учителям архаических школ, не обращали их внимания на форму и движение. Вместо того чтобы помогать ученикам, они вводят их в заблуждение, желая одновременно и избежать трудностей и получить удовольствие от элементарно исполненного изображения, и ученики испытывают необходимость вернуться обратно к классикам. Но, с одной стороны, они редко обладают достаточной энергией, чтобы вырваться из-под власти авторитетов, с другой — они потеряли ключ, забыли грамматику и не знают, чему именно им следует учиться у классиков. Один думает, что колориту или светотени, другой — форме, третий — приемам, а кто-то считает, что надо заимствовать у них композицию и симметричное расположение предметов. Наконец, один, наиболее способный, возвысится над всеми и убедит себя и других, что лишь сочетание всех элементов будет способствовать возрождению великого искусства.
Маньеристы Тибальди, Цуккаро и Фонтана быстро уступают свое место эклектикам — братьям Караччи, Гвидо Рени и Доменикино. Хотя среди них насчитывается много бесспорно талантливых художников, мало кто из них смог бы достичь величия, и даже если их рассматривать вместе как школу, первые будут так же мало значить, как последние, ибо все они не понимали того, что искусство сможет возродиться вновь только вместе с возрождением формы и движения, а без них оно не более чем шаблон. Никакие переделки не вдохнут в него жизни. Оно сможет ожить только тогда, когда художники поймут, что выработанные ранее типы, формы и приемы так же не годятся для дальнейшего их использования, как стреляные патроны, и что единственная надежда на воскрешение искусства состоит в том, чтобы не избегать трудностей и не гнаться за готовой и уже поработившей их манерой зрительного восприятия и механического исполнения. Тогда художники вновь смогут выразить осязательную ценность и движение, изучая и рассматривая окружающий мир в его телесном и материальном значении, а не в заготовленном уже аспекте, то, к чему пришли такие реалисты, как Караваджо.
В Италии, однако, время для этого еще не наступило, и, хотя она в течение трех с лишним столетий произвела тысячи умных и даже превосходных живописцев, подлинно великого художника в эти века она создать не смогла.
Список иллюстраций
Стрелкой указана ссылка на черно-белую иллюстрацию из книги Б. Бернсона.
Стрелкой указана ссылка на цветную иллюстрацию, взятую с сайта
В том случае, когда цветная иллюстрация не соответствует черно-белой, указаны обе ссылки.
Книга I. ВЕНЕЦИАНСКИЕ ЖИВОПИСЦЫ
1. Джованни Беллини. Мадонна с греческой надписью. 1470-е гг. Милан, галерея Брера.
2. Джентиле Беллини. Процессия святого креста на площади Сан Марко. 1496 г. Венеция. Академия.
3. Джентиле Беллини. Чудо святого креста. 1500 г. Фрагмент. Венеция, Академия.
4. Джентиле Беллини. Портрет Магомета П. 1479 — 1480 гг. Лондон, Национальная галерея.
5. Джованни Беллини. Мертвый Христос и ангелы. После 1475 г. Берлин.
6. Джованни Беллини. Моление о чаше. Ок. 1460 г. Фрагмент. Лондон, Национальная галерея.
7. Джованни Беллини. Моление о чаше. Ок. 1460 г. Фрагмент. Лондон, Национальная галерея.
8. Джованни Беллини. Оплакивание Христа. 1480-е гг. Фрагмент. Милан, галерея Брера.
9. Джованни Беллини. Озерная мадонна. Ок. 1490 г. Фрагмент. Флоренция. Уффици.
10. Джованни Беллини. Озерная мадонна. Ок. 1490 г. Фрагмент. Флоренция, Уффици.
11. Джованни Беллини. Преображение. 1480-е гг. Неаполь. Национальные музеи Каподимонте.
12. Джованни Беллини. Пиршество богов. 1514 г. Фрагмент. Вашингтон, Национальная галерея.
13. Витторе Карпаччо. Жизнь св. Урсулы. 1490-е гг. Фрагмент. Венеция, Академия.
14. Витторе Карпаччо. Св. Иероним в келье. 1490 — 1495 гг. Фрагмент. Венеция, церковь Сан Джорджа дельи Скьявони.
15. Витторе Карпаччо. Жизнь св. Урсулы. 1490-е гг. Фрагмент. Венеция, Академия.
16. Витторе Карпаччо. Жизнь св. Урсулы. 1490-е гг. Фрагмент. Венеция, Академия.
17. Витторе Карпаччо. Жизнь св. Урсулы. 1490-е гг. Фрагмент. Венеция, Академия.
18. Карло Кривелли. Благовещение. 1486 г. Фрагмент. Лондон, Национальная галерея.
19. Винченцо Катена. Мадонна со святыми. После 1510 г. Лондон, Национальная галерея.
20. Чима да Конельяно. Введение во храм. 1500 г. Дрезден, Галерея.
21. Джорджоне. Гроза. Ок. 1505 г. Венеция, Академия.
22. Джорджоне. Сельский концерт. Ок. 1508 — 1510 гг. Париж, Лувр.
23. Джорджоне. Спящая Венера. 1508 г. Дрезден, Галерея.
24. Пальма Веккьо. Иаков и Рахиль. Ок. 1520 г. Дрезден, Галерея.
25. Тициан. Вознесение Марии (Ассунта). 1518 г. Венеция, церковь Санта Мария Глориоза деи Фрари.
26. Тициан. Мадонна Пезаро. 1519 — 1526 гг. Венеция, церковь Санта Мария Глориоза деи Фрари.
27. Тициан. Мадонна Пезаро. 1519 — 1526 гг. Фрагмент. Венеция, церковь Санта Мария Глориоза деи Фрари.
28. Тициан. Вакх и Ариадна. 1523 г. Фрагмент. Лондон, Национальная галерея.
29. Тициан. Портрет Ипполито Риминальди. Конец 1540-х гг. Флоренция, галерея Патти.
30. Тициан. Портрет Карла V в сражении при Мюльберге. 1548 г. Мадрид, Прадо.
31. Тициан. Портрет папы Павла III с Алессандро и Оттавио Фарнезе. 1545 — 1546 гг. Неаполь, Национальные музеи Каподимонте.
32. Тициан. Автопортрет. 1560-е гг. Мадрид, Прадо.
33. Тициан. Пастух и нимфа. Ок. 1570 г. Вена, Художественно-исторический музей.
34. Тициан. Кающаяся Мария Магдалина. 1565 г. Ленинград, Эрмитаж.
35. Тициан. Коронование терновым венцом. Ок. 1570 г. Фрагмент. Мюнхен, Старая пинакотека.
36. Тициан. Оплакивание Христа. Ок. 1576 г. Венеция, Академия.
37. Лоренцо Лотто. Мужской портрет. Ок. 1535 — 1540 гг. Рим, галерея Дориа.
38. Лоренцо Лотто. Благовещение. Конец 1520-х гг. Реканати, церковь Санта Мария сопра Мерканати.
39. Лоренцо Лотто. Аллегория. Вашингтон, Национальная галерея.
40. Лоренцо Лотто. Портрет Джованни Джулиани. Ок. 1519 — 1520 гг. Лондон, Национальная галерея.
41. Тинторетто. Чудо св. Марка. 1548 г. Венеция, Академия.
42. Тинторетто. Введение во храм. Ок. 1555 г. Фрагмент. Церковь Санта Мария дель Орто.
43. Тинторетто. Портрет Якопо Соранцо. 1551 г. Венеция, Академия.
44. Тинторетто. Нахождение тела св. Марка. 1562 — 1565 гг. Венеция, Академия.
45. Тинторетто. Спасение Арсинои. 1560-е гг. Дрезден, Галерея.
46. Савольдо. Поклонение пастухов. 1520-е гг. Турин, Пинакотека.
47. Веронезе. Брак в Кане. 1563 г. Париж, Лувр.
48. Веронезе. Брак в Кане. 1563 г. Фрагмент. Париж, Лувр.
49. Веронезе. Мадонна семейства Куччина. Ок. 1570 г. Дрезден, Галерея.
50. Веронезе Брак в Кане. 1571 г. Дрезден, Галерея.
51. Веронезе. Оплакивание Христа, Между 1576 — 1582 гг. Ленинград, Эрмитаж.
52. Себастьяно дель Пьомбо. Оплакивание Христа. 1517 г. Витербо, Музей Чивико.
53. Пьетро Лонги. Урок танцев. Ок. 1741 г. Венеция, Академия.
54. Франческо Гварди. Венецианский дворик. 1770-е гг. Москва, Музей изобразительных искусств им. Пушкина.
55. Белотто. Мост Риальто в Венеции. Ок. 1475 г. Рим, Палаццо Корсика.
56. Каналетто. Дом каменотеса. Ок. 1725 г. Лондон, Национальная галерея.
57. Каналетто. Вид палаццо дожей. 1720-е гг. Венеция, Академия.
58. Джованни Батиста Тьеполо. Портрет Антонио Риккобоно. Ок. 1745 г. Фрагмент. Ровиго, Академия Конкорда.
59. Джованни Батиста Тьеполо. Встреча Антония и Клеопатры. После 1745г. Фрагмент. Венеция, Палаццо Лабиа.
60. Джованни Батиста Тьеполо. Роспись плафона епископского дворца в Вюрцбурге. 1751 — 1753 гг. Вюрцбург.
61. Джованни Батиста Тьеполо и Джованни Доменико Тьеполо. Менуэт. 1757 г. Париж, Лувр.
Книга II. ФЛОРЕНТИЙСКИЕ ЖИВОПИСЦЫ
62. Чимабуэ. Мадонна с младенцем. Фрагмент. Флоренция, Уффици.
63. Чимабуэ. Мадонна с младенцем. Флоренция, Уффици.
64. Джотто. Мадонна со святыми и ангелами. Ок. 1310 г. Флоренция, Уффици.
65. Джотто. Встреча Иоакима и Анны. Ок. 1305 г. Фрагмент. Падуя, Капелла дель Арена.
66. Джотто. Оплакивание Христа. Ок. 1305 г. Фрагмент. Падуя, Капелла дель Арена.
67. Джотто. Возвращение Иоакима к пастухам. Ок. 1305 г. Падуя, Капелла дель Арена.
68. Джотто. Поцелуй Иуды. Ок. 1305 г. Фрагмент. Падуя, Капелла дель Арена.
69. Джотто. Смерть св. Франциска. 1310-е гг. Флоренция, церковь Санта Кроне.
70. Андреа Орканья. Христос на троне. «Алтарь Строцци». Флоренция, церковь Санта Мария Новелла.
71. Андреа Орканья. Христос на троне. «Алтарь Строцци». Фрагмент. Флоренция, церковь Санта Мария Новелла.
72. Фра Беато Анжелико. Св. Доминик. Фрагмент фрески Осмеяние Христа. 1438 — 1445 гг. Флоренция, монастырь Сан Марко.
73. Фра Беато Анжелико. Преображение. 1438 — 1445 гг. Флоренция, монастырь Сан Марко.
74. Фра Беато Анжелико. Благовещение. 1438 — 1445 гг. Флоренция, Монастырь Сан Марко.
75. Фра Беато Анжелико. Явление Христа Марии Магдалине. 1438 — 1445 гг. Флоренция, монастырь Сан Марко.
76. Фра Беато Анжелико. Коронование Марии. 1438 — 1445 гг Флоренция, монастырь Сан Марко.
77. Мазолино. Жизнь св. Петра. Фрагмент. Флоренция, Капелла Бранкаччи в церкви Санта Мария дель Кармине.
78. Мазаччо. Чудо со статиром. 1426 — 1428 гг. Флоренция, Капелла Бранкаччи в церкви Санта Мария дель Кармине.
79. Мазаччо. Чудо со статиром. 1426 — 1428 гг. Фрагмент. Флоренция, Капелла Бранкаччи в церкви Санта Мария дель Кармине.
80. Мазаччо. Чудо со статиром. 1426 — 1428 гг. Фрагмент. Флоренция, Капелла Бранкаччи в церкви Санта Мария дель Кармине.
81. Мазаччо. Чудо со статиром. 1426 — 1428 гг. Фрагмент. Флоренция, Капелла Бранкаччи в церкви Санта Мария дель Кармине.
82. Мазаччо. Изгнание из рая. 1426 — 1428 гг. Флоренция, Капелла Бранкаччи в церкви Санта Мария дель Кармине.
83. Паоло Учелло. Ночная охота. Фрагмент. Оксфорд, Эшмолен-музей.
84. Паоло Учелло. Битва при Сан Романо. 1475 г. Фрагмент, Лондон, Национальная галерея.
85. Андреа дель Кастаньо. Тайная вечеря. 1445 — 1450 гг. Фрагмент. Флоренция, церковь Санта Аполлония.
86. Андреа дель Кастаньо. Сивилла Кумская. Ок. 1450 г. Флоренция, церковь Санта Аполлония.
87. Андреа дель Кастаньо. Давид. Ок. 1450 г. Вашингтон, Национальная галерея.
88. Доменико Венециан о. Иоанн Креститель в пустыне. 1444 г. Вашингтон, Национальная галерея.
89. Доменико Венециан о. Мадонна со святыми. 1445 г. Фрагмент. Флоренция, Уффици.
90. Доменико Венециан о. Мадонна со святыми. 1445 г. Флоренция. Уффици.
91. Филиппе Липпи. Мадонна с младенцем. 1452 г. Флоренция, галерея Питти.
92. Филиппе Липпи. Пир Ирода. 1452 — 1464 гг. Фрагмент. Прато, собор.
93. Антонио Поллайоло. Св. Себастьян. 1475 г. Фрагмент. Лондон, Национальная галерея.
94. Антонио Поллайоло. Св. Себастьян. 1475 г. Лондон, Национальная галерея.
95. Антонио Поллайоло. Св. Себастьян. 1475 г. Фрагмент. Лондон, Национальная галерея.
96. Антонио Поллайоло. Геркулес, убивающий гидру. 1460 г. Флоренция, Уффици.
97. Антонио Поллаиоло. Похищение Деяниры. 1460 г. США, Нью-Хавен.
98. Алессо Бальдовинетти. Мадонна с младенцем. 1460-е гг. Париж, Лувр.
99. Антонио Поллайоло. Женский портрет. Милан, музей Польди-Пеццоли.
100. Беноццо Гоццоли. Шествие волхвов. 1459 г. Фрагмент. Флоренция, Палаццо Медичи-Рикарди.
101. Беноццо Гоццоли. Шествие волхвов. 1459 г. Фрагмент. Флоренция, Палаццо Медичи-Рикарди.
102. Гирландайо. Рождество Марии. 1486 — 1490 гг. Флоренция, церковь Санта Мария Новелла.
103. Гирландайо. Тайная вечеря. 1480 г. Флоренция, церковь Оньисанти.
104. Вероккьо. Крещение Христа. 1470 — 1475 гг. Флоренция, Уффици.
105. Леонардо да Винчи. Ангел. 1470 — 1475 гг. Фрагмент картины Вероккьо «Крещение Христа». Флоренция, Уффици.
106. Леонардо да Винчи. Благовещение. Ок. 1474 г. Флоренция, Уффици.
107. Леонардо да Винчи. Тайная вечеря. 1495 — 1497 гг. Милан, трапезная монастыря Санта Мария делле Грацие.
108. Леонардо да Винчи. Тайная вечеря. 1495 — 1497 гг. Фрагмент. Милан, трапезная монастыря Санта Мария делле Грацие.
109. Леонардо да Винчи. Тайная вечеря. 1495 — 1497 гг. Фрагмент. Милан, трапезная монастыря Санта Мария делле Грацие.
110. Леонардо да Винчи. Портрет дамы с горностаем. Ок. 1483 г. Краков, Музей.
111. Леонардо да Винчи. Св. Анна с Марией, младенцем Христом и Иоанном Крестителем. Ок. 1500 г. Картон. Лондон, Национальная галерея.
112. Боттичелли. Поклонение волхвов. 1475 — 1477 гг. Фрагмент. Флоренция, Уффици.
113. Боттичелли. Св. Себастьян. 1473 — 1474 гг. Фрагмент. Берлин.
114. Боттичелли. Венера и Марс. Ок. 1485 г. Фрагмент. Лондон, Национальная галерея.
115. Боттичелли. Весна. Ок. 1478 г. Фрагмент. Флоренция, Уффици.
116. Боттичелли. Поклонение волхвов. 1481 — 1482 гг. Вашингтон, Национальная галерея.
117. Боттичелли. Рождение Венеры. Ок. 1485 г. Флоренция, Уффици.
118. Боттичелли. Женский портрет. Ок. 1490 г. Флоренция, галерея Питти.
119. Боттичелли. Чудо св. Зиновия. Ок. 1495 г. Фрагмент. Дрезден, Галерея.
120. Фра Бартоломео. Положение во гроб. 1516 г. Флоренция, галерея Питти.
121. Филиппино Липпи. Видение св. Бернарда. 1480-е гг. Фрагмент. Флоренция, Бадия.
122. Филиппино Липпи. Видение св. Бернарда. 1480-е гг. Флоренция, Бадия.
123. Филиппино Липпи. Воскрешение сына императора. Фрагмент. Флоренция, Капелла Бранкаччи в церкви Санта Мария дель Кармине.
124. Андреа дель Сарто. Мадонна с гарпиями. 1517 г. Флоренция, Уффици.
125. Андреа дель Сарто. Портрет скульптора. Ок. 1518 г. Лондон, Национальная галерея.
126. Андреа дель Сарто. Мадонна с мешком. Ок. 1415 г. Флоренция, церковь Санта Аннунциата.
127. Понтормо. Вертумн и Помона. 1520 — 1521 гг. Фрагмент. Поджо-а-Кайяно, Вилла Медичи.
128. Понтормо. Встреча Марии и Елизаветы. 1514 — 1515гг. Флоренция, церковь Санта Аннунциата.
129. Понтормо. Портрет юноши. 1525 — 1526 гг. Лукка, Музей.
130. Бронзино. Портрет Уголино Мартелли. 1537 — 1538 гг. Берлин.
131. Бронзино. Портрет Элеоноры Толедской с сыном. 1540-е гг. Флоренция, Уффици.
132. Микеланджело. Мадонна Дони. 1504 — 1505 гг. Фрагмент. Флоренция, Уффици.
133. Микеланджело. «Раб». 1508 — 1512 гг. Ватикан, Сикстинская капелла.
134. Микеланджело. Пророк Иеремия. 1508 — 1512 гг. Ватикан, Сикстинская капелла.
135. Микеланджело. Сивилла Дельфийская. 1508 — 1512 гг. Ватикан, Сикстинская капелла.
136. Микеланджело. Отделение неба от земли. 1508 — 1512гг. Фрагмент. Ватикан, Сикстинская капелла.
137. Микеланджело. Страшный суд, 1535 — 1541 гг. Фрагмент. Ватикан, Сикстинская капелла.
138. Микеланджело. Страшный суд. 1535 — 1541 гг. Фрагмент. Ватикан, Сикстинская капелла.
139. Микеланджело. Распятие Петра. 1542 — 1550 гг. Фрагмент. Ватикан, Капелла Паолана.
Книга III. ЖИВОПИСЦЫ СРЕДНЕЙ ИТАЛИИ
140. Дуччо. Мадонна Ручеллаи. Флоренция, Уффици.
141. Дуччо. Голова ангела. 1308 — 1311 гг. Фрагмент алтарного образа «Маэста». Сиена, Музей собора.
142. Дуччо. Призвание апостолов Петра и Андрея. 1308 — 1311 гг. Клеймо алтарного образа, «Маэста». Сиена, Музей собора.
143. Дуччо. Жены-мироносицы у гроба господня. 1308 — 1311 гг. Клеймо алтарного образа «Маэста». Сиена, Музей собора.
144. Дуччо. Распятие. 1308 — 1311 гг. Фрагмент клейма алтарного образа «Маэста». Сиена, Музей собора.
145. Симоне Мартини. Благовещение. 1333 г. Флоренция, Уффици.
146. Симоне Мартини. Портрет Гвидориччио да Фольяно. 1328 г. Фрагмент. Сиена, Палаццо Публика.
147. Симоне Мартини. Смерть св. Мартина. 1315 — 1317 гг. Фрагмент. Ассизи, Нижняя церковь Сан Франческа, капелла св. Мартина.
148. Симоне Мартини. Посвящение св. Мартина в рыцари. 1315 — 1317 гг. Фрагмент. Ассизи, Нижняя церковь Сан Франческа, капелла св. Мартина.
149. Пьетро Лоренцетти. Сцена из жизни монахов-кармелитов. 1329 г. Фрагмент пределлы. Сиена, Пинакотека.
150. Пьетро Лоренцетти. Рождество богородицы. 1342 г. Фрагмент. Сиена, Музей собора.
151. Пьетро Лоренцетти. Мадонна со св. Франциском и Иоанном Богословом. 1330-е гг. Ассизи, Нижняя церковь Сан Франческа.
152. Амброджо Лоренцетти. Доброе правление. 1337 — 1339 гг. Фрагмент. Сиена, Палаццо Публика.
153. Амброджо Лоренцетти. Мир. Фрагмент фрески «Доброе правление». 1337 — 1339 гг. Сиена, Палаццо Публика.
154. Амброджо Лоренцетти. Доброе правление. 1337 — 1339 гг. Фрагмент. Сиена, Палаццо Публика.
155. Сассетта. Обручение св. Франциска с бедностью. Шантильи, Музей Конде.
156. Сассетта. Шествие волхвов. Нью-Йорк, Метрополитен-музей.
157. Пьеро делла Франческа. Воскрешение Христа. Ок. 1450 г. Фрагмент. Борго Сан Сеполькро, ратуша.
158. Пьеро делла Франческа. Ангелы. Фрагмент фрески «Крещение Христа». 1445г. Лондон, Национальная галерея.
159. Пьеро делла Франческа. Сиджизмондо Малатеста. Римини.
160. Пьеро Делла Франческа. Бичевание Христа. 1445 — 1460 гг. Урбино, Музей.
161. Пьеро делла Франческа. Прибытие царицы Савской к царю Соломону. 1452 — 1466 гг. Фрагмент. Ареццо, церковь Сан Франческа.
162. Пьеро делла Франческа. Прибытие царицы Савской к царю Соломону. 1452 — 1466 гг. Фрагмент. Ареццо, церковь Сан Франческа.
163. Пьеро делла Франческа. Смерть Адама. 1452 — 1477 гг. Фрагмент. Ареццо, церковь Сан Франческа.
164. Пьеро делла Франческа. Смерть Адама. 1452 — 1477 гг. Фрагмент. Ареццо, церковь Сан Франческа.
165. Мелоццо да Форли. Ангел. Фрагмент фрески "Вознесение Христа". После 1472 г. Рим, церковь Санти Апостола.
166. Мелоццо да Форли. Учреждение Ватиканской библиотеки папой Сикстом IV. 1477 г. Рим, Ватиканская пинакотека.
167. Лука Синьорелли. Жизнь св. Бенедикта. 1497 г. Фрагмент. Монтеоливьето Маджоре.
168. Лука Синьорелли. Страшный суд. 1499 — 1505 гг. Фрагмент. Орвьето, собор.
169. Джентиле да Фабриано. Поклонение волхвов. 1423 г. Фрагмент. Флоренция, Уффици.
170. Пинтуриккьо. Портрет мальчика. 1480-е гг. Дрезден, Галерея.
171. Пинтуриккьо. Эней Сильвио Пикколомини представляет Элеонору Португальскую Фридриху III. 1505 — 1508 гг. Сиена, библиотека собора.
172. Пинтуриккьо. Сцена из жизни Энея Сильвио Пикколомини. 1505 — 1508 гг. Сиена, библиотека собора.
173. Перуджино. Добродетели и герои. Ок. 1500. Фрагмент. Перуджа, Колледжио дель Камбио.
174. Перуджино. Передача ключей св. Петру. 1481 г. Ватикан, Сикстинская капелла.
175. Перуджино. Явление Марии св. Бернарду. 1489 г. Мюнхен, Старая пинакотека.
176. Перуджино. Портрет Франческо дель Опере. Флоренция, Уффици.
177. Рафаэль. Обручение Марии. 1504 г. Милан, галерея Брера.
178. Рафаэль. Платон и Аристотель. Фрагмент фрески «Афинская школа». 1509 — 1511 гг. Ватикан, дворец.
179. Рафаэль. Афинская школа. 1509 — 1511 гг. Фреска станцы делла Сеньятура. Ватикан, дворец.
180. Рафаэль. Изгнание Элиодора. 1511 — 1514 гг. Фреска станцы д'Элиодоро. Ватикан, дворец.
181. Рафаэль. Мадонна в кресле. 1516 г. Флоренция, галерея Питти.
182. Рафаэль. Сикстинская мадонна. 1515 — 1519 гг. Дрезден, Галерея.
183. Рафаэль. Дама в покрывале. 1514 г. Флоренция, галерея Питти.
184. Рафаэль. Портрет папы Льва X с кардиналами. 1518 г. Флоренция, Уффици.
185. Рафаэль. Триумф Галатеи. 1515 г. Фрагмент. Рим, Вилла Фарнезина.
186. Рафаэль. Портрет кардинала. 1518 г. Мадрид, Прадо.
Книга IV. ЖИВОПИСЦЫ СЕВЕРНОЙ ИТАЛИИ
187. Альтикьеро. Обезглавливание св. Георгия. Ок. 1377 — 1379 гг. Падуя, Капелла Сан Джорджа.
188. Аванцо. Чудо св. Лючии. Ок. 1377 — 1379 гг. Падуя, Капелла Сан Джорджа.
189. Альтикьеро. Поклонение волхвов. Ок. 1377 — 1379 гг. Падуя, Капелла Сан Джорджа.
190. Пизанелло. Св. Георгий освобождает дочь трапезундского царя. 1430 г. Фрагмент. Верона, церковь Санта Анастазия.
191. Пизанелло. Легенда о св. Евстафии. 1430-е гг. Лондон, Национальная галерея.
192. Пизанелло. Портрет Лионелло д'Эсте. 1440-е гг. Бергамо, Академия Каррара.
193. Антонелло да Мессина. Распятие. 1460-е гг. Фрагмент. Лондон, Национальная галерея.
194. Антонелло да Мессина. Св. Себастьян. 1476 г. Дрезден, Галерея.
195. Антонелло да Мессина. Св. Иероним. Лондон, Национальная галерея.
196. Антонелло да Мессина. Мужской портрет. 1475 г. Лондон, Национальная галерея.
197. Антонелло да Мессина. Благовещение. 1465 — 1474 гг. Сиракузы, Музей.
198. Мантенья. Шествие св. Иакова на казнь. Конец 1440-х — 1450-е гг. Фрагмент. Падуя, Капелла Оветари в церкви Эремитани.
199. Мантенья. Шествие св. Иакова на казнь. Конец 1440-х — 1450-е гг. Падуя, Капелла Оветари в церкви Эремитани.
200. Мантенья. Распятие. 1457 — 1459 гг. Париж, Лувр.
201. Мантенья. Моление о чаше. 1460 г. Фрагмент. Лондон, Национальная галерея.
202. Мантенья. Семейство Лодовико Гонзага. Ок. 1475 г. Фрагмент фрески Камеры дельи Спози. Мантуя, Палаццо Дукале.
203. Мантенья. Встреча Лодовико Гонзага с кардиналом Франческо Гонзага. Ок. 1475 г Фрагмент фрески камеры дельи Спози. Мантуя, Палаццо Дукале.
204. Галассо Галасси. Аллегория осени. 1460 — 1470-е гг. Берлин.
205. Козимо Тура. Св. Себастьян. 1450-е гг. Фрагмент. Дрезден, Галерея.
206. Франческо дель Косса. Сад любви. Ок. 1470 г. Фрагмент. Феррара, Палаццо Скифанойя.
207. Франческо дель Косса. Сад любви. Ок. 1470 г. Фрагмент. Феррара, Палаццо Скифанойя.
208. Франческо дель Косса. Скачки. Ок. 1470 г. Фрагмент. Феррара, Палаццо Скифанойя.
209. Виченцо Фоппа. Св. Себастьян. Фрагмент. Милан, музей Чивико.
210. Франческо дель Косса. Благовещение. 1470 — 1472 гг. Дрезден, Галерея.
211. Доменико Мороне. Рождение св. Фомы. США, Нью-Хавен.
212. Франческо Мороне. Обручение. Берлин.
213. Брамантино. Поклонение волхвов. 1510-е гг. Лондон, Национальная галерея.
214. Больтраффио. Мадонна с младенцем. Фрагмент. Лондон, Национальная галерея.
215. Франческо Франча. Мадонна с младенцем. Рим, галерея Боргезе.
216. Франческо Франча. Поклонение младенцу. Болонья, Пинакотека.
217. Моретто. Св. Юстина с донатором. Ок. 1535 г. Вена, Художественно-исторический музей.
218. Аброджио да Предис. Девушка с вишнями. Нью-Йорк, Метрополитен-музей.
219. Морони. Портрет Андреа Наваджеро. 1560-е гг. Фрагмент. Милан, галерея Брера.
220. Морони. Портрет портного. 1560-е гг. Лондон, Национальная галерея.
221. Пармиджанино. Мадонна с длинной шеей. 1534 — 1540 гг. Флоренция, Уффици.
222. Пармиджанино. Антея. 1534 — 1535 гг. Фрагмент. Неаполь, Национальные музеи Каподимонте.
223. Корреджо. Антиопа. 1523 — 1525 гг. Париж, Лувр.
224. Корреджо. Ночь. Ок. 1530 г. Дрезден, Галерея.
225. Корреджо. Юпитер и Ио. Ок. 1530 г. Вена, Художественно-исторический музей.
226. Караваджо. Юноша с лютней. 1595 г. Ленинград, Эрмитаж.
ЦВЕТНЫЕ ВКЛЕЙКИ
(иллюстрации в тексте книги)
Джованни Беллини. Дож Лоредано. Ок. 1507 г. Лондон, Национальная галерея
Джорджоне. Сельский концерт. Ок. 1508 — 1510 гг. Фрагмент. Париж, Лувр
Тициан. Коронование терновым венцом. Ок. 1570 г. Мюнхен, Старая пинакотека
Веронезе. Пир в доме Левия. 1573 г. Фрагмент. Венеция, Академия
Джотто. Бегство в Египет. Ок. 1305 г. Падуя, Капелла дель Арена
Мазаччо. Голова апостола Петра. Фрагмент фрески «Чудо со статором». 1426 — 1428 гг.Флоренция, Капелла Бранкаччи в церкви Санта Мария дель Кармине
Леонардо да Винчи. Портрет Моны Лизы (Джоконда). Ок. 1503 г. Париж, Лувр
Боттичелли. Весна. Ок. 1478 г. Фрагмент. Флоренция, Уффици
Микеланджело. Сотворение Адама. 1508 — 1512 гг. Фрагмент плафона. Ватикан, Сикстинская капелла
Дуччо. Явление ученикам. Клеймо алтарного образа «Маэста». 1308 — 1311 гг. Сиена, Музей собора
Симоне Мартини. Благовещение. 1333 г. Фрагмент. Флоренция, Уффици
Пьеро делла Франческа. Голова царицы Савской. Фрагмент фрески «Прибытие царицы Савской к царю Соломону». 1452 — 1466 гг. Ареццо, церковь Сан Франческо
Рафаэль. Мадонна садовница. 1510 г. Париж, Лувр
Пизанелло. Св. Георгий освобождает дочь трапезундского царя. 1430-е гг. Фрагмент. Верона, церковь Санта Анастазия
Мантенья. Распятие. 1457 — 1459 гг. Фрагмент. Париж, Лувр
Доссо Досси. Цирцея. Ок. 1515 г. Фрагмент. Вашингтон, Национальная галерея



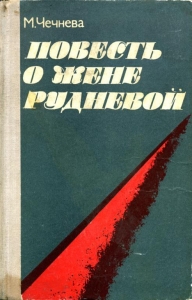


Комментарии к книге «Живописцы Итальянского Возрождения», Бернард Бернсон
Всего 0 комментариев