От автора
Император Александр I – одна из самых странных, загадочных, возможно, одна из самых недооцененных фигур отечественной истории… Отчасти, он сам, конечно, «виноват» в сотворении такой репутации о себе: был странным, сложным, скрытным человеком; несомненно, мог видеть и сознавать многое, честно искал правду, искренне поверил в Бога, свет веры хотел понести по Земле… и не сумел сделать почти ничего.
Монархам грех жаловаться на невнимание исследователей, и Александр Павлович не исключение. Библиография о нём огромна, дотошные люди прошлись по его жизни чуть ли не с хронометром, попутно описали судьбы других людей, так или иначе пересекшиеся с судьбой государя. Так стоит ли тысячу раз изученное, разложенное по полочкам и препарированное – изучать в тысячу первый?.. Стоит! Немалого стоит, если целью исследования сделать не анализ, а синтез, если постараться увидеть человеческое бытие не как отрезок времени, но как отражение вечности, как отзвук и предчувствие разных сторон истории. Ведь человек – средоточие вселенских сил, он является в этот мир со встроенной в душу программой «Я равен Космосу»… однако, найти и включить эту программу оказывается задачей чрезвычайной трудности; не сказать, что невыполнимой, но всё-таки очень, очень трудной. Почему?.. Автору хотелось бы, чтобы жизнь и судьба императора Александра I помогли ответить на данный вопрос. Это стремление и составляет сущность книги, предлагаемой благосклонному читательскому вниманию.
Читетель встретит в ней немало дополнений и примеров иллюстрирующего характера из русской литературной классики – это сознательный авторский приём, ибо талантливое художественное описание всегда есть живой, яркий образ, раскрывающий ту или иную ситуацию куда более эффектно, нежели тяжеловесные наукообразные рассуждения…
Небольшой комментарий к структуре, графике и особенностям текста: жирным шрифтом выделены цитаты из Библии, курсивом – некоторые цитаты из других источников, а также авторские отступления поясняющего и дополняющего характера. В ссылках на Библию указаны название книги, затем номер главы и номер строфы; во всех остальных случаях цифровые обозначения указывают: обычным шрифтом – номер источника по списку литературы и номер тома, если источник представляет собой многотомное издание; курсивом – номер страницы. Для интернет-ресурсов номер страницы не указывается. Некоторые цитаты, особенно стихотворные, давно ставшие крылатыми выражениями, приводятся без указания на источник. Даты, если при них нет специальных оговорок, даются по Юлианскому календарю. Цитаты из источников, изданных до 1918 года, приведены в соответствие с современной орфографией. Русская транскрипция иностранных имён собственных взята в соответствии с большинством изданий.
Автор выражает огромную благодарность всем авторам сочинений, использованных при работе над книгой, и тем, чью помощь также трудно переоценить: сотрудникам издательства «Вече», коллегам по кафедре философии, истории и права Уфимского филиала ВЗФЭИ, работникам библиотек, книжных магазинов, интернет-центров. Особые слова признательности – историку и писателю Дмитрию Володихину. Без эрудиции, профессионализма всех этих людей, их доброжелательного отношения к автору книга вряд ли могла бы состояться.
Глава 1. Бабушкин внучек
1
Будущий Император Всероссийский Александр Павлович родился 12 (23-го – по Григорианскому календарю) декабря 1777 года. Его появление на свет, несомненно, обещало стать важнейшим политическим событием в жизни не только Российской империи, но и Европы, готовившейся в эти дни к празднованию Рождества Христова; а раз так, то и всего вовлечённого в исторический процесс человечества, ибо в те времена история мира практически равнялась европейской… Ожидания сбылись. Младенец вырос, прочно взял в свои руки дела всемирные, и целая эпоха оказалась прочно связана с его именем… которого тогда, 12 декабря 1777 года ещё не было.
Родившись, он сразу же оказался потенциальным наследником крупнейшего на планете престола, что самым прямым образом определяло вокруг него сложную политическую тригонометрию и ставило новорождённого в особые, далёкие от обыденных маленьких тревог и радостей отношения: с родителями – отцом, формальным наследником российского трона Павлом Петровичем и матерью Марией Фёдоровной; и с бабушкой, императрицей Екатериной II. У неё, в свою очередь, отношения с сыном Павлом были очень далеки от нормальных семейных, состоя из двусмысленностей, недомолвок, взаимных подозрений и опасений – что естественным образом проистекало из обстоятельств захвата Екатериной верховной власти в 1762 году. Захват этот был откровенно незаконным, хотя впоследствии ему и старались изо всех сил придать видимость юридического благополучия; но, разумеется, люди мыслящие – и не только в высшем обществе – знали о лукавых эвфемизмах официальных сообщений. Пугачёву потому и удалось развить громадную энергию бунта, что он действовал именем «законного государя» Петра III, согласно лживому официозу, умершего от «геморроидальных коликов» [36, 345], в которые никто не верил. Скорее согласны были поверить в то, что царственный узник, насильно привезённый в Ропшу, сумел сбежать от своих церберов и скитался по Руси в поисках способа вернуться на царство – не по прихоти, конечно, но по чувству долга. Царское служение – священный долг, принятый человеком, и этот человек не вправе отречься от миссии, возложенной на него не людьми, но Богом… Народное сознание вполне готово было принять идею истинного царя, помазанника, оставшегося верным священному долгу: умные деятели казацкой старшины, подбившие «маркиза Пугачёва» на дерзкую и рисковую авантюру, были, видимо, отличными психологами. Да и сам он, конечно, был человек даровитый, с задатками блестящего артиста.
Потаённые разговоры струились осторожно и при императорском дворе. Целью их являлся в том числе – а точнее будет сказать, прежде всего – подросший наследник Павел Петрович; когда его отец погиб, мальчику и восьми лет не исполнилось, но потом, с возрастом, он, не без помощи придворных, разумеется, узнал об истинной причине смерти. И каково же ему было жить с таким знанием! – что мать похитительница власти и фактически убийца отца!.. А он сам, законный обладатель престола, вынужден пребывать в каком-то униженном и непонятном положении.
За все тридцать четыре года своего владычества Екатерина никому не позволила безнаказанно усомниться в её праве на трон. Не смел вслух сомневаться и Павел. Но императрица чувствовала его настроения, подозревала, должно быть, что кое-кто из приближённых тайно влияет на цесаревича – а он неглуп, при том к монархической идее относится совершенно всерьёз, так что говорить о спокойных отношениях между матерью и сыном не приходилось… Однако, Екатерина отлично понимала, что решить проблему так, как это было с Петром III, не получится. Ещё одной случайной смертью не обманешь никого в России, европейский же бомонд и подавно. Следовательно, решение напрашивается само собой: нужен другой наследник. Кто? Теоретически здесь всё ясно: сына требуется женить, продлить династию – и первого же родившегося внука целенаправленно и методично воспитывать как потенциального главу государства. Теоретически ясно, практически, конечно, посложнее… но Екатерина не из тех, кто не умеет провести свои планы в жизнь.
Очевидно было, что равную по рангу невесту наследнику российского престола следует, вероятнее всего, искать в каком-то из многочисленных германских государств (как некогда отыскали саму Екатерину в герцогстве Ангальт-Цербском), а лучшим посредником в этом делиткатном деле является прусский король Фридрих II, исключительно умный, энергичный и твёрдый властитель. Отношения между ним и русской царицей, будучи взаимовыгодными и партнёрскими, в основе своей имели сугубую политическую целесообразность; каждый из партнёров отлично понимал, что царственный визави может изменить в первый же миг после того, как решит, что измена несёт с собой долгосрочные стратегические преимущества – однако это нимало не мешало монархам воспринимать друг друга с совершенным уважением. Они были сильные, твёрдые, жёсткие политики, и любой из них вполне бы понял другого, совершившего какое-либо циничное действие во всемирной игре без правил… Оба сознавали отсутствие правил в этой игре, и оба были победителями.
Стоит отметить, что обоюдное уважение зиждилось ещё и на почве служенью муз. И прусский король и русская царица не только меценатствовали, собирая вокруг себя знаменитостей, но сами притязали на творческие лавры; Фридрих писал историко-философские трактаты, Екатерина редактировала ею же основанный журнал «Всякая всячина», причём являлась там автором многих статей [41,т.4, 67]… В общем, между двумя Великими (и Фридрих и Екатерина почти официально заслужили этот исторический эпитет) имело место одобрительное взаимопонимание.
Сейчас уже трудно сказать, благодаря ли проницательности Фридриха, или так сложились иные обстоятельства – но выбор невесты оказался Павлу по душе. Юная принцесса Гессен-Дармштадтская Вильгельмина вроде бы не блистала красотой, но великий князь полюбил её со всем пылом чистого, искреннего девятнадцатилетнего юноши. Екатерина могла быть довольна: ей удалось направить энергию сына в нужное русло, и теперь императрице оставалось ждать рождения первого внука, изкоторого она собиралась воспитывать будущего просвещённого государя…
Но воистину человек предполагает, а Бог располагает. Радоваться было рано. Принцесса Вильгельмина, в православии ставшая Натальей Алексеевной, в силу физической конституции оказалась неспособной к деторождению. Именно к деторождению, а не к зачатию, из-за чего судьба её приобрела трагический оборот: она забеременела, но не смогла разрешиться от бремени. По тем временам диагноз тяжкий, для Натальи же Алексеевны он оказался фатальным. Придворные врачи ничего не смогли сделать. Великая княжна скончалась 15 апреля 1776 года.
Наверное, главным достоинством Екатерины, сделавшим из неё успешного политика, достигавшего поставленных целей, являлась настойчивость, умение не опускать руки и добиваться своего. Она одолевала и не такие неудачи. Не получилось достичь желаемого с первого раза – значит, предстоит второй! А если понадобится, и третий, и четвёртый… и так далее, вплоть до вразумительного решения проблемы.
Впрочем, в данном случае третьего раза не понадобилось. Достаточно оказалось второго – и опять не без помощи прусского короля. Любопытно, что вновь невеста отыскалась в том же юго-западном углу тогдашнего конгломерата германоязычных государств, по соседству с Гессеном – в Великом герцогстве Вюртембергском. Императрица действовала ударными темпами: в апреле цесаревич Павел овдовел, а уже в сентябре того же 1776 года он был женат повторно.
Дочь герцога Вюртембергского София-Доротея была к моменту свадьбы ещё моложе Натальи Алексеевны: семнадцать лет. Разумеется, она также приняла православие и стала называться Марией Фёдоровной… В отличие от предыдущего, этот брак оказался достаточно долгим (полгода не хватило супругам до «серебряной свадьбы») и самым многодетным изо всех монарших браков Романовых со времени царя Алексея Михайловича. Вся дальнейшая императорская династия, включая Николая II и его детей – суть прямые потомки одной супружеской пары: Павла Петровича и Марии Фёдоровны. Десять детей за двадцать один год! – и могло быть больше, если бы не «апоплексия» Павла Петровича, о коей речь впереди… Воля и настойчивость Екатерины привели к должному результату. Рождение внука стало очередной её политической победой.
2
В святцах день 12 декабря по старому стилю означен именами нескольких святых: чудотворца Спиридона; преподобного Ферапонта Монзенского; священнномученика Александра, епископа Иерусалимского; мученика Разумника (Синезия). Можно быть уверенным, что самовластная бабушка не долго думала над тем, как назвать внука. Александр! – прекрасные политические, вернее, даже геополитические ассоциации: и с Александром Македонским и с Александром Невским, великолепные исторические параллели… И младенец был торжественно крещён.
Итак, Александр. Обряд совершал о. Иоанн Панфилов, духовник Екатерины. Сама же она стала восприемницей (крёстной матерью), а восприемниками – заочными – император Великой Римской империи (проще говоря, Австрии) Иосиф и прусский король Фридрих II, тот самый сват.
Из каких соображений Екатерине понадобилось делать восприемниками православного младенца католика и лютеранина?.. Конечно же, опять из геополитических. Руководствовалась ли она при этом какими-то религиозными, богословскими идеями? Вряд ли; но вот о том, какое продолжение это необычное крещение получило в жизни Александра, сказать стоит. Некий зародыш идеи единения церквей впоследствии развился в глубокий духовный посыл; реально, правда, вышло из этого немногое, а если честно, то ничего. Но ведь история нашего мира не вчера началась, не завтра кончится, и кто знает, как отзовутся в будущем те давние мечты русского императора…
Что же касается о. Иоанна Памфилова, то он не оставил в биографии Александра Павловича сколько-нибудь заметного следа. Потомственный священник, он по каким-то причинам не закончил Александро-Невскую Академию, выйдя из неё диаконом; однако восполнил этот пробел самообразованием: добился того, что стал считаться одним из учёнейших священнослужителей, латинским же языком владел в совершенстве. Был остроумен, не терялся в светском обществе… Словом, именно такой духовник и мог быть у Екатерины II. Пусть не яркий, но свой след в русской культуре он оставил: сотрудничал в Академии наук, участвовал в составлении словаря русского языка… А это не так уж и мало.
За три месяца до рождения Александра Петербург сокрушило наводнение – на тот момент самое страшное за всю историю города. Было очень много жертв. Предзнаменование?.. Екатерина наверняка старалась об этом не думать. Она активно и очень жёстко боролась с разными проявлениями суеверия, но это нимало не значит, что она была крайней рационалисткой, полагавшей реально существующим лишь то, что обобщено в итоге систематических наблюдений, желательно в математическом виде – ибо с таким подходом большая часть мира просто останется вне поля зрения исследователя; Екатерина если и не осознавала это формально, то во всяком случае, улавливала интуитивно. Для науки это, впрочем, не страшно, для философии же, да и просто для жизни – серьёзная методологическая ошибка. Императрица была слишком умна, вернее, мудра, чтобы этого не понимать… По этой же причине она высмеивала вульгарный дешёвый мистицизм вроде масонского. Но не была она и воистину религиозным человеком… Вероятнее всего предположить, что жизнь представлялась ей сложной, острой, опасной и остроумной игрой с участием множества людей, каждый из которых может стать либо другом, либо врагом, причём нажить себе последних можно очень быстро, а вот приобрести друзей – необычайно трудная задача… а ещё труднее добиться благорасположения судьбы, главного партнёра в этой странной игре, таинственного и переменчивого, который по каким-то своим непостижимым капризам может быть то союзником, то противником, и во взаимоотношениях с которым годится всё: когда рассудок, здравый смысл, когда фантазия, а когда и откровение свыше; и всякое событие есть приглашение подумать над его смыслом и предугадать будущее. Потому, если уж случилась неприятность, надо принять её к сведению и в дальнейшем постараться избежать такого или быть к нему готовым… В общем такое мировоззрение можно назвать своеобразным, христианизированным стоицизмом.
Ход размышлений в данной парадигме привёл царицу к выводу о том, что лучшей стратегией в этой загадочной игре – не идеальной, но всё-таки лучшей – является воспитание философски образованного государя, образованного, мыслящего и нравственного, способного сочетать высокие христианские принципы с твёрдой волей и мастерством политического менеджера. У самой Екатерины, правда, по части моральных принципов дело обстояло не слишком-то образцово, но её это, похоже, не очень смущало. Впрочем, грехи альковные человеку большей частью простительны, а если она в борьбе за власть что совершила непростительного, то не нам о том судить. Бабушкой же она оказалась замечательной, при том, что была никудышной матерью.
Имели и имеют место попытки критиковать педагогическую методу Екатерины; её находят плоской, наивной, схематической [73, 86]. Но ведь это педагогика! – трудно найти что-то тоньше, деликатнее, требующее большей духовной осмотрительности… А вот критиковать, напротив, легко.
В воспитательной системе Екатерины ошибки, конечно, были. Были, что называется, по определению: не ошибаться тут невозможно; были промахи и субъективные, её личные. Один из воспитанников, второй сын Павла Петровича и Марии Фёдоровны Константин (младше Александра на два года) вырос человеком каким-то, мягко говоря, странным, с труднообъяснимыми причудами; может, в том и не Екатерина виновата, но налицо именно такой факт, а не какой-то иной. Да и с Александром не всё вышло гладко; В.О. Ключевский по этому поводу заметил, что «…он был воспитан хлопотливо, но не хорошо, и не хорошо именно потому, что слишком хлопотливо» [35, т.5, 187]. Словом, налицо именно тот классический случай, когда у семи нянек дитя без глазу. Замечание справедливое едва ли не буквально: без глазу-не без глазу, но «без уха» маленький Александр остался точно – «прогрессивная» бабушка, зная о пользе воздушных ванн, летом распахивала окна в покоях внука, а с невской набережной, отмечая время, каждый час палили сигнальные пушки, в результате чего ребёнок почти оглох на левое ухо.
Вообще, можно предъявить императрице уйму претензий именно с педагогической точки зрения, начиная с разлуки детей с родителями; о других просчётах будет сказано ниже, равно как в целом о роковых пороках «просветительского» мировоззрения, к которому в значительной мере подвержена была Екатерина, и принципы которого внедряла в воспитательный процесс. Однако, следует повториться: быть умным задним умом – дело нехитрое. Нам, людям нашего столетия, из нашего далека ясно видно, что идеи века XVIII-го с их куцым рационализмом, секуляризацией, десакрализацией мира, или наоборот, с тайнами, с которых давным-давно сошёл их ложно-романтический ореол – год за годом, меняясь, приобретая те или иные новомодные черты, но всё же продолжая оставаться в известном идеологическом русле – вели к размыванию цельного мировоззрения, системным социальным сбоям и, наконец, к катастрофам: мировым войнам, первой и второй…
Да, такова оказалась тяжкая плата за самонадеянность, за то, что этой части человечества показалось возможным жить земными благами, ничтожной философией, заменив ценности абсолютные на относительные. Заповедь вторая: не сотвори себе кумира – не дидактическая формула, но совершенная реальность. Вещи полезные, хорошие и даже прекрасные, превратившись в идолов, перестают хорошими быть – не потому, что делаются хуже, а потому, что люди, видя только их, теряют пути к полной истине. От этого и не убереглось Новое время: прогресс, наука, сытая жизнь, права и свободы – замечательные средства на пути к цели. Принятые же за цель, они дезориентировали христианское человечество.
Всё это правда. Но она постигнута страшной ценой, на собственной несчастной шкуре. Мы умно и даже мудро говорим о прошлом – а что можем сказать о нашем будущем?.. Да ничего по сути! Наверное, не стоит утверждать, что будущее нельзя предвидеть совсем, но что это невероятно трудно – с этим не поспоришь. Ничуть не легче было это сделать людям и во времена «Очакова и покоренья Крыма». Наше прошлое – это их будущее, а их-то прошлое и настоящее тоже казалось далёким от совершенства. Это ведь сказать легко: цельное мировоззрение, скреплённое христианской этикой – что теоретически совершенно верно; да только человеку в этом мире приходится иметь дело не с философскими теориями, а с практическими феноменами. А каковы были феномены XVIII века, очень хорошо известно: избыточная роскошь королевских дворов и нищета крестьян, вольготные прихоти аристократов и страшная доля крепостных, у которых не было ни прав, ни свобод, ни даже фамилий… Всё это творилось в христианском мире – именовавшем себя таковым – и где тут цельное мировоззрение?! И стоит ли удивляться, что мыслящие люди искали нечто новое, искренне хотели сделать жизнь лучше… Сделали, правда, хуже. Но упрекать людей в отсутствии провидческого дара – право же, чересчур.
Похоже, что Екатерина была осмотрительнее и проницательнее многих своих друзей-философов – может быть, в силу монаршего положения, да не просто монаршего, а монаршего в России, невероятно сложной стране. Разумеется, она видела, что никакие голые схемы тут не подходят, хотя и могут оказаться в известной степени полезными. Так же она подходила и к воспитанию внуков. Шла путём непроторенным, методом проб и ошибок, в чём-то и вправду перехлопотала, где-то что-то недоглядела… Но старалась искренне! Наконец, она просто любила внуков, помимо всех мудрёных теорий, а это тоже дорогого стоит. Между прочим, из педагогических успехов императрицы особенно интересен один, а именно: подарив маленькому Александру имение («Александрова дача») [5, 19], Екатерина обдуманно располагала там аллеи, лужайки, пруды, гроты и статуи – всё с символическим значением, дабы отрок естественно и ненавязчиво впитывал в себя образы русских побед, крестьянских полей, родной природы, царственных предков, в том числе Екатерины (как же без этого!), и, наконец, образ Бога: на высшей точке парка, на холме, находился Храм Розы без шипов. На внутренней поверхности купола этого храма изображён был Пётр Великий, символическая же Россия опиралась на щит со светлым ликом самой бабушки [5, 20].
Синкретический, так сказать, образ Божий – для православной страны, безусловно, выглядящий удалённо от традиций. Конечно же, это отголосок дурно понятого «свободомыслия», характерного для тех лет – но не стоит быть слишком критичным. Не одна Екатерина поддалась веяниям эпохи, а она, к тому же, сумела найти в этих веяниях и безусловно ценное. Отметим, наоборот, лучшее в этом проекте. Царица предлагала внуку вполне натуральный историко-экологический комплекс – в ту пору, когда и слов таких не знали. Действительно, юный царевич в Александровой даче – попытка создать гармонию личности, экосистемы (биосферы в целом) и культуры; идея, потенциал и перспективы которой и в наши-то дни только-только начинают осознаваться всерьёз. Тогда же подобные перспективы были, вероятно, неведомы и самой Екатерине, но идея, несомненно, коснулась её, и мы, два с лишним столетия спустя, должны это оценить.
3
Итак, бабушка стала первым во всех смыслах наставником будущего венценосца. Вторым – в смысле административном – был назначен матёрый придворный Николай Иванович Салтыков, впоследствии граф и князь; первый титул он получил от Екатерины, второй – от бывшего воспитанника, будучи возведён последним не только в князья, но и в самые высшие служебные чины и должности. Выбор этого человека в воспитатели с формальной точки зрения может показаться непонятным: никакого отношения к просвещению и образованию он не имел, жизнь провёл сначала на военной службе, затем при дворе. Воевал храбро. Дослужился до генерал-аншефа (по-нашему – генерал-полковник)… Но императрица знала, что делала. Очевидно, в генерале Салтыкове она усмотрела твёрдое мужское начало, которое, по её мнению, должно быть непреложным компонентом воспитания.
«Опытный и хладнокровный царедворец, Салтыков стоял, как правило, вне придворной борьбы и умел сохранять влияние при различных правлениях,» – сказано в Советской исторической энциклопедии [59, т. 12, 494], и, надо полагать, сказано справедливо. Потому в 1773 году генерал-аншеф был назначен попечителем наследника Павла Петровича, а с рождением Александра (затем и Константина) – главным воспитателем великих князей. Был при них ещё один генерал: Александр Яковлевич Протасов; этот, в сущности, выполнял функции «дядьки», и в историю попал благодаря своему дневнику, где с редкой прямотой отзывался о подшефных – видимо, человек был добросовестный и бесхитростный.
Кто ещё окружал будущего государя (не считая, понятно, брата Константина)?.. Ближайшим другом его детства стал князь Пётр Волконский, дружбе этой суждено было продлиться всю жизнь Александра, а самому князю Петру довелось послужить в высших гражданских чинах и следующему царю, Николаю… Стоит также упомянуть няню Софью Николаевну Бенкендорф (бабушку будущего генерала и шефа жандармов), безымянных гувернанток, трудами которых мальчики заговорили на английском языке – не родном, но первом в их жизни. Русский стали осваивать следом. Французский начали изучать ещё позже, и о том разговор пойдёт особо.
Преподавателем же русского языка, а также истории избран был Михаил Никитич Муравьёв, представитель столь прославленной в нашем Отечестве фамилии. Правда, слава эта более обязана потомкам Михаила Никитича: сыновьям и разной степени племянникам, участникам декабристского движения, в том числе и тем, кто к зрелым годам из вольнодумцев превратился в рьяноверноподданых, как усмиритель польского восстания 1863 года граф Муравьёв (тоже Михаил), вошедший в историю под неблагозвучным прозвищем «Муравьёв-вешатель»… Так вот прихотливо соотносятся в истории судьбы предков и потомков.
Сам Михаил Никитич был человек кроткий, законопослушный, не бунтовал и никого не подавлял; принято считать его одним из лучших русских писателей XVIII века. Наверное, заслуженно, хотя сейчас вряд ли кто, кроме специалистов-филологов и литературоведов станет вникать в архаичную стилистику сочинений, повествующих о добре и гуманности… Доброту, нравственную чистоту Муравьёва отмечают все, писавшие о той эпохе, и почти так же единогласно говорят о том, что педагог он был неопытный.
Естественные и точные науки в образовании Александра носили сугубо служебный характер. Бывает, что учёный-естественник или инженер является прекрасным воспитателем, однако учителя великого князя в данном качестве не отметились. Не нужно, разумеется, воспринимать это как упрёк: морализаторство в их задачу не входило, а за то, что сверхзадачей не стало, взыскивать нечего. Это были первоклассные по тем временам учёные: Логин Юрьевич (Вольфганг Людвиг) Крафт (физика), Карл Массон (математика), Пётр Симон Паллас (география и биология; тогда это называлось: «натуральная история»). Можно не сомневаться, что знания они давали добротные, прочные. Как воспринял эти знания ученик? – вопрос отдельный. Впрочем, и к нему в данном смысле не должно быть крупных претензий: жизнь не много времени предоставила ему для размышлений над закономерностями природного мира. Не исключено, что в какой-то момент своей жизни он этим с удовольствием бы занялся – похожие мысли высказывал… Но чего не случилось, того не случилось.
Безусловно, нельзя было представить воспитание будущего русского царя без религиозного начала, Закона Божьего. Был приглашён наставник и по этой части, и наставник более чем необычный.
Протоиерей Андрей Афанасьевич Самборский (в некоторых источниках – Сомборский) внешне совершенно не напоминал традиционного русского священника. Он много лет прожил в Англии, будучи настоятелем церкви при российском посольстве в Лондоне, сильно европеизировался, женился на англичанке (некоей Екатерине Филдинг). Внешняя европеизация выразилась в частности в том, что о. Андрей добровольно лишился усов и бороды, защеголял в светском одеянии – собственно, увидев его на улице, никто и подумать бы не мог, что перед ним православный батюшка. Кроме того Самборский – видимо, тоже в Англии – воспринял интерес к натуралистике и тому, что теперь бы назвали «биотехнологиями». При Екатерине он считался виднейшим агрономическим авторитетом, а на склоне лет (прожил, кстати, 83 года! – очень много для того времени), будучи уже частным лицом, в своём имении близ города Изюма (ныне Харьковская область) выводил новые породы овец, свиней, и новые сорта картофеля. Построил в селе школу, больницу для престарелых… Словом, человек был незаурядный, в свою эпоху был на виду, да и сейчас, как видим, не забыт.
Отметим любопытный факт: зятем Самборского стал Василий Фёдорович Малиновский, будущий директор Царскосельского лицея, где в первый набор учащихся, вместе с Пушкиным, Пущиным, Горчаковым, Кюхельбекером, Дельвигом и другими был зачислен и директорский сын Иван Малиновский (лицейское прозвище – «Казак»), спустя много лет оказавшийся владельцем того самого поместья Каменка Изюмского уезда, в котором некогда экспериментировал Андрей Афанасьевич Самборский, его дед по матери [88]…
Очевидно, Екатерина была невысокого в целом мнения о русском духовенстве, коли уж выбрала законоучителем внука человека столь далёкого от «второго сословия». Но – примечательный факт! – православие протоиерея Самборского никем из серьёзных исследователей не оспаривается, хотя подобные обвинения при его жизни имели место. А в Венгерской епархии Московского патриархата о. Андрея почитают как подвижника. Недаром: в 1799 году великая княгиня Александра Павловна (сестра Александра) вышла замуж за австрийского эрцгерцога Иосифа, очутилась в Венгрии, где испытала сильнейшее давление со стороны католического духовенства на предмет перехода в лоно Римской церкви. Особенно усердствовали местные иезуиты. Отец Андрей – он был духовником Александры Павловны и вместе с ней поехал в Венгрию – смело вступил в полемику с папистами, не уступил им и сохранил эрцгерцогиню для православия [97].
При том надо сказать, что оценки Самборского как богослова всерьёз разнятся. В частности, утверждается, что протоиерей был типичным чиновником «по церковной части», державшим руки по швам, и высшим теологическим критерием для него служили распоряжения свыше: «Одобрения и беспристрастные свидетельства высочайших особ должны теперь положить единый и ясный смысл на оные многоразличные толкования,» [73, 87] – расхоже цитируемая фраза из письма о. Андрея к митрополиту Амвросию. Где истина?.. Видимо, как чаще всего бывает, посередине. Отец Андрей явно был человек немалых способностей, культурный, с широким кругозором; светилом богословия его, вероятно, не назовёшь, но в профессиональной эрудиции и компетентности сомнений нет. Насколько он повлиял на формирование личности Александра?.. Можно предположить, что слушая гладко выбритого элегантного человека, ничем не похожего на русского попа, юный царевич совершенно не постиг ментальности народного, «низового» православного мироощущения, со всеми его позитивными и не очень особенностями. А нужно ли это было, стоило ли постигать такое мироощущение будущему русскому автократору? Очевидно, да – но где найти такого священника «из глубинки», который сумел бы здраво отделить зёрна от плевел! Возможно, если постараться, это и удалось бы сделать, но…
Но Екатерина при всей своей непритворной тяге к России, к русской цивилизации эту самую народную религиозность считала, вероятно, мешаниной истин, верноподданности, невежества, дикости и суеверий – социально полезной, но уж конечно, не для наследника. Потому в законоучители был приглашён отец Андрей. Почему выбор не пал на митрополита Платона, просвещённого мыслителя, сильнейшего богослова, блестящего литератора, к тому же духовника и воспитателя Павла Петровича?.. Трудно сказать. Было то, что было – исходить мы принуждены из этого.
Итак, «веры простонародья» Александр не ведал. К вершинам же религиозной мысли стремился по-настоящему, хотя путь его в этом направлении был сложным, извилистым, да так, собственно, и не привёл к желаемому результату… Искренняя вера Александра стала феноменом совершенно закономерным, можно сказать, выстраданным, имела долгую, непростую предысторию. Вплоть до Отечественной войны 1812 года великий князь, а затем и император толком не заглядывал в Библию, при том, бесспорно, считая себя христианином. Эту религиозную индифферентность молодого самодержца, случается, ставят в строку Самборскому: плохо учил, дескать… Однако, здесь отнюдь не так дело просто.
Вспомним, на какую эпоху пришлась юность Александра, какие философские и социальные концепции, тенденции были модными, какими яркими, эффектными они казались, как будоражили не только юные, но и совершенно взрослые головы! И не стоит огульно зачислять все эти вольнодумные головы в безбожники, вольтерьянцы и якобинцы. Они были очень, очень разные, и потом время развело их далеко друг от друга совсем не случайно. Что к концу восемнадцатого века христианский мир переживал идейный кризис, стало несомненным: мыслящие люди искали выход. Некоторых действительно заносило к радикальным выводам – христианство, полагали они (любая религия вообще!) как мировоззренческая конструкция себя исчерпало. Другие, более проницательные, видя огромный потенциал христианства, находили, что оно нуждается в обновлении, в приспособлении к современным условиям – и едва ли не у каждого такого философа имелся наготове личный проект обновления.
Очень вероятно, что похожим образом мыслила и Екатерина. Она не была, конечно, безбожницей, к традиционному русскому православию относилась скорее всего, с улыбкой, однако находила его политически выгодным для себя и оберегала от всяких суетных ухищрений вроде масонских. Но при этом, стремясь идти в ногу со своим временем, она наверняка усматривала в модных «просветительских» теориях нечто, обладающее значительным мировоззренческим потенциалом, способное выправить очевидные социальные недостатки. Угадывала ли она, что симптомы кризиса чреваты сильнейшим потрясением, через несколько лет разразившимся в христианском мире и ставшим, очевидно, точкой перелома всемирной истории?.. Вероятно, нет; во всяком случае, она слишком уж увлеклась популярными и поверхностными теориями: при всей своей осмотрительности она не предвидела, каким чудовищем может стать «свободный» человек – тот самый, разум и величие которого так горячо проповедовали просветители.
Термин «свободный» взят в кавычки ясно, почему. Просветители, а вслед за ними революционеры толковали идею свободы убого, а уж попав в массы безграмотных людей, это убогое толкование превратилось в глубокую дегенерацию высокой, в сущности, идеи. Свободен! – значит, можно всё, а самое приятное из этого всего – делать гадости.
Жил в те годы (1740–1814) такой мыслитель и освободитель человечества как маркиз Донасьен Альфонс Франсуа де Сад – его личность и «труды» есть гротескная, омерзительно-смешная, но по сути справедливая карикатура на французское просветительство; стоит заглянуть в эти самые «труды», чтобы увидеть в них мысли Вольтера, Дидро, Гольбаха в исковерканном виде, словно отражённые в кривом зеркале.
Это вовсе не значит, что философия Просвещения – пустой никчёмный вздор. Графоманство де Сада – в самом деле карикатура, а карикатура есть всегда гиперболизация неких сторон явления, в данном случае худших сторон. А были ведь и лучшие стороны! Разумеется, в идейных поисках XVIII века имели место действительно ценные находки, и сами поиски эти велись из лучших побуждений. Но в том-то и состоит драма – не только Просвещения, многих других гуманитарных концепций – в противоречии между замыслом и результатом.
Не избежал увлечения расхожими идеями и Александр. Но с годами он сумел отделить чистое от нечистого, реально оценил то лучшее, что было в поветриях его юности: пусть банальное, ходульное, но было. «Намерения важнее результата,» – говаривали древние китайцы; тезис, с которым можно не соглашаться, но к которому нельзя не прислушаться. Если намерения юноши сделать этот мир прекрасным наивны, но благородны, то это достойно уважения: не так уж часто встречается подобный аристократизм духа. Бывает, правда, что в ком-то ребячество тянется вплоть до зрелости, и даже перезрелости, и это выглядит и смешно и грустно… Но речь всё-таки не об этом. Сложные, многомерные жизненные обстоятельства по-разному влияют на молодых романтиков, делая из них со временем очень разных людей: не исключение и Александр. Время изменило его; не миновал метаморфоз – хотя и проявил редкостную закоренелость в прошлом – самый знаменитый из его учителей, намного переживший своего ученика (везло царевичу на долгожителей-наставников! если б они ещё и секрет долголетия ему могли передать…). Речь о Фредерике Лагарпе.
5
В жизни этого человека полно причуд: начиная с имени и фамилии. В том, что люди берут себе псевдонимы, наверняка всегда есть что-то глубинно– или высотно-психологическое, во фрейдистском ли духе, напротив ли, в религиозном – но в любом случае псевдоним суть кодификация явного, потаённого или неосознаваемого желания заключить какой-то особый персональный договор с судьбой. Потомок франкоязычных швейцарских дворян де Ларпазов взял себе фамилию Лагарп (или де Лагарп – в зависимости от политической обстановки) – точно он, небесталнный и начитанный юноша, предвосхитил изгибы будущей своей биографии.
La harpe – по французски «арфа» (по английски – harp). Очень вероятно, что в выборе юного де Ларпаза прослеживается античный мотив: уже в детстве мальчик испытывал совершенно неподдельное восхищение перед древними греками и римлянами, точнее, перед собственным абстрактным представлением о той эпохе, считая её образцом интеллектуальной и гражданской жизни. Почему именно «арфа»? Возможно, изо всех мифических героев Орфей показался молодому человеку самым душевно близким…
Псевдоним псевдонимом, а что касается имени, то старик де Ларпаз – тоже, видно, поклонник античности – назвал сына Фредериком-Сезаром, соединив имена двух любимых своих деятелей: прусского короля Фридриха II (Александрова крёстного) и Юлия Цезаря [91]. И магия имён сработала с чудовищно ядовитой точностью! С годами став профессиональным политиком, Лагарп считал, что он освобождает человечество от тирании; словно в насмешку над «освободителем», названным в честь двух если не тиранов, то жёстких, суровых самодержцев, судьба превратила его в деспота, в своё время вынужденного спасаться бегством от соотечественников… Английское harp также не зря упомянуто выше. И оно прозвучало иронической нотой в жизни незадачливого либерала, ибо помимо «арфы» имеет ещё одно, несколько жаргонное значение: «бубнить одно и то же; тянуть одну и ту же песню». Именно этим Лагарп и занимался на протяжении многих лет, не замечая – или не желая замечать?.. – что живая жизнь никак не укладывается в его косные идеологемы. Правда, покуда он оставался теоретиком (а точнее сказать, говоруном) свободы, его мысли и действия друг другу не противоречили, ибо действий как таковых не было. Но вот на практике всё вышло совсем иначе…
Однако, не следует забегать вперёд. Возвращаясь в юность Лагарпа, надо отметить следующее: Швейцария в те годы, как и сейчас, была конфедерацией нескольких кантонов, и выпускник Тюбингенского университета оказался в должности адвоката в одном из самых консервативных, находящихся под властью города Берна. Отдадим должное молодому адвокату: заподозренный властями в излишнем радикализме, он не отрёкся от своих взглядов, после чего Бернская коллегия адвокатов объявила ему, что в его услугах более не нуждается. Куда податься?.. К тому времени в Северной Америке уже произошла революция, колонисты сбросили власть английского короля, основали Соединённые Штаты. Многим жаждущим перемен европейцам эта новая страна представлялась воплощением их мечтаний: свободные люди строят свободное общество!.. Мысль отправиться за океан у Лагарпа возникала, но всё-таки совокупность обстоятельств обернулась так, что поехал он не на запад, а на восток. Повод к тому случился вроде бы ненароком… но очевидно, что случайностей на этом свете нет.
Почему Лагарп принял предложение русского двора? По причине вполне банальной: слава Екатерины как императрицы-просветительницы уже давно гремела по Европе, имя её упоминалось в одном ряду с именами Вольтера, Дидро, Руссо… Подкреплялось это умелой культурно-пропагандистской политикой: Дидро, общеизвестно, последние годы провёл на полном Екатерининском пенсионе – и, отрабатывая свою счастливую старость, глаголал на весь свет Божий, устно и письменно, о великих достоинствах русской царицы.
Говоря современным языком, Екатерина умела подать себя. У людей, подобных Лагарпу, складывалось мнение о ней, как о их единомышленнице, мудро воспитывающей (т. е. приобщающей к вольтерианско-просветительскому мировоззрению) полудикий, но тем самым и не испорченный, очень перспективный народ, едва ли не tabula rasa, который впоследствии, возможно, станет основой нового, разумного, справедливого социума… В известном смысле нечто подобное и было: Екатерина общалась с Вольтером и Дидро, конечно же, не только ради рекламы. Она искала в их учениях то дельное, что можно было бы применить в царственной практике. Другое дело – она не забывала, какой трудной страной руководит, и что здесь прежде чем отрезать, надо отмерить не семь, но семьдесят семь раз. Своих высоколобых друзей она слушала, будучи себе на уме – и как позже выяснилось, хотя и сама не всё умела предвидеть, правильно делала.
Лагарп с энтузиазмом принял приглашение состоять при особе юного великого князя. Правда, получилось недоразумение: швейцарцу предложили должность учителя французского языка, в то время как он рассчитывал стать универсальным наставником царевича. Выяснение отношений несколько затянулось… но компромисс был найден. И начать пришлось всё-таки с французского. Это было осенью 1784 года.
Стоит запомнить эту дату. Занятия Лагарпа с Александром длились десять лет: с 1784 по 1794 год, то есть с семилетнего возраста ученика до семнадцатилетнего – стандартный возрастной период средней школы. От французского языка перешли к геометрии, ну а потом постепенно к тому главному, чем так жаждал просветить воспитанника учитель: «науке гражданственности, свободы и равенства», иначе говоря, к социальной философии и политологии.
Александр был восхищён этими уроками, и чувство благодарности к учителю сохранил навсегда, хотя с годами в области духовных исканий далеко ушёл от бывшего наставника, и ничего, кроме воспоминаний, между этими людьми не осталось… Должно быть, Лагарп и вправду был отличным лектором: умел рассказывать ярко, красочно, убедительно. Вообще, артистизм лектора – именно лектора, не учителя в школьном смысле, а профессора высшей школы, и особенно в гуманитарных дисциплинах – важнейшая составляющая профессионального успеха. Лагарп обладал таким даром, и его занятия действительно были настоящими сеансами мастера художественного слова – в том сомневаться нечего. Однако…
Однако, вновь дадим слово Ключевскому.
«Во всём, что он [Лагарп – В.Г.] говорил и читал своим питомцам, шла речь о могуществе разума, о благе человечества… о нелепости и вреде деспотизма, о гнусности рабства… Лагарп не разъяснял ход и строй человеческой жизни, а подбирал подходящие явления, полемизировал с исторической действительностью, которую учил не понимать, а только презирать. Добрый и умный Муравьёв подливал масла в огонь, читая детям как образцы слога свои собственные идиллии о любви к человечеству… Заметьте, что всё это говорилось и читалось будущему русскому самодержцу в возрасте от 10 до 14 лет, т. е. немножко преждевременно. В эти лета, когда люди живут непосредственными впечатлениями и инстинктами, отвлечённые идеи обыкновенно облекаются у них в образы, а политические и социальные принципы становятся верованиями. Преподавание Лагарпа и Муравьёва не давало ни точного научного реального знания, ни логической выправки ума, ни даже привычки к умственной работе…
Высокие идеи воспринимались 12-летним политиком и моралистом как политические и моральные сказки, наполнявшие детское воображение не детскими образами и волновавшие его незрелое сердце очень взрослыми чувствами… Его не заставляли ломать голову, напрягаться, не воспитывали, а как сухую губку пропитывали дистиллированной политической и общечеловеческой моралью… Его не познакомили со школьным трудом, с его миниатюрными горями и радостями, с тем трудом, который только, может быть, и даёт школе воспитательное значение» [35, т.5, 188].
В этой обширной цитате очень точно подмечен главный субъективный недостаток Екатерининской педагогической методы. Преподаватели – умные, знающие, талантливые люди: Лагарп, Муравьёв, отчасти, возможно, Самборский – обращались с воспитанниками как со студентами, достаточно взрослыми людьми, уже прошедшими среднюю школу, с её рутиной, дисциплиной, нудными ежедневными упражнениями – со всем тем кропотливым и незаметным трудом, в котором закладывается основа будущей духовной и интеллектуальной деятельности. Но ведь воспитанники были детьми! Никакой самый лучший лейтенант не сможет командовать полком – для того должно пройти всю цепочку назначений: взводный, ротный, батальонный командир… Екатерина же и её профессура взялись возводить роскошный дворец если не на песке, то во всяком случае, не на прочном надёжном фундаменте.
Выше отчасти говорилось об этом в извинительном для императрицы тоне. Действительно, ей приходилось быть превопроходцем, ибо системы государственного образования в России тогда практически не было. Классические средние школы, те самые «царские» гимназии, о которых нынче говорится столько хвалебных слов (и заслуженно, ибо они с честью прошли испытание временем: советские школы послевоенных лет стали в значительной степени слепком с гимназий, современным же и вовсе поспешили вернуть это название, звучащее как символ качества), в массовом порядке появились только в 1804 году (по указу главного героя этой книги!). Так что можно считать Александра с Константином подопытными кроликами педагогических экспериментов.
То, что моральные и политические премудрости внедрялись в неокрепшие головы – просчёт Екатерины. Другой серьёзный просчёт относится именно к Лагарпу; о нём также было упомянуто прежде, но сейчас пришло время остановиться на том подробнее.
Собственно, это не частный Лагарпов просчёт, а системная ошибка всей просвещенческой идеологии, грубо упрощённого, всё и вся схематизирующего рационализма, прилагаемого к социальным реалиям. Говоря о свободах и правах человека, гражданских равенстве и справедливости… обо всех этих ценностях, имеющих, бесспорно, моральный характер, просветители исходили из их гипотетического приоритета, полагая при этом, что всего упомянутого в современном мире нет, современный мир плох – и свои цели-идеалы рисовали не столько самостоятельными ценностями, сколько на контрасте с окружающими реалиями. Эти реалии были полны пороков, бед и даже гнусностей – совершенная правда. Бороться со злом – мысль благородная. Всё верно. Много и пылко провозглашалось тезисов о науке и прогрессе – тоже ничего против не скажешь. Но всё это, включая науку и прогресс, рассматривалось только как составляющие политической борьбы: а вот данный ход уже сводил все высокие посылы в приземлённую тактику мелочных, слабо систематизированных действий.
Вообще, идеология – слово, приобретшее устойчивый политический оттенок благодаря веку XVIII-му и последующим; а в сущности, в коренной, исходной сущности, безо всякой смысловой аберрации – идеология суть не что иное, как комплекс базовых мировоззренческих постулатов: личности или некоей социальной группы. То есть, собственно, первично-социализированное мировоззрение, пред-философия. Идеология, конечно, может быть политизированной, то есть заострённой на том, чтобы кому-то одолеть своих оппонентов. Но ясно, что вершиной системы человеческих ценностей должно быть абсолютное – не отрицание чего-либо, и не такое положительное, которое выигрышно смотрится на фоне отрицательного, хорошее от противного, так сказать… Оно может, бесспорно быть ценностью, но лишь относительной, неспособной стать истинно прочным основанием адекватного мировоззрения. Абсолют как таковой, безотносительно к чему-либо – опора, стержень и небосвод мироздания. Вот этого-то абсолютного позитива лишали себя некоторые интеллектуалы на протяжении всей мировой истории, в том числе «просветители», а за ними и сторонники более поздних течений, генетически восходящих к Просвещению.
Вообще, мировоззренческий релятивизм, с необходимостью включающий в себя релятивизм этический, несёт в себе неисправимый системный порок: если всякий объект для аутентичной его оценки нуждается в контр-объекте, то дальнейшее осмысление данных сущностей так или иначе, через больший или меньший ряд промежуточных умозаключений, заводит мыслящего в лабиринт бесконечно малых противоречий, подобных апориям Зенона. Это, наверное, не смертельно, но безнадёжно, до смешного скучно, пусто и уныло. Уныние суть один из смертных грехов – а его философским покрывалом как раз и становится дряблая материя последовательно проводимого релятивизма.
В разные эпохи и в разных устах он может являть себя по-разному, и отнюдь нельзя сказать, что в нём совсем нет ничего, никаких достоинств. Как вспомогательное средство, он в состоянии пробудить, активизировать мысль, заставить её двигаться… Но беда, если человек только в кругу относительных ценностей и замыкается – тогда, собственно, его мировоззрение не становится системой в полном смысле этого слова, оно бедно и слабо структурировано. В нём утрачено важнейшее онтологическое измерение: осознание Абсолюта и стремление к нему, что придаёт личности потенциал безмерного; реализуется он или нет – другое дело, но он есть. Релятивизм же принципиально исчерпаем; он способен быть интересным, увлекательным, блестящим… и всё это до поры до времени. Увлекательность непременно иссякнет, а блеск окажется мишурным – так как бесконечность вне Абсолюта может быть лишь «дурной», по выражению Гегеля.
Релятивисты разных эпох и племён достаточно различны. То, что утверждают одни из них, может противоречить высказываниям других… да и вообще, релятивизм – это не столько цельное осознание бытия, сколько социально-психологический типаж, если не один на всех, то, во всяком случае, эти люди очень схожи ограниченностью, философской косностью; впрочем, вполне могут добиваться солидных успехов в той или иной интеллектуальной области: отсутствие метафизической системы тому вовсе не помеха.
Таким образом, ценностное сознание людей типа Лагарпа строилось не как самодостаточная сущность, а на «противоходе», отталкиваясь от недостатков и безобразий окружающего мира. Безобразия были отправной точкой мысли – немудрено, что такую мысль вело путями извилистыми и сумеречными. Лагарпа (и многих других) они научили благоговеть перед античностью: классические Греция и Рим представлялись золотым веком, а слова «республика» и «демократия» превратились в некие условные сигналы, действующие на молодых либералов как генеральские эполеты на прапорщиков и подпоручиков. То, что в тех античных республиках и демократиях часть людей людьми не считалась, что этих людей можно было продавать, истязать и убивать – законно, по всем правовым канонам! – прапорщиков от философии совершенно не смущало. Ну, убили, ну изувечили – так ведь по закону же, а не по произволу. Что в том плохого?..
Французский историк Ленотр писал об этом так:
«Невозможно и определить, какая для ответственности падает на тогдашнее легкомысленное преклонение перед античным миром в создании психики людей революции! Эти господа судили не Людовика XVI, а древнего «тирана». Они подражали диким добродетелям Брута и Катона. Человеческая жизнь не в праве было рассчитывать на милость этих классиков, привыкших к языческим гекатомбам» [91].
Или вот ещё цитата, иллюстрирующая проблему – с другой мировоззренческой позиции, довоенно-советско-марксистской; здесь позиция «просветителей» критикуется за совсем иное, и тем более закономерно, что критика ведёт к практически тем же выводам:
«За исключением таких образцов человеческого общежития, как Греция и Рим, всё остальное в истории представлялось просветителям как плод дурного ума, как неразумная случайность, а современность рисовалась им в виде странной смеси добродетельных побуждений со стремлениями к грязной наживе. Подобным низким стремлениям они сочли возможным противопоставить только стоическую мораль и идеал чувственного самоограничения. Этот стоицизм выражен и в учении Винкельмана об «идеале» как «тихом величии» (stille Grosse), отвлечённом, подобно античной статуе от повседневно-эгоистических и чувственных влечений отдельных индивидов.» [т.9, 329]
Попутно заметим, что стоицизм как мировоззрение – Эпиктета или Марка Аврелия – глубже и интереснее «просветительства», ибо он, как бы там ни было, опирался на разумение несколько странно понимаемого, но всё-таки Абсолюта – о чём ещё будет сказано…
Впрочем, не в античности как таковой, конечно, дело. Она здесь не причина, а симптом. В пределах ценностной относительности нет сущностей как таковых – они присутствуют там лишь в сопоставлении с чем-то: сущность и противосущность, тезис и антитезис… что практически никогда не завершается синтезом. Если тот же Лагарп обрёл суждение: «современный мир плох» (аргументация прилагается), то вместе с этим не мог не обрести суждение противоположное: «значит, было в истории мира время, когда он был прекрасен». В данной оппозиции Лагарп не был оригинален: противопоставление плохой современности некоей волшебной эпохе – античности или ещё более баснословному «золотому веку» – было стереотипом торопливой и поверхностной мысли XVIII столетия, вздорным, но модным. Лагарп лишь усвоил этот штамп вместе со многими другими.
Теперь, с дистанции в двести с лишним лет дореволюционный европейский век № XVIII не без оснований представляется каким-то легкомысленным. Бездумно веселились аристократы – «после нас хоть потоп»; кружили головы проходимцы вроде Калиостро или Казановы; болтали умники-верхогляды – им казалось так просто переделать мир на основах разума и права… Разумеется, это не так, это скорее карикатура, чем картина: для большинства людей жизнь – трудовые, серые будни, что в XVIII веке, что в XXI-м. Но ведь карикатура, как известно, суть гипербола правды, и потому на неё стоит взглянуть всерьёз. Властители дум и жизней человеческих частенько не сознают той ответственности, что на них лежит.
Видимо, не сознавал её и Лагарп, когда вдохновенными речами, подобно Орфею, очаровывал юношей. Да что Лагарп, сама Екатерина просматривала конспекты его лекций и нахваливала их… Однако, идиллия такая продолжалась до поры, а когда эта пора пришла, долго объяснять не надо: когда во Франции начала рушиться монархия.
Сначала, кстати говоря, сведения о парижских беспорядках в Петербурге восприняли если не со злорадством, то с ехидством и острословием… Между прочим, цесаревич Павел, к тому времени вполне взрослый человек, оказался проницательнее матушки и вольтерьянствующих царедворцев: он распознал в этих беспорядках признаки грозы – а вот прочие спохватились лишь тогда, когда гром грянул.
Но спохватились-таки. Лагарп же своих убеждений не менял и симпатий к революции не скрывал. При дворе ему стало туговато. Потом во Франции дело быстро покатилось к вопиющим безобразиям, начались террор и дикая «дехристианизация» – присутствие близ императрицы такого человека, как Лагарп, стало немыслимым. В 1794 году, когда безумие террора ужаснуло даже и самих безумцев, Лагарп был уволен от должности наставника; впрочем, с полным пиететом, в должности полковника и с очень крупным единовременным пособием. Какое-то время он – видно, не так-то легко отвыкать от придворной жизни! – пытался восстановить себя близ трона, однако, ничего из этого не вышло. В 1795 году Лагарп покинул Россию.
Не навсегда; и отношения с Александром на этом не прервались, хотя, конечно, столь близкой дружбы, как в юности одного и расцвете лет другого, больше не было никогда. Александр взрослел, мужал; Лагарп, перевалив через пик своих политических успехов, стал стареть, причём именно «морально устаревать»: новый век нёс с собой, новую, сложную, быстро меняющуюся жизнь, а бывший царский наставник всё пребывал в плену обветшалых схем. Самодержец остался благодарен учителю за те давние детские впечатления, однако убеждения его изменились кардинально, произошла переоценка ценностей, и вдохновитель юности вместе с этой унесённой годами юностью и скудной низкопробной философией отошёл для Александра в давно прошедшее прошлое, plusquamperfectum.
Но это сделалось много лет спустя…
Вернувшись на родину, Лагарп с головой ринулся в политику. К этому моменту новорождённая Французская республика занялась «экспортом революции», одним из объектов экспорта стала Швейцария – а Лагарп, ясное дело, тут как тут, в первых рядах.
Вот ведь казус, достойный эпического пера: очень часто те политические силы, что находясь в оппозиции, громче всех требуют свобод и прав, захватив власть, немедля начинают эти права истреблять. Подчинив Швейцарию, революционеры сразу отменили конфедерацию: страна превратилась в унитарное государство, так называемую Гельветическую республику (гельветы – древнее кельтское племя, некогда населявшее эти места) во главе с директорией – группой диктаторов, в числе которых был и Лагарп. Собственно, эта Директория была марионеточным правительством, полностью зависимым от Директории парижской. Обе они друг друга стоили, и граждан Гельветической республики обложили такими налогами, поборами и контрибуциями – для «дела свободы», разумеется! – что несчастным «освобождённым» просто никакого житья не стало.
В довершение всего члены гельветической Директории переругались и между собой. Лагарп между прочим явил себя незаурядным интриганом (годы при дворе даром не пропали): он фактически узурпировал власть, пользуясь поддержкой Парижа. Но тут и «большой», французской Директории пришёл конец: Наполеон разогнал это бесславное заведение, воцарился сам, стало ему не до швейцарских дел – своих забот выше головы [89].
Лагарпу в сложившейся ситуации не осталось ничего иного, как бежать во Францию – во времена консульства она всё-таки по инерции считалась ещё революционной, да собственно все властные места и занимали вчерашние революционеры, успешно врастающие в новую жизнь. Они и пригрели дезертира. Но политическая его карьера на этом, по существу, закончилась.
6
То, что Александр не забывал своего любимого учителя, переписывался и встречался с ним, делает императору честь. Пребывание на троне выветрило наивные иллюзии юности – но в том, что зрелый Александр, самодержец, политик и военачальник, сохранил глубокий, серьёзный интерес к «вечным» темам – есть и Лагарпова заслуга, несомненно. Духовные поиски русского царя приняли сугубо религиозный, христианский характер; вряд ли таковой была воспитательная цель Лагарпа, но тем с большим почтением мы можем оценить самого Александра: он сумел ответственно отнестись к мировоззренческим вопросам, по сути, проявил к ним философский подход. Он сохранил уважение к тому здравому и позитивному, что в просветительской идеологии было – и остался за это благодарен ей в целом и Лагарпу лично. Ну и, очевидно, не прошли всё же даром уроки Самборского, только действие их оказалось замедленным. Зёрна долго лежали в негостиприимной сухой почве, но дождались-таки живительной влаги и проросли.
Можно ли утверждать, что будущее актёрство Александра («в лице и в жизни арлекин»), зарождалось уже тогда, в детстве и ранней юности, и что тому способствовали его педагоги, чьи уроки давали даровитому ученику противоречивую информацию?.. В какой-то степени – не исключено. Возможно, эта самая информация, ещё не осознаваясь как противоречивая, уже залегала где-то в разных уголках мозга… И всё-таки это не главное. А вот то, что корни лицедейства берут начало в детстве – совершенно так.
Юность царевича состояла, разумеется, не из одних учебных занятий, даже большей частью не из них. Так уж ему повезло – или, напротив, выпала беда?.. – родиться в «большом мире» политической власти. Но вот его младший брат Николай, тоже будущий самодержец, родившийся в том же самом мире, вырос совсем иным человеком! То, что в одной и той же семье вырастают разные дети, конечно, не удивительно, случается такое как во дворцах, так и в хижинах… Впрочем, разговор о загадках индивидуальных свойствах человеческих характеров неизбежно заведёт в непроходимые психологические дебри. А вот непосредственно воздействующая на личность среда: родители, близкие, место, время – это на виду, это мы можем рассмотреть и сделать кое-какие выводы…
Обстановка Екатерининского двора была нездоровой.
Собственно, вся придворная жизнь такова, как бы ни назывался этот двор: императорским, королевским, президентским, или же ЦК КПСС. Близость власти и денег – то есть, конечно, власти, ибо она сама собой означает контроль над огромным количеством денег, являясь таким образом специфичной экономической категорией – разлита в воздухе дурманом, ароматом белладонны, от неё люди шалеют, взор меняется, меняются пульс, частота дыхания, состав крови…
Но и это, конечно, не является неким универсальным, всё объясняющим фактором. Да, в «большом мире» своя атмосфера, вернее, стратосфера. Но и в ней люди разные не только потому, что разные они от рождения – что суть аксиома. И стратосфера не одинакова.
Екатерина – даже Великая! – была женщиной. Власть женщины: хорошо это или плохо? Да так же, как и власть мужчины: и плохо и хорошо. Только плюсы и минусы другие.
Несложная психологическая закономерность: лесть, даже примитивная, на женщин действует неотразимо, и на умных, и на очень умных в том числе. И на великих. Двор Екатерины кишмя кишел никчёмными людишками: пройдохами, авантюристами или же просто низкими шутами, вроде упомянутого Пушкиным «Сеньки-бандуриста» [49, т. 7, 174] [С.Ф. Уварова; между прочим, отца будущего министра просвещения С.С. Уварова, автора знаменитой триады «православие – самодержавие – народность» – В.Г.] или незабвенного Максима Петровича из «Горя от ума» – фигуры собирательной, но благодаря Грибоедовскому гению совершенно реальной. Да, такая публика при власти – печальная издержка мироустройства, но дамское правление, особенно самодержавное, плодит подобных деятелей в ещё большей пропорции.
Разумеется – о, разумеется!.. – императрица умела привлечь к себе блестящих, талантливых, дельных людей. Митрополит Платон, Потёмкин, Безбородко, Суворов, Румянцев, Сумароков, Фонвизин, Державин, многие другие дипломаты, полководцы, мореплаватели, литераторы, учёные… Без них Россия никогда не смогла бы стать тем, чем стала. Но и никогда, пожалуй, российская власть не обрастала таким количеством бессмысленных ничтожеств, как при «бабьем царстве» XVIII века, и в Екатерининское царствование в том числе. Приходится признать, что слабость Екатерины к лести отчасти проистекала из другой её слабости: пушкинское эпиграммическое «немного блудно» – всё-таки очень деликатная формулировка. Блудно было много и даже очень много.
Опять-таки смягчающее обстоятельство: страсти человеческие остаются страстями и на самых верхних социальных этажах, слабость эта, наверное, не самый тяжкий грех, и державные мужчины отличались и отличаются подвигами во владениях Эрота не в меньшей, а то и в большей степени. Однако, мужскому эросу промискуитет свойственен физиологически, женская же сущность по природе должна быть более консервативной. А вот Екатерина частенько злоупотребляла лёгкостью интимных сближений. Отсюда и пустые бездари, вдруг выскакивавшие в фавориты, а с тем и в эпицентр большой политики: Зорич, Ланской, Дмитриев-Мамонов, Зубов… Позолоченный мусор – они мигом тянули к себе своих дружков, таких же мелких прилипал, к тем тут же устремлялись их приятели… в итоге имела место цепная реакция, отягощавшая элиту некачественным кадровым материалом.
Всё это подрастающий великий князь видел и сознавал: в пределах юношеского разума, но и этого хватало. Можно не сомневаться, что он, бабушкин любимец, потенциальный наследник, служил объектом интриг со стороны фаворитов, фаворитов фаворитов, многоопытных придворных дам… Что уж там говорить – вдохновенные мифы Лагарпа, эти «моральные и политические сказки» смотрелись волшебной страной за тридевятью землями, прекрасной и волнующей – сравнительно с неприкрытым фарисейством двора. Конечно, чуткий, даровитый юноша грезил Лагарповыми утопиями. Грезам со временем пришёл конец, но добрые чувства к воспитателю воспитанник сохранил навсегда – видимо, так выгодно отличался швейцарец от «Сенек-бандуристов» и «Максимов Петровичей».
И ещё одно обстоятельство.
Мы знаем, что насколько Екатерина оказалась хорошей бабушкой, настолько же она была плохой матерью. Нет, она не была легкомысленной, беззаботной и разбросанной, какими обыкновенно плохие матери бывают – конечно, это не про неё. Но она не любила своего сына, Павла, держа его в постоянном напряжении и даже страхе.
Отчего? Не стоит пересказывать сплетни, даже если они и правдоподобны. Но несомненно, что-то глубинное, тяжкое, психогенное там было. Павлу Петровичу при царствующей матери жилось так, что не позавидуешь. Он боялся её, хотя вряд ли она угнетала его как-то сознательно и изощрённо – в это не верится. Презирала, насмехалась, унижала – да, в это поверить легко. Наверняка бы не заплакала, случись что с сыном… Но мелочная мстительность не в её характере. Скорее, она просто не понимала, что сын страдает, да и просто не желала того понимать. Перед ней ежедневно вставало неисчислимое множество колоссального масштаба проблем, и среди такого сонма забот неудачный, погружённый в какие-то совершено не понятные ей размышления наследник престола воспринимался лишь как одна из досадных помех. А с рождением двух внуков и эта помеха показалась императрице потенциально устранённой. Сын, посчитала она, нейтрализован, духовно подавлен, и всё что ему нужно – мирная жизнь в своей резиденции в Гатчине.
А это было совсем не так. Сын вырос человеком способным, волевым, с романтической душой, с сердцем, открытым «мирам горним», что, правда, иной раз ввергало его в какой-то нелёгкий мистицизм. Вообще, что-то было сбито в нём, хорошую в целом программу где-то заедало, и она вдруг ни с того ни с сего выдавала нечто непредсказуемое. И тут, наверное, нет смысла гадать, откуда такие «неожиданные реприманды»: наследственность ли виновата, трудная ли жизнь… Личность человека слагается из огромного, неисчислимого множества факторов, нюансов, мелочей – в этом психоанализ прав. Пустячный вроде бы случай, мимолётный поступок, невзначай оброненное слово в раннем, раннем детстве, к зрелости вырастает в привычку, склонность, характер… а всё вместе это чертит линию судьбы.
Впрочем, все эксцентричности Павла так бы и канули в Лету, не окажись он на престоле – отчего и сложилась у правления императора Павла I репутация в чём-то незаслуженно, а в чём-то заслуженно трагикомическая, несмотря на все субъективно ценные начинания.
Нет, удивительный был всё-таки человек Павел Петрович Романов! Натура вроде бы твёрдая, целеустремлённая – но с роковой какой-то трещиной. Искренне стремившийся делать благо и делавший нелепости, нелепые тем более, что характер Павла Петровича в основе был цельным. Вот, вероятно, главное различие между ним и его первенцем: тот был раним, туманен и уклончив… или, вернее будет сказать, что его цельность имела иной мировоззренческий характер, более сложный и оттого была более уязвима. Правда, Александр ценой огромных издержек сумел сделать так, что эта система, несмотря на сложность и уязвимость, оказалась всё же более устойчивой…
Павел твёрдо сознавал, что он настоящий, легитимный император – в потенции, правда, а вернее сказать, как бы во временном изгнании; но истинный, не узурпатор, не похититель престола, как маменька. А идею монархии он, можно не сомневаться, воспринимал всей душой – и гораздо более в метафизическом, нежели в юридическом смысле. Его-то духовным наставником был как раз архимандрит Платон, впоследствии митрополит: уж он-то умел внушать должное. Масонские же происки, сплетавшиеся вокруг наследника, усугубляли в нём (может и вопреки их инициаторам?..) духовное рвение. Монарх незримой прочной нитью связан с Небом – Оно ведёт, Оно хранит, и значит, что бы ни было, рано или поздно он, истинный монарх, должен воцариться. Небо не допустит несправедливости!..
Эта идея жила в наследнике, несмотря на страхи и сомнения. И он жил под её светом. Он готовился. Мать подарила ему Гатчину: пусть тешится, несчастный. А он не тешился. Он готовился всерьёз. Он знал: его час пробьёт.
И он не ошибся.
Предвидел ли это Александр? С достоверностью сказать трудно. Он известен в истории своим тяготением к высокой мистике – но это пришло к нему много позже, в зрелости… К тому же, разумеется, он не был так мистически одарён, как известные его современники: Серафим Саровский, монах Авель (Васильев). Но даже не предвидя – предположим! – ровно ничего, юноша Александр не мог не замечать эту отцовскую силу, его если не убеждённость, то твёрдую готовность принять волю небес. А вместе с тем юноша видел, что бабушка год от года стареет, дряхлеет, и Бог весть каким боком может выйти дальнейшее… Как ему, хоть бы и в ранге императора, оставаться один на один с отцом? Вопрос!.. Конечно, хорошо бы – ах, как хорошо! – жить в утопии, где царит свободный разум, справедливые законы, всё устроено и уравновешено – иначе говоря, в той стране, о которой так чудно, очаровательно, волшебно рассказывает мсье Лагарп… Но вот ведь незадача: кончается его урок, и исчезает сказка, и надо опять жить в этом грубом, трудном, надоевшем мире, со враждою бабушки и отца, с наглым Потёмкиным, с оравой его подхалимов, с фальшиво любезными придворными, каждому из которых что-то надо, и каждый нашёптывает, науськивает, доносит на других… а приходится всем им улыбаться, делать милый вид – словом, играть опостылевшую роль в дрянной пьесе.
Таким образом и формировался уклончивый характер будущего самодержца. Власть и притягивала и страшила его – он, пусть в потаённых, никому не высказываемых мыслях осторожно примерял на себя корону; не то, чтобы жаждал того, скорее, наоборот: то была непростая, невесёлая задумчивость. Всё же вероятность короны очень и очень могла состояться – и как тогда быть?.. И это ведь только думы! А в ломких придворных конъюнктурах юному принцу было совсем неуютно.
Так шло время, день за днём, год за годом. Оно менялось. Французская революция, к которой поначалу в Петербурге отнеслись как к занятной диковине, быстро показала свой бешеный нрав, отразилась в оккупированной Польше восстанием Костюшко… и тогда в Петербурге испугались, засуетились – хотя пугаться надо было, конечно, раньше.
Пошла реакция. Екатерина с некоторым запозданием сообразила, что чересчур заигралась в вольнодумство. Впрочем, никто ведь из тех, образованных и просвещённых людей того века и представить не мог, что революция будет такой страшной – по наивности, недальновидности ли, но не мог. Не знали, что в красивом кувшине сидит ужасный джинн. Потом, годы спустя, идейные потомки вольтерианцев неохотно признавали, что огромные тёмные массы простонародья («чернь») не были готовы, якобы, к свободе, что процесс должен быть осторожным, постепенным, длительным… В общем-то известный здравый смысл в таком духовном торможении есть, но принципиально это ничего не меняет.
Французская революция – и новое напряжение сил беспрестанно воюющей и подавляющей восстания Российской империи и самой Екатерины. А ведь она уже тридцать лет на троне. Тридцать лет! – подумать только. Здоровье начинает подводить. А тут эта смута на всю Европу, свои доморощенные якобинцы, да всякие пророки, юродивые, смутьяны… Царица спешит.
Великий князь не может взойти на престол неженатым: это моветон. Александр почти мальчик, но время не ждёт. Бабушка спешно находит ему невесту. Принцесса Луиза из курортного города Баден-Баден ещё моложе: жениху шестнадцать, ей четырнадцать, в наше время свадьба не могла бы состояться. Но тогда загсом была сама императрица, Луиза стала Елизаветой Алексеевной, и свадьба состоялась по всем православным обрядам. Отметим, что в очередной раз сумел «попасть в случай» при этом Гаврила Романович Державин: воспел юную чету в обличьях Амура и Психеи («Псишеи» в тогдашней транскрипции)… Торжества длятся две недели.
В это время во Франции царит кошмар террора, Европу бьёт в лихорадке, империи, королевства, герцогства сбиваются в коалицию, на южных рубежах России после Ясского мира не очень спокойно, на западных – в добитой вроде бы Польше ещё неспокойнее… Время Екатерины тает, сжимается, убегает в никуда – такая вот теория относительности. Царица жаждет успеть всё.
Теряет лидерство Потёмкин. Вокруг трона взметается вихрь кандидатов в фавориты: «закружились бесы разны…» Фортуна попадает пальцем в Платона Зубова, юношу необычайно красивой наружности, и придворные острословы ядовито нашёптывают, что наконец-то на старости лет государыня обрела «платоническую» любовь.
Да, век Екатерины стремительно исчезал. Финал игры – а на лице судьбы всё та же непроницаемая маска, что в начале партии. Но царица надеется, что заслужила благосклонность таинственного партнёра: ведь ею воспитан будущий правитель России, благородный просвещённый муж – возможно, это самое главное, самое значительное достижение императрицы Екатерины II, важнее всех завоеваний и реформ. Ещё б только немного времени, немножечко, совсем чуть-чуть!..
7
А что же сам «благородный муж»? Для него эти последние годы «бабьего царства» были какими-то сумбурными. После устранения Лагарпа он практически забросил учёбу: без любимого наставника она стала ему неинтересна. Он женат – поначалу это показалось занятным, необычным, чувственно-пряным, но быстро наскучило. Не то, чтобы в молодом человеке не проснулись ещё мужские волнения – они-то как раз имели место, однако, много ли нужно времени, чтобы их утешить? А кроме того они у великого князя проецировались более на дам и девиц взрослых, нежели на это юное существо… Тут ещё случилось нечто странное: к великой княгине Елизавете вдруг стал проявлять внимание Зубов [73, 94] – и так же внезапно отступился; вероятно, испугался утратить положение фаворита.
В это самое время Александр сближается с людьми, впоследствии ставшими его многолетними соратниками и друзьями в годы царствования: Адамом Чарторыйским, Виктором Кочубеем, Александром Голицыным, Павлом Строгановым. Всё это были молодые люди своего времени: острые, с блеском, с авантюрной жилкой – этакий сплав Чацкого и Д`Артаньяна. Их жизнь была полна приключений; все они, разумеется, были поклонниками «свободы» в самом смутном толковании этого слова. Французская революция? Строганов принял в ней самое активое участие: штурмовал Бастилию, вступил в Якобинский клуб, завязал шумный роман с инфернальной «звездой революции» Теруань де Мерикур… Невесть чем бы кончились его парижские похождения, если бы не пришлось отбыть в Россию по строгому приказу самой Екатерины, посчитавшей, что немыслимо русскому аристократу брататься с одичалой чернью. Императрицу граф ослушаться не мог (к диковинным извилинам его судьбы мы ещё вернёмся – они того стоят!).
Но никого из этих людей кровожадным зверем не назовёшь. Просто они горячо любили «свободу» и мечтали избавить мир от «тирании», принимая свои неясные понятия о том и другом за истину. Теоретическое республиканство не мешало Голицыну служить ловким царедворцем, а Кочубею – имперским дипломатом; с годами они сделались вполне здравыми, солидными консерваторами. Правда, про Строганова этого не скажешь – он как-то так и не сумел остепениться… Но, в общем, все они в юности были неплохими парнями, а горячность и путаница в головах свойственны молодёжи всех поколений. В те времена вся эта компания вместе с Александром занималась необязательной болтовнёй, находя в том духовную пищу – что было совершенно безвредно и бесплодно.
Примыкал к кружку свободных мыслителей и человек постарше – Николай Новосильцев, отличавшийся от придворных радикалов более трезвым взглядом на вещи. И, видимо, не в возрасте дело: скорее, по характеру он был сдержан и благоразумен; это помогло ему впоследствии не только достичь высших постов в имперской бюрократической иерархии, но и удержаться там надолго, пережив ещё двух императоров.
Предчувствуя трудные дни, Александр уклонялся как мог от официального титула наследника: догадывался, что случись такое, явной конфронтации с отцом он может не выдержать. И не только потому, что он слабее, хотя и поэтому тоже. Но прежде всего по причине самой простой, настолько простой, что опалённой, закалённой, огрубелой за годы большой политики Екатерине такая причина, вероятно, даже не приходила в голову: Александр любил отца.
Это не значит, что нормальные человеческие чувства были императрице чужды. Но любить такого человека, как Павел?!.. Этого она, видимо, осознать не могла. А ведь Александр помимо отца любил и её, бабушку – и значит, не мог открыться ни тому, ни другой. Клубок противоречий, недоверий, чьих-то корыстных и недобрых умыслов сплёлся в такой Гордиев узел, что несмотря на юность, Александр, подобно древнему своему тёзке, понял: этот узел уже не развязать. Только разрубить.
Правда, если Александр Македонский это сделал сам, то у Александра Романова такой возможности не было. Лезвием, способным рассечь его узел, могла стать лишь смерть кого-либо из двоих: Екатерины или Павла. Нелегко такое осознавать, и Александру, конечно, очень хотелось бы, чтобы проблема как-нибудь растворилась сама собой… но он понимал, что это просто пустая мечта. Всё, что оставалось молодому царевичу – тянуть время, изворачиваться, ловчить и ждать…
И он дождался.
То, что Екатерина заслужила титул «Великая» – бесспорно. Она казалось, успевала всё, и всё у неё как будто получалось: управлять, воевать, строить, философствовать, основывать академии, университеты и журналы, писать законы, статьи и пьесы… Она пробыла на престоле 34 года – третий результат за всю тысячелетнюю историю России (больше, да и то формально, лишь Иван Грозный и Пётр I). За время её правления международный авторитет страны возрос неизмеримо, стратегическое положение за счёт побед армии и флота укрепилось могущественно. Проблемы? Их меньше не стало, ни внешних, ни внутренних – но их и никогда не бывает меньше. Так что – слава Екатерине Великой!..
Всё это правда. Но правда и в том, что Екатерина была прежде всего политиком, то была её стихия. Политика вообще не филантропия, а уж Екатерину никак не назвать самым щепетильным и стеснительным человеком в этом морально шатком деле. И весь внешний блеск империи достигался крестьянским и солдатским горбом – трудом и кровью простолюдинов, которых не жалели, точнее, просто не думали о них, как о людях, об их судьбах, радостях, печалях… Судьба, и радость, и печаль – это для придворных, вельмож, ну, просто для дворян. А кто там внизу, далеко от трона – с такой высоты царица не различала. Она не была жестока к этим людям, нет. Просто не замечала и не различала их.
И Бог весть почему, судьба хлёстко, с какой-то сверх меры издевательской фантазией, решила закончить столь пышное царствование столь безобразной сценой… Теперь Пушкинскую эпиграмму можно привести полностью:
Старушка милая жила Приятно и немного блудно; Вольтеру первый друг была, Наказ писала, флоты жгла И умерла, садясь на судно.Под «судном» здесь имеется в виду известное санитарно-техническое сооружение…
Удар (инсульт по нынешнему) и падение с «судна» приключились утром 5 ноября 1796 года. Пушкин допускает маленькую поэтическую вольность: царица всё же умерла не на «судне». Ещё почти двое суток прошли в тяжких страданиях – и вот, в ночь с 6 на 7 ноября Ея Величество Императрица Всероссийская Екатерина II отошла в вечность.
Со смертью Екатерины женское царство, процветавшее на Руси едва ли не весь восемнадцатый век, закончилось навсегда. Пока – во всяком случае. Что будет дальше, неведомо, но как 7 ноября 1796 года вокруг российской власти начались, так и по сей день идут мужские игры.
Глава 2. Сын, отец и тень бабушки
1
Изо всех русских монархов Павел взошёл на престол самым зрелым мужчиной – стукнуло ему целых 42 года. По нынешним временам возраст для правителя юношеский, но тогда и продолжительность жизни была много короче, чем сейчас, и взрослели люди куда раньше… Учитывая, что Романовы вообще не долгожители, царствование Павла в принципе не должно было быть долгим – оно же по известным причинам стало совсем коротеньким; не самым кратким в отечественной истории, но одним из самых.
Однако, эти несколько лет вовсе не стали бесследным мигом, промежутком, каковыми чаще всего бывают подобные исторические эпизоды. Кто сейчас помнит о таких наших правителях, как Фёдор Алексеевич, Пётр II, Константин Черненко?.. Да практически никто; во всяком случае, в живой активной памяти большинства людей вряд ли фигурируют эти личности. Но Павел I – это кипы исследований, легенды, мифы, книги, кинофильмы, тайны! Почему так? Отчего те четыре с половиной года стали эпохой?.. Об этом и пойдёт речь.
2
Первый ответ, который в голову приходит, совершенно естествен: видимо, Павел был незаурядным человеком. И это правда. Но не вся. Он был не только незаурядной, но трагической, печальной личностью… Надо сказать, что судьбы талантов складываются очень по-разному. Есть счастливые: их талант чудесно попадает в такт с окружением, и тогда окружения-то будто бы и нет – оно послушно стелется под беспечного счастливчика. Не надо понимать слово «беспечный» как иронию: в данном случае оно говорит о высшей степени благосклонности Неба к человеку – что, впрочем, не гарантия земного благоденствия… Жизнь человеческая слишком сложная материя.
Почему и каким образом определяется и создаётся эта гармония таланта и обстоятельств? – вопрос, на который философия отвечает вот уже не первое тысячелетие; особенно стоики потрудились на данном поприще… А ответа так и нет, точнее, сколько мыслящих личностей, столько и ответов. И будет ли когда-нибудь один на всех?..
Судьба Павла Петровича Романова сложилась трагически.
Именно так. Назвать её неудавшейся, пожалуй, было бы натяжкой. Миллионы людей на этом свете, прожившие свои жизни впроголодь, в нищете и неприкаянности, наверняка представить даже себе не могли, что существует такая роскошь, в коей родился и жил Павел Петрович. Да что там голодные, сирые, убогие! Буквально наперечёт, единицам изо всех прошедших и идущих по Земле, довелось испытать власть и могущество, равные власти этого человека.
Да только власть и могущество – не счастье.
Впрочем, сказать, что в жизни пятого русского императора счастья не было совсем, тоже неверно. Были, конечно, были мгновения надежды, веры и любви – прикосновения к счастью… Но это вправду были мимолётные касания, искорки, что вспыхивали и гасли в сумерках «большого мира», где Павлу, как и его детям, выпало родиться.
Его-то жизнь как раз явила собой нагляднейший пример расхождения между способностями и окружением. Вероятно, из него получился бы неплохой – а может, и замечательный, кто знает? – богослов, священник или философ. Дар душевной отзывчивости, дар чувствовать добро – вот, очевидно, главный, самый ценный талант Павла Петровича. Люди, столь одарённые, наверное должны быть монархами в полном, истинном, сакральном смысле слова… Должны быть – но в земном бытии смысл этот размывается, растворяется, и вместо идеальной монархии выходит нечто, лишь в большей или меньшей степени ей подобное, и чаще, увы, в меньшей. Нечего и говорить, что правление как бабушки Павла, Елизаветы Петровны, так и матушки его – на освящённую Божественной санкцией власть правды и милосердия не походило ни в малейшей степени… Елизавета о том, похоже, вообще не задумывалась, а эпоху Екатерины можно назвать победоносной (по внешним показателям!), саму Екатерину – отличным, эффективным руководителем, но вот уж кем её никак не назовёшь, так это воплощением монархической идеи. Умная, властная, жёсткая, насмешливая, циничная – совокупность качеств, наверное, удачная для топ-менеджера, но слабо сопоставимая с представлением – перефразируя Конфуция – о «благородной жене», матери, защитнице и наставнице подданных.
Не стоит строго судить Екатерину. Она бесспорно хотела видеть Россию мощной, преуспевающей державой – и во многом этого добилась. Совершалось это непомерным напряжением, трудом и бедностью народа: это верно, и тут восторгаться императрицей не за что, но всё-таки она действовала не так страшно и дико, как, скажем, Пётр I, достигавший той же цели… Правила же дворцовых игр, в том виде, в каком они сложились к середине XVIII века, тоже не Екатерина придумала. Она охотно стала в них играть и преуспела – желающих поучаствовать было много, а выиграла именно она.
А вот её сын этих правил не принял, вместе с пошловатым вольтерьянским скептицизмом, который плоским натурам казался блистательно остроумным. Павел – человек, быть может, не «быстрый разумом», подобно Ньютону, однако, духовно, религиозно одарённый, в этом нет сомнений (правда, свою одарённость он не сумел реализовать, но это другая тема, к которой мы обратимся позже)… Пошлость, ложь и грязь придворной жизни он воспринимал совсем не так, как царедворцы, из коих одни были простодушно рады тому, что они при кормушке, другие упивались «чашей бытия»: интриги, тайны, страсть и власть… а иные – «мудрецы» – несли бесстрастно-надменную улыбку сфинкса на устах: всё, мол, видим, всё сознаём, сами грешим… но что ж делать? такова жизнь. Мы живём ею, только и всего.
Павел, в силу своей искренности и честности так жить не желал. Высокое предназначение монарха он сознавал всерьёз – нашлись воспитатели, которые сумели внушить ему это. И уж, конечно, мысль о том, что он-то, Павел Петрович, и есть истинный, законный император, прочно овладела им, несмотря на то, что он совершенно реально отдавал себе отчёт в том, при власти матери ходу ему не будет. Но…
Но синтез этой мысли и идеи сакральности монархии дал закономерный результат: правда восторжествует. Должна восторжествовать. Не может не восторжествовать! Не может быть того, чтобы настоящий самодержец остался вне трона. Это не по-Божески.
Так хотел верить Павел. Очень хотел! Но…
Но очень хотеть верить – это всё-таки не вера.
Вера – это особое состояние души, открывшийся духовный взор, те ландшафты времени и пространства, что обычному глазу не видны. Этот взор вместе со многим прочим даёт и уверенность: человек не боится будущего, потому что знает его и к нему готов.
На Павла Петровича это не похоже…
Он будущего страшился. Убеждённость в том, что силы высшие поддержат, защитят законного монарха, премежалась в нём с приступами малодушия и паники: а вдруг этого не случится?.. Значит – включалась сверх-логика – я всё-таки не настоящий. Подкидыш, подменыш! Вот ведь что особенно больно и досадно, что терзает сердце! Где уж тут величавость, простота и безмятежность духа, присущие обладателю истинной веры!.. Потому-то юного – а затем и не очень юного цесаревича и бросало из крайности в крайность, от веры к страху, от надежд к отчаянию, от любви к ненависти… А происходящее вокруг него только и делало, что расшатывало его душу.
3
Мы говорили уже, что обстановка Екатерининского двора была неблагополучной. Да, всякая власть живёт в нелёгкой ауре. Но когда власть – подлинная, реальная власть – находится в цепких женских руках, то аура эта обретает аромат едкий, пряный, очень особенный. И не только в банальном эротизме тут дело, хотя и в этом тоже. Однако, если б даже эротического мотива и не было, всё равно приходится признать иную природу интриганства. При дворе, возглавляемом женщиной, большие шансы на успешную карьеру имеют те мужчины, которые имеют нечто женоподобное в своей натуре.
Здесь необходимо пояснение. Речь вовсе не идёт о субъектах жеманных, плаксивых, слабовольных и т. п. Таким в политике не место. Но душа человеческая – субстанция сложнейшая, крайне причудливая, очень непредсказуемая… И у вполне волевых, жёстких мужчин с прекрасными деловыми качествами встречаются в характерах странные изгибы, присущие более женской, нежели мужской природе, и эти изгибы входят в незримое, но прочное притяжение с психикой царственной дамы. Возможно, она и сама о том не думает, но взор её бессознательно тянется в сторону подобных людей, и они при прочих равных условиях получают заведомое карьерное преимущество. Ну, а затем в действие вступает теория вероятности… и императорский двор отчасти превращается в паноптикум.
В подобной беспорядочной атмосфере и рос юный Павел. Понятно, что он, официальный наследник престола, весь был опутан липкой паутиной хитроумного политиканства. Разумеется, со временем нашлись добровольные осведомители: мальчик узнал много интересного: и что отец его умер вовсе не от «геморроидальных коликов», как сказано в официальном заключении; и что мать похитительница престола, что она, вероятно, думает и его, сына, убить, ей это ничего не стоит [73, 13]. Или не убить, так заточить в Шлиссельбурге, как несчастного Иоанна Антоновича… которого, впрочем, в конце концов тоже убили.
Надо полагать, что осторожненько рассказывая наследнику об этом обо всём, опытные интриганы умели прослезиться в должном месте, умели до боли зацепить детское сердце. Однако, вряд ли эти действия, вместе взятые, составляли единую систему. Просто разные деятели с разными целями снабжали юношу сведениями разной степени грязности и лживости – при том, что грязь и ложь так или иначе в рассказах присутствовали. Блуждала, и до сих пор имеет хождение, в числе прочих, версия, согласно которой отец Павла – вовсе не Пётр III, а тогдашний тайный фаворит Екатерины (ещё не царицы) Сергей Салтыков [36, 310]… Подобные «информационные потоки», иной раз, может, и без злого умысла со стороны информаторов, душевного здоровья и спокойствия Павлу, естественно, не добавляли. Да что там говорить! Неокрепшую психику юноши россказни царедворцев просто разрывали на части. Способный мальчик с богатым воображением пугался своей же возбуждённой фантазии, а та успешно подпитывалась пресловутыми «добожелателями»… И тут как нельзя кстати – куда же без них! – захлопотали, как летучие мыши, зашелестели вокруг наследника носители таинственного масонского глубокомудрия.
4
О влиянии масонства на Павла написано много, о масонстве как таковом ещё больше. Писания эти крайне противоречивы, пристрастны, эмоциональны – что совершенно естественно, когда речь идёт о социальной доктрине, задевающей живые человеческие судьбы. Гуманитарная наука в принципе не может быть внемифологичной, это правда. Однако, главная трудность методологического характера здесь состоит в том, что чрезвычайно сложно уловить грань между мифологизмом как художественной правдой – и идейной предвзятостью; трудно остановиться вовремя, так, чтобы увлечённость, образность и стилистический блеск не превратились в манию, при которой под теорию подвёрстываются все факты подряд, как у человека, страдающего маниакальным бредом преследования или величия.
История тайных обществ – наверное, самая благодатная почва для расцвета подобных теорий. В том, надо сказать, есть особая, изощрённая такая справедливость: бурная, бьющая через край фантазия исследователей – вполне логичное продолжение фантастического антуража, коим окружают себя теневые деятели… Впрочем, действительно говорить о нейтральности в гуманитарно-социальном измерении можно лишь условно. Но тем более следует помнить о сдержанности и толерантности, когда речь идёт о столь сложных, многомерных реальностях, ограниченно формализуемых. Неизбежный агностицизм в субъект-объектных отношениях не так беспощадно-очевиден в гуманитарной сфере, как это проявляется в точных науках (если взглянуть на них философским взором, разумеется!) – и тем коварнее: тем труднее заметить неуловимое, непознанное, его странную игру с нами, полную причудливых изгибов, в каждом из которых так легко попасть впросак…
Понятно, что на этих страницах нет возможности подробно рассматривать социально-исторический феномен масонства. Поэтому далее будут изложены лишь выводы, к которым должно привести диалектическое, без крайностей изучение. Соглашаться, не соглашаться, дискутировать либо отвергать – полное право читателя, и остаётся надеяться, что уважаемый читатель этим правом воспользуется…
Итак, выводы.
Когда исследователи масонства говорят о его корнях, то непременно тревожатся тени пифагорейцев, катаров, тамплиеров… говоря вообще, членов мистических тайных обществ, имевших место в Европе в разные эпохи. Эта формулировка: «мистические тайные общества» – достаточно внятно очерчивает предысторию и суть предмета; речь идёт о скрытных собраниях немногих, поставивших целью достижение некоего духовного могущества в тайне от остального мира. Что, собственно, и определяет отношение непричастного «остального мира» к секретным мудрецам: от холодновато-отстранённого неприятия до объявления беспощадной войны им всем, и масонам в том числе; ибо духовное могущество – вещь весьма опасная, обоюдоострая; не подкреплённая нравственно, она обращается в разрушающую и саморазрушающую силу.
Здесь может возникнуть довольно резонное соображение: если вспомнить раннюю историю христианства, то разве не подобные же тайные общества увидим мы? Небольшие группы людей собирались где-то в катакомбах, прятались, секретились… В чём разница?
Разница есть. Она – в исходной мотивации, определяющей этическую ценность учения. Первые христиане, таясь от враждебного к ним мира, не считали себя обладателями тех качеств, что возвышают их над прочими людьми, делают особенными – теми, кому доступно то, что другим знать незачем. Наоборот: они хотели, чтобы полнота бытия была доступна каждому, всем до единого, чтобы никто не оказался брошенным, несчастным, позабытым… В этом-то и заключалась упомянутая нравственная крепость! Христиане собирались, не думая о том, что они – элита. Они стремились изменить этот несправедливый мир любовью к нему, а если мир не понимал их, они терпеливо ждали, не отступаясь от своей веры, и мало-помалу их и в самом деле начинали понимать – понимать, что эти люди хотят всем настоящего, а не фальшивого добра, и многие из тех, прежде враждебных, сами становились христианами.
Разумеется, было бы ошибкой, опираясь на эту – несомненно, верную – посылку, идеализировать историю христианства. Часто благие намерения воплощались в действиях нелепых и даже безобразных; осознавая или хотя бы ощущая его идейную мощь, к христианству тянулись и тянутся (или отталкиваются от него), очень разные люди, отчего эту историю, в сущности, правильнее было бы назвать «околохристианской». Гностики, ариане, те же самые тамплиеры и масоны – все эти течения рождались именно около христианства, по разным причинам, это шло разными путями, иной раз открыто противопоставляло себя – но самое противопоставление говорит о том, что люди, это делавшие, находились в идейной орбите христианства, создававшего колоссальную гравитацию любви.
У обществ сектантского типа (при очень разных конечных целях!) исходная психо-мотивация одинакова, причём и в языческом мире, и в христианском – что у пифагорейцев, что у тамплиеров с масонами. В данном смысле их духовное родство подмечено совершенно точно. Во всех этих случаях главная притягательная сила тайных обществ в том, что их члены испытывают неизъяснимое упоение превосходства над другими: они приобщены к великим тайнам, они – сила, власть!.. Да ещё власть-то какая: скрытая, неведомая, непостижимая! Причастность к ней волнует, будоражит куда острее, чем власть «просто так», банальная и рутинная, вроде чиновника в кабинете.
Это не значит, что все теневые секты одержимы жаждой овладеть миром, хотя по преимуществу целеполагание именно такое. Но нередко люди вступают в общества из самых чистых побуждений. Эти люди жалеют человечество, заплутавшее во тьме невежества – жалеют снисходительно и чуть брезгливо. А иногда и брезгливости никакой нет: только жалость и желание помочь. Но все такие люди точно знают, что человечество не готово к свету подлинных истин, к свободе, вообще не умеет самостоятельно мыслить – и потому-то они, тихие, незаметные мыслители, должны аккуратно, как поводырь слепца, вести этот неважный мир к его же счастью… И они со скромной гордостью возлагают на себя это бремя.
Вот в том и есть ключевая разница, при всевозможных исторических и индивидуальных нюансах. Суть великой религии – любовь, суть тайного союза – гордость. И это раз и навсегда ставит их по разным местам. Из гордости могут исходить благородные мысли и поступки, способные притягивать чистых душой людей. Ото всей своей чистой души они хотят творить добро, и творят его – но происходит это в ущербном этическом пространстве, безнадёжно урезанном исходной мировоззренческой посылкой. Хорошие, честные люди, прельщённые таинственным могуществом, могут этого не замечать – но те самые рядовые, приниженные жизнью бедолаги, к которым и обращены благодеяния – о, вот они-то это всё прекрасно замечают!.. И отнюдь не всегда проникаются благодарностью к «избавителям». Одно дело, когда к тебе идут с любовью бескорыстной, как равный к равному, и ты чувствуешь, что без тебя, оказывается, этот мир не полон – и совсем другое, когда кто-то, ласковый и важный, снисходит до тебя, и ты видишь всё своё ничтожество рядом с ним.
Душа наша действительно загадка. Милость человека высшего кем-то воспринимается как оскорбление – такое особо утончённое, под видом милости демонстрирующее превосходство одного над другим. И уж конечно, в чьём-то болезненном самолюбии вспыхнет невыносимая обида: для такого самолюбия нет ничего хуже, чем знать, что кто-то выше, умнее, мудрее тебя… а особенно, особенно! – то, что этот премудрый снизошёл до тебя и решил, куда тебя вести. Какая следует реакция – гениально описано в «Записках из подполья» Достоевского, хрестоматии патологически обиженного самосознания, пугливо прячущегося в глубине ничтожной личности. При этом герой «Записок…» неглуп – бывают умные ничтожества; они-то и есть самые несчастные среди них, именно из-за своего ума. Такой человек, ненавидя мир, ненавидя себя самого, но и питаясь болезненной любовью к себе, обычно забивается в свой одинокий угол, чтобы жизнь не трогала его – там, в углу, он изолирует себя от того, что может терзать больное честолюбие. Там можно как бы не замечать великих и успешных, будто бы их вовсе и нет на свете: от этого душе завистника спокойнее.
И вот теперь представьте себе, что непрошеная сила вторгается в угол, и подпольный философ вдруг лицом к лицу сталкивается с теми, кто выше и мудрее его, кто отныне поведёт его к счастью. Что будет с ним?.. Да ясно, что: весь скорчится от ненависти и бессилия. Правда, будет при этом улыбаться, кланяться, благодарить… Наверное, и поплетётся туда, куда поведут. Но только счастья никакого не будет. Никому. Не может оно быть насильственным. И даже тайным быть не может.
Потому-то на общества типа масонских и обрушиваются проклятия и обвинения в чудовищных вещах, вплоть до сатанизма… Обвинения эти большей частью бессмысленны, но не беспочвенны, и они на масонские головы – поделом.
И ведь вправду речь шла о лучших побуждениях! А ведь возможность тайной власти влечёт к себе публику самую разнообразную, отчего и последствия влечения непредсказуемы – проявляются они лишь со временем. Тогда-то всё встаёт на места: лучшие понимают, что попали не туда, пронырливые – что как раз туда, куда надо; злобные – куда надо плюс осознают возможность излить свою злобу… Вариаций много. И результаты разные: организация становится либо преступным сообществом, либо обыкновенной политической партией, либо окостенелой скучной традицией, либо исчезает без следа… Процесс самый закономерный и самый банальный.
Нет нужды останавливаться на том, где, когда и как возникли первые масонские ложи. Важно отметить, что середина XVIII века – по разным обстоятельствам – сделалась такой средой, где бациллы подобного сектантства расплодились неимоверно. Люди мыслящие искали выход из мировоззренческого кризиса, в коем, по их мнению, застрял мир. Романтики пленялись призрачно-оккультным флёром. Циники ловко угадывали, куда им внедриться с выгодой для себя. Негодяи торжествовали, предчувствуя открывшееся им поле деятельности в рядах секретных орденов… Обыватели морочили друг друга дурацкими слухами.
Не рискуя судить о моральных качествах отцов-основателей масонства, можно не сомневаться, что многие из вступавших в ордена и на заре «обществ вольных каменщиков», и в более поздние годы, были людьми искренними, честными и безвредными. Трогательно читать, как некоторые из них отчаянно убеждали себя в том, что они-то и есть самые настоящие, самые верные христиане:
«Учение св. Ордена, яко единое с учением Христовым, всегда было, есть и пребудет таинственным… для чего так же и преподаётся оно под символами и гиероглифами, как и Христос своё проповедывал народу в притчах; но сколько Иисус тайны царствия Своего открывал одним избранным своим ученикам, так и св. Орден, яко верная академия Христова, сообщает избранным токмо… таинства своя, состоящие в познании света натуры и благодати, в познании времени и вечности».
Так писал русский розенкрейцер З. Карнеев [15, 215]. Упрекать таких людей и валить на них грехи потомков – примерно то же, что обвинять изобретателей автомобиля во всех дорожно-транспортных происшествиях; хотя и с одним серьёзным отличием. Людям, взявшимся решать социальные проблемы, надо быть поосторожнее с грядущим – а значит, повнимательнее с настоящим, а именно с моральным базисом своих теорий. Ясно, что это не просто трудно, это неимоверно трудно. Но другого пути нет.
Этическая и мистическая база масонства, конечно, не могла идти с христианством ни в какое сравнение, чего, увы, не замечали даже самые честные, самые искренние… А где нравственная шаткость, там и ушлые проходимцы. К середине XVIII века такой публики среди «вольных каменщиков» набралось без счёта.
Парадокс – но расчётливость и цинизм Екатерины безошибочно помогли распознать в увёртливом словоблудии масонов лукавство. Царица насмешливо прозвала их «шаманами». А вот Павел, душа возвышенная и романтическая, шаманства не разглядел. И дело тут, надо полагать, не в загадочной псевдомагической обрядности – Павел был слишком неглуп, чтобы принять это всерьёз. Скорее всего, масонское учение показалось ему возможностью воссоединения расколотого христианства. Сам факт раскола Павел, очевидно, переживал глубоко. Ведь не должно такого быть! – а оно есть… Значит, надо сделать так, чтоб не было.
5
Придворные же масоны, закружившие вокруг наследника свой тихоструйный хоровод, о том вряд ли думали. Им совершенно было всё равно, кто как молится, крестится, в какую церковь ходит и ходит ли туда вообще. Они лелеяли мечту видеть на престоле единомышленника, собрата – и разумеется, не только доморощенные конспираторы, но и их европейские братья по разуму, которые наверняка приветствовали и поощряли старания русских соратников. Да и Павел, видимо, являл благодатный материал: нервный, неустойчивый, впечатлительный романтик – как раз тот самый психологический тип, что лучше прочих поддаётся «нейролингвистическому программированию». А потом, Павел был действительно мистически чуток, его жизнь полна видений, странностей и вещих снов… Вот только – уж воистину сапожник без сапог! – самый главный, самый трагический момент своей жизни император так и не угадал.
Слово за слово, умелые ловцы душ человеческих, масоны уловили Павла Петровича в сети. Опытный прожжёный политикан граф Никита Иванович Панин, блестящий молодой аристократ князь Александр Борисович Куракин, за богатство и роскошные манеры прозванный «бриллиантовым князем» – они, и многие другие, окружая наследника, ткали невидимую ткань, и делали это достаточно успешно.
Куда смотрел духовный наставник Павла – архимандрит, а впоследствии митрополит, Платон?.. Для него, образованного и талантливого богослова не составило бы труда опровергнуть в полемике любые хитроумия. Почему же он допускал посторонние влияния на цесаревича? Некоторые исследователи с недоброжелательством считают, что Платон сам был тайным масоном – в качестве примера приводя знаменитый отзыв митрополита о Николае Новикове [70, т.2, 352]… Эта недоброжелательная сентенция не представляется убедительной, хотя бы потому, что профессионалу этическая несостоятельность масонства сравнительно с православием очевидна. Почему же тогда владыка проявил насторожившую многих снисходительность?.. Сложно объяснить это одномерной причиной. Во-первых, придворные заводи глубоки и темны, одной теорией тут не обойдёшься, и даже учёному теологу всего не разглядеть. А во-вторых – и, очевидно, в главных – Платон, вероятно, видел в окружавших его людях, и в Павле особенно, настоящий, без притворства поиск истины, который водит человека долгими путями, может кружить, кружить, кружить по дальним перепутьям… Правда, может так и не вывести. Но тут уж никто, кроме самого человека сделать это не в силах. Помогать блуждающим, конечно, надо, а вот тянуть, толкать их силою пустое дело. К истине каждый должен прийти сам – кому, как не православному иерарху понимать это! В нелепой мешанине масонства, розенкрейцерства, иллюминатства и ещё невесть чего Платон, человек воистину просвещённый и толерантный, очевидно, сумел разглядеть чьи-то юность, наивность, духовную жажду; видел, что пена идейной моды неизбежна, она схлынет. А семена правды прорастут, пусть и не сразу…
И оказался прав. Как в смысле историческом, так и в персональном. С годами цесаревич, а затем император Павел сумел критически отнестись к увлечениям юности и отделить зёрна от плевел. Что действительно позитивного есть в декларациях масонства – то, что оно рассуждает о единении человечества, то есть претендует на универсальный нравственный характер; впрочем, при серьёзном изучении оказывается, что характер псевдо-универсальный, ибо такого типа доктрина не в состоянии затронуть вершины человеческой духовности – и вот на этом-то, не самом высоком уровне возможно много, красиво и безответственно говорить о чём-то общем.
В другую эпоху, в веке XIX-м, людям позитивистского склада показалось, что наука – та самая база, на которой возможно общечеловеческое единство. Аргументы были примерно таковы: религии, философские теории разделяют людей, это очевидно. А наука – так же очевидно – объединяет всех, поскольку сама едина. Не существует православной или католической физики, русской, японской, уругвайской. Есть одна общая для всех – стало быть, развивая науку вместо религий, можно добиться единства человечества.
Логически мысль вроде бы безупречная; но именно «вроде бы». Не соблюдён здесь фундаментальный логический принцип: закон достаточного основания. Ибо нет достаточных оснований считать науку универсальной объединяющей силой, так как не способна она к постижению абсолютных истин – с коими как раз имеет дело религия. Уже в XX веке науковедение сформулировало так называемый принцип фальсификации, который, в сущности, постулирует следующее: наука как таковая не может быть полноценным мировоззрением, она лишь создаёт схемы, помогающие людям более или менее ориентироваться в окружающем мире. А вот на высоте философской, тем более религиозной проблематики, где речь не о деталях познания, а о самой сердцевине бытия, к согласию прийти куда труднее…
В масонстве, правда, речь шла именно о единении человечества. Лучшие из мыслящих людей мучились мыслью: почему христианство (чью нравственную огромность они сознавали и не хотели отрекаться от неё!) не сумело объединить мир? Почему даже те народы, что именуются христианскими, бесконечно ссорятся и воюют друг с другом?.. Кого-то, вероятно, и посетила изощрённая мысль: якобы исключительная высота требований и является препятствием к объединению. Следовательно, стоит опустить этическую планку, создать нечто расплывчато-благожелательное, общий набор правил, не касаясь таких трудных тем, как смертный грех, покаяние, духовный подвиг… Да, разумеется, если кого это интересует – пожалуйста, интересуйтесь, однако, возводить это в ранг нравственного императива вовсе не обязательно. Достаточно, но не необходимо – говоря языком логики.
На первый взгляд может показаться, что это блестящий выход из тупика. Однако же, нет – жизнь демонстрирует, что и этот приём онтологически неверен. Снижение критериев сразу же создаёт эффект «морального вакуума»: упрощённая этическая парадигма начинает втягивать в себя персонажей с упрощёнными этическими принципами; эти лица своим присутствием обессмысливают саму концепцию… Процесс непростой и нескорый, но закономерный, и никуда от него не деться. Митрополит Платон, вероятно, понимал это хорошо, его царственный воспитанник понял не сразу – но понял всё же. Кошмар французской революции отрезвил многих, а Павла он ещё и убедил в том, что единство христианского мира должно быть восстановлено на основаниях более серьёзных и глубоких, более мистических, если угодно. Впрочем, к тому, что ему в масонстве представлялось лучшим, Павел сохранил симпатию до конца дней своих – в чём ещё раз оказался проницательнее матери. Правда, у той есть уважительная причина: когда во Франции грянула революция, ей, находясь на троне, некогда было долго разбирать, кто иллюминат, кто розенкрейцер, кто лучше, кто хуже – проще было взять под тотальный контроль всех, что она и сделала. Что она умела это делать, в том сомневаться нечего. Все сразу присмирели. Умники же стали тише воды, ниже травы.
Вряд ли Павел, воцарясь, стал миловать опальных (Новикова, Радищева, Баженова, того же Куракина…) только из ностальгии по своей молодости. Он действительно ценил в этих людях лучшее, что в них было, ценил идеологию единения, пусть и на усечённой основе – в конце-то концов он сам, христианский самодержец, на что?! Если кто ошибётся, он поправит.
Это было самонадеянно, хотя и благородно по намерениям. Вообще, нам следует признать доброжелательность социальной концепции Павла – логично вытекавшую из его религиозности, несколько неуравновешенной, с вывихами, но всё же настоящей, не показной.
6
Но если так, то отчего же царствование Павла вышло столь кургузым и горько-комичным?.. Иной раз приходится слышать, что русская и советская историография из разных политических соображений намеренно искажала образ пятого императора, окарикатуривала его. Подобные тенденции наверняка имели место – но сами по себе они отнюдь не значат, что дело обстояло совершенно наоборот. Да, злые, язвительные анекдоты о Павле Петровиче – вроде «подпоручика Киже» – распространялись злонамеренно. Однако, сам он наделал столько ошибок и нелепостей, что грех был бы его противникам упустить шанс наносить удары, под которые Павел Петрович так опрометчиво «подставлял борта». Нет никаких сомнений в том, что он, видя плачевную долю крестьянства, о котором Екатерина, сказать правду, не очень-то радела, хотел улучшить его положение. Более того – он хотел настоящего равенства, не той отвратительной гнусности, что устроили во Франции «просветители», громче всех о равенстве кричавшие… Он хотел этого – и восстановил против себя аристократию. Он рьяно взялся участвовать в антифранцузской коалиции; а потом вдруг круто изменил курс – и восстановил против себя Англию. Конечно, и на то и на другое у него были веские причины: и приструнить аристократов, и на Англию осерчать. Однако, резкость действий стоила ему жизни, чего он, надо полагать, вовсе не желал…
В спорте есть термин «перегореть»: в чересчур долгом ожидании своего выхода спортсмен сжигает нервную энергию, и, когда, наконец, приходит его долгожданный час, он вырывается на поле, готовый свернуть горы… и ровно ничего не получается. Перегорел.
Видимо, нечто подобное произошло и с Павлом. Он слишком долго был «в запасе». Нельзя сказать, что у него ничего не вышло; однако, вышло, приходится признать, немногое. Впрочем, «запас»-то у него какой был! – надо принять во внимание. Побольше и потяжелее, чем у любого спортсмена. И дело не только в годах, хотя и в них тоже: сорок два года ожидания – шутка ли!.. Но главное всё же в колоссальном, на грани «быть-не быть» напряжении, которое охотно подогревалось частью придворной челяди. И которое после воцарения не исчезло… Павел недооценил силу аристократии, ввязываясь в борьбу с ней. И переоценил свою. Вероятно, он полагал, что он, православный монарх, защита и надежда своих подданных, делая благородное дело – вводя милость и справедливость к рядовым россиянам, на чьи незаметные плечи много, много лет взваливалась тяжесть блестящей Екатерининской геополитики – выполняет тем самым волю небес. Да разве и он сам не убедился в благосклонности этой воли, восстановившей правду: он стал императором, как тому ни противилась мать!.. Значит, мистическое единство Бога, царя и народа непоколебимо, и, значит, он храним этим единством! И пресечь злоупотребления разжиревшего, избалованного дворянства, установить законность, благоденствие – его монарший долг, поддержанный свыше.
Всё это теоретически верно. И практически могло быть верным, при условии безупречной нравственной позиции императора, ибо сила – прежде всего нравственность. А вот с этим у Павла Петровича, увы, было негладко, при, повторимся, чистоте исходных намерений. Иначе говоря, он сам подрывал свои же благие помыслы неважным их исполнением: история насколько обычная на этом свете, настолько же грустная. Очень многое в действиях Павла было продиктовано сердитым стремлением зачеркнуть результаты многолетнего матушкиного царствования, причём зачёркивалось всё очертя голову, огульно, с размаху, не глядя, хорошо это или плохо. А иной раз желание отомстить приобретало формы изощрённо-цинические, показывающие, что Павел не лишён был утончённого злопамятства… Так, едва ли не первым публичным мероприятием, устроенным новым императором, было перезахоронение праха его отца, Петра III. Останки были перенесены из Александро-Невского монастыря в собор Петропавловской крепости, место упокоения российских монархов, с полным церемониалом. За гробом несли царскую корону, а нёс её не кто иной, как граф Алексей Орлов, один из убийц покойного – и весь Петербург долго и пугливо обсуждал эту жутковатую аллегорию[73, 59].
Не был Павел Петрович безгрешен и по дамской части. Глава огромной семьи, давно не юноша, он тем не менее не сумел избежать обыденных мужских соблазнов. Правда, нужно сказать, что интриганы умело портили отношения императора с супругой, Марией Фёдоровной, нашёптывая, что, мол, она тоже стремится устроить переворот… Отношения в семье в последние годы вообще стали какими-то полубредовыми; но и без этого, скорее всего, глава её не прекратил бы дон-жуанских подвигов. Долго – четырнадцать лет! – длилась его романтическая связь с фрейлиной Екатериной Нелидовой. Некоторые биографы Павла утверждают, что дружба эта была сугубо платонической. Возможно; однако, наблюдались в ней удивительные происшествия. Как исторический факт зафиксирован случай, когда Павел Петрович, очень сконфуженный, выскочил из покоев Нелидовой, а над головой его пролетела дамская туфелька [73, 64]… Что такое могло произойти в беседе двух идеалистов, отчего она приняла такой резкий оборот?.. – остаётся только догадываться.
Словом, император, взявшийся строго перевоспитывать дворянство и особенно придворный круг, сам нравственно не был безупречен. И спешил, спешил – там, где следовало быть осмотрительным… Спешка – не деловитая расторопность, а именно сумбурная спешка – в любых обстоятельствах вредоносный фактор, и уж никак не годится спешить самодержцу.
Таким образом, мы вынуждены признать, что император Павел оказался плохим политиком. Он не сумел реально оценить ситуацию (как внешнюю, так и внутреннюю), не соразмерил с ней свои собственные силы и возможности, не выработал внятной стратегии. Оттого-то его планы – несомненно, значительные, неординарные – повисли в пустоте. Не только, впрочем, оттого; видимо, и сами планы грешили легковесной торопливостью. Он не очень ясно представлял себе, какова цель его реформ – то есть, сам-то он, мечтая о всеобщих счастье и добре, вероятно, думал, что всё прекрасно осознаёт… но увы. Не обладая системно организованным мировоззрением, Павел проявил непростительное дилетантство в государственной стратегии, а отсюда и рваная, нескладная, неудачная тактика действий… В сущности, всё закономерно.
То, что Екатерина желала видеть на престоле не сына, а внука, секретом не являлось. Придворные готовились именно к такому продолжению. Поэтому, когда трон всё же занял сын, двор напрягся в неприятном ожидании… и ожидания эти сбылись. Они естественным образом наложились на давнюю неприязнь, а придумать способы ведения тайной войны было несложно.
Собственно, ничего нового «бойцы невидимого фронта» и не выдумали. Императору тихой сапой навевали мысль о том, что жена и старший сын замышляют устранить его (при этом наговаривали сыну, что отец на него в гневе). Приказы и распоряжения сознательно доводились до абсурда… Впрочем, бюрократический аппарат стал работать заметно скорее – это совершено не подлежит сомнению. Притихла коррупция: чиновники страшились брать взятки. Выдвинулся на самый верх давний гатчинский знакомец Павла, Алексей Аракчеев, не знавший устали труженик административной нивы, который не крал и не брал ни малейшей мзды, и под чьм суровым оком подчинённые начинали проявлять максимум отдачи… Конечно, неизвестно, что лучше, что хуже: какой-нибудь беззлобный добродушный взяточник, или такой тип как Аракчеев, который, несмотря на кажущуюся монолитность, как личность был совсем непрост и даже как-то пугающе многогранен, со странными душевными закоулками; но как бы там ни было, императору на время удалось приструнить распущенную придворную вольницу, хотя вместе с виновными наверняка летели и прочь и невинные головы – и опять же в том, похоже, преуспели ушлые интриганы… Павел завёл знаменитый «ящик», прообраз нынешних «книг жалоб и предложений»: в окне Зимнего дворца действительно было сделано нечто вроде почтового ящика с прорезью, запертого на замок, а ключ хранился исключительно у императора. В этот ящик любой мог бросить письмо с жалобой, просьбой, разоблачением – а Павел потом эти письма разбирал и принимал решения [36, 369].
Сперва ящик сильно напугал пройдох, и они ходили приунывшие. Но потом чей-то хитроумный разум нашёл противоядие: невидимые руки вбрасывали в прорезь пасквили на самого Павла. При этом безымянные авторы умело целили в самое больное место – в подмётных письмах монарха называли подкидышем, незаконнорожденным; повторялись ядовитые байки о том, что невесть кто был отцом Павла, да и мать была ли его матерью?.. В чьей-то злонамеренной голове родилась и пошла гулять по свету версия о том, что Екатерина родила мёртвого ребёнка, а вместо него подбросили безродного чухонского младенца, вот он и вырос теперь в подменного царя.
Почему именно чухонский – то есть какой-то прибалтийской, а точнее, угро-финской национальности – остаётся только гадать. Но этот чухонский младенец доводил Павла до исступления: мастера интриг знали, на какую мозоль государю наступить. Ведь вся его мировоззренческая концепция строилась на том, что он монарх совершенный, инициированный высшей силой, передаваемой в мистическом акте помазания – и более того, сын такого же помазанника. Иначе говоря, «не от человеков, но от Бога царство имеет», несёт священную миссию… Чухонский же младенец данную концепцию крушил если не дотла, то по крайней мере на три четверти: он, Павел Петрович, становился царём сомнительным, а может быть, и вовсе беззаконным; это значило, что исчезала связь с небом, а раз так, то исчезало всё.
Разумеется, соль сыпалась на душевные раны государя исправно и регулярно – что хорошего настроения, добрых чувств, светлых мыслей ему не добавляло. Нервы его изматывались, характер портился; памятуя о монаршем достоинстве, он старался держать себя в руках, что удавалось не всегда. Он срывался. Срывы эти, вкупе с мистической настроенностью и рыцарскими – иной раз в нелепо-донкихотском духе – представлениями о чести давали богатый простор для гипотез о душевном расстройстве… Можно не сомневаться, что и эта информация успешно достигала ушей императора.
Конечно, теперь, с расстояния двух столетий нравственный облик Павла I смотрится куда симпатичнее, чем личины его вельмож. Но… он проиграл, а они выиграли. С этим придворным миром – сложнейшим, трудновоспитуемым организмом – император совладать не сумел. «Не справился с управлением,» – как пишут в отчётах о дорожно-транспортных происшествиях.
Это политика внутренняя. А что было во внешней?..
7
Французскую революцию Павел воспринял не просто как переворот, а как покушение на святая его святых: освящённую Богом власть и саму христианскую религию, не православную, правда, но всё-таки… Да так оно, в сущности, и было. Павел прочувствовал духовную суть дела очень точно. Революционеры ведь не просто воспринимали христианство как рабство духа; в конце концов любой человек имеет право на своё мнение, пусть и вздорное. Но они дико безумствовали и кощунствовали: не все из них, скажем истину, однако большинство. Они сознательно глумились над чувствами верующих – тут уж не философия, не поиск истины, свободы, равенства и братства! Нет, они исходили злобой, как рептилии ядом, злоба жгла их изнутри и находила выход в унижении и оскорблении других… Они питались этим как упыри.
Незачем повторяться о социальных предпосылках Великой революции – они, конечно, были; и те люди, что ненавидели королевский режим, жаждали свободы и с восторгом мчались на штурм Бастилии, по-своему, бесспорно, были правы. Но речь не о них. И Павел понимал это. Он бывал во Франции – ещё в той, королевской – и проницательно почувствовал опасные тенденции, имевшие место во внутренней жизни этого государства, он видел роскошь и блеск двора и замечал нищету и бедствия крестьян. И ясно было, что добром это не кончится… Но знал он и другое.
Император наверняка понимал, что несчастья народа суть лишь повод для людей, страстно желавших разрушить порядок, представлявшийся ему, Павлу, христианским. Был ли он вправду таковым? – право же, вопрос отдельного исследования. Однако, совершенно ясно, что те самые люди – и теоретики и практики! – ненавидели христианство как сущность, независимо от его социальной оболочки, именно его гнали, его хотели истребить, злобу свою извергали на христианские догматы – а заодно уж и на миропорядок, христианским называвшийся; более, правда, номинально, чем реально, но называвшийся-таки…
Это сложный социально-политический феномен. Почему так могло случиться? Что помутилось в человечестве?.. И помутилось ведь не вдруг, не в одночасье – нарастало, копилось, потихоньку, незаметно для многих. Грустно говорить, но это судя по всему, было явлением закономерным…
Христианство пришло в мир – и мир увидел нравственную огромность его, принял его, но… не так, как надо было бы принять, не решившись расстаться с языческими прелестями, сладостями, слабостями, от которых, что уж там говорить, столь трудно отказаться… Планета Земля не стала христианской в том смысле, в каком могла быть, восприми человечество пришествие Христа всем сердцем.
Сомнительно, чтобы Павел I вникал в подобные философско-исторические тонкости. Но то, что воспринял он революцию, якобинство и «культ Верховного существа» как сатанинское безобразие – о том и говорить нечего. И почёл священным долгом вступить в борьбу с ним.
Опять-таки вряд ли он сильно обольщался насчёт союзников: Австрии, Пруссии, Англии; даже Турцию сюда привлекли, да ещё и Неаполитанское королевство… Но что ж делать! – других всё равно нет.
Австрийский престол – императора «Священной Римской империи» – занимал Франц II Габсбург, человек ещё молодой, однако впоследствии устроившийся на троне вплоть до 1835 года; правда, трон был уже не Священной Римской империи – сие государство, долго хиревшее, окончательно упразднил в 1806 году Наполеон, которому, наверное, надоело смотреть на угнетённое длительными неудачами состояние некогда великого, а ныне недостойного, по его мнению, высокого титула государства… Империя стала называться сокращённо: Австрийской, а Франц из Второго сделался Первым. Правда, Австрия продолжала числиться в сонме великих европейских держав ещё более столетия… но за это монархам династии Габсбургов надо благодарить талант и проницательность канцлера Меттерниха, о чём будет сказано ниже.
Неизвестно почему Габсбурги выводили родословную от библейского Хама [89], того самого, который потешался над наготой отца своего Ноя, за что и был проклят – вернее, потомство его. Проклятие придурковатого предка отчего-то сработало в полной мере лишь к концу XVIII века от Рождества Христова: именно тогда на фамилию посыпались одна за другой тяжкие невзгоды… И сам Франц и его сановники воспринимали войну с Французской сперва республикой, а затем империей как правое дело – да не очень-то ценили небеса их молитвы: французы били австрийцев с какой-то фатальной неизбежностью. Бонапарт особенно преуспел в этом деле, немного успокоился лишь в 1810 году, женившись на австрийской принцессе, точь-в точь как некогда Людовик XVI.
Англия – единственная из главных действующих в те годы держав, где монархия сохранилась и поныне. В те годы корона Британской империи возлежала на слабоумной голове Георга III Стюарта, он же курфюрст Ганноверский (по-английски имя его звучит, разумеется, как Джордж, но в российской исторической науке принято сохранять русскую транскрипцию). Этот венценосец продемонстрировал собою грустный пример равновесия в природе: даровав ему долголетие (на престоле он провёл 60 лет – куда там Францу!..), она отняла у него разум.
Любопытства ради отметим редкостную продолжительность правления британских монархов. Георг III не остался рекордсменом в английской истории: 64 года процарствовала уже после него королева Виктория, да и нынешняя королева Елизавета II (правда, из другой династии) пребывает на троне ни много ни мало 56 лет…
Сегодня ведутся учёные дискусии о том, была ли болезнь Георга собственно психической, не являлась ли она следствием каких-то соматических нарушений… но скорбных результатов это ведь не меняет. Впервые признаки душевного расстройства вдруг проявились у короля в 1788 году: он не спал ночами, бродил, кривлялся, бормотал что-то несуразное; однажды говорил без умолку несколько суток подряд. Семья и придворные ума не могли приложить, что делать, но тут вдруг король внезапно выздоровел. Все очень радовались, и народ тоже: надо признать, что вообще-то англичане любили монарха, он был человек незлобивый и жить никому не мешал… кроме разве что своих американских подданных, но тут особая история.
Конечно, потеря американских колоний была для Англии тяжелейшим ударом. В другое время, глядя на падение французских Бурбонов, в Лондоне наверняка бы злорадствовали, но когда и у самих такая жесточайшая конфузия… Всего же обиднее то, что сделать ничего нельзя – только бессильно наблюдать, как революционная Франция и Соединённые Штаты демонстрируют обоюдную приязнь.
Забегая вперёд, скажем, что болезнь Георга III долгое время была какой-то вялотекущей, но в 1810 году, после смерти любимой им младшей дочери Амелии, он от пережитого шока, увы, окончательно расстался с рассудком. Так что последние десять лет из шестидесяти (умер в 1820-м) Георг числился в королях номинально, а обязанности главы государства исполнял его старший сын, так называемый принц-регент, тоже, кстати, человек с немалыми причудами.
Мотором внешней британской политики был мистер Вильям Питт-младший, наследственный, так сказать, премьер-министр: папенька его, Вильям Питт-старший, также в своё время занимал этот пост, на каковом посту умело интриговал против всего света; Францию же и французов ненавидел животной ненавистью. Сын, переняв от родителя политический талант, был при том сдержаннее и реалистичнее, отчего и добился большего. «У Англии нет постоянных союзников, у Англии есть постоянные интересы,» – это именно его кредо. Тот, кто вчера звался его другом, сегодня легко мог стать врагом и наоборот… Успешный был политик, серьёзный и энергичный, хотя закончились его карьера и жизнь на очень минорной для него ноте… Но о том речь впереди.
Государства Пруссия на современной карте мира нет. Но тогда, на рубеже XVIII и XIX веков!.. Король Фридрих II был назван Великим совершенно заслуженно: он сумел за сорок шесть лет правления (1740–1786) из тесной территории с небольшим населением создать державу первого европейского ряда. Павел Фридриха Великого весьма уважал, и жалел, что не застал к моменту своего воцарения; тогда на прусском троне обретался племянник покойного короля, Фридрих-Вильгельм II, не великий, но феноменально удачливый: при нём за счёт разделов Польши территория Пруссии увеличилась на 100000 кв. км. – такого великому дяде даже и не снилось. Истовый лютеранин, Фридрих-Вильгельм увлекался мистикой, покровительствовал розенкрейцерам; наверняка и с ним Павлу удалось бы найти общий язык, но в 1797 году король почил, и править стал сын его и тёзка, Фридрих-Вильгельм III. Этот был тоже набожен, но куда прагматичнее и осторожнее (хотя и несколько медлительный, тяжелодумный, не без своих психических странностей), он закрепился на троне надолго.
Странности сработали в следующем поколении: сын III-го, Фридрих-Вильгельм IV, уже в пожилом возрасте и находясь на прусском троне, был поражён душевным расстройством, и последние четыре года его жизни (1857–1861) страной также правил регент…
Турцию – точнее, Оттоманскую империю, возглавлял султан Селим III, реформатор-неудачник [59, т.12, 718]. В неудачах своих, он, впрочем, был не виноват: в положении, в котором он оказался, вряд ли кто-то смог бы сделать что-либо путное. Султанское царство разваливалось год за годом под грузом невыносимых проблем, и процесс этот, видимо, в те годы приобретал необратимый характер. Селим пытался ввести новый порядок – «низам-и-джедид», что-то вроде наших Петровских реформ на турецкий лад, но безуспешно… Термин «восточный вопрос» – то есть, надо ли поддерживать целостность Оттоманской империи из геополитических соображений – номинально возник значительно позже, в 1839 году, однако фактически вошёл он в политическую жизнь Европы во второй половине XVIII века, когда Турция уже заметнно одряхлела, а молодая Российская империя мощно давила на юг, к Чёрному морю и Проливам. Европейская дипломатия, английская прежде всего, пугалась этого и всячески противодействовала – отсюда и двести лет русско-турецких войн, последней из которых стала Первая мировая…
В 1798 году в «восточный вопрос» метеором ворвался генерал Бонапарт, вторгшись в Египет (тогда турецкое владение), со стратегической целью получить плацдарм для дальнейшего похода в Индию. Равновесие великих держав – вещь неустойчивая, и прежняя конфигурация (Англия, Турция против России) резко переменилась: все против Франции. Сложился непрочный союз, названный Второй антифранцузской коалицией.
В ней и очутился Павел. Надо отметить, что довольно долго он колебался между двумя равнозначными для него составляющими христианского долга: борьбой с безбожием и желанием дать своим подданным если не покой, то хотя бы передышку после почти бесконечных войн. Человек наблюдательный, он давно заметил, что мощная внешняя стратегия Екатерины изнуряет страну. Ещё в 1774 году (в 20 лет!) Павел представил матери «аналитический доклад», как сейчас бы сказали: «Разсуждение о государстве вообще, относительно числа войск, потребного для защиты оного, и касательно обороны всех пределов». [73, 26] Суть доклада – надо бы прекратить завоевательные войны и сосредоточиться на внутренних проблемах. Разумно вроде бы; но Екатерине с высоты трона видно было то, чего не видели другие: России необходимо жизненное пространство, которое повлечёт за собой и рост населения. Это во-первых; а во-вторых, никому нельзя дать повода заподозрить страну в слабости. Политика – джунгли, дал слабину – пропал. Екатерина всячески старалась скрыть от Европы масштабы Пугачёвщины, а тут ещё Павел со своим «Разсуждением»… Императрица жестко раскритиковала сочинение сына.
В этом она была и права и не права. Возможно, по молодости лет цесаревич был наивен, но и его мысль была здравой. Всё время воевать и завоёвывать невозможно… да только это в теории, а на практике почему-то складывалось так, что именно всё время приходилось воевать. И сам Павел, взойдя на трон, скрепя сердце вынужден был это делать.
Годы 1798–1800 стали для наших армии и флота сплошь экспедиционными действиями в Европе (войну с Персией, полученную в «наследство» от Екатерины, Павел прекратил). Действия эти были блестящими – пожалуй, после них-то о русских войсках и пошла слава как о непобедимых, и даже последующие досадные поражения не смогли её затмить… Конечно, этой славой Россия прежде всего обязана Суворову. То, как он сражался в Италии и Швейцарии, потрясло всю Европу: такого воинского мастерства там не видывали со времён, наверное, Ганнибала… За европейский поход фельдмаршал Суворов получил от Павла чин генералиссимуса; хотя отношения у них, императора и полководца, не очень складывались. Суворов не принял «гатчинский» военный порядок, на параде, проводимом по такому образцу, куролесил, вёл себя неадекватно: видно, мог позволить себе это, чувствуя свою незаменимость [73, 61]. Ну, а Павел Петрович ангельским терпением тоже не обладал – нашла коса на камень… В итоге Александр Васильевич отправился в деревню, в ссылку. Но незаменимым он и вправду был: через год последовал вызов в Петербург, а оттуда – в тот самый поход, навстречу бессмертию.
Действия армии были поддержаны со Средиземного моря объединённой русско-турецкой эскадрой адмиралов Ушакова и Кадыр-бея. Фёдор Фёдорович Ушаков, ныне причисленный к лику святых, и в морском деле толк знал: он быстро и эффективно очистил от французов Ионические острова (западное побережье Греции), создал там базу флота и двинулся дальше, к берегам Италии. На море коалиция действовала согласованно: встречным курсом к кораблям Ушакова и Кадыр-бея – с запада на восток – с боями шла армада адмирала Нельсона. Летом 1800 года английский флот начал осаду Мальты.
8
Остров Мальта – южный форпост христианства, за которым простиралось мусульманское побережье Африки. Граница! И нравы пограничные.
Так обстояло дело в буйном, страшном XVI веке, когда император Священной Римской империи (той самой, Габсбургской, в ту эпоху бывшей в самом зените) Карл V пожаловал Мальту рыцарскому ордену иоаннитов. Было это в 1530 году, после чего орден стали именовать мальтийским, его воинов – мальтийскими рыцарями, а их символ, восьмиконечный красный крест на белом поле – мальтийским крестом. Название прижилось. Да по сути и было верным.
Христианский мир – нелегко в очередной раз подтверждать горькую истину, но что же делать! – раздирало распрями с самых его первых, ещё палестинских, иерусалимских дней. А XVIII столетие явило несколько иное качество раздоров: «бывали хуже времена, но не было подлей…» Прежде контрасты развивались в русле теоцентрическом: все социальные проблемы, неудовольствия и конфликты возникали – разрешаясь или не разрешаясь – будучи неизменно освещены идеей бытия человека в Боге, как бы сложно, запутанно и трагически ни складывались эти теоантропологические отношения; Бог всегда был надмирным полюсом, соответственно которому позиционировалось всё мироздание, а прежде всего человек и человечество.
«Просветители» подарили Европе иную систему онтологических и моральных координат. Собственно говоря, они сделали огромный шаг в сторону десистематизации как таковой – хотя сами, возможно, так не думали, или даже думали обратное. Но отказ или полуотказ от безусловного центра, придавая «точкам» мнимые степени свободы, в любом случае реально инициирует тенденцию к профанации их бытия. Если же «точки» суть человеческие личности, то онтологическая профанация имманентно является и этической: она являет собой – возможно сначала незаметное, постепенное – но в итоге несомненное самоограничение человека, одиночество в становящемся ему чуждом мире людей, печальный взор и бесконечное ненастье в душе.
Французская республика объявила себя сперва категорически безбожной; потом, убедившись, что совсем без веры (точнее, без религии) жить нельзя, решили искать компромисс в форме вздорного неоязычества. Результатом поисков стал несообразный со здравым представлением о человеческой душе «Культ верховного существа» [10, т. 7, 534]. Культ этот и при рождении своём выглядел дегенеративно, так что долгой жизни у него не могло быть в принципе; его не то чтобы отменили, он просто оказался в принципе мертворождённым, как ни старались вдохнуть в него душу жрецы политической магии… Вот, собственно, и всё, что смогла родить заносчивая мысль, именовавшая себя просвещённой.
Директория, пришедшая на смену неистовым якобинским временам, в религиозные дебаты старалась не вмешиваться, и вообще к этой стороне жизни относилась достаточно индифферентно. В том, что в 1798 году Мальта была этим режимом Директории оккупирована, а орден пущен по миру, лежали причины сугубо политические.
В общей европейской неразберихе, бестолковой и неряшливой, никто не хотел отягощать себя лишней заботой о бездомных рыцарях. Все уклонялись, отмахивались… Все, кроме Павла I.
Екатерина по своим стратегическим соображениям наладила дружеские отношения с орденом ещё в 1792 году, правда, реализовать их потенциал не успела. И вот теперь Павел приютил изгнанных. Благодарные рыцари предложили Павлу стать главой ордена – Великим магистром. Павел согласился. 29 ноября 1798 года магистром он был провозглашён [90].
Странное на первый взгляд решение – православный царь во главе католической организации?! – имело в том числе и вполне прагматичный политический мотив. Принятие титула состоялось накануне заключения Второй коалиции, и Павел считал, что тем самым он укрепит свой статус в отношениях с союзниками; кому-то в Европе показалось, что русский император тяготеет к католицизму… Время показало, что это не так, и кроме того, это всё же было для императора делом второстепенным.
Вражду и войны в христианском мире Павел воспринимал как болезнь. Себя же, императора – как важнейшую несущую конструкцию православия и главу русской православной церкви. Собственно, так и было объявлено при коронации: «глава церкви». Согласно данному регламенту, император, не будучи священником, получал право выполнять некоторые его функции: причащать, принимать исповедь… А раз так, то лечить застарелые социальные болезни ему сам Бог велел. Восстановление христианского единства Павел воспринял как свою личную миссию: верующего и самодержца. И он взялся за это.
Прежде всего он попытался восстановить единоверие в российских верующих, некогда расколотых реформами Никона. Павел официально объявил политику «единоверия» – уравнял в правах клиры главенствующей церкви и староверческой. Это деяние, правда, к желаемому восстановлению не привело: проблема оказалась глубже, чем казалось императору, да и ему самому времени оказалось отпущено немного… И во все последующие царствования задачу эту так и не удалось решить вполне.
Тем не менее тенденция, осуществляемая Павлом, очевидна. Он торопился, нервничал, сам себя перебивал и путал – но цель видел, к ней стремился. Правда, видел он её не очень ясно, то есть не представлял, какие трудности его ждут на пути к ней. Кто знает, может, политический реализм со временем пришёл бы к Павлу Петровичу, не в том смысле, чтоб отступиться от цели – малодушным он не был; а в том, что он научился бы действовать спокойнее и рассудительнее… Кто знает! Кто знает, кто знает…
Мальта, разумеется, была интересна и с военно-стратегической точки зрения. Павловские годы – едва ли не единственный эпизод в мировой истории, когда европейские державы вкупе с Турцией открыли черноморско-средиземноморские проливы, Босфор и Дарданелы, для основных сил русского Черноморского флота, и флот вышел в Средиземное море, самым центром которого и является Мальта. Но всё же, если этими мероприятиями Павел и хотел решить сразу две задачи, то главной из них, для него, несомненно, было принятие под своё покровительство Ордена Святого Иоанна – с этого шага, по мнению Павла Петровича, и могло начаться дело воссоединения.
Тактически император уловил момент очень верно. Сейчас он мог вести разговор с Папой римским с позиции силы, ибо дела папские развивались в описываемые времена плачевно. От былого некогда всемогущества остались лишь «преданья старины глубокой» – в политической диспозиции к концу XVIII века Папа, конечно, обладал кое-каким влиянием, но оно не могло идти ни в какое сравнение с силами светских владык: и традиционных государей, и новых архонтов, рождённых революцией… Они сшиблись в грандиозной схватке, где понтифику оставалось только маневрировать, стараясь уцелеть.
Престол в Ватикане с 1775 года занимал Пий VI, в миру граф Браски [70, т.2, 347] – он, естественно, выступил самым ярым противником французской революции; видимо, сделал это тактически неверно, потому что когда её волна, в лице всё того же Бонапарта перевалила через Альпы и докатилась до Рима, противостоять ей не сумел и оказался во «французском пленении».
В прямом смысле слова: революционная армия зачем-то сочла нужным забрать первосвященника с собой. Тут-то и подоспела эпопея с Мальтийским орденом… Папа оказался между Сциллой и Харибдой. Признавать православного императора главой ордена?.. Католический мир, узнав о таких поползновениях, уже заволновался, и не просто рядовые прихожане, а могущественные силы, вплоть до королевских дворов. Не признавать? – ещё хуже. Отношениями с такой державой, как Россия, рисковать нельзя. А своенравный и вспыльчивый нрав императора Павла (он печатно публиковал объявления о вызове на рыцарский поединок тех государей, что не желают вступать в союз с Россией!) был слишком хорошо известен. А ну как он и Папу вызовет на поединок?.. Такое уже ни с чем не сообразно.
Попав в столь нелёгкий переплёт обстоятельств, Пий VI избрал примитивную, но в данных условиях, по-видимому, единственно возможную тактику: не говоря толком ни «да» ни «нет», он стал тянуть время, и делал это до тех пор, пока не отправился в мир иной. Грех, наверное, говорить такое, но поневоле складывается впечатление, что Папа, будучи в преклонном возрасте, лишь ожидал конца дней своих, а с земными делами пусть разбирается преемник. Так и случилось; однако и преемник, Пий VII (граф Кьярамонти) [70, т.2, 348], будь он хоть семи пядей во лбу, ничего нового бы выдумать не смог, тем паче, что и других забот ему хватало… Потому он продолжил ту же политику неопределённого затягивания вопроса. В порядке компромисса оба Пия, кстати, признали Павла главой ордена «де-факто», но Пий VII оказался удачливее: ему помирать не пришлось. Скончался сам Павел Петрович.
Не надо, впрочем, думать, что «тянуть время» для Ватикана значило сидеть сложа руки. Интерес русского царя к единению церквей там, в общем, осторожно приветствовали – осторожно потому, что единство мыслилось Римом не иначе как Римским – а горький опыт подобного рода попыток заставлял Святой престол быть крайне осмотрительным.
Но опыт – великое дело. Католические эмиссары в России, по-своему усматривая в политике Павла Петровича симпатии к католицизму, ободрились и активизировались; при том действовать стали куда тоньше, чем прежде. Ещё при Екатерине на территорию империи проник австриец Габриель Грубер, иезуит – человек, сумевший впоследствии приобрести значительное влияние при дворе, но уже Павловском… Неоднозначна, мягко говоря, деятельность «общества Иисуса» в мировой истории. «Цель оправдывает средства,» – лозунг опасный, обоюдоострый, даже если цель высока, даже если выше её нет. Но вот чего у иезуитов не отнять – превосходной, непревзойдённой, пожалуй, системы отбора кадров, воспитания и образования. Они умели находить талантливых людей, обучать их и использовать таланты на пользу ордена, а значит, как считалось – на пользу христианства в целом.
Габриель Грубер был именно таким человеком [70, т.1, 447]. На его образованность и блестящую эрудицию указывают все источники. Он не только профессионально владел богословием, философией, множеством языков, но был хорошо сведущ и в естественных науках и в ремёслах [90] – словом, мог быть незаменимым. Конечно же, он им стал.
Сначала он успешно обработал Российскую академию наук, предлагая вполне серьёзные, не дилетантские проекты к осушению болот и усовершенствованию водяных мельниц. Этим ему удалось привлечь к себе внимание значительных персон… а дальнейшее было делом ловкости, которой иезуиту не занимать. Очутившись при дворе, он немедля вылечил Марию Фёдоровну от зубной боли, а Павла Петровича покорил каким-то неимоверно вкусным горячим шоколадом.
Так патер Грубер сделался одним из приближённых императора, а следовательно, и «агентом влияния». Орден иезуитов был в те годы официально упразднён (хотя подпольно действовал, разумеется!), и Грубер хлопотал о том, чтобы и этот орден, подобно Мальтийскому, нашёл приют в России… Но это всё были частности, а в основном, сомнений нет, задача Грубера состояла в том, чтобы максимально расположить Павла Петровича к Риму.
О своих успехах австриец регулярно докладывал начальству; исследователи склонны считать, что святой отец-удалец эти успехи преувеличивал [90]. Он сообщал, что в доверительной беседе Павел Петрович не просто признавался в глубоких симпатиях к католицизму, но якобы заявлял, что «в сердце» считает себя католиком.
Да, эти сведения находят сомнительными. Однако, не стоит думать, будто Грубер сочинял одни лишь бравурные отчёты. Слова ведь многозначны по природе своей, интерпретировать их можно по-разному, а уж иезуиты мастера интерпретаций как никто другой – чтобы всё было истолковано в их пользу – общеизвестно. Павел же Петрович в высказываниях вряд ли осторожничал; да и будь он сверхосторожен, патер Грубер наверняка бы нашёл зацепку к тому, дабы истолковать должным образом и это и порадовать своих патронов… Но даже и не в иезуитской логике дело. Павел и в самом деле симпатизировал католицизму; правда, не в том смысле, как того хотелось бы Риму, то есть в смысле подчинения русской церкви Ватикану. Нет, просто Павел Петрович абсолютно искренне желал прекратить давние распри. Вероятно, и протестантизм он считал должным включить в процесс объединения, но в силу централизации католической церкви с неё начать было удобнее.
Данная проблема оказалась сильнее императора Павла. Более того, она не разрешилась и по сей день. Почему? Сложно ответить однозначным образом. Павлу казалось – и многим другим, и сегодня кажется – что дело в каких-то исторических недоразумениях, которые преодолеть не то чтобы так уж легко, но надо бы взяться дружно, собраться всем вместе, да и договориться, наконец. Но вот именно этого – договориться! – так и не удаётся и поныне, хотя собираются и говорят: экуменический диалог ведётся достаточно давно, и результаты его приходится признать весьма скромными…
Людям непосвящённым наверняка представляется пустяком проблематика догматическая. От кого там исходит Святой Дух: от Отца или Отца и Сына?.. Да какая разница! Пусть кто как хочет, так и думает. Главное – взаимоуважение и взаимопонимание.
Но вот оказывается, что это не главное, хотя и безусловно важное. Без понимания и уважения единства нет, они условие необходимое. Но не достаточное.
Догматика – краеугольный камень религии. Без единства в ней не может быть единства конфессий. Ведь богословие – это выражение истин, явленных в откровении, и лукавить здесь не должно. Если разными людьми создаётся разная экзегетика единого Бога, значит, в самом деле человечество не готово ещё к реальной духовно-социальной гармонии в этом мире – не готово и по сей день. Слишком уж сильны путы местнических интересов: экономических, политических, геополитических… И поныне они не преодолены. Грустно это признавать, но делать вид, что такого нет – значит, прятать голову в песок.
Видимо, Павел Петрович не сумел этого понять. Он спешил и торопил других, горячился, сердился, вызывал раздражение и глухую оппозицию и не замечал, как постепенно утрачивает контроль за ситуацией…
9
За разговорами о метафизике и Павле Петровиче как-то ушёл в тень наш главный герой. Но это и немудрено: в годы противоречивого отцовского правления он действительно стушевался, старался быть незаметным. Быть при дворе императора Павла I – совсем не то, что при «матушке» Екатерине, где было весело, привольно и блудливо. Батюшка же завёл нравы, как он сам считал, рыцарские, в результате чего жизнь стала похожа на минное поле. Все жили в постоянном напряжении, не зная, когда и где взорвётся в следующий раз, кто угодит под удар?.. Этого не знал никто, не знал Александр, наверняка не знал и сам Павел Петрович. У него много случалось внезапных чудес: кого-то отправляли в ссылку, кого-то возвращали (в том числе и Радищева! более того, ему вернули дворянство, коего он был лишён), кому-то попадало и плетьми; а бывало и так, что придворный цирюльник (Иван Павлович Кутайсов, потомок пленного турка) вдруг делался графом и ближайшим наперсником царя. Но это курьёз, а вообще-то жилось в окружении императора не очень смешно. В том числе и Александру.
Со смертью бабушки он стал официальным наследником. Павел навёл в престолонаследии порядок, некогда запутанный Петром I, что, собственно, и породило чехарду дворцовых переворотов XVIII века. Павел Петрович установил закон, который ясно и чётко регламентировал передачу власти [36, 368]. От переворотов или попыток переворота это, правда, не вполне избавило, но всё же прежняя неразбериха прекратилась… Закон гласил следующее: власть должна была передаваться от почившего государя строго ближайшему младшему родственнику мужского пола: сыну или брату.
Таким образом Александр сделался формальным преемником. Вот только по иронии судьбы это не приблизило его к трону; напротив, отдалило. Да и вообще жизнь принца сделалась несладкой. Можно сказать, что она стала невыносимой.
Большой мир – большая игра, большие страсти. Павел Петрович своей переменчивостью и разбросанностью облегчал задачу противникам, которым, в частности, надо было поссорить государя с семьёй. Императору никогда не давали забыть (при том, что сам он вряд ли о том забывал!) того, как его старший сын, бабушкин любимец, предназначался к трону в обход его, законного самодержца. И знал об этом. Правда, уклонялся – что правда, то правда. Но кто же знает, что он там на самом деле думает! И ещё эти гнусные якобинские идеи… Постаралась бабушка, ничего не скажешь.
Тень бабушки незримо витала над отцом и сыном, безнадёжно и трагически запутывавшимися в своих отношениях. Трагически, да! – а всего трагичнее то, что они, отец и сын, всё-таки любили друг друга. Любили – и не доверяли, и хитрили, и страшились один другого.
С точки зрения обычного, рядового человека это может показаться невероятным. Чего вроде бы проще – встретиться с глазу на глаз, поговорить откровенно, открыть душу друг другу: ведь родные люди!.. Нет. Так и не открылись, не поговорили. Всё таились… И кончилось это хуже некуда.
Впрочем, не надо забывать, что это большой мир. Ставка больше, чем жизнь – здесь не метафора, но правило, закон, самый воздух этого мира. Ставка императора Павла оказалась бита. Он не сумел совладать с придворной камарильей, как не справляется неопытный учитель с трудным классом. Опытным интриганам удалось не только с сыном поссорить государя, но и с женой, внушая тому, что она таит желание царствовать: по примеру свекрови. Александру же, естественно, наговаривали, что отец крайне сердит на него, и если он, Александр, не примет мер, то судьба его будет печальной. Наверняка в подобных разговорах подымалась из могилы тень несчастного Иоанна Антоновича, отчего впечатлительный юноша трепетал до слёз.
Императрица Мария Фёдоровна, кстати говоря, не была бессловесной домохозяйкой: при Екатерининском дворе она насмотрелась и наслушалась всякого, набралась опыта – дама была неглупая, и политические амбиции бродили в ней; пример свекрови очень уж наглядно стоял перед глазами. Разумеется, быстро нашлись такие, кто эти амбиции распознал и начал старательно подогревать; в общем-то те наветы, что достигали Павла Петровича, имели хотя бы теоретическое обоснование… Вдобавок ко всему императрица почему-то невзлюбила старшую невестку, Елизавету Алексеевну, что ещё добавляло осложнений в и без того неблагоприятную атмосферу двора и семьи.
Так постепенно, день за днём, год за годом отношения отца и сына, мужа и жены превратились в тёмный лабиринт. Выбраться из него без посторонней силы они уже не смогли.
10
О мистических событиях в жизни Павла Петровича сказано предостаточно, однако, самый знаменитый апокриф (в разных источниках приводимый с незначительно разными нюансами, не влияющими на суть) стоит того, чтобы его привести.
Морозной ночью цесаревич – тогда ещё молодой человек – с другом Александром Куракиным шли куда-то по жутковатому в подлунной зимней пустоте Петербургу. Мороз подстёгивал – шагали быстро. Вышли на Сенатскую площадь. Здесь как-то случилось так, что Куракин замешкался, отстал… И странным образом рядом с Павлом оказался очень высокий человек в тёмном плаще и низко надвинутой шляпе – лица совсем не было видно. Юноша спросил у нового спутника, кто он такой; тот снял шляпу… и Павел увидел своего прадеда – императора Петра I. Покойный государь взглянул на правнука грустно и ласково, после чего молвил: «Бедный Павел! Бедный, бедный Павел!..»
На этом видение оборвалось. Павел очнулся – лёжа на мостовой, а напуганный Куракин тёр ему виски снегом, чтобы привести в чувство. Из дальнейших разговоров выяснилось, что князь, конечно, ничего не видел и не слышал. Замешкался – а когда поднял взгляд, то цесаревич уже лежал без чувств.
Непросто в этой теме отделить истину от лжи и заблуждений. Все мы сильны задним умом, и всем нам кажется – когда уже что-то случилось – что предзнаменования случившегося были явными, вот только почему-то мы на них не обратили должного внимания… Но действительно, возможно ли реальное предвидение будущего, и если да, то почему вокруг этого феномена всегда какие-то сумерки и шарлатанство? Или же в самом деле, всё тут вздор, и толковать нечего?..
Не вдаваясь в глубь проблемы (это потребовало бы отдельного исследования), следует отметить, что способность человека обретать во времени больше степеней свободы, чем обыкновенно – факт бесспорный. И столь же бесспорно, что такие способности проявляются в человечестве эпизодически; говорить о социальном освоении многомерных пространств-времён покуда не приходится. То, что отдельным людям в разной степени это удавалось – другое дело; но и здесь приходится быть осторожным в оценках и толкованиях. Конечно, внешней, феноменальной стороне можно попытаться найти научное объяснение, притом достаточно убедительное. Но по сути оно ничего не даст, ибо сама способность ясновидения имеет более нравственную, нежели чисто познавательную основу (впрочем, разделение гносеологии и этики есть весьма условная установка). Настоящее восприятие, или лучше сказать, переживание человеком времени (и пространства) является необходимо этическим действием; собственно, этика и есть основа реального постижения духовных – они же многомерные – пространств-времён.
Понимание этого позволяет здраво оценивать многочисленные спекуляции на тему провидческого дара. Истина там, где вера, добро, духовный подвиг и служение человечеству – прочее же от лукавого. В разные эпохи находились люди, так или иначе причастные к данной проблематике – причастные по-разному: истинные пророки и провидцы, искренне заблуждавшиеся, недобросовестные или совсем бессовестные проходимцы… Как различить их? Очень просто. Всмотреться в нравственный облик этих людей – и всё станет ясно. Какие могут быть сомнения в том, что пророческий дар Сергия Радонежского шёл от Всевышнего, а тёмный субъект Хануссен, подвизавшийся вокруг Гитлера, был мошенник, мошенничал, и жизнь кончил скверно…
Соотносясь с моральным критерием, мы можем всерьёз отнестись к истории монаха Авеля, в миру крестьянина из-под Тулы Василия Васильева, прославившегося как провидец ещё при Екатерине, в затем и далее – вплоть до царствования Николая I. Впрочем, «прославившийся» – наверное, не совсем то слово о человеке, проведшем большую часть жизни по монастырям да заточениям; предсказания его были нелицеприятны и грозны – а кому из сильных мира сего хочется слушать о себе правду… Закончил брат Авель свои дни в Суздале, в Спасо-Евфимьевском монастыре: своеобразном «исправительно-трудовом заведении» для духовных лиц, из этого звания не исключённых, формально ни в чём не обвинённых, но неформально всё-таки неблагонадёжных [36, 357].
Дар Авеля подтверждаем такими разными, но равно заслуживающими доверия людьми, как игумен Валаамского монастыря Назарий (где Авель одно время был послушником) и знаменитый полководец Алексей Ермолов. Покоритель Кавказа всегда был мастером острого слова, следить за выражениями не считал нужным, отчего всю жизнь попадал в неприятные истории. Вот и будучи молодым офицером, он что-то такое высказал вслух в адрес своих начальников, коих воспринимал саркастически, что даже угодил в крепость. Потом, правда, начальство смилостивилось, и умника отправили подальше от столиц, в Кострому [29, 27]. Там он сначала и услышал об Авеле, послушнике теперь уже Николо-Бабаевского монастыря (по некоторым данным, здесь бывший Василий Васильев носил сперва имя Адама), а потом и увидел его.
Это был февраль 1796 года. Тогда монах Авель записал, что кончина императрицы Екатерины произойдёт… когда? В отдельных источниках утверждается, что Авель указал точную дату: 6 ноября. В этом можно сомневаться, но стоит всерьёз отнеститсь к формулировке Ермолова: «… день и час кончины императрицы Екатерины с необычайной верностию» [82]. Как бы там ни было, предсказание произвело переполох.
Надо отметить, что Авель отнюдь не самовольничал. О прозрениях своих докладывал строго «по инстанции»: монастырскому начальству. В тот раз игумен Николо-Бабаевского монастыря, видя, что дело политическое, счёл за лучшее сообщить костромскому губернатору (тогда и Ермолов о том узнал), оттуда информация покатила в Петербург, а следом за нею в столицу отправился и сам Авель. Там его сильно ругали, грешным делом и без рукоприкладства не обошлось; наконец, прозорливого монаха заточили в Шлиссельбургскую крепость.
Когда же царица скончалась, Авель стал сенсацией. Доложили Павлу. Тот велел страдальца освободить, после чего принял его лично, ободрил и обласкал. С подачи императора Авель был даже «повышен»: из послушников стал иноком. Вскоре он вернулся на остров Валаам, но… грозовые пророчества для власть имущих хороши тогда, когда их лично не касаются. А пророчества Авеля продолжались, и вновь нелицеприятные, но теперь касающиеся уже самого Павла Петровича. Это вызвало высочайший гнев, и в 1800 году история повторилась, правда, фарсом от этого не стала: инок был из Валаамского монастыря изъят и препровождён опять-таки в знакомый ему Шлиссельбург.
Судьба рукописей Авеля столь же загадочна, как его личность и его жизнь. След их потерян. Что там написано (было написано)?.. Легенд предостаточно, и самая знаменитая из них – что сделанное Авелем описание трагической смерти императора Павла I и не менее трагической судьбы дома Романовых сам Павел запечатал в конверт, написал на нём: «Вскрыть потомку нашему в столетний день моей кончины», положил в ларец, и ларец этот более ста лет простоял в Гатчинском замке, до 11 марта 1901 года, когда Николай II исполнил волю прапрадеда. Излишне говорить, что и этот документ не сохранился…
К Авелю и его пророчествам мы ещё будем возвращаться. Сейчас же стоит остановиться на том, насколько достоверна история взаимоотношений таинственного монаха и императора Павла. Несомненна мистическая настроенность государя. Есть значимые основания считать истинной провиденциальную одарённость Авеля. Что может следовать из этих двух посылок?..
Следует нечто, заставляющее призадуматься.
Допустим, Павел не поверил Авелевым словам относительно него, Павла. Психологически это вполне достоверно: разумеется, неприятно слышать предсказание собственной гибели, и раздражение самодержца, у которого нет и минуты свободной, и чья голова идёт кругом от тысячи самых неотложных дел, самое естественное. Дескать, раз уж пришла монаху охота молоть вздор, так пусть делает это в тюрьме! Может быть, поумнеет.
Но тогда чем объяснить то, что это раздражение полыхнуло спустя почти три года после первой встречи? Тем, что сначала в речах Авеля ничего зловещего не было, а в 1800 году, уже в текстах – появилось? Характер у Павла Петровича не сахар, известно: осерчал, вспылил – и вот результат. Возможно такое?..
Возможно, но маловероятно. Император сам пожелал увидеть Авеля, узнав о пророчестве того насчёт смерти матери. Учитывая личность Павла, трудно представить, что он просто отмахнулся от монаха со всеми его прозрениями. Значит, должен был серьёзно и ответственно относиться ко всему тому, что от Авеля исходило. Но почему же – если предположить, что была названа дата 11 марта 1801 года – в ту роковую ночь Павел не усилил мер безопасности? Решил отдаться Провидению?.. Но тогда зачем сердиться на предсказателя, вплоть до заточения того в крепость? Ведь и до этого Павел активно «перевоспитывал» своих придворных, боролся с сетью заговора, опутывавшей его, как он чувствовал, сетью, заговора, в который могли быть вовлечены жена и дети? Боялся поверить в это, страшился убедиться в предательстве родных людей?.. И такое может быть.
В целом же все эти неувязки складываются в следующую гипотезу.
Павел, вероятно, вполне серьёзно отнёсся к Авелю – и внимательно выслушал предостережения, в которых вряд ли содержались какие-то цифры, даты; скорее всего, в них просто звучала тревога о возможном развитии событий. И если так, то можно предполагать, что император принял это к сведению, Авеля поблагодарил, однако с будущим стал справляться сам – он-де человек верующий, мистически способный, так что, собственно, это и есть его задача: делать мир лучше… Когда же после трёх лет титанических, неимоверных усилий, из Валаама донеслись слова о том, что беда не только не рассеялась, но сгустилась пуще – тогда разочарование и гнев Павла становятся понятны. Оправдывать этот гнев сложно, но вот по-житейски, по слабости человеческой он ясен. Если тебе, в сущности, говорят о том, что три года ушли впустую, как вода в песок, что зря были все идеи и реформы, труды и дни, войны, победы, фантастический бросок Суворова через Альпы и рейды лихих эскадр по трём морям… Нет, как хотите, а после всего этого услышать то, что видит удивительный монах… Это ужасно.
Нет никаких сомнений, что император Павел желал знать будущее и сам изо всех сил всматривался в него. Что он там видел?.. Загадка. Беспощадные слова Авеля стали для него тяжким испытанием, и он просто-напросто не захотел поверить в них – что, повторюсь, психологически объяснимо. Но самому ему его грядущее, похоже, так и не открылось. Он старался! Очень старался. Но не вышло. Неизвестность бросала его от надежд к отчаянию, от него опять к надежде. Так бывает со всеми нами, это очевидно. Но у рядового, приватного человека эти качели – его личное дело. А вот когда по такой рискованой амплитуде бросает императора великой державы, то вместе с ним лихорадит не только эту державу, но и весь мир.
11
В конце 1800 года Павел заложил такой политический вираж, от коего всю Европу встряхнуло и заколотило, точно в истерическом припадке.
Вступая в антифранцузскую коалицию, царь руководствовался высокоидейными соображениями. При этом, правда, он вряд ли с самого начала питал какие-то иллюзии относительно столь же возвышенных моральных качеств у своих союзников, но всё же их лицемерие и беспринципность – Англии и Австрии – превзошли допускаемые его рыцарским кодексом пределы. Он думал о всехристианском единстве, а им, тоже христианам, было глубоко всё равно, что там едино, что нет. Они преследовали свои ближайшие интересы, крайне прагматические, сиюминутные, полагая, что если русскому императору угодно витать в облаках прекраснодушия, так это его проблемы.
Здесь не стоит ломать моральные копья: действия союзников Павла красивыми не назовёшь, но такова жизнь. Тем паче такова политика. Австрийцы бросили русскую армию в Италии потому, что своя рубашка ближе к телу. Англичане, захватив Мальту, не спешили передавать власть над ней её законному правителю, Великому Магистру, и не торопились на выручку русскому корпусу, действовавшему в Голландии – потому что им так было выгоднее. Политика есть бизнес.
Но, действуя по-коммерчески цинично, союзники недооценили Павла. А он, увидав, что в этой дружеской компании каждый сам за себя, видимо, почувствовал полное моральное право сделать своим партнёрам сюрприз. И сделал это очень круто, так, что их едва не хватил столбняк.
Можно лишь предполагать, насколько на это решение повлияли Авелевы предсказания. Но, во всяком случае, картина вырисовывается довольно стройная. Досада досадой, крепость крепостью, но ведь император имел случай убедиться в значимости слов монаха… Так может, надо что-то резко изменить? Быть может, этот поворот совпадёт с волей Провидения?!
Такой ход мысли вполне в духе мировоззрения Павла Петровича: христианского единства с этими обманщиками, пройдохами, австрийцами да англичанами не вышло. Видимо, союз с ними оказался досадной ошибкой… Так может это единство станет возможным совсем с другой стороны, со стороны Франции? Там происходят неожиданные события, и кто знает, возможно они являются предзнаменованиями…
Павел Петрович верно оценил 18 брюмера (9 ноября 1799 года) как конец революции – во всяком случае, как формальное окончание чудовищной идеологии, порядком надоевшей самим французам. Что там говорить, королевская власть не отличалась кротостью и гуманизмом – но ведь новая-то показала себя во всей красе, во сто крат хуже! Правда, в последние годы она прекратила террор и занялась набиванием карманов – но голодному, ободранному, одичалому народу от этого легче почти не стало. Теперь уже и жизнь при покойном короле вспоминалась как чудесная сказка… Поэтому когда Наполеон без малейшего труда разогнал гнилую, продажную Директорию, многие во Франции обрадовались – им показалось, что наконец-то пришла настоящая твёрдая власть.
Так оно, собственно, и было; другое дело, что и эта твёрдая власть не дала французам покоя, напротив, в скором времени ввергла из в пучину новых, не менее кровопролитных войн…
Павлу Петровичу, чей беспокойный дух метался в отчаянных поисках, явление Наполеона Бонапарта показалось поворотом к христианскому возрождению. Внешне это именно так и выглядело, правда, Наполеон, упоённый собственным величием, вряд ли воспринимал христианство как абсолютную ценность: просто он делал то, что ему было выгодно. Выгодно помириться с церковью – и он тут же помирился. Выгодно ему было и сближение с Россией – и случилось то, что должно было случиться… Наполеон во чтобы то ни стало хотел вырваться из политической изоляции, Павел разочаровался в союзниках, тем более в их потенциях относительно христианского ренессанса; в действиях же «гражданина первого консула» усмотрел стремление к таковому… И мир вздрогнул. Император Павел I порвал с коалицией и вступил в новую – с этой разбойной, вызывающей всеобщий ужас Францией.
Заодно он рассердился и на французских роялистов, которых прежде привечал, даже изгнанный наследник престола, будущий король Людовик XVIII приютился в России, в Курляндии… Теперь же Павел Петрович велел гнать всех взашей.
Возможно, император думал, что этим внезапным маневром он разорвёт цепь тёмных сил, смыкающихся вокруг него. Он не видел ясно, но чувствовал, ощущал близкое присутствие этих сил, он был окружён зловещими видениями… он спешил, спешил, спешил, ему надо было одолеть всё это.
Но он не успел.
12
Англичане, издавна успешно практиковавшие деятельность политической разведки, сумели к концу XVIII века наладить в Петербурге отличные оперативные позиции. Они были прекрасно осведомлены о недовольстве придворных императором. Чтобы это недовольство переросло в переворот, необходимы были два важнейших фактора: деньги и решительное руководство. И оба эти фактора сошлись.
Денег Британская корона, конечно, не пожалела, ибо каждый день приносил Лондону новости одна оглушительнее другой. Павел с Наполеоном не только заключили союз, но оба дружно ополчились против Англии и вздумали идти войной на Индию, беря её в клещи с запада и севера [36, 374]. Английская агентура донесла в Лондон, что Донское казачье войско снялось со своих зимних квартир (шла зима 1800/01 года) и двинулось на восток, к Оренбургу. Индийский поход начался. В Лондоне впали в шок!
2 февраля 1801 года (по Григорианскому календарю) правительство Питта-младшего рухнуло. Но все понимали, что отставкой дела не выправишь, и потому агентурная деятельность в русской столице приобрела ещё более интенсивный характер. Медлить было смерти подобно!
Итак, с деньгами проблем не существовало. Решительное руководство – вопрос всегда более сложный, но в данном случае и он удачно решился в пользу оппозиции.
Основу этой оппозиции составляло семейство Зубовых, столь процветавшее в последние Екатерининские годы: отставной фаворит императрицы князь Платон Александрович (титул заработал альковными подвигами), его братья Валериан и Николай (женатый на дочери Суворова), и, наконец, их сестра Ольга Александровна Жеребцова. Вся эта довольно неприглядная семейка весьма понаторела в дворцовых интригах, они были мастера по распусканию слухов, умели и привлечь людей на свою сторону… Но всё-таки сомнительно, чтобы кто-то из них сумел бы стать лидером заговора. Не тот калибр. Лидером стал другой.
Прусский дворянин Пётр фон дер Пален поступил на русскую военную службу, в конную гвардию в 1760-м году. В 1762-м поневоле оказался участником переворота – «…был молод и в чинах малых. Конной гвардии субалтерн-офицером, ничего не знал про заговор…» [44, т. 3, 44]. Затем служил и далее, воевал, был храбрым воином, выслужился в крупные чины и титулы, стал графом. Как администратор проявил себя блестяще: будучи правителем Рижского наместничества, сумел безболезненно провести окончательное поглощение империей Курляндского герцогства, территории, вассальной по отношению к России, но сохранявшей номинальные признаки государства. Успешно превративший герцогство в Курляндскую губернию, Пален был назначен её генерал-губернатором. Это произошло в 1795 году.
При Павле карьера Петра Алексеевича (так по-русски) сперва было качнулась: когда в его губернии оказался Платон Зубов, то встречен был с церемониалом, подобающим высокопоставленному чину, хотя к тому времени князь пребывал уже частным лицом. То ли генерал-губернатор не разобрался в петербургских тонкостях, то ли сделал это по дружбе – с Зубовыми он приятельствовал с давних пор – но так или иначе это был на редкость неудачный шаг.
Павел, узнав о том, конечно, осерчал. Пален был наказан строго – уволен со службы [36, 377]. Однако, через полгода возвращён, и более того, карьерный рост его становится космическим: в июле 1798 года Пётр Алексеевич сделан столичным градоначальником (военным генерал-губернатором), одним из самых приближённых к императору лиц. Видно, управленческие способности его в самом деле были выдающимися.
Несмотря на связи с Зубовыми, Пален не был типичным Екатерининским придворным, и это, пожалуй, главное, почему именно он, а не кто-то другой, взял заговор в свои руки. Он не был изнежен и развращён «светом», был умён, твёрд, беспощаден. Кроме того, он был прекрасным психологом. И очень быстро в искусстве интриг он превзошёл всех прочих. И наконец, Пален сумел войти в доверие к императору… А добившись этого, он уже мог в значительной степени управлять событиями и более того, организовывать их.
Что побудило этого человека стать путчистом? Властолюбие, свой особый бонапартизм?.. Не похоже. Он уже достиг таких высот власти, выше которых и при новом императоре не будет. Да и в возрасте пребывал почтенном – 56 лет по тем временам не шутка, почти старик… Не был граф и английским «агентом влияния», хотя, возможно, альянсу с Францией и не сочувствовал. Не в том дело. Вернее, не совсем в том.
Конечно же, Пален знал об английских происках и не препятствовал им. Судя по всему, он был действительно «идейно» убеждён в необходимости устранения Павла. И совершенно ясно – он осознавал устранение как убийство. Понятие о «помазаннике Божием» было для него пустым звуком.
Но почему же?! – почему за год-полтора, проведённых близ императора, генерал убедился в необходимости такого решения? Был циничен и безжалостен? Пожалуй, был. Но это не мотив. Он обладал огромной властью – да, куда уж больше! Правда, в любой момент это могло оборваться: жизнь близ Павла Петровича очень напоминала игру в русскую рулетку. Но попасться императору на заговоре – это даже не рулетка, это верная пуля в голову. Кому, как не военному губернатору, знать о том!.. И всё-таки он твёрдо и последовательно вёл курс на переворот.
Наверное, не стоит думать о графе Палене как о совершенном злодее и безбожнике. Скорее, его принципы были по-лютерански, скорее, даже по-кальвинистски жёсткими, безжалостными, без снисхождения к слабостям. Классическое протестантство предполагает крайне суровый моральный детерминизм: кто не с нами, тот не то чтобы против нас, а просто-напросто исчадие дьявола. Разумеется, живая жизнь сложнее концепций, пусть и теологических, и такой ригоризм существует больше в теории, но всё-таки – если рьяный протестант вдруг воспылает некоей идеей, пусть даже это идея счастья для всего человечества, то право же, лучше от этого экспорта счастья держаться подальше.
Понятно, что чужая душа потёмки, тем более душа из далёкой эпохи. Сегодня можно лишь догадываться о том, как формировались убеждения Палена за очень небольшой срок его петербургской службы. Но вполне очевидно, что строгое, чёрствое, раз и навсегда расчерченное мировоззрение генерал-губернатора не принимало пылкую, громокипящую натуру Павла Петровича; тем более не могло принять такого человека в роли императора (хотя терпеть приходилось). Логическая схема проста и очевидна: в государстве должен быть порядок. Порядка нет. Значит, надо восстановить. Как? Пален знал, как это сделала Екатерина при беспорядочном Петре III. При ней, благодетельнице, порядок, безусловно, был.
Вполне возможно допустить, что Пален был искренен, рассуждая так. Не хитрил, не юлил наедине с собой. Он вправду хотел порядка – так, как он его понимал. И уж яснее ясного, что Павел, воодушевлённый, порывистый и весь «неправильный», никак не отвечал этому пониманию. А раз так… Раз так, то дальнейшая логика ясна тем более. Пален сумел подчинить заговор своей воле, сумел настроить императора и против жены и против старших сыновей, а их, в особенности Александра, застращал отцовским гневом чуть ли не до обмороков. Тонкими, умелыми интригами он добился удаления от двора Алексея Аракчеева и Фёдора Ростопчина, единственных из сановников, кто искренне был предан Павлу. Но, естественно, Пален понимал, что долго так идти не может. Неустойчивое равновесие – точь-в-точь как в механике…
Развязка приближалась.
13
Идея построения в столице своей новой персональной резиденции овладела Павлом, вероятно, ещё в Гатчине. Идея была одновременно и вдохновенной и приземлённой – здание должно было стать мощным, величественным и причудливым, соединяя в себе военную крепость и таинственный дворец… Подобные желания часто приносят самые непредсказуемые результаты; в данном случае оно воплотилось в сумеречном очаровании Михайловского замка.
Архитектор Василий Иванович Баженов был ревностный масон. Если предположить, что в самых знаменитых творениях (дом Пашкова в Москве и тот же Михайловский замок в Петербурге) он стремился выразить своё миросозерцание – то философский взор получает выразительнейшую иллюстрацию к масонской сущности как таковой.
Эти здания неизъяснимо прелестны, особенно Пашков дом. Красота их таинственная, не сказать, что болезненная, но немного печальная; и уж, конечно, ни намёка нет в них на взлёт ввысь, как в готике, как в колокольнях русских храмов, минаретах мечетей… И в замке и в доме Пашкова есть «глава» – купол, однако и там и там он лишь немного возвышается над крышей. Впрочем, предъявлять жилому дому упрёки за отсутствие взлёта в небо излишне; но грустная вычурность – она же характернейшая особенность баженовских творений – есть чрезвычайно меткий символ начальной привлекательности и исходной бесплодности масонства. Его романтика – это закоулки, полумрак, потаённые ходы, шелест, шорох, шуршанье… Словом, нечто призрачное, прячущееся и недосказанное. Само по себе, это, наверное, дело безобидное, для натур хрупких и наивных может оказаться и полезным, и этого исключать нельзя. Но вот чего на такой основе сделать никак не получится – построить прочное мировоззрение, способное разрешить самые трудные вопросы, что ставит перед человеком жизнь. Подспорьем может быть, а вот базой – нет…
До наших дней дошёл групповой портрет работы неизвестного художника: архитектор Баженов с семьёй [10, т.4, 34]. Был ли масоном этот неизвестный художник, тоже неизвестно, но картина вышла у него на славу. Композиция такова: из темноты расплывчато проступают человеческие фигуры с какими-то пугающе-искажёнными лицами; на переднем плане – столик с чертежом, перо в чернильнице, и почему-то сидит попугай. Сам Василий Иванович, разумеется, в центре: красивый молодой мужчина, лицо вдохновенно-утончённое; руки и пальцы разведены в затейливой жестикуляции, Бог весть что означающей. Масоны, как известно, были мастера на подобного рода условные сигналы.
Не надо забывать, что император Павел в молодости был сильно увлечён масонством. С годами, правда, переболел – но по-настоящему ясного, стройного, незыблемого христианского мировоззрения так и не достиг, при всей искренней тяге к нему. И его последнее обиталище на этой Земле – Михайловский замок – тоже символ, странный и трагический, символ духа, стремившегося, но не обретшего.
План замка действительно был разработан Баженовым, но он скончался в разгар строительства, в 1799 году. Достраивал здание итальянец Винченцо Бренна, давно знакомый императору. Павел спешил, подгонял, строительство шло бешеными темпами – и вот, 1 февраля 1801 года, сырой и стылой петербургской зимой императорская семья переехала в наспех достроенный замок. На следующий день по случаю новоселья был устроен бал-маскарад.
Все очевидцы вспоминают этот бал как жуткое и фантастическое зрелище: холод, сумрак, путаница бесконечных тёмных лестниц и коридоров; система дымоходов толком ещё не работала, печи дымили, заполняя залы едким туманом [73, 73]… Бал призраков.
Возможно, Павел думал, что новый дом – тоже ход в игре с силами зла. Впрочем, в глубине души он должен был понимать, что надежды и эти не сбылись. Он чувствовал неладное вокруг себя, Авелевы предсказания терзали его, не давали покоя (Авель, кстати, содержался под строжайшим надзором). Что думал Павел о своей схватке с судьбой, считал ли он, что ему удастся переиграть зловещий рок?..
Это так и осталось тайной по сей день. То, что известно о последних сорока днях жизни императора Павла (а именно столько он провёл в Михайловском замке!), загадочно и противоречиво. Возможно – даже вероятнее всего – это результат «обратной памяти», когда после того, как случилось нечто, более ранние события воспринимаются сквозь призму этого случившегося, и каждое кажется символическим, предвосхитившем будущее… Только вот почему-то никому так и не разгадать эту символику, покуда это нечто не произошло.
Отсюда, думается, из этих психологических ресурсов легендарные сказания о последних, уже самых последних днях. Кривые зеркала, в которых шея кажется свёрнутой, нелепая фраза «На тот свет иттить – не котомки шить» [5, 84], разное прочее… Да, свою партию с судьбой Павел Петрович Романов проиграл.
9 марта на обычном ежедневном докладе государь вдруг перебил Палена странным вопросом: что делал тот в 1762 году во время переворота? Здесь-то и прозвучал ответ про субалтерн-офицера конной гвардии… Из дальнейшего разговора выяснилось, что Павел догадывается о заговоре сегодняшнем, и хочет знать, в курсе ли военный губернатор.
И тут Пален решает сыграть ва-банк. Он объявляет: да, знает! И не просто знает, но сам лично возглавляет заговор – не иначе как с целью выявить все нити, все связи и всех поимённо, чтобы уж, выявив это, взять разом всех. Но… тут последовала понятная пауза; изумлённый и взбудораженный Павел потребовал продолжать, говорить всё начистоту – и тогда, как бы тяжко помедлив, Пален сознался, что ему трудно о том говорить… но, по его данным, Её Величество и оба старших сына… да, вот такая ужасная правда.
В общем-то, эта встреча императора со своим неверным слугой – для нас теперешних классический «чёрный ящик», вещь в себе по Канту [33, 138]. Какой именно была беседа, что являл собой её эмоциональный фон… Всё это – пространство для мифологизированной, художествующей мысли. Достоверна ситуация лишь на входе и на выходе: граф Пален вошёл в покои императора; вышел же оттуда с подписанным указом об аресте или рассылке по монастырям всех членов царской фамилии и с договорённостью пока молчать о том указе.
Разумеется, Пален молчать не стал. Он направился к Александру и с удовольствием показал тому бумагу о его аресте – трепетный молодой человек так и залился горьким плачем. Палену, с его давным-давно зачерствевшей душой, переживания наследника были абсолютно неинтересны, он терпеливо ждал, а когда царевич, наконец, наплакался вдоволь, вытер слёзы – железным тоном заявил, что действовать надо немедля, иначе всё пропало. В том числе и он сам, великий князь Александр – пропал тоже.
14
Долгое время после 1801 года Михайловский замок стоял неприкаянной громадой. Пытались там устроить жилые квартиры, даже организовали молельную комнату для петербургских мусульман (мечети в городе ещё не было) – но всё это как-то не прижилось. Лишь в 1819 году, и уже на много-много лет в замке обосновалось Военно-инженерное училище, а сам замок стали неофициально называть Инженерным. Училище приобрело славную историю, дало России много знаменитостей; а в 1837 году туда поступил самый знаменитый из его воспитанников, прославившийся, впрочем, вовсе не в науках геодезии, картографии и фортификации… Этого курсанта звали Фёдор Достоевский.
Случайностей в мире нет – и право же, глубоко символично то, что всемирно признанный тонкий исследователь теневых, потаённых, фантастических сторон человеческой души юность свою провёл в странном, мистическом здании, почти лабиринте. Достоевский, родившийся в Москве – писатель, конечно же, петербургский, наверняка он не мог бы состояться нигде, кроме как в «самом умышленном» городе в мире, и жизнь его не могла пройти мимо «самого умышленного» здания в этом городе. Замок ведь не только полон был сумраком, вздохами и завыванием ветров – часть покоев в нём стояла наглухо запертой, и доступ туда был строжайше запрещён. Но разумеется, курсанты всё знали – цензура цензурой, а слухи слухами, и перекрыть их все невозможно. Не смея говорить громко, люди передавали шёпотом подробности того, что случилось в ночь с 11 на 12 марта 1801 года. Естественно, что юнцы, жившие в Инженерном замке, любители, как все юнцы, «страшных историй», запугивали друг друга россказнями о том, как по бесчисленным залам, коридорам, лестницам бродит тень покойного императора со свечою в руке (это отлично описано Лесковым в рассказе «Привидение в Инженерном замке»)… Как зародилась в Достоевском одна из главнейших для него нравственных тем: возможность или невозможность оправдания аморального действия, если это действие в теории должно привести к гораздо более благодетельному результату?.. Конечно, Достоевский не первый, кто к данной проблеме всерьёз отнёсся, но никто иной не смог с такой художественной силой выразить её человеческое измерение – причём в разных житейских ипостасях. По-своему решает её Раскольников. Она же, но иначе, встаёт перед Иваном Карамазовым.
Трагедия Ивана в том, что он допускает возможность такого локального аморализма во имя «большой морали», а когда осознаёт, что это не так, то уже поздно. Видя, как безнадёжно усугубляются обстоятельства в доме отца – старого циника и безобразника – Иван про себя думает, что было б лучше, если бы папеньку кто-нибудь прикончил; тем самым весь узел неразрешимых противоречий сам собой распадётся. Стоило только так подумать – и все события как нарочно стали подвёрстываться под этот сценарий… Тогда-то Иван, философски усмехнувшись, предоставил событиям течь по руслу судьбы, а сам умыл руки.
Разумеется, всё так и случилось, и Иван Карамазов стал свободным и богатым, обладателем немалого наследства, человеком, пред которым открыты все пути – твори благо хоть всему мирозданию… Но Ивану не творится, в душе у него тяжкий мрак. Он понимает: что-то вышло не так, причём непоправимо не так. Он долго не решается взглянуть в глубину своей души, а когда, наконец, это происходит, с ужасом осознаёт, что его саркастическая уклончивость была не только расценена как санкция на убийство, но и сам он, Иван, всё знал. Знал, что именно так и будет, но старался уверить себя в том, что знать ничего не знает, ведать не ведает… А теперь ему ясно: он ответствен за смерть отца, и самое страшное здесь то, что никакого блага и добра отныне он создать не сможет. Никогда! – совершённая им подлость отравила всё будущее.
Конечно, люди разные. Для кого-то таких высоких моральных переживаний не существует (что не значит, что их нет!). Но для Ивана Карамазова оказалось, что нельзя жить на Земле как человеку, если грех на твоей душе – все твои добрые дела, какие б ты ни делал, будут рассыпаться в прах.
Нет оснований утверждать, что основная коллизия «Братьев Карамазовых» была навеяна Достоевскому именно историей царя Павла и царевича Александра. Скорее, жизнь сама во множестве плодит подобные сюжеты, а уж близ власти они проступают рельефнее, острее, ярче… Немудрено, что отношения отца и сына, императора и наследника, сплелись в такой клубок.
Впрочем, рассуждать легко, тем более много лет спустя. Не забудем и о молодости Александра. Да, в «большом мире» люди взрослеют раньше, это верно. Но даже опытному царедворцу в лабиринтах изощрённых интриг приходится иной раз туго, а цесаревич в то время опыта лишь набирался; правда, набрался весьма успешно, о чём мы ещё поведаем… Да ведь и не просто придворный он был, но официальный наследник – стало быть, его-то этими интригами и раздирали на части, и ему приходилось в суровых взрослых играх хуже всех.
Не стоит воспринимать это в качестве неких адвокатских сентенций. Надо лишь не забывать простую и великую мудрость: «Не судите, да не судимы будете» [Матф.,7:1]. Когда перед личностью встаёт моральная дилемма по закону исключённого третьего: либо-либо, причём одно из этих «либо» ты сам – то каково решиться на другое?.. Обычному, нормальному человеку себя в данной роли, наверное, даже представлять не хочется.
Вот и Александр надеялся выскользнуть из безжалостных клещей формальной логики в логику диалектическую, где «или-или» не враги, но две стороны одной медали – не противоречия, а противоположности, взаимно дополняющие друг друга. Подобно Ивану Карамазову, Александр страшился взглянуть в лицо реальности, отчаянно желая, что она будет милостивой: то есть, что отца принудят подписать отречение, и он со всем подобающим пиететом будет вести жизнь отставника. Наследник тешил себя этой сказкой, не решаясь думать иначе – но уж кто-кто, а он-то знал отца! Знал, что такое для того быть монархом: что отречься для Павла значило – умереть, порвать связь с Богом; а умереть, но не отречься – жить вечно. Уйти в вечность, возможно, раньше, чем хотелось, оставив незаконченные дела на Земле – но всё же не умереть, не сгинуть.
Можно высказать осторожное предположение, что Александр уповал ещё и на чудо: нечто такое, чего он слабым человеческим разумом не может осознать и предвидеть, но что, будучи мудрее нас, каким-то непостижимым образом, само собою развернёт, выправит все обстоятельства, и всё устроится миром… Всё-таки очень, очень хотелось верить в это.
И это, конечно, не сбылось.
15
Павел, выслушав Палена, всё же не стал «класть все яйца в одну корзину», а поступил осмотрительнее, оставив за собой запасной вариант: тайно от градоначальника велел послать за Аракчеевым, незадолго до того попавшим в организованную тем же Паленом опалу и теперь пребывавшем в Гатчине… В данной ситуации проявилось то, что с непреложной закономерностью продолжалось и далее: ни отец, Павел I, ни сын, Александр I, не могли обойтись без этого стержня отечественной бюрократии. По навету Палена Павел обрушил было немилость на Алексея Андреевича, а когда обстановка осложнилась, выяснилось, что без Аракчеева не обойтись.
Но и Пален предусматривал развитие событий на несколько ходов вперёд. С Аракчеевым они один другого ненавидели, но в данном случае это большой роли не играло – надо было только успеть, пока есть выигрыш во времени. Явление Аракчеева сломало бы всю комбинацию, и всем полицейским силам столицы было строжайше велено не пускать того в город – что, как позже выяснилось, и спасло заговорщиков. Да, Пален рисковал – но риск оправдался.
Мятежникам удалось объединить силы в ночь с 11 на 12 марта, когда дежурство в Михайловском замке нёс третий батальон Семёновского полка, лояльный Александру: он считался шефом этого подразделения. Командир же полка, генерал Леонтий Депрерадович также был в числе инсургентов.
Пален, как всегда, был умнее всех: он в замок не пошёл. Прочие же участники путча: братья Зубовы, Депрерадович, генералы Беннигсен, Талызин, комендант замка Аргамаков, толпа гвардейских офицеров, в том числе и знатнейших родов – Долгорукий, Волконский, другие – для храбрости сильно подкрепившись спиртным, двинулись совершать «революцию»…
Не стоит, пожалуй, входить в подробности той кошмарной ночи: они описаны-переписаны бессчётно. Единственно, на что хотелось бы обратить внимание – что все эти описания заметно разнятся. Это не удивительно; напротив, крайне характерно. Это значит, что в такие страшные мгновения разум человеческий мутится – некий сдвиг в сознании, а может – кто знает?! – и в самом пространстве-времени. Оно смещается, рвётся его ткань, и что там видится, что чудится в этих разрывах, какие призрачные флюиды иных пространств вливаются в наш мир, меняют взоры, омрачают ум… Неведомо. Когда убийцы, наконец, опамятовались, а может быть, и протрезвели – изувеченное тело императора лежало бездыханным на полу спальни.
Общепринято считать, что смертельный удар золотой табакеркой в висок нанёс Николай Зубов, человек физически очень сильный. Но и после того, обезумевшие, утратившие контроль над собой и над реальностью люди душили, били и топтали жертву. Били уже мёртвого.
Итак, дело было сделано. Но не закончено. Неофициальные свидетельства утверждают, что, узнав о смерти мужа, императрица Мария Фёдоровна, полуодетая, ринулась к его покоям с криком: «Я буду царствовать!» Её, правда, перехватили и вразумили: царствовать будет Ваш старший сын, а Вам, Ваше Величество, лучше бы не шуметь, угомониться, да помолиться за упокой души новопреставленного раба Божьего Павла… Внушение оказалось действенным – больше эксцессов не было.
Наверное, нет значимых оснований говорить о явной причастности Марии Фёдоровны к заговору. Знала ли она о нём, утаивая это от мужа?.. Это весьма вероятно; и дело здесь не в какой-то особо изощрённой злонамеренности: очень уж сложно, до крайности непредсказуемо складывались обстоятельства при дворе в последние месяцы правления Павла. Умная царица прекрасно понимала, что всякая инициатива в данной обстановке наказуема смертельно. Поэтому Мария Фёдоровна могла тщательно собирать информацию, ничего не предпринимая и выжидая, когда всё разрешится чужими руками… Теоретически она оказалась права – но теории в политике немногого стоят.
А что же старший сын? Он, похоже, до конца так и надеялся на чудо, на то, что удастся-таки разрешить кризис мирным путём. Когда же этого не случилось, Его Высочество… то есть, уже Его Величество; так вот, Его Величество Император Всероссийский, конечно же, расплакался.
Наверное, фон Пален, ощущавший себя в этот миг «делателем королей», победно и с упоительным превосходством смотрел на нового своего государя. Но долго так смотреть было нельзя, дело всё-таки ещё не закончено, войска волнуются, несмотря на то, что уже был пущен слух, что государь Павел Петрович скончался «апоплексическим ударом». Необходимо объявить это устами нового царя, и необходимо, что бы он при этом был твёрд – печален, как подобает любящему сыну, но и твёрд; и чтобы успокоил дворянство, сказав, что Павловские чудеса закончились, и возвращается всем любезный порядок матушки Екатерины…
И тогда Пален шагнул к Александру и произнёс самую знаменитую свою фразу, с коей и вошёл в историю:
– Полно ребячиться, Ваше Величество! Ступайте царствовать.
Точности ради приходится отметить, что произнёс он эти слова по-французски, вот так: «C`est assez faire l`enfant, allez regenter»[14, 202].
И юный император вытер слёзы и пошёл царствовать. Начал со лжи, причём солгал дважды, заявив общественности так:
– Батюшка государь-император скончался апоплексическим ударом. При мне всё будет, как при бабушке…
И площадь, полная людьми, ответила:
– Ура! Ура, Александр! Ура, ура, ура!..
16
Так чем же было для России царствование Павла? Благодеянием, случайностью или несчастьем?.. Да, наверное, ни тем, ни другим и не третьим. Но важной вехой оно, безусловно, стало. После Павла Петровича цареубийства в России не прекратились, но навсегда закончились дворцовые перевороты, и кровавые и бескровные. (Иногда приходится слышать, что последней такой попыткой стало восстание декабристов; однако, с такой трактовкой согласиться трудно. Это событие имеет иную социальную природу, декабристы – люди иной эпохи). Павел изменил конфигурацию придворной жизни: он погиб, но и гвардия перестала быть янычарщиной, торгующей военной силой на рынке дворцовых коньюнктур. Именно это и явилось важнейшим итогом краткого царствования. Восемнадцатый век в России со смертью Павла кончился не только календарно. Он кончился в самом деле. Начался другой отсчёт.
Наверное, не совсем так хотел войти в историю Павел Петрович, не только этим. Но – не всегда мы выбираем пути… Пророчество монаха Авеля оказалось неопровержимым. Свобода выбора дана людям, но каждый сам должен разгадать, где он, этот выбор, где тебя ждёт развилка, как её увидеть… И такое знание, конечно, даёт вера. Это слово заезжено, и большей частью понимается плоско и тривиально, тогда как метафизически вера есть, безусловно, раскрытие особых измерений пространства-времени… Приходится с грустью констатировать, что император Павел, несмотря на горячее желание верить и на некоторый мистический талант, оказался всё же подслеповат в сумерках политики. Злые сплетни, обман, предательство и недоверие – тьма, в которую он завёл себя сам, из которой хотел выбраться, да так и не сумел. Но монаршая и рыцарская честь его осталась непоколебимой: он выполнил свой долг перед самой угрозой смерти, не отступил, не испугался, не пал духом – и умер, не отрекшись.
Да, случайностей нет – ни на этом свете, ни на том. Гробница императора Павла I в Петропавловском соборе со временем обрела славу чудотворной: считается, что заступничество покойного государя выручает из беды. Так ли это, нет – спорить бессмысленно. Если уж людям хочется думать, что могила именно этого человека обладает благодатными свойствами – то этот человек, наверное, искупил свои грехи, которые у него, конечно же, были, как у всякого, жившего на Земле.
Глава 3. Прекрасное начало?.
1
Действительно, таким ли уж прекрасным оно было – самое-самое начало?..
Представим себе душевное состояние новоявленного императора: отец убит, вокруг ликуют убийцы и сторонники их, уверенные, что вернулось вспять золотое Екатерининское время. Мать брезгливо сторонится сына, он от этого страдает, а ведь это далеко не самая едкая соль, которая сыплется на его душевные раны. Ему приходится чуть ли не под руку прогуливаться с сияющим Платоном Зубовым, улыбаться ему… Да и прочие цареубийцы кажутся Александру столь же омерзительны, а что делать? Что делать, кто подскажет!..
Но самое ужасное – Александр видел изувеченный труп отца. Бытует мнение, что этот показ молодому человеку организовали специально: как бы ненароком, а на самом деле с умыслом – что бывает с царями, которые не умеют найти общий язык с аристократией…
Как в этот миг содрогнулась Александрова душа?! Представить это невозможно, а пережить – не дай Бог никому. Говорят, император как увидел страшную картину, так и рухнул в обморок [5, 87]. Организаторы должны были быть довольны: перформанс удался.
Они думали, что пугают робкого, кроткого юношу. И ошиблись. О, как они ошиблись!.. Этот юноша прошёл не школу, но академию увёрток и притворства – и теперь заглянуть кому-то в глубь его души стало почти нереальным, примерно так же, как увидеть своими глазами южный полюс. Хотя, конечно, обморок был настоящий: какие уж здесь игры!.. Но Александр встал из этого падения. Встал – и никто из мятежников не понял, что случилось.
Случилось то, что их время вышло. Юноша встал – а их не стало. Не физически, а политически, но и этого довольно. Ликуя, упиваясь победой, они были слепы. А он нет. Спасибо им: слишком жестокий урок преподали они воспитаннику, не догадавшись, чему научили его. Научили ждать, а это большое дело! Александр выждал – и они вдруг увидали, что пред ними не воспитанник, не марионетка какая-нибудь, а настоящий царь, вежливый, но непреклонный. И настоящая власть у него, а не у них.
Всё это так. Но тот страшный миг!.. Он раскалённым тавром врезался в память Александра. Как жить дальше с такой памятью? Как жить?!
И здесь никак не обойти вопрос: а не блуждали ли в эти дни в нём, в Александре, мысли о самоубийстве?.. Правда, и ответить на него нечем, если не пускаться в зыбкие дебри психологических гипотез. Если же пуститься, то ответ один: по душевному своему складу Александр просто не мог пройти мимо. Но и сделать это он не мог. Не прошёл, но и не дошёл. Прикоснулся к этой мысли, ужаснулся и постарался забыть о ней. Почему?
Мотивы веры и греха им ещё в ту пору не владели, он был очень от них далёк, попросту ничего не смыслил в них. Был слабоват духом? Это похоже на правду. Но… «не судите, да не судимы будете». Предъявлять двадцатичетырёхлетнему юноше счёт на то, что он не расплатился жизнью за малодушие, было бы слишком жестоко.
Честнее же всего будет сказать так: напереживавшись и наплакавшись, молодой самодержец вытер слёзы, сжал зубы и сказал себе: что ж, посмотрим. Ступайте царствовать, Ваше величество?.. Ладно, ступлю. Сами сказали так.
Конечно, невозможно назвать день и час, когда произошло превращение нежного юноши во властелина. То был долгий процесс. Разумеется, мощную рыцарскую длань приложил к этому «государь-батюшка», Павел Петрович, державший семью так, что все ходили по струнке. Последние же месяцы отцовского правления царевичу пришлось совсем тяжко – тут уж не до идиллий, коим он предавался некогда, мечтая с женой о том, как бы им славно жилось в маленьком домике на берегу Рейна… Какой там Рейн, какой домик – голову бы удержать на плечах.
Однако ж, обошлось. Но какой ценой! Слёзы Александра были искренними, хотя он и понимал, что ими горю не поможешь. И всё-таки выплакаться, наверное, было необходимо, слёз просила раненая душа, они приглушали боль… С этой болью надо было жить дальше, да не просто жить, а царствовать, от этого уже не отвертеться: тесно толпятся вокруг жаждущие прежней вкусной жизни и требуют – не просят, а требуют! – чтобы новый царь им эту жизнь обеспечил…
Не стоит, однако, думать, что Александр с таким уж отвращением воспринял свою венценосность. Душа его болела, и для радости причин было немного, но ведь с воцарением и возможности открывались особенные, которых прежде не было – хотя бы возможность вывести страну на верный путь; верный, с его, конечно, Александра Павловича, точки зрения. Ведь всё-таки его целенаправленно готовили в цари… Надо прочно взять власть в руки, а уж тогда подготовить сильно запущенное российское государство ко введению конституционной и республиканской формы правления, установить её, а самому сложить себя тяжкий венец и зажить спокойно и счастливо рядовым гражданином среди таких же равноправных и счастливых граждан.
Для того нужна была хитрая тактика – и он сумел её найти. Из того, что последовало далее, можно предполагать, что он с самого начала не собирался возвращать постаревшим и облезлым бабушкиным прихлебателям их «золотой век», ибо сознавал, что век золотым не был; был он позолоченным, причём с позолотой, нанесённой на дурно пахнущее исподнее. Но пока Александр полностью зависел от вчерашних путчистов, он вынужден был с ними лицемерить. Он ещё раз подтвердил, что править намерен по закону «в Бозе почивающей августейшей бабки нашей» [74, т.2, 29], отменил множество отцовских постановлений, ущемляющих права дворянства, добавил к ним ряд своих, прекраснодушных и совершенно никчёмных… Царедворцы ликовали. Им чудилось, что прекрасное прошлое вернулось.
Да, они недооценили молодого царя – история старая как мир и вечно новая: придворные группировки возводят на трон слабого, как им кажется, правителя, надеясь за его зиц-председательской спиной вкусить земных сладостей вволю… Но не тут-то было.
Надо признать, что из придворной жизни Александр умело извлёк урок практического макиавеллизма – флорентинец Никколо учил, что правитель должен уметь быть львом и лисой одновременно: если до льва юный Александр наверняка не дотягивал, то уж лисой-то стал. Спасибо, научили.
Он улыбался, расточал тонкие любезности, прогуливался под руку – а его собеседники и не подозревали, что их закат близок… Естественно, император не собирался удалять всех: при дворе имелось немало служак, умевших быть полезными при любом режиме, как тот же Николай Салтыков; но ясно было, что никчёмным людишкам, «Максим Петровичам» и Зубовым в новой политике не место. Потому что ничего, кроме интриг, сплетен, неизлечимой подозрительности и пошлой грязи они создать не способны.
Пален – тот да, способен. Но совсем не то, чего хотелось бы императору. Не лишено вероятности, что для Александра, по его ментальному складу, этот человек так и остался загадкой – которую, правда, разгадывать совсем не хотелось. Пален был превосходный администратор. Но кто знает, не вошёл ли он во вкус, свергая и возводя царей?.. Как показало дальнейшее – нет, и за придворную жизнь не цеплялся. Вполне вероятно, он и в самом деле считал, что свершил правое дело – хотя наверняка бы обезопасил себя в случае неудачи, и всех сподвижников бы сдал, и Александра тоже, и не дрогнул бы.
Понимал это Александр? Конечно. Хищный зверь, раз вкусивший человечины, становится людоедом. Пален же травоядным никак не был, и у царя были все основания его страшиться. Страхи, правда, не сбылись – но всё же Александр не монах Авель, чтобы всё предвидеть… А вот искусным лицедеем он стал, ничего не скажешь. С тем же Паленом, так и остававшимся военным генерал-губернатором, он был вежлив, обходителен – совершенно деловые, рабочие отношения плюс общепризнанное обаяние Александра. Мария Фёдоровна, которая графа видеть не могла, была крайне возмущена тем, что сын любезничает со «злодеем» – но в данном случае сын оказался лишь умелым и хладнокровным политиком.
Итак, ни бабушкины бездельники, ни ужасный Пален не годились в соратники по настоящей политике, а не по шушуканьям или переворотам. Но не годилась также и чрезмерная резкость Павла Петровича, действовавшего сплеча, наотмашь, без продуманных планов, без чёткой концепции… Не стоит забывать – Александр был всё-таки учеником Лагарпа. Будучи ходульным моралистом, швейцарец как-никак явил себя неплохим педагогом; по крайней мере, чувство справедливости в воспитаннике пробудил. Теперь воспитанник стал императором, и для осуществления высоких целей ему требовались люди, понимающие его, близкие по духу, проникнутые теми же идеями справедливости, человечности и добра – в разумении самого Александра, понятно. Долго искать таких людей не пришлось: вот они, его прежние друзья, те с кем он в юности так светло мечтал о свободе, о счастливой и прекрасной жизни! Конечно, хорошо бы, если б жизнь такая протекала в некоей благоухающей Аркадии, где нет вражды и процветает всеобщее умиление… Но что ж делать! Приходится довольствоваться тем, что есть. От трона не ушёл; но кто знает, ведь судьба видит дальше нас и больше – раз так она распорядилась, стало быть, зачем-то это нужно. Истории потребовалось, чтобы Александр Павлович оказался на троне Российской империи. Значит, надо действовать.
2
В годы Павловского царствования друзья Александровой юности рассеялись по белу свету; не то, чтобы император их как-то преследовал (хотя и тёплых чувств к ним не питал) – но сами, от греха подальше. И когда режим Павла пал, и воцарившийся друг призвал их к себе – друзья, надо признать, не очень-то поспешили на зов. Они уже достаточно пожили при дворе, знали, что такое дворцовые нравы. Призыв прозвучал ещё в марте, сразу после переворота, а собраться всем вместе удалось только 24 июня. Конечно, через два столетия три с половиной месяца покажутся пустяком, но если применить этот срок к нашей повседневной жизни… За это время Александр успел заметно видоизменить как внутреннюю, так и внешнюю политику: он отменил цензуру, восстановил привилегии дворянства, облегчил положение духовенства, упразднил Тайную экспедицию (Павловскую «Лубянку»). Он отказался от звания Великого Магистра Мальтийского ордена и соответственно от прав на Мальту, параллельно с этим спешно выправляя русско-английские отношения (сильным было проанглийское лобби!). В июне дружественные связи с Британской империей были полностью восстановлены. Донское казачество возвратилось к месту постоянной дислокации.
И, пожалуй, самое важное установление первых месяцев Александрова правления: был образован совещательный орган при царе – так называемый Непременный совет, послуживший прообразом впоследствии созданного (тоже Александром) Государственного Совета – тот просуществовал до последних дней империи. Функции его за эти сто с лишним лет постепенно видоизменялись, эволюционировали, но суть оставалась той же: члены Совета должны быть мудрыми наперсниками государя, теми самыми «философами» из Платонова государства. Новорождённый Непременный совет состоял из 12 человек (мистическое число, как же!) – правда, никакие «философы» там не отметились, а засела всё та же Екатерининская гвардия, в том числе двое братьев Зубовых. Руководить данным заведением доверили непотопляемому графу Салтыкову.
Немного странным выглядит то, что, создавая важнейший государственный орган, император ввёл в него людей не самых, мягко говоря, солидных. Царедворцы же, кстати говоря, были в восторге: им казалось, что молодой правитель им угождает, ещё расширяя область их аристократических привилегий. На самом же деле… впрочем, не так-то просто сказать, как оно было на самом деле: то ли император посредством Непременного совета делал отвлекающий маневр, то ли классически разделял и властвовал, дабы выявить, кто будет эффективнее: Совет или «группа товарищей», вскоре названная Негласным Комитетом… Всё-таки в Совет, помимо придворного балласта, входили и действительно умелые менеджеры, и можно было, со временем отсеяв никчемный материал, рассчитывать на них. Если так, то политический разум начинающего самодержца убедителен; хотя здесь всякое исследование впадает в область домыслов. Опережая события, скажем, что Совет оказался куда более живучим, но рассчитывал ли на это Александр, затевая комбинации, теперь неведомо, да и не суть важно.
Меж тем, он вывел из «обоймы» и Палена, и тоже в лучших традициях макиавеллизма. Император спокойно переждал недовольство матери (вообще, их отношения заметно осложнились), дождался подходящего, как ему показалось, момента, ничем абсолютно своих намерений не выдавая: в последний из совместных рабочих дней царь и столичный губернатор обговорили некие насущные дела, вполне по-товарищески расстались – а на следующий день специальный гонец объявил Палену государево неудовольствие в виде строгого приказа оставить службу и удалиться в своё имение в Курляндию.
Граф удалился, не переча. Весь немалый остаток жизни – пережив и самого Александра, правда, лишь на три месяца – он провёл безвыездно в имении. По слухам, в одном приватном разговоре обмолвился, что насчёт 11 марта душа его спокойна, и он сумеет дать за это ответ Богу… Но по другим слухам, всякий раз в ночь с 11 на 12 марта, из года в год Пален мертвецки напивался [44, т.3, 161] – ровно и методично, пока не отключался. Это было всё, что осталось бывшему генерал-губернатору от прошлого…
Зато для Александровых друзей всё только начиналось.
3
Кем были эти (к 1801 году, кстати говоря, не столь уж молодые) люди?
Разумеется, все они были масонами. Все стремились к «свободе» – что, собственно, ничего не значило; примерно как сегодня ничего не значат обессмыслившиеся заклинания о демократии и правах человека. При этом они были достаточно разными людьми, те четверо, что составили самый ближний круг самых первых лет императора Александра: князь Адам Чарторыйский, граф Виктор Кочубей, граф Павел Строганов, граф Николай Новосильцев.
О Строганове – самом молодом из этой четвёрки (старше Александра на пять лет), мы уже немного знаем. Жизнь его складывалась причудливо с самого рождения, и уж как оно началось, так и шло. На государственном поприще, в политике он ничем себя не проявил, да и вообще, если сказать правду, ничего путного в своей жизни не сделал. Был храбр, участвовал во многих битвах – этого не отнять. Но не менее храбро сражались в революциях и войнах тех лет тысячи людей, просто у них не имелось тех возможностей, которые были даны графу деньгами и происхождением – а он эти возможности пустил в дым. Вот уж воистину: как с самого начала пошло…
Один из богатейших в России, род Строгановых вёл начало от пермских купцов и промышленников, ещё при Иване Грозном осваивавших Урал и Сибирь – тогда дикие, почти сказочные края. Оттуда и несметные богатства: будучи частными лицами, Строгановы получили государев патент на освоение неизведанных земель. Они исправно снаряжали экспедиции (в том числе Ермака), отсылали царям богатейшие трофеи – самый что ни на есть яркий пример успешного сотрудничества государства и бизнеса.
Деньги сделали Строгановых дворянами, затем баронским, а потом и графским родом. Друг императора, Павел Александрович, уже родился графом (правда, не российским, а австрийским – его отец получил высокий титул от императора Франца I; российское же графство досталось Строгановым попозже, от Павла Петровича) – а случилось это во Франции. Отец, Александр Сергеевич, был человек добрый, щедрый, великодушный и совершенно беспорядочный, жизнь посвятил тому, что проматывал огромное своё состояние, чего в конце концов и достиг – умер в долгах как в шелках. В течение многих лет он устраивал в собственном петербургском доме бесплатные обеды для всех желающих, куда являлись чуть ли не сотни людей; как гласит предание, когда один из таких давнишних нахлебников вдруг не пришёл, никто не знал, где его искать, потому что не знали о нём ровно ничего: кто таков, как зовут, где живёт… Ну и уж нечего говорить, что Александр Сергеевич увлекался всеми новомодностями эпохи: и масонством, и розенкрейцерством, и вольтерьянством; не обошлось, разумеется, и без Калиостро – среди тех, кому итальянский граф-самозванец морочил головы персонально, был граф русский, настоящий, но безалаберный… Будучи же во Франции, Строганов-старший возжелал познакомиться с самим Вольтером воочию, покатил к тому в поместье Ферней (в Швейцарии), вместе с беременной женой. Какой мудрости почерпнули в этом визите русские гости, доподлинно неизвестно, зато известно, что поехали из Парижа в Ферней двое, а вернулись трое – на обратной дороге графиня разрешилась от бремени мальчиком Павлом.
Родители его продолжали вести жизнь суетную и вздорную, сыном, по существу, не занимались… Но вот прошло сколько-то лет, и в семействе Строгановых возник домашний учитель, некто Шарль Жильбер Ромм [59, т.12, 137], человек, в котором модное просветительско-атеистическое мировоззрение приобрело особенно неистовый характер. Говорят, что когда умер один из графских слуг (там же, в Париже), и явился отпевать покойного местный католический священник, то Ромм и юный Строганов стеной встали на пути кюре, крича в два горла, что не допустят «мракобесия» и «суеверий»… Но должно сказать, что Ромм вовсе не был анекдотическим персонажем. Умный, яркий, бесстрашный – он, конечно, покорил сердце воспитанника.
Когда в 1779 году Строгановы наконец-то засобирались в Россию, Ромм не захотел расставаться с ними и поехал тоже. Но тут как-то всё пошло неладно и нескладно, легкомысленная графиня завела роман с одним из мимолётных фаворитов Екатерины, Римским-Корсаковым, а благородный граф отписал супруге одно из имений, куда любовники и удалились. Молодой же Павел Строганов и его учитель, влекомые тягой к познаниям, много колесили по стране; с ними путешествовал крепостной юноша Андрей Воронихин, будущий знаменитый архитектор… Теперь неразлучны сделались все трое, и через какое-то время так втроём и отправились обратно в Париж.
Где и грянула революция!
Ромм и Строганов тут же сделались якобинцами (благоразумный Воронихин от греха подальше отбыл домой и вообще в политику никогда не лез). Иной раз пишут, что в Якобинском клубе молодой аристократ, по революционной моде прозвавший себя гражданином Очером (брат короля, например, герцог Орлеанский, взял псевдоним «гражданин Эгалите», гражданин Равенство, то есть – что, однако, от гильотины его не избавило) ничем не выделялся, да и в штурме Бастилии вроде бы не участвовал… Кто знает, может и так. Но уж чего не отрицает никто – брутальной, напоказ, на весь Париж связи Строганова со знаменитой «гетерой революции» Теруань де Мерикур [68, 63], тоже ставшей своеобразным символом той переломной эпохи.
Этой особе, возможно, и не стоило бы уделять внимания как таковой, но – почти Сократова ирония! – её нелепая и печальная судьба стала странным кривым зеркалом, в котором отразился излом мировой истории, трагическое и фарсовое, сплетённое так, как никакая фантазия не смогла бы выдумать…
Забавное дело: аристократы, ставшие революционерами, отказывались от титулов, превращаясь в «граждан». Зато простолюдины наоборот, навешивали на свои фамилии дворянские приставки, словно революция нужна была им для того, чтобы обрести возможность чваниться. Пушкин вспоминал о своём лицейском преподавателе Будри, родном брате знаменитого Марата, «друга народа»: «Екатерина II переменила ему фамилию по просьбе его, придав ему аристократическую частицу de, которую Будри тщательно сохранял. Он был родом из Будри» [49, т.7, 185].
Анна Теруань, дочь выбившегося в купцы разбогатевшего крестьянина, была родом из деревни Мерикур [80, т.65, 94] – отсюда и псевдо-дворянское имя. Жизнь её с юности закружилась в вихре романтических приключений: в семнадцать лет она сбежала из дому с каким-то провинциальным Дон-Жуаном… Во Франции все пути ведут в Париж, туда вскоре и направила мадемуазель юные стопы. Ну, а когда полыхнула революция, она с восторгом поняла, что пробил её час – и со всем пылом отдалась политической стихии.
Недоброжелатели сильно постарались очернить моральный облик Теруань, и это им в исторической перспективе, в общем, удалось. А в сущности, она вовсе не была такой уж кровожадной, какой её расписывали злопыхатели; напротив, неоднократно удерживала толпу от бесчинств, и толпа слушалась: авторитетом эта дама пользовалась немалым. По-настоящему свирепые революционеры, вроде того же Ромма, люто ополчились на неё, и ей даже пришлось на какое-то время покинуть страну. Впрочем, вернувшись, она с тем же пылом ринулась в ту же стихию, без которой больше не могла жить.
По-видимому, психически неуравновешенной Анна была изначально. Может быть, в другую эпоху это и осталось бы втуне, но времена не выбирают…
В 1793 году, когда революционеры сцепились и начали жёстко конфликтовать уже друг с другом, она горячо вступилась за умеренных, так называемых жирондистов, от чего экстремисты-якобинцы готовы были её растерзать. Конфликт зашёл слишком далеко, и шансов закончиться мирно у него не осталось, чего Анна, вероятно, не понимала… 31 мая на площади близ Конвента она разразилась горячей речью в поддержку жирондистов, после чего пошла зачем-то в сад Тюильри (это рядом, надо перейти мост через Сену). Тут её подкараулила группа женщин-якобинок: разъярённые, с воплями они набросились на политическую противницу, повалили, заголили нижнюю часть тела и больно отстегали прутьями.
К этому моменту разум, видимо, и без того непрочно держался во взбаламученной голове Теруань – а от такого шока он совсем слетел с орбиты, и, увы, навсегда. Долгий остаток жизни – четверть века! – она провела в сумасшедшем доме, в тяжком безумии.
Как это странно, если вдуматься, как странно, Боже правый!.. Она жила – и ничего не знала о том, что где-то рушатся царства, армии ходят на край света, Европу корёжит в страшных войнах, Кант с Гегелем мыслят о вечности, механик Иван Кулибин строит удивительные механизмы, в небе сияет странная комета, границы и вожди разных стран призрачно возникают, смещаются и рушатся; то тут, то там всё чаще дымят неуклюжие паровозы и пароходы… и вот, за двадцать лет всё изменилось так, что то, прежнее, теперь кажется чем-то странным, далёким, очень далёким – то ли оно было, то ли не было… А для несчастной женщины этих лет вовсе не было, её время превратилось в стоячую воду, мир прошёл мимо, позабыв о ней, живой, но утонувшей в беспамятстве.
Для Строганова «вихрь революции» завершился ещё в 1790-м – когда, Екатерина строжайшим указом велела россиянам покинуть Францию. Якобинские подвиги графа она сочла до крайности неприличными и отправила его в ссылку, правда, не обременительную… Любимый же учитель, Жильбер Ромм, вздымал тот самый вихрь лично: извергал кипящие речи, требовал казни короля, возненавидел хронологию от Рождества Христова и нормальные названия месяцев – революционными летосчислением и календарём (кстати с удивительно поэтичными названиями: месяц туманов, месяц лугов, месяц колосьев… – даже странно, что столь утончённые имена были придуманы жестокими, безжалостными людьми) история обязана именно Ромму [10, т.19, 405](через сто с лишним лет русские большевики, которые вообще много обезъянили с революции французской, пытались воскресить эту идею)… Ясно, что долго вакханалия безумия длиться не могла вообще, и соответственно, не могла долгая счастливая жизнь быть суждена Жильберу Ромму.
«Революция пожирает своих детей,» – эту горькую истину якобинец Дантон осознал тогда, когда его потащили к гильотине. Террор имеет свою логику – шизофреническую, но неопровержимую, как логика раковой опухоли. Он не кончается, покуда не пожрёт самого себя – вот и якобинцы, разгромив жирондистов, принялись терзать друг друга. Они тоже оказались по разные стороны: были среди них такие, кого прозвали «бешеными»; что это за деятели, можно представить по одному тому, что даже Ромм не принадлежал к ним… Когда гильотина дождалась Робеспьера, террор вроде бы пошёл на спад – ибо голов и шей в стране сильно поубавилось; но оставались ещё, и буйных среди них хватало. В том числе и Ромм.
Он не угомонился – что совершенно закономерно кончилось смертным приговором, правда, не приведённым в исполнение. Во многих грехах и бреднях можно обличить этого человека, но уж в чём его никак не упрекнёшь – так в отсутствии мужества. Приговорённые – Ромм и ещё пятеро – покончили с собой ударами кинжала (одного!), передавая его по очереди один другому…
Да уж, не были эти люди фиглярами, жили, верили и боролись всерьёз. Конечно, ни воззрения их, ни поступки – не пример для подражания, и если человек бестрепетной рукой лишает себя жизни, в этом есть нечто пугающее, мягко говоря, такое мрачное одичалое рыцарство; не Дон-Кихотское, нет, совсем иное. Но видно, и через это надо было пройти человечеству…
Строганов, узнав о смерти учителя, сильно горевал. Однако, время всё лечит, и такие раны тоже. Он женился, у него родился сын… Тут и подоспел государев зов прийти и делить бремя власти, и Строганов на него откликнулся.
4
Выше пришлось так много места уделить личности и похождениям графа Строганова потому, что в нём – как и в случае с Теруань де Мерикур, хотя иначе, по-своему вычурно, но очень характерно – отразились место и время. Павла Строганова можно назвать символом самых первых лет Александрова царствования, символом Негласного комитета: изо всех его членов он был самым юным (не считая царя), самым пылким, самым наивным и самым неудачливым. Да, разумеется, всё относительно, и считать, что он не сделал карьеры… впрочем, действительно не сделал. Она сама упала на него – то, чего тяжким трудом и десятым потом добиваются тысячи, а достигают единицы, далось графу легко и просто. Вот и Негласный комитет взялся за дело так, словно легко и просто показалось этим вершителям судеб наладить жизнь огромной страны.
«Кто в молодости не был либералом, тот подлец; кто к старости не стал консерватором, тот дурак,» – подобную фразу приписывают чаще всего Черчиллю, однако приоритет здесь принадлежит нашему Отечеству: впервые эту мудрость озвучил столп русского консерватизма Константин Победоносцев [93]. Сказал он это, разумеется, о себе, но именно то же самое можно сказать и про Кочубея с Новосильцевым, заглянув в их послужные списки. Время шло – оба они сделались заматерелыми бюрократами, с титулами, должностями и орденами свыклись, как с честно нажитым имуществом, расставаться с ними не желали. Реформы? А реформы все и так сделаны, менять что-либо незачем. Конституция, крепостное право?.. с годами выяснилось, что и так не худо, без Конституции и с крепостным правом. Конечно, когда-нибудь всё это должно осуществиться, но спешить в столь трудном деле нежелательно…
Мудрость, как говорят, не всегда приходит с годами; бывает, что годы приходят одни. Но про двух бывших «негласных» этого не скажешь. Они чиновной мудрости обрели полной мерой.
Наверное, стал бы заслуженным придворным и Чарторыйский – но он был поляк, патриот несуществующего государства, к восстановлению которого стремился, поэтому его судьба сложилась иначе – о чём речь впереди. Что же до Строганова, тот консерватором не сделался по самой простой причине: не успел стать стариком… хотя таким людям как он, это, наверное, и не суждено. Старик-не старик, но ведь и юношей он не был, когда вёл себя престранно, удивляя казалось бы наученный ничему не удивляться Петербург… Надо сказать, однако, что престранная аттестация имела место в жизни мирной, а вот на поле боя бывший «гражданин Очер» был как рыба в воде, сражался беззаветно, будучи уже и в генеральском звании.
Но опять же: всё это будет потом. А пока, в первый год девятнадцатого века, Негласный комитет, бурлит, кипит идеями. Самая ходовая – конечно же, Конституция, Синяя птица всех поколений наших либералов, за которой они гонялись столько лет, а догнав, с некоторым разочарованием обнаружили, что ничем особенным не отличается она от прочих пернатых. Сам Александр всё своё царствование пронянчился с нею, ничего толком не родил – и залежалый эмбрион достался его брату Николаю; правда, на один только день, 14 декабря 1825 года. Декабристы, выводя бунтовать солдат, не придумали ничего умнее, чем соврать, будто бы Конституция – это жена цесаревича Константина, и простодушные оболтусы радостно орали: «За Константина и Конституцию!» – а каких пряников они ждали от этой пары, теперь уж один Бог ведает. Николай же сработал резко, после чего тема на много лет закрылась.
Да и в Негласном комитете, против ожидания, дела пошли не очень радужно. Всем было ясно, что Конституция и отмена крепостного права – позиции вполне взаимосвязанные, одно без другого состояться практически не может. А вот с крепостным-то правом всё вышло совсем не так, как рисовалось в либеральных мечтах. Разумеется, и сам император и его вольнодумные друзья с негодованием воспринимали такое «унижение человечества» – теоретически; а вот практически… Практически память о Пугачёве была совсем свежей, даже для них, молодых, бунтовщика либо совсем не заставших, либо тогда бывших детьми. Дворянство худо-бедно держало под контролем огромные массы крестьян: странных, непонятных и, надо признать правду, полудиких людей. Что будет, дай им волю?.. Тут мечтатели замялись, заговорили невнятно… Нужно-де сперва всё тщательно обдумать, взвесить – семь раз отмерь, а уж потом отрежь. Про «семь раз отмерь», кстати, вполне здраво, но при одном условии: если эти отмеры целенаправленны, разумны; системны, иначе говоря. Тогда они действительно приводят к «отрезу» как оптимальному решению. В ином же случае рассуждения превращаются в софистику в худшем смысле этого слова.
Александр, надо полагать, довольно быстро понял, что дело вышло не совсем так, как хотелось – но ведь у него в запасе имелись ещё старые вельможи, из Непременного совета и не только. Он был очарователен, улыбался любезно и чуть застенчиво – левое ухо у него так и не слышало… Но правым вслушивался чутко; да и глаза, пусть и немного близорукие, слава Богу, на месте; эти органы чувств явственно сообщали императору, что старики народ хотя не очень приятный, ершистый, строптивый и уж вовсе не либеральный – но куда более сведущий и практичный. Конечно же, нельзя сказать, что деятели новой формации заседали совсем уж бессмысленно, некоторые дельные идеи там рождались и даже реализовывались. Но всё же Александр чем дальше, тем яснее понимал, что государственное управление – не столько пиршество высокой мысли, сколько скучная, рутинная и довольно грубая работа. А её-то опытные придворные делали намного лучше. Более того: государь ощутил силу дворцовых группировок, по-настоящему понял, что такое политика… И он не мог не почувствовать азарт, в нём проснулся игрок. Ведь это же так увлекательно! – сводить и разводить, выслушивать всех, сопоставлять, анализировать – и делать свой вывод. Можно предполагать, что молодой царь смекнул: кто владеет информацией, тот владеет всем – и попытался замкнуть множество информационных потоков на себя. Вероятно, что не сам Александр до этого додумался, подсказал кто-то из матёрых сановников. Но император оказался способным учеником – а это главное. Вообще власть, а такая, что досталась Александру, тем паче – сильный энергетик, от неё кровь бежит по жилам огненно, пьянит и дурманит… И отдадим должное царю – он не опьянел и не одурманился. Да, он познал вкус власти, она понравилась ему; но всё же он был слишком умён и воспитан для того, чтобы впасть в экстаз всемогущества, как это случается с иными, не столь устойчивыми натурами. При всём азарте, весёлом, жутковатом ветре той высоты, на которой Александр оказался, власть не стала для него довлеющей целью. Кто знает, может быть за это надо сказать «спасибо» Лагарпу – пусть он кормил ученика истинами пресными, но они от этого истинами быть не переставали, и ученик сумел воспринять лучшее в них…
A propos: Лагарп вновь очутился при Александре, теперь уже при самодержце: тот сам поспешил пригласить любимого наставника. Видно, сильны были воспоминания о прежних годах – память человеческая такова, что в ней остаётся лучшее из прошлого, и потому мы смотрим в наше прошлое с улыбкой, чаще грустной, но грусть эта светла, как летний вечер… Наверное, так же светло и грустно улыбался Александр, когда они с Лагарпом вновь увиделись, поговорили – и о былом и о нынешнем; и государь понял, что в одну реку не ступить дважды.
Он изменился – годы сделали своё. То же должны были сделать годы и с Лагарпом, только сам он этого словно бы не понял. От идеалов не отрёкся – что в целом похвально – однако форма изложения осталась столь же сермяжной: он продолжал по-прежнему долго и нудно бубнить о них; правда, хлебнув лиха, сделался куда осторожнее.
Между прочим, это очень характерно для людей подобной идеологии, «просветителей». Французская революция, которая должна была воплотить их мечты о свободной и прекрасной жизни, как-то вдруг в два счёта превратилась в дикого и кровожадного тиранозавра, которого вскоре оседлал «деспот» Наполеон… Конечно, это стало для теоретиков «просветительства» крайне неприятным откровением. Им, очевидно, предствалялось, как освобождённые от королевского и дворянского диктата, процветут науки, искусства и ремёсла, каким справедливым станет правосудие, как исполнятся разумного дружелюбия человеческие отношения… Но вместо этого теоретического счастья грянула чудовищная страсть самого настоящего террора, жизнь стала стремительно превращаться в хаос, и восстановить её удалось лишь мерами вполне деспотическими.
Всё это не могло не заставить незадачливых мыслителей искать объяснение неудобным фактам и прогностическим конфузам, но так, чтобы не предать своих священных коров… Конечно, объяснение отыскалось – отчасти уже упомянутое; теперь же о нём следует сказать подробнее.
Пришлось признать, что человечество в массе не готово к восприятию тех концептов, что прочно поселились в отдельных прогрессивных головах. Следовательно – это самое человечество надо воспитывать постепенно и аккуратно, подъемля его до своих умственных высот, иначе с ним может случиться что-то вроде кессонной болезни… Собственно, оно уже и случилось: революция, превратившая какую-никакую, но всё же систему в хаос, из которого вскоре выкристаллизовалась новая «деспотия».
Лагарп оказался в самой гуще бурных событий, познал не понаслышке, что значит прогневать отсталые массы. И теперь о свободе и равенстве он говорил с поправкой на горький опыт: что не надо спешить, что лучшие дозы свободы – гомеопатические, и что никто не сможет обеспечить прогресс лучше самодержавного просвещённого царя…
Но Александр это и так знал. Узнал – за недолгий срок пребывания на троне. Он действительно сумел стать отличником в науке власти. Он слушал, улыбался, очаровывал… и делал то, что ему надо.
Придворные – те, кто мечтал влиять на нового императора – слишком долго витали в эмпиреях. Когда же спохватились, было уже поздно. Император стал таковым не номинально, но буквально (impero по-латыни – приказывать, если кто забыл). Приказывал отныне он, а прочим оставалось либо слушаться, либо удалиться в частную жизнь. Строптивых, но толковых Александр, конечно, умел ценить – но до известной черты.
Нечто вроде вялой оппозиции, правда, возникло, и опять-таки имя вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны оказалось каким-то образом задействовано здесь; впрочем, слухами всё и ограничилось… Платон Зубов с запозданием догадался было, что удача уплывает от него, засуетился – и тут же ему пришлось с горечью познать, что свой шанс он упустил. Александр переиграл его по всем статьям, никто бывшего фаворита поддерживать не рискнул.
Отныне Зубов навсегда сделался бывшим. Он коптил белый свет ещё два десятилетия, никчёмный, рано постаревший, и никому не интересный, хотя сундуки в подвалах его замка (всё в той же Курляндии) ломились от золота…
Александр же мог с грустью убедиться в том, что золотое время, когда он, отрок с горящими глазами, слушал как песнь песней воспалённые проповеди Лагарпа – это время безвозвратно ушло. Постаревший учитель ничего нового не был способен поведать повзрослевшему ученику, а как действующий политик царь в Лагарповых подсказках не нуждался. Другое дело – такие зубры придворных дебрей, как Салтыков, Державин или Трощинский… С ними приходилось держать ухо востро, но никто кроме них не мог дать точных дельных советов, в которых Александр нуждался ежедневно и ежечасно.
Это не значило, что он стал хуже относиться к Лагарпу. Это значило лишь то, что жизнь стала сложнее. Попросту она стала взрослой.
Александр, наверное, не прочь был оставить Лагарпа рядом. Но тот как-то не улавливал изменившихся реалий. Видимо, он и в самом деле был человеком ограниченным, неспособным к широкому, кругозорному охвату событий. Конечно, его тесное мировоззрение не оставалось совсем уж окоченелым – но всё-таки оно явно не поспевало за новым веком. Екатерининские мастодонты, правда, Платонами и Невтонами тоже не были, однако они высокими материями головы себе не морочили (кроме Державина, разве что), а потому и оказались более приспособленными к суровому, изменчивому климату придворного бытия.
Попросту говоря, Александр мягко избавил себя от надоедного Лагарпова общества, оставшись с былым наставником в дружбе на расстоянии. Иные времена, что поделаешь! А времена и вправду не выбирают.
5
Но спросим: а что же воистину действенного создал Негласный комитет?..
С Конституцией дело не заладилось. Крепостное право тоже оказалось таким институтом, который трогать небезопасно – при всём том отвращении, который он внушал. Поразмыслив, в Комитете изобрели компромисс: предложили помещикам, буде те пожелают, отпускать своих крепостных на волю. Это новшество было оформлено в виде «Указа о вольных хлебопашцах» от 20 февраля 1803 года, и в нём авторы проявили прямо-таки Соломонову изобретательность: дабы и процесс пошёл, и дворянство не заволновалось. В общем-то так оно и случилось, только уж очень робким этот процесс выглядел. В Негласном комитете наверняка ждали большего; похоже, там рассчитывали на какую-никакую просвещённость и сознательность дворянского сословия: на понимание того, что рабство в наши дни стыдно и недостойно цивилизованных людей и цивилизованной страны. Ну и, кроме того, условия освобождения постарались создать для помещиков достаточно выгодными… И что же?
Да, среди дворян находились возвышенные души, добровольно освобождавшие крестьян. Крестьянство же, в свою очередь, выдвигало людей умных, энергичных, деловых – такие богатели и выкупались на волю сами… Именно отсюда корни многих знаменитых предпринимательских династий, Морозовых, Мамонтовых, например. Так что не скажешь, что Указ о вольных хлебопашцах совсем не работал… Работал. Но слабо. Очень слабо.
Помещики, отпускавшие своих крестьян, часто выглядели белыми воронами, на них иной раз смотрели как на сумасшедших. Разбогатевших крестьян были единицы. Вообще, за годы царствования Александра I – статистика сохранила точные данные! – в разряд «вольных хлебопашцев» перешли 47153 души мужского пола [10, т. 38, 271]. Немного. Менее 0,5 % от числа всех крепостных.
Здесь стоит задуматься над вопросом, который может показаться странным, но на самом деле он принципиален. Вот этот вопрос:
А таким ли уж очевидным злом было для России крепостное право?..
Основания для этого вопроса есть. Ведь находились теоретики, оправдывавшие это явление. Они рассматривали отношения помещиков и крестьян как некий почти Конфуцианский патернализм – пожалуй, его наиболее ярко, как и подобает гениальному писателю, выразил Гоголь в «Выбранных местах…», в главе «Русский помещик». Быть помещиком, по этому мнению – значит, взять на себя огромный груз ответственности за своих крестьян. Это неустанный труд, забота о крестьянах, организация их труда, быта, досуга, радение об их христианском просвещении [19, т. 7, 290]… Словом, при таких господах русский мужик должен стать счастливейшим человеком в свете.
Должен – да вот что-то не становился.
И это при том, что такие рачительные, гуманные и умные дворяне были. Они умели заинтересовать мужика экономически, поощряли трудолюбивых, не мешали им зарабатывать и богатеть, а творчески одарённых крестьянских ребят выдвигали, давая им высокое образование – достаточно вспомнить того же Воронихина или знаменитого художника Василия Тропинина. Были и такие, как Евгений Онегин, которые вовсе не вмешивались в крестьянскую жизнь: у этих лентяи быстро спивались и нищали, но крепким-то хозяевам опять же ничто не препятствовало процветать… Наконец, многим крепостным, особенно дворовым – лакеям, кухаркам, кучерам – при хорошем барине жилось как за каменной стеной. Подобные типы в нашей литературе тоже отлично описаны.
Но было и другое.
Тут не стоит даже говорить о Дарье Салтыковой, знаменитой «Салтычихе» – она очевидно была патологическим, ненормальным типом, подобно венгерской графине Эльжбете Батори; но ведь несть числа и тем, вроде бы психически вполне нормальным господам, у которых крестьяне готовы были выть от барщины, поборов, жестоких наказаний, от барской похоти. Екатерина изволила обижаться и гневаться на Радищева, а ведь он в своей книге, пусть сентиментальной и написанной «варварским», по мнению Пушкина [49, т.6, 194], слогом, сказал горькую правду: «Я взглянул окрест себя, и душа моя страданиями человечества уязвлена стала» [52, 18]…
Конечно, в разговоре на эту тему многие официальные лица Российской империи, буде они воскресли, могли бы справедливо сказать: что-де хорошо разводить морализаторство, не отвечая ни за что, никем не руководя; а вот попробуйте-ка послужить, да столкнуться с реалиями русской жизни – сразу весь пафос исчезнет.
И в этом есть резон. Да, Россия – сложная, трудная страна, в ней трудно всё, начиная с размеров и климата. Чтобы удерживать такую огромную геополитическую массу, чтобы она не превратилась в разбойничий хаос, необходима жёсткая, централизованная власть, прочно скрепляющая разные слои общества сверху вниз: от царя к министрам, от тех к губернаторам, от них к помещикам – а уж те должны воспитывать и держать в спокойствии и сытости своих крепостных.
Это действительно почти Конфуцианская модель, и действительно, она может быть при определённых условиях этически оправданной, насыщенной идеологией заботы высших о низших – многие российские идеологи так и утверждали: звание дворянина, помещика есть нелёгкий, суровый долг попечения о простых людях, об их благополучии. И это не оставалось гласом в пустыне – находило отклик у многих искренних и мыслящих людей.
Наверное, те мыслящие люди были вполне уверены, что действуют по-христиански, что их действия направлены ко взаимной всеобщей любви. Почему они не замечали вопиющего противоречия между своей концепцией и действительно христианским мировоззрением? Неужто – даже при условии, что все до одного дворяне действительно бы опекали и лелеяли своих крепостных – не понимали, что эта идеологема носит именно масонский, а не истинно христианский характер?! Ведь это же совершенно масонская мысль: чтобы просвещённое меньшинство заботилось о неразумном тёмном большинстве и решало, как этому большинству надо жить; а ему самому и думать не надо, за него уже думают. Его дело – быть сытым и счастливым…
Возможно, в сказанном есть элемент утрирования, но суть такова и есть. Одна из главных истин христианства: человек должен быть свободен, должен сам выбирать и решать, что ему делать – только тогда он человек, личность, только тогда ему открыт путь к Богу. И между прочим, никакими ограничениями и попечениями, что злонамеренными, что из самых лучших побуждений, эту свободу остановить, укрыть, укутать невозможно. На время, может быть – но по сути, нет.
Впрочем, реальность сложнее. Всё возможно в этом странном мире. И христианство предъявляет человеку и обществу чрезвычайно высокую моральную планку – в земной жизни её трудно, очень трудно достичь…
Но в первые годы царствования Александр, видимо, о том думал не много. Не то, чтобы он был настроен как-то уж совсем вольтериански; нет. В конце концов, православные обряды исполнял, они ему чужими не были. Другое дело, что он относился к ним, как к чему-то необходимому, даже симпатичному, но совершенно не главному для решения той основной задачи, что он перед собою ставил. А вот Негласный комитет, сонм интеллектуалов – это ему, Александру, казалось формулой универсума: умные, прогрессивно мыслящие люди, в обстановке блестящих, вдохновенных дискуссий… таким образом и будут продуцироваться стратегические тенденции. Недолго, но казалось.
И всё же не стоит предаваться сугубой иронии, вспоминая «молодых реформаторов» Александра. Опыт дело наживное, а наживался он в том числе и на заседаниях Комитета. Каким бы куцым не вышел Указ о вольных хлебопашцах, но ведь вышел-таки! – раньше ничего подобного и в помине не было. С подачи Комитета была образованна Комиссия по составлению законов: тоже дело нужное, хотя оно и не решило проблему навек запутанного российского законодательства… Ну и, наконец, трансформация исполнительной власти – самое, пожалуй, значимое, совершённое пятёркой реформаторов за полтора года их деятельности.
Когда-то отраслевые ведомства именовались на Руси приказами; сейчас названия их звучат забавно и чудаковато: Разбойный приказ, Панихидный приказ… Был даже Приказ царёвой мастерской палаты – ведал изготовлением царской одежды. Пётр I ликвидировал эти учреждения (не все, правда) и ввёл вместо них коллегии, которые назвал на немецкий манер: Берг-коллегия (горное дело, поиски полезных ископаемых), Ревизион-коллегия (нечто вроде нынешей Счётной палаты)… Со временем ведомственный принцип их формирования оказался разбавлен территориальным: появились Малороссийская коллегия, Юстиц-коллегия ляфляндских, эстляндских и финляндских дел и некоторые другие. К началу XIX века Петровская система порядком устарела, запуталась сама в себе, надо было её менять.
Как? Упразднять коллегии?.. На это не решились: хорошо ли, плохо ли, но они работали; начнёшь распускать, останешься совсем без управления. Потому, хорошенько подумав, избрали приём классический, давным-давно известный, тем не менее не теряющий своей эффективности и поныне – Александр и его советники надстроили новое над уже существующим: создали управленческие органы, объединившие по нескольку коллегий (те впоследствии были преобразованы в департаменты, отделы и т. п.). Императорский манифест от 8 сентября 1802 года провозгласил это официально: укрупнённые ведомства получили название министерств. И с тех пор до сего дня высшие чины отечественной исполнительной власти носят звучное имя министров, исключая период с 1917 по 1946 годы, когда они пребывали в ранге народных комиссаров – очередном заимствовании большевистской революции у революции французской.
6
Вообще-то, термин этот для России был не так уж нов. При императрице Анне Иоанновне высшие сановники именовались «кабинет-министрами», а при Павле наряду с прочими высшими чиновниками состояли такие, как министр уделов и министр коммерции… Но то были только имена. Манифест же от 8 сентября строил систему.
Образовывались восемь министерств: внутренних дел, иностранных дел, военно-сухопутных сил, морских сил, финансов, юстиции, народного просвещения и коммерции (на особом положении находилось государственное казначейство). При назначении министров Александр – очевидно, советуясь со многими – постарался соблюсти принцип «всем сестрам по серьгам»: и не забыть своих друзей, и использовать опыт стариков, и выдвинуть толковых бюрократов-профессионалов. Это было сложно!.. Однако, Александр быстро овладевал искусством сводить и разводить ряды – в целом ему удалось создать работоспособную команду.
Итак…
Министерство внутренних дел – по замыслу реформаторов, ключевое в схеме государственного устройства; собственно, министерство управления страной. Его император доверил Виктору Кочубею, что на первый взгляд может показаться странным: профессиональный дипломат, уже зарекомендовавший себя, ему бы все статьи заняться делами иностранными… Но Александр, очевидно, рассудил так: способных и умелых дипломатов достаточно, а вот держать в руках связи и скрепы империи – для того необходимо быть как менеджером экстра-класса, так и личным другом царя. А обоими этими качествами сразу обладал граф Кочубей. Рассуждение зрелое, и выбор оказался оптимальным.
Министром иностранных дел стал другой граф: Александр Романович Воронцов, человек весьма немолодой, долго проработавший с канцлером Безбородко. Правда, он уже почти десять лет как пребывал в отставке; попал в немилость Екатерины за близкие отношения с Радищевым, взглядов которого, кстати, не разделял, но счёл невозможным отказаться от друга и от помощи его семье. Император Александр отнёсся к симпатией как к своему тёзке так и к его младшему брату Семёну, тоже дипломату – этот прогневал уже Павла I в период его внезапной дружбы с Францией: Семён Воронцов, посол в Лондоне, был убеждённым англофилом. Павел Петрович воздвиг на посла гонение в своём экстремальном стиле: не только отправил в отставку, но и конфисковал имущество, которое Александр, взойдя на трон, поспешил возвратить, после чего вновь направил Семёна Романовича в Лондон. Так братья Воронцовы встали во главе российской внешней политики – правда, ненадолго.
С именем Радищева в нашей истории оказалось связано также имя первого министра народного просвещения Петра Васильевича Завадовского, ветерана придворной службы, побывавшего во время оно и в фаворитах Екатерины… С Радищевым он пересёкся в Комиссии по составлению законов, будучи её председателем. Как известно, опального сочинителя помиловал Павел I, освободил из ссылки, вернул чины и дворянство; Александр же любезно предложил службу в Комиссии. Радищев взялся за дело с увлечением – он уже много лет жил тихо и смирно, даже не писал ничего, а тут вдруг воспламенился. Вероятнее всего, узрел в молодом царе единомышленника по просветительской идеологии, которая так и осталась его духовным пристанищем; воодушевясь, он сочинил что-то такое уж очень вольнодумное.
Это попалось Завадовскому на глаза. Многоопытный вельможа, понаторевший в придворных дебрях – и между прочим, не птеродактиль какой-нибудь, а умный, осторожный либерал, вернее, либеральный консерватор – тот сразу понял, что Радищевские тезисы могут всей Комиссии обойтись очень неприятными последствиями. Раздосадованный этим, он бросил упрёк не по годам ретивому энтузиасту: «Эх, Александр Николаевич, охота тебе пустословить по-прежнему! или мало тебе было Сибири?» [49, т.6, 193]. Он так сказал в сердцах, а Радищев воспринял всерьёз и испугался. Да так, что придя домой, хватил яду… и скончался. Случилось это 11 сентября 1802 года, на третий день после того, как Завадовский стал министром… Грустная история.
Жизненный путь Петра Васильевича был непрост, с терниями; будучи весьма немолод, Завадовский женился на юной особе, и в семейной жизни оказался не очень счастлив… Зато преуспел на службе. Не боясь ярких эпитетов, можно сказать, что министр из него вышел превосходный. Несмотря на более чем почтенный возраст – 63 года к моменту назначения! – он занимал должность почти восемь лет, дольше него из министров «первого призыва» продержался только один. Звание просветителя Завадовский понимал не вздорно, а так, как это надо понимать в самом лучшем смысле: именно при нём по-настоящему возникла та самая классическая гимназия, на базе которой и поныне существует отечественное среднее образование… Собственно, то была мощная и эффективная реформа, «национальный проект» – министерством просвещения был создан цельный и последовательный образовательный комплекс, определяемый «Уставом учебных заведений»: приходское училище – уездное училище – гимназия – университет. Конечно, всё было очень не просто, конечно, внедрять новое приходилось с невероятными трудностями, особенно в провинции, в глуши – но и там оказывались благородные самоотверженные учителя, не жалевшие сил ради благой цели [4, 325]… Пётр Васильевич предложил очень либеральный устав высшей школы (выборность ректоров, профессуры, университетского суда) – а Александр его решительно поддержал. В первые три года министерства Завадовского возникли четыре(!!!) университета: в Харькове, Казани, Вильно (ныне Вильнюс, Литва) и Дерпте (Тарту, Эстония), причём два последних представляли феномены в нашей культуре уникальные. Университет в Вильно основали на базе иезуитской коллегии – в первые годы своего правления Александр к этой братии относился терпимо; а что касается Дерпта, то преподавание там велось на немецком языке, причём продолжалось так вплоть до 1893 года, пока император-славянофил Александр III не посчитал это ненужным баловством. Он вернул городу его древнее славянское имя: Юрьев, а преподавать велел по-русски. Теперь город называется Тарту, и учат там по-эстонски… Такие вот исторические зигзаги.
В современных учебных программах по культурологии можно обнаружить такую тему: «Культурный взлёт России в XIX веке». Справедливо – и тем более справедливым будет сказать, что в значительной мере этот взлёт обеспечил первый министр просвещения Пётр Васильевич Завадовский.
И ещё. При нём же возникла идея особых, «экспериментальных» учебных заведений – лицеев; но о тех разговор особый.
Итак, дольше Завадовского продержался в министерском кресле из назначенных 8 сентября 1802 года только один человек. Завадовский ушёл в отставку 11 апреля 1810 года, а министр коммерции Николай Петрович Румянцев, сын знаменитого полководца, перестал быть таковым 25 июля того же года. Но в отставку не уходил – было ликвидировано само это министерство; в тот день система управления в целом претерпела реорганизацию.
Перестав быть министром коммерции, Румянцев не перестал быть министром как таковым. Эрудированный, культурный, исключительно работоспособный, он сумел сделать себя одним из столпов государственной машины. В 1808 году он возглавил министерство иностранных дел, затем всё правительство – и даже когда здоровье Николая Петровича сильно пошатнулось, Александр предпочитал сохранять высший служебный пост за ним… но то были уже другие времена.
Человек не бедный, Румянцев возвёл меценатство в систему. Увлекаясь географией, историей, он спонсировал морские экспедиции, издание научных трудов, отыскивал где только мог архивные источники – и в результате собрал великолепную библиотеку, которую завещал государству [80, т.53, 286]. Так возник Румянцевский музей, в 1861 году переведённый в Москву, в знакомый нам дом Пашкова. Впоследствии же, библиотека этого музея, пополняясь и развиваясь, преобразовалась в библиотеку имени Ленина, легендарную «Ленинку» – сегодня Российскую государственную.
Если Завадовский с Румянцевым явили первые рекорды правительственного долголетия (в будущем, конечно, перекрытые), то глава морских сил Николай Семёнович Мордвинов открыл счёт министерским отставкам, пробыв «в кресле» три с половиной месяца, даже Нового года не дождавшись: 26 декабря он покинул должность, на которую больше не вернулся.
Причина? Министру показалось, что его заместитель («товарищ», как тогда называли), адмирал Чичагов, слишком уж рьяно взялся за дела, в том числе и не за свои, подменяя собой начальство – чем нашёл сочувствие и поддержку у влиятельных придворных. Тогда Мордвинов не без апломба заявил: мол, если так, то пусть Чичагов и командует, а меня увольте… И уговаривать его не стали.
Своеобразным человеком был Николай Мордвинов, адмирал во втором поколении – ещё батюшка его председательствовал в Комиссии по улучшению флота. Всю жизнь – очень долгую! – Николай Семёнович провёл в «большом свете», и всё время он в этом свете оставался как-то в стороне; современники называли его «русским Катоном», имея в виду, очевидно, Катона-старшего. Мордвинов действительно был интеллектуал, брезгливо чурался всяких паркетных маневров. Моряк по профессии, он серьёзно занялся экономикой, банковским делом, писал капитальные труды, названия коих для дилетантов звучат устрашающе: «Некоторые соображения по предмету мануфактур в России и о тарифе»; «Рассуждение о могущих последовать пользах от учреждения частных по губерниям банков» [80, т.38, 840]… Собственно, в эти годы, 1801–1802, Мордвинов от морского дела отошёл и стал экономистом-теоретиком; позже – президентом Вольного экономического общества. Николай I пожаловал его графом.
Есть основания полагать, что Мордвинов так ясно, как мало кто в России, разумел трагический разрыв между нравственной бедой крепостного права и невозможностью отменить его враз, так, чтобы не рухнуло государство – и в этом напоминал Александра, особенно Александра зрелого, глубоко проникшегося этической проблематикой, осознавшего её сложность, иной раз безнадёжную, когда во многом знании воистину многая печали…
Раз уж вышло так, что Мордвинов покинул правительство, толком не начав работать, то требуется упомянуть и о Павле Васильевиче Чичагове – этот задержался в министрах надолго. Жизнь его складывалась не гладко, довелось одно время пережить опалу и гнев со стороны своего тёзки, императора Павла [80, т.76, 886]… Но вот вышел и в большие чины. Советская историография отзывалась об адмирале со сдержанным неодобрением: дескать, третировал Ушакова и Сенявина, прогрессивных флотоводцев, прозевал отчаянный маневр Наполеона на Березине [10, т. 47, 414]… В этом доля истины есть, а по поводу Березины уже тогда общественность на Чичагова напустилась, хотя вроде бы что требовать с моряка, вынужденного воевать на суше… В итоге адмирал во цвете лет – ещё и пятидесяти не было – покинул службу.
В претензиях, предъявляемых Чичагову, доля правды есть, и он, наверное, сам оплошал, когда согласился стать сухопутным военачальником. А вот в кресле морского министра он оказался на месте. Павел Васильевич действительно был энергичным, мыслящим руководителем – дальновидным, готовым поддержать разумные новшества. При нём в конструкции кораблей был внесён ряд полезных усовершенствований, да и в том, что первый русский пароход «Елизавета» был спущен на воду в 1815 году, наверняка есть заслуга бывшего министра. Старался он сделать гуманнее флотские порядки, ввёл новую, более практичную форму – кстати говоря, кортик, символ морского офицера, появился именно тогда, а до того цеплялись к поясам длинные шпаги, чертовски неудобные на корабле. И наконец, не стоит забывать, что в годы министерства Чичагова было совершено первое в нашей истории кругосветное плавание под командой капитанов Крузенштерна и Лисянского… Касательно же препирательств с боевыми адмиралами – это дело обычное, те ведь тоже были круты, да ещё как! самолюбия у каждого хватало на пятерых.
Между прочим, Чичагов был одним из немногих, кто отпустил с миром всех своих крепостных по Указу о вольных хлебопашцах – это тоже кое о чём да говорит…
Министерства военно-сухопутных сил и финансов возглавили люди, чьи имена с годами не то чтобы затерялись, но известны немногим, в основном историкам-специалистам. Генерал граф Сергей Кузьмич Вязьмитинов [80, т.14, 723] и граф Алексей Иванович Васильев [80, т.10, 607] – «технические», как нынче говорят, министры, здравомыслящие, исправные чиновники без политических амбиций. Не будучи «звёздами» бюрократии, дело своё они тем не менее знали. Вязьмитинов позже руководил ещё и министерством полиции, образованным в 1810 году, хотя перед этим успел впасть в немилость, в которой был не очень виноват – император со временем и сам это понял и исправил свою ошибку…
И, напротив, самый знаменитый из первоназначенцев Александра – министр юстиции Гаврила Романович Державин, чья слава, правда, совсем не министерская. Но вот уж кто плоть от плоти тех грубоватых, диковатых лет, времён братьев Орловых, Потёмкина, Шешковского – так это он, Гаврила Романович, типичнейший «self made man», сын мелких дворян, неважно образованный, в юности пускавшийся во все тяжкие, но затем талантом, храбростью, авантюризмом, лестью и трудом пробивший дорогу в жизни, и безо всякой протекции. Почему император назначил Державина на пост, с которого, казалось бы и должны продуцироваться разные «продвинутые» проекты? С «негласными» Державин открыто конфликтовал, не ужился и в правительстве: он оказался вторым после Мордвинова, кто лишился портфеля. Зачем Александру надо было маяться с упрямым стариком?.. Ценил в нём прямоту, резкость, независимость (Державин, кстати, в самом деле сочинял конституцию, только на свой лад, сугубо дворянскую, и уж, конечно, без малейших намёков на отмену крепостного права)? Возможно; однако, недолго что-то ценил. На службе всё это хорошо в меру, а быть «святее папы римского» неприлично, иной раз и опасно…
Как государственный муж Державин славился строгостью и непримиримостью к тем, кто полагал, что «закон как дышло, куда повернул, туда и вышло» – а все проблемы решаются в неформальной обстановке. С Гаврилой Романовичем такие номера не проходили, он не боялся жёстко действовать против облечённых властью лихоимцев – например, против распоясавшегося до безобразия калужского губернатора Дмитрия Лопухина [75, 67]… Очень трудно представить, как бы он, будучи министром, воспринял скандальнейшее «дело мадам Араужо»…
Эта история случилась в марте 1802-го.
К супруге придворного ювелира француза Араужо воспылал плотской страстью сам Константин Павлович, с воцарением старшего брата ставший формальным наследником трона. Француженка притязания цесаревича отвергла, и великий князь, не привыкший к отказам, ожесточился. Его адьютанты каким-то образом завлекли мадам к нему во дворец… далее подробности темны – известно лишь, что спустя сутки несчастная женщина вернулась домой вся растерзанная, сказала мужу, что она обесчещена… и с горя умерла.
Официально Константин к этому отвратительному случаю был признан непричастным. Кто-то из его подчинённых понёс строгое наказание. А как бы повернулось расследование, будь во главе российской юстиции Гаврила Романович Державин?..
Но, во-первых, Державин имел огромный служебный опыт, подкреплённый сильным, зрелым разумом; во-вторых, не лишена оснований гипотеза о том, что здесь была попытка вариации на тему «поэт и царь»; поэзией как таковой император не увлекался, но, воспитанный на античной классике, знал, что неплохо, когда при сильном мира сего обретается персональный творческий талант, Пиндар. Конечно, было б лучше, если бы нашёлся свой, доморощенный – Державин-то потрясал лирой ещё близ бабушки; но, очевидно, наведя справки, Александр выяснил, что по уровню таланта рядом с Гаврилой Романовичем никого и близко не видать, разве что Карамзин – но тот не поэт… Пришлось довольствоваться тем, кто есть. Да и живой пример перед глазами: великий Гёте на службе Веймарского герцога. Державин, может быть, не Гёте, но на российском Парнасе, безусловно, первый.
Однако, содружества не вышло. Уйдя из правительства, Державин навсегда ушёл и с государственной службы, которой отдал ни много ни мало – 41 год. Сменил его князь Пётр Лопухин (отец последней фаворитки Павла Петровича, Анны, в замужестве Гагариной), тоже технический министр, стандартный опытный бюрократ – трудолюбивый, исполнительный, без претензий; впоследствии он «дорос» и до самых высших должностей… А вот «товарищем» при нём стал Новосильцев.
Итак, восемь первых русских министров. Как они выглядят суммарно, статистически?.. Наверное, это небезынтересно.
Самый старший – Завадовский, самый молодой – Кочубей, 34 года. Первым и самым «молодым» (64 года) в 1805 году ушёл из жизни Воронцов, последним – Мордвинов, в 1845-м. Он же оказался и главным долгожителем: не дотянул трёх недель до 91-летия… Средняя продолжительность жизни – примерно 72,5 года. Немало по тем временам.
Все, разумеется, дворяне; кроме Державина все к концу жизни титулованные: Кочубей – князь, остальные графы. По поводу происхождения Васильева встречаются некоторые сомнения, будущий министр финансов вышел из каких-то неясных дворянских низов [16, т.1, 223]… но это, скорее, частное мнение. Кочубею и Румянцеву графское достоинство передалось по наследству, прочие заработали его лично. Державин – чья слава громче всех – в силу, видимо, сварливого характера и до барона не дотянул, хотя по Табели о рангах выслужил 2-й класс. Первого (в разное время, по разным ведомствам и, соответственно, в разных званиях) оказались удостоены Кочубей и Румянцев. Прочие все остановились на втором – полном генеральском звании (сегодня это соответствует генерал-полковнику). Первый класс означал ранг фельдмаршала.
Министерства заметно модернизировали работу госаппарата. Правда, с их появлением Непременный совет превратился в пятое колесо и довольно долго в этом невнятном качестве пребывал. Негласный же комитет «прекратил течение своё» куда раньше, за ненадобностью. Кочубей, Новосильцев, Чарторыйский нашли себя в этой жизни, Строганов не очень. А жизнь… жизнь, она пошла дальше.
7
Так что же, были у Пушкина основания назвать первые годы царствования Александра I «прекрасным началом»?..
Да! – следует ответить на такой вопрос. Были. И дело не столько в результатах, хотя факты налицо. Министерства, университеты, гимназии – это не проекты, но объекты, настоящие, можно убедиться, увидев их воочию. Александру пришлось хлебнуть лиха: власть к нему явилась не в парадном блеске, при обстоятельствах страшных, и случались такие моменты, когда император был близок к отчаянию. Но он сумел одолеть это, сумел стать политиком, даже политиканом – достижение двусмысленное, но в данном случае необходимое. Он доказал, что умён, талантлив, умеет работать и умеет настоять на своём, провести свою царскую волю.
И всё-таки это не главное.
Пушкин немало и очень по-разному отзывался об Александре I. Хрестоматийное «Властитель слабый и лукавый…» – при доле истины скорее красное поэтическое словцо. Сказанное прозой куда менее известно, а оно того стоит, известным быть. Это – зрелый Пушкин, образца 1836 года; об императоре здесь, правда, косвенно, речь идёт о нелёгких нравах старины, автор предлагает читателям вспомнить «…их строгость, в то время ещё не смягчённую двадцатипятилетним царствованием Александра, самодержца, умевшего уважать человечество» [49, т.6, 190].
Косвенно, но ёмко. Пушкин так умел.
Самодержец, умевший уважать человечество! – это серьёзно. И вот это самое главное и есть. Раннему Александру было ещё куда как далеко до метафизических высот, мировоззрение его, несмотря на строгие житейские уроки, было достаточно наивным. Однако уже тогда он, несомненно, проникся искренним желанием творить благо, да не так сплеча и сгоряча, как батюшка Павел Петрович, а вдумчиво, разумно, и в том усмотрел долг властителя. Одним из первых императорских распоряжений, между прочим, было такое, отданное полиции: «Не причинять никому никаких обид». Приказ, скажем честно, пустой, но сердечный, а самая долгая дорога, как говаривали умные китайцы, начинается с первого шага. И император Александр I этот шаг сделал. Движениями добра, человечности, сострадания русская история XIX века в большой мере обязана Александру, а пробуждение – оно там, в тех самых первых годах, когда ростков было ещё даже не разглядеть, но зёрнышки уже в землю бросались.
Но та самая долгая дорога оказалась точно заколдованной: стоило лишь ступить по ней, как она диковинно вытянулась – то, что казалось близким, ушло вдруг куда-то вдаль, затуманилось, затерялось в дымке неведомого будущего. Император увидел, что меж ним и счастьем человечества бессчётное количество мелких и больших шагов, и все их делать надо. Он начал делать – один шаг, другой, третий, пятый, десятый… А счастье и не подумало стать ближе, наоборот, возникли новые заботы. Да если б только свои, домашние! – придворные, министры, матушка, сёстры, генералы, фрейлины… А ведь есть ещё и другие страны, сильные и ярые, не признающие и не прощающие слабостей, они с разных сторон давят на Россию, и они-то разговоров о прекрасном будущем слушать не станут. Им интересно настоящее – и надо разбираться с ними здесь и сейчас, немедля, ибо стоит на миг зазеваться… И Александр начал разбираться.
Глава 4. Большая политика
1
Сказать, что Александр с неохотой вошёл в европейские (тем самым и всемирные) дела, было бы, наверное, неправдой. Да, политику он воспринимал как средство, а не цель, но средство это не могло не взволновать его философический ум – так как в ней, в политике, иной раз отчётливее, чем где-либо, проявляется нечто такое, что составляет самую суть мироздания, и очень странно, может быть и непостижимо действуют таинственные силы, вопреки всем правилам вероятности…
Судьба корсиканца Наполеона Бонапарта заставила мудрецов девятнадцатого века поломать головы над тем, что не подвластно тривиальному разуму (в двадцатом веке стало не до того). Какие энергии, силы и поля сошлись в точку, почему так встали звёзды над небольшим островом в Средиземном море?.. Вопросы эти, конечно, носят риторический характер. Но вот взглянуть на проблему шире – это, собственно, прямая задача социальной философии, и надо сказать, что философы позапрошлого столетия честно пытались разрешить «казус Бонапарта». Гегель заявил: Наполеон есть острие Мирового Духа, именно в неказистом корсиканце Он счёл нужным поселиться, дабы человечество и дальше развивалось – по сложной спиралевидной траектории. Правда, мотивы выбора, совершённого МД, так и остались прусскому мудрецу неведомы… Штирнера и Ницше Наполеон довёл до мысли о сверхчеловеках: тех немногих, кто кардинально отличается от людей рядовых, подчинённых нравственным заповедям. Сверхчеловек могущественным повелением судьбы устроен так, что для него этических критериев просто нет, и оценивать сверхчеловека, этакого Ахиллеса, с позиций Добра и зла – бессмысленно. Для него существует лишь один закон: воля к власти! Следовательно, судить Ахиллеса надо лишь по тому, достиг он этой власти или нет. Стал повелителем – молодец; нет – значит, впустую растратил капитал судьбы.
Подобные концепции постарался опровергнуть Достоевский в «Преступлении и наказании»; это другая тема, но как иллюстрация – там Раскольников тоже поминает Наполеона:
«Нет, те люди не так сделаны; настоящий властелин, кому всё разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит полмиллиона людей в московском походе и отделывается каламбуром в Вильне [после окончательного разгрома на Березине Наполеон сказал герцогу Коленкуру, всегда бывшему против войны с Россией, легендарную фразу: «От великого до смешного один шаг» – В.Г.]; и ему же, по смерти ставят кумиры – а стало быть, и всё разрешается. Нет, на этаких людях, видно, не тело, а бронза!» [27, т.5, 266].
Здесь крайне характерен мотив принципиального – «генетического», сказали бы мы в XXI веке – отличия супермена от обычного человека: «не тело, а бронза». Так ли это? – постараемся выяснить в дальнейшем; пока же придётся признать, что французский император долго служил европейской мысли самой популярной иллюстрацией к теме сверхчеловека. Разумеется, не обошлось и без теорий об инфернальной сущности Бонапарта, о том, что тёмные силы рвутся на Землю из ужасных глубин, и их миазмы формируют таких субъектов: с виду людей, а на самом деле демонические существа…
Пусть каждая из этих концепций имеет право на существование и обсуждение. Их анализ не входит в задачу данной книги, ибо независимо от онтогенеза событий, перед Александром встала совершенно практическая задача: он очутился лицом к лицу с «проблемой Наполеона», вернее, «проблемой Франции», потому что тогда, в первый-второй год девятнадцатого века Наполеон Бонапарт большинству европейских политиков казался просто продолжением революции. И эту проблема сразу же встала для начинающего самодержца в ряд первоочередных: Император Всероссийский такое лицо, которое по статусу должно принимать участие в решении всемирных политических задач.
Между прочим, Павел Петрович и тут оказался проницательнее многих, угадал в «корсиканском выскочке» то, что другие сразу не поняли. Правда, поживи император подольше, наверняка бы он переменил мнение, и во французском коллеге обнаружил бы «самозванца» или нечто в этом роде; но не успел.
Его сын, оказавшись на троне, наоборот, не успел ещё выработать твёрдых взглядов и правил, хотя сам о том не знал, как не ведал и того, что с ним будет впереди. Ему-то самому казалось, наверное, что всё в основном ясно: он, царь Александр I, друг свободы и убеждённый враг деспотизма, он хочет, чтобы все были свободны и счастливы… Правда, с воцарением вышло некрасиво; а если правду говорить, то совсем отвратно, хуже не бывает, и Александр тяжело переживал это, хотя ему и приходилось притворяться – что, надо сказать, очень неплохо получалось. Однако, что случилось, того не поправишь, надо действовать в тех обстоятельствах, каковы есть, вернее, надо поскорее одолеть их – другого пути к свободе нет, и придётся его пройти… Как царь стал преодолевать обстоятельства дворцовые, известно. Как он взялся за дела международные – будет рассмотрено в этой главе.
2
Вряд ли Александр был настолько наивен, чтобы считать, будто идея «вечного мира», выдвинутая Кантом – кстати, после всех ужасов революции – хоть как-то осуществима в той жизни, которую он знал. И тем не менее, начал он действовать так, словно решил воплотить (уж как получится) мысль кенигсбергского философа. Александр поспешил помириться с Англией, отозвал казаков из так и оставшегося виртуальным Индийского похода; заодно взялся и за переговоры с австрийцами, восстанавливая отношения, так резко порванные Павлом. Но вместе с тем молодой император не желал вновь рассориться с Францией и постарался сохранить с республикой (номинально всё ещё таковой остававшейся) партнёрские отношения… Иначе говоря, российской внешней политике удавалось поддерживать дипломатический баланс в Европе. Справедливости ради нужно отметить, что к этому стремились все ведущие державы, порядком измотанные десятилетием неурядиц – и в 1801–1802 годах в Старом Свете установилось хрупкое затишье.
Которое, конечно же, было затишьем перед бурей – все это прекрасно понимали.
В том числе и Александр. Трудно избавиться от впечатления, что больше всего он хотел, чтобы всем на свете было хорошо, осознавая при этом утопичность своего хотения. Грустное миролюбие – так можно назвать этот несколько минорный душевный настрой русского императора. Коротенькое же миролюбие других действующих лиц имело иную психологическую природу. У Наполеона – азартное нетерпение молодого хищника, вынужденного взять паузу; Франц с Фридрихом торопливо хлопотали, готовясь к неизбежным битвам, но в их суете проскальзывало что-то пугливо-истерическое, будто бы собратья-тевтоны предчувствовали грозовое дыхание близких катастроф… Впрочем, ясновидение здесь самое незатейливое, то, что в логике называется популярной индукцией: если от кого-то тебе крепко попало несколько раз подряд, то гипотеза о том, что этот «кто-то» вскоре постарается добавить пару увесистых ударов, складывается сама собой. А Бонапарт очень хорошо научил Австрию такой индукции: после того, как Павел Петрович, осерчав на бывших союзников, убрал русские войска из Европы, французы дважды – в битвах при Маренго и Гогенлиндене – наносили австрийцам сокрушительные поражения. Пруссакам попало меньше, но и они после этих разгромов смотрели боязливо, ожидая от жизни мало хорошего… Англия же, облегчённо вздохнув – от Индии вроде бы враги отстали – затаилась. Боевого Питта сменило более покладистое правительство Эддингтона, оно в 1802 году заключило с Францией Амьенский мир, основанный на взаимных уступках. Правда, продержаться долго он не мог в принципе: так, по его условиям, англичане должны были очистить Мальту, чего, конечно, делать не собирались… На этой почве уже разругался с Альбионом Павел I, а уж Наполеон тем более дипломатничать не стал.
Но главная причина была всё же в другом. К 1803 году Бонапарт попал в очень сложные внутриполитические обстоятельства: его возненавидели как революционеры, так и роялисты [сторонники прежней королевской династии Бурбонов – В.Г.]. Первые усмотрели в нём губителя тех идеалов, во имя которых когда-то штурмовали Бастилию, бушевали в Конвенте, дрались с интервентами… А для вторых, что бы он ни делал, Наполеон всё равно оставался исчадием кровавых беззаконий революции. Этот момент тонко уловили пращуры «Интеллидженс сервис»; успешная операция против Павла I в Петербурге, очевидно, воодушевила британских рыцарей тайных дел, и они с энтузиазмом взялись за новые происки, теперь в Париже.
Надо сказать, что действовала английская разведка довольно точно. Найти как в самой Франции, так и среди эмигрантов людей, ненавидевших Бонапарта, было не ахти каким трудом, но в том-то и дело, чтобы в такой ситуации сделать правильный выбор. У англичан вроде бы это получилось.
Беглых роялистов на острове обреталось предостаточно, и самым среди них подходящим показался некий Жорж Кадудаль, неотёсанный, грубоватый бретонец… В английской тайной службе подобрались, надо полагать, люди очень терпеливые, потому что с Кадудалем всё выходило не просто – суровый, недалёкий, он не собирался вникать в хитроумные тонкости романтики «плаща и кинжала»; но зато настолько ненавидел революцию, не разбираясь, кто там якобинец, кто жирондист, кто бонапартист, что всем им у него был готов один вердикт: смерть [64, 119]
Этот самый Кадудаль стал, так сказать, правым флангом атаки на Бонапарта. Левый же фланг сыскался в самом Париже: знаменитый генерал Виктор Моро, в своё время с Наполеоном соперничавший – слава двух революционных полководцев гремела по всей Франции. Моро был так же честолюбив и так же мог претендовать на роль диктатора – но вот, судьба почему-то решила улыбнуться корсиканцу.
Англичане верно оценили ущемлённое честолюбие генерала. Кадудаль тайно прибыл в Париж, механизм заговора начал работать…
Но на том английские успехи и кончились. В Париже всё как-то сразу не пошло на лад. Роялист Кадудаль и революционер Моро, сходясь в жестокой нелюбви к «господину первому консулу», расходились во всём остальном, и один с другим категорически не поладили. А кроме того, если полиция Петербурга была в руках заговорщика Палена, то контрразведка Наполеона работала на него и работала превосходно.
Наполеон умел подбирать кадры: абсолютных циников, не стеснявших себя никакими нравственными принципами. Правда, пришло время, и они хладнокровно его продали – но до того было ещё далеко. Пока же Наполеон был для них выгодным хозяином, они служили ему – а уж трудиться-то они умели как никто другой… Таков был министр иностранных дел Шарль Талейран (кстати говоря, воспитанник иезуитской коллегии!), таков был и министр полиции Жозеф Фуше.
Агентурная сеть Фуше бесперебойно и чётко давала ему информацию, а он, разумеется, докладывал всё первому консулу; так очень скоро стало известно о Кадудале и Моро. Фигуранты оказались под колпаком, а в феврале 1804 года – в тюрьме.
Дальнейшее расследование, собственно, подтвердило то, что подозревалось с самого начала. Английские «уши» торчали из заговора, видимые невооружённым глазом, а у Бонапарта и Фуше глаза были вооружены, да ещё как… Эти глаза усмотрели в происходящем, наряду с английским влиянием также и происки Бурбонов, в частности, герцога Энгиенского, представителя так называемого дома Конде (боковой ветви династии).
Здесь – сумерки и загадки. Как обнаружилось впоследствии, никакого отношения к заговору герцог не имел. То ли у следствия оказались ложные данные, то ли кто-то сознательно ввёл Наполеона в заблуждение, то ли сам Наполеон решил пожертвовать невиновным человеком ради политической цели – припугнуть Бурбонов?.. Всё это так и осталось невыясненным. Мы не знаем причин, знаем лишь результат: герцог Энгиенский был грубейшим образом, с нарушением всяких правовых норм арестован, а через несколько дней расстрелян.
Герцог жил эмигрантом в Баденском герцогстве (родина русской императрицы Елизаветы Алексеевны). Французский военный отряд вторгся туда, схватил жертву и удалился восвояси – а тесть Александра и его министры в это время сидели по домам, не смея носа высунуть на улицу [64, 122]… Прочие европейские монархи были возмущены, однако возмущение своё изливали вполголоса или даже шёпотом; и лишь русский царь возвысил голос сполна: он выразил официальный протест главе Французской республики, первому консулу – за невиданное и неслыханное попрание международного права.
Ответ Наполеона – а точнее, Талейрана, ибо именно этот деятель стал главным вдохновителем данного документа – сделался легендарным. Французская республика ответила императору Александру I, что если бы он знал, кто убийцы его отца (если бы знал! – едко говорилось в ноте) и ради их наказания нарушил бы какую-то границу, то господин первый консул, сочувствуя сыновнему горю императора, протестовать не стал бы.
Это было ужасное оскорбление. На официальном уровне вся Европа говорила исключительно об «апоплексическом ударе», строго соблюдая обязательное дипломатическое ханжество; даже английский посол Витворт выражал соболезнования в связи с этим грустным диагнозом. Александру было как ножом по сердцу слышать всякое упоминание о смерти отца – и можно представить, что он ощутил, прочитав злоязычную отповедь из Парижа…
Нередко приходится встречать мнение, что жестоко уязвлённый царь потом только и мстил Бонапарту; едва ли не всю жизнь принёс на алтарь этого мщения, и успокоился, лишь когда со врагом было покончено. И уж, разумеется, это стало главным мотивом вступления России в Третью антифранцузскую коалицию. В этом известная доля истины, бесспорно, есть, но не очень большая: при очевидных экзистенциальных наклонностях Александр душевным мазохистом не был. Да и ничего особо не помешало ему потом лобызаться с Наполеоном… Разумеется, он при этом артистически скрывал свои чувства – но вот как раз это лицедейство, свидетельствующее о холодноватом политическом прагматизме, и позволяет сомневаться в безрассудной экспансивности Александра. Мотив оскорблённого чувства – да, был. Но был не единственным. И даже не главным.
В какой-то момент императору стало ясно, что схватки между Францией и практически всей Европой (во французских союзниках числилась только Испания) не избежать. Не исключено, что при неких иных обстоятельствах русский государь не побрезговал бы подружиться с Бонапартом – что формально позже-то и случилось; но в 1804 году обстоятельства иными не оказались. Наверняка Александр предпочёл бы, чтоб они сложились и не «pro», и не «contra», а по-третьему: чтобы войны вовсе не было. Однако, так они сложиться не могли.
Причины, побудившие императора ко вступлению в коалицию, являли собою сложный внешне– и внутриполитический комплекс. Несмотря на удаление Зубовых, проанглийское лобби в Петербурге оставалось очень сильным, ибо зиждилось на прочном экономическом базисе. Значительной части русского дворянства были чрезвычайно выгодны торговые отношения с Британским королевством – там охотно покупали наши сельхозпродукты – и найти в России мощный потенциал сочувствия англичанам не составляло труда. Тем более, что в 1804 году Эддингтона на посту премьер-министра обратно сменил вездесущий Питт.
Наполеон взялся за Англию всерьёз, именно в ней увидя главнейшую опасность для себя. В общем-то, в данной оценке он не ошибался, правда, затем антианглийская тенденция переросла у него в манию, исказившую взор, мешавшую адекватному восприятию обстановки и, соответственно, приведшую к фатальным просчётам… Но это произошло позже, а тогда Наполеон оценил ситуацию верно. В Булони, на побережье Ла-Манша он быстро и поразительно эффективно организовал военный лагерь для переброски войск на острова.
Любопытный факт: Наполеон, вообще с большим любопытством относившийся к техническим новинкам, в этом Булонском лагере начал эксперименты с воздушными шарами в качестве десантных средств – наверное, это были первые военно-воздушные силы в мире… Из затеи, правда, ничего реального не вышло, но приоритет был зафиксирован.
В Англии Бонапартовы маневры вызвали понятный шок. Затем разнёсся патриотический призыв сколачивать ополчение, правда, в этом было больше отчаянной бравады, чем здравого смысла: сладить с французами на суше не надеялись. Вот на море – другое дело; британский флот – это сила. Да и сама природа пришла на помощь англичанам: в конце лета 1805 года в восточной Атлантике устойчиво держалась погода, делавшая десантную операцию невозможной. Каждые сутки были на счету – Питт не жалел сил и денег, сколачивая коалицию.
Почти невероятно – но это ему удалось! Союз, впоследствии названный Наполеоном «сотканным из ненависти и золота» [64, 128], был скорее кое-как сбит наспех, нежели соткан, однако всё же был. Наверное, это был почти подвиг – премьер-министр, как позже выяснилось, надорвался на этой ниве. Но Англию он спас! Создал такие условия, при которых Австрия и Россия были вынуждены начать военные действия. Наполеону ничего не оставалось, как спешно перебрасывать войска из Булонского лагеря на восток, в Баварию.
3
Изо всех антифранцузских коалиций, призраками возникавших и исчезавших в бурные (1792–1815) годы, Третья оказалась самой конфузной для её участников, а потому и самой краткой. Питтов скорбный труд, конечно, даром не пропал, но в кое-как сцепленном блоке каждый был скорее за себя, чем за всех. Пруссия в союз вообще формально не вошла, оттягивая время вступления насколько возможно; вошла Швеция – финансовое положение северного королевства стало к этому моменту что-то уж очень неприглядным, а Питт на обещания не скупился… Однако, чрезмерно усердствовать шведы тоже не собирались. По-настоящему в войне были заинтересованы лишь Англия и Австрия: первая потому, что французское вторжение выглядело совершенно реальным; а второй почудилось, что можно будет исправить условия тяжёлого для неё Люневильского мира. Что касается Александра, то он, может быть и без большой охоты вступая в коалицию, к союзническим обязательствам отнёсся совестливо – пожалуй, единственный изо всех… Здесь надо сказать, что помимо давления со стороны английской «агентуры влияния», императора сильно беспокоила ещё одна проблема: польская. Бабушкино приобретение отозвалось через десять лет внуку головоломной задачей со множеством неизвестных; равные заботы, впрочем, одолевали и монархов австрийского с прусским: сказать, что поляки восприняли крах своего королевства болезненно, значит ничего не сказать.
Понять их можно. Совсем не так давно Речь Посполитая числилась в первом ряду европейских государств – а теперь… Да, «ясновельможные паны» своей неразумной политикой сами низвели отечество до исчезновения, но ведь кроме таких панов были и другие, умные и храбрые, не смирившиеся с тем, что их Польши нет на свете. И уж разумеется, Наполеон с Талейраном никак не могли упустить шанс привлечь этих людей на свою сторону: интерес был обоюдный и даже искренний.
Александр, хотя полякам в целом симпатизировал, потерять нажитое не мог себе позволить. Вместе с тем он понимал, что быть явным оккупантом тоже нехорошо – даже не с этической, а просто с прагматической точки зрения. Потому он искал компромиссы, и кое-что вроде бы нашёл. К 1804 году министр иностранных дел Воронцов сильно сдал: возраст, болезни… Встал вопрос о замене. Хорошенько подумав, Александр назначил Чарторыйского – и главным образом потому, что с помощью князя надеялся если не разрешить, то хотя бы стабилизировать польскую проблему, а следовательно, закрепить дальнейшие позиции в Европе. Ход логичный: Чарторыйский, будучи патриотом своей родины, был вместе с тем и реальный политик, далёкий от авантюризма, он хорошо понимал, что будущая независимость Польши зависит от позиции России. Значит, в служебном рвении нового министра Александр мог быть уверен…
Однако, в войне Третьей коалиции эти соображения никакой роли не сыграли. Просто не успели. Наполеон не дал им успеть.
Занятное обстоятельство: годы спустя немецкие военные теоретики всё тщились создать концепцию молниеносной войны, «блицкрига», и всё у них что-то да не получалось; то есть на картах и в расчётах значилась полная победа, а как с карт переходили на овраги, леса и болота, так дело начинало трещать по швам, а потом и вовсе разваливалось. Почему у Наполеона всё получалось, как по маслу?! – вот уж загадка, недоступная штабным мудрецам. Получалось, и всё тут.
Начало войны датируется историками августом 1805 года, но какое-то время боестолкновений не велось: силы противников двигались навстречу. При всех армиях присутствовали монархи, причём все императоры – обладатели наивысших титулов в монаршей иерархии…
Сюзерено-вассальная система государств – дело естественное; была она в древности, прошла через века и есть сегодня, в разных вариациях и в разных уголках Земли. Выработала такую систему, достаточно мудреную, и европейская цивилизация: в ней государства, а значит, и главы их выстраивались по определённому ранжиру. Графы, герцоги, великие герцоги, короли… Скажем, Иван Грозный желал именоваться «цезарем» (царём), на уровне короля – но в международных отношениях его признавали только великим князем (великим герцогом). Императорами же величали некогда римских властителей – соответственно, коронами такого уровня традиционно могли владеть лишь два монарха, являвшихся историческими наследниками тронов Западной и Восточной империй, как это сложилось в классические времена… Просто взять и объявить: «Я – император!» было невозможно: требовалось подтвердить претензии преемственностью от Рима.
Восточная империя, впрочем, в Средние века вроде бы никуда не делась, существовала – правда, существование это было долгим, мучительным умиранием; а вот Западная почила куда быстрей. Спустя 400 лет после её кончины Карл Великий объявил свою державу преемницей покойной империи, хотя официально термин Romanum imperium воскрес позже, в 1034 году. А в XV веке этим титулом овладели Габсбурги – и надолго. Восточная же империя, Византия, как раз в это время рухнула под напором турок, после чего правопреемником императора выступил турецкий султан. В Европе его заявление вызвало смятение и разброд – как-никак христианским правителем султан не был; но и ссориться с могущественным владыкой не самое продуктивное занятие… Вопрос завис в воздухе. Прошли годы, и Пётр I, когда ощутил собственную силу, провозгласил императором себя – в общем-то, довольно обоснованно (государство Российское даже династически, через род Палеологов, наследовало Византии). Кому-то, возможно, это не очень понравилось; но как бы там ни было, титул в Петербурге прижился. Тем самым обе имперские вакансии в христианском мире оказались заняты.
У Наполеона, так же как у Петра, аппетит приходил во время еды. Наступил такой момент, когда быть «гражданином первым консулом» показалось пройденным этапом, и Бонапарт принялся настойчиво тревожить тень Карла Великого. Разумеется, тут как тут очутились услужливые интеллектуалы, которые вмиг доказали, что именно вождь французской нации, а не Габсбург (то есть Франц II) является прямым духовным потомком грандиозного государя. Кто-то сказал, что есть глубокая символика в том, что со времён Карла прошла ровно тысяча лет, кто-то вспомнил, что тогда императора короновал лично Папа Римский… Бонапарту всё это понравилось, и он немедля потребовал Папу в Париж.
Папа Пий VII не пришёл в восторг от такого предложения – Карл, между прочим, сам ездил в Рим к тогдашнему первосвященнику Льву III – но это было именно такое предложение, от которого нельзя было отказаться; помимо того, уже три года как Франция заключила с Римской церковью конкордат [59, т.7, 806] чем формально была прекращена революционная политика дехристианизации (и календарь Ромма заодно отменили) – Папа вынужден был это ценить. Словом, долго ли, коротко ли, в Париж он прибыл и 2 декабря 1804 года по Григорианскому календарю торжественно водрузил корону на голову теперь уже императора Наполеона I.
Разумеется, его тут же признало таковым множество мелких царьков – графов и герцогов; что до крупных и великих держав, то там встретили самозванство с благородным ропотом, но осторожно. Явных протестов и обличений, правда, не было, а вот неожиданные казусы возникли. Как величать Бонапарта?.. Заминку по этому поводу описывает Лев Толстой в первом томе «Войны и мира» – в котором, собственно и идёт речь об истории Третьей коалициии.
Один из адъютантов Александра, князь Долгорукий (у Толстого, правда, он Долгоруков – прозрачная вуаль художественного вымысла) весело сообщает:
«…но что забавнее всего, – сказал он [Долгоруков – В.Г.], вдруг добродушно засмеявшись, – это то, что никак не могли придумать, как ему адресовать ответ? Ежели не консулу, само собою разумеется не императору, то генералу Буонапарту, как мне казалось» [65, т. 1, 232]
И далее Долгорукий-Долгоруков восхищается чьей-то свитской изобретательностью, придумавшей титул «главе французского правительства».
Итак: войска двух императоров признанных двигались с востока на запад, полки императора полупризнанного – на восток. Главнокомандующим русской армией впервые стал генерал-аншеф Михаил Кутузов, немолодой военачальник прежнего времени, давний ученик и сподвижник Суворова – но чья главная слава была, как выяснилось позже, впереди. Человек разумный, спокойный, образованный, по военной специальности, между прочим, артиллерист – не частое дело среди тогдашних полководцев, в большинстве пехотинцев или кавалеристов… При том своенравный и с характером таким же трудным, что и у его наставника. И о заговоре против Павла I он наверняка знал, хотя участие его в этом сталось не доказанным – присутствовал в числе приближённых на последнем обеде Павла Петровича с семьёй и царедворцами… Впрочем, после устранения Палена именно Кутузова Александр сделал военным губернатором Петербурга; однако довольно скоро они друг с другом повздорили, и генерал удалился в отставку.
В сущности, точь-в точь повторилась история «Павел – Суворов»: когда понадобилось воевать всерьёз, а не на парадах, выяснилось, что лучший генерал тот, что в опале. Кутузова призвали ко двору, помирились, забыли прежние обиды и дружно выступили – на войну, вести которую не очень хотелось.
4
Кто-то из французов сказал однажды такую язвительную фразу: «Каждый в отдельности француз – мошенник, но Франция – честное государство; каждый англичанин честный человек, а вся Англия в целом – один большой жулик». Как в любом красном словце, в этом есть перегиб, но есть и тонко подмеченная давняя изощрённость британской политики: находиться в союзе с Англией всегда было подобно заключению контракта с умелым адвокатом, который дело, возможно, выиграет, но с клиента постарается содрать побольше – желательно весь выигрыш.
Порядок действий в альянсе Питт в качестве генерального распорядителя ухитрился расписать так, чтобы все боевые операции на континенте пришлись на долю не Англии, но её союзников; и следует признать, что ему это удалось блестяще. Вообще, Третья коалиция – классика политического жанра, лебединая песнь Питта-младшего… Ради справедливости нужно сказать, что навязав русским с австрийцами воевать сухопутно, англичане обеспечили прикрытие с моря; правда и прикрывать-то намеревались в первую очередь самих себя. Но французский флот, долго угрожавший английским берегам, вдруг куда-то исчез.
Это вызвало в Лондоне очередной нервный приступ: две недели никто не знал, куда делся противник. Министры и Адмиралтейство с ног сбились, но недаром: наконец, стало известно, что французский флот соединился с испанским в порту Кадис на юге Испании.
От этого сообщения легче не стало. Моментально возникла гипотеза, что объединённая армада готова обрушиться на Мальту – а этот остров для британского правительства был делом святым. Кое-кто готов был снова удариться в панику, но Питт и здесь проявил чудеса силы воли: в самый краткий срок эскадра адмиралов Нельсона и Коллингвуда была брошена на юг. Корабли шли без остановок, матросы ели, спали на ходу. Успели! Нагнали врага на выходе из Кадиса, у мыса Трафальгар – и заняли выгодную позицию [69, 53].
К этому времени боевые действия на суше уже велись, и вела их коалиция самым плачевным образом. Пока главные русско-австрийские силы двигались на запад, Наполеон атаковал в Баварии так называемую Дунайскую армию австрийцев, решительными маневрами дезорганизовал её, окружил и принудил к капитуляции – близ городка Ульм, будущей родины Альберта Эйнштейна. Это произошло по Григорианскому календарю 20 октября [10, т.44, 195].
А на следующий день грянула Трафальгарская битва. В ней не повезло уже французам (и за компанию испанцам). Нельсон погиб сам, но противника разгромил полностью, хотя британский флот понёс при том тяжёлые потери. Англия от угрозы вторжения была избавлена.
Однако для русско-австрийской армии успех англичан ровным счётом ничего не значил. Катастрофа под Ульмом поставила войска в крайне невыгодное стратегическое положение, в котором, как говорится, не до жиру, дай Бог ноги унести. Кутузов и начал уносить – то есть отходить на восток, выполняя сложнейший, с арьергардными боями маневр. Принято считать, что организованный отход вообще самый трудный вид боевых действий – если так, то генерал-аншеф справился с ним на отлично (также особо проявил себя в этой операции генерал Багратион). Командованию удалось сохранить в войсках полный порядок, вывести их из-под угрозы французских атак, и к 5 ноября перегруппировать. Отход был долгим – перегруппировку удалось осуществить почти на самой восточной окраине Австрии, близ городов Брюнн и Ольмюц (теперь это Чехия, и города носят славянские названия, соответственно Брно и Оломоуц). Через несколько дней к группировке присоединилась 2-я русская армия генерала Буксгевдена и то, что осталось от австрийских войск – всего около 85 тысяч штыков и сабель. Явились и императоры, Александр и Франц. Последний, к горькой для себя неожиданности, очутился в роли короля Лира: Наполеон уже захватил Вену и там уж старался, конечно, как можно оскорбительнее задевать самолюбие бездомного монарха… Александр утешал собрата.
Есть сведения, что перед отъездом на войну он повидался со знаменитым скопческим вождём Кондратием Селивановым [74], и тот предсказал царю поражение – но относиться к этой информации следует осторожно: не исключено, что скопцы, действительно пользовавшиеся немалой популярностью в светском обществе, таким образом создавали себе дополнительное реноме… Во всяком случае, император отправляясь к войскам, не грустил. По пути он посетил с дружественным визитом Пруссию, и в Потсдаме имел свидание с королём Фридрихом-Вильгельмом и его женой Луизой. Встреча эта завершилась на несколько странной, чёрно-романтической ноте: в компании королевы (по некоторым сведениям, она, увидев Александра, тайно в него влюбилась) [73, 121] монархи спустились в фамильный склеп Гогенцоллернов, где над гробницей Фридриха Великого поклялись в вечной дружбе. Наверняка были при этом слёзы, объятия, лобзания… Король, однако ж, несмотря на столь сильные чувства, в глубине души считал, что следует быть осмотрительнее, и с подмогой не спешил, дожидаясь исхода генерального сражения. В чём и оказался прав. Александр же отбыл на фронт в настроении возвышенном, полагая, очевидно, что достаточно зарядился победной энергией над Фридриховым гробом.
И поначалу вроде бы хорошие предчувствия сбывались. Император участвовал в нескольких незначительных стычках, окончившихся успешно. Вид убитых и раненых подействовал на чувствительного Александра нелегко (есть подобный эпизод в «Войне и мире»); но всё же царь и его молодое окружение – брат Константин, Негласный комитет в полном составе – исполнясь боевым духом, возжаждали громких побед.
В этот момент в ставку союзников прибыл парламентёр от Наполеона – генерал Савари. Он завёл беседу о возможных мирных переговорах, отчего воинственный настрой в ставке только усилился: молодёжь решила, что французы обессилены, измотаны боями, и вот удобный случай их добить. С ответным парламентёрским визитом к Бонапарту отправился один из таких задорных вояк, князь Долгорукий (тот самый, полупсевдонимно упомянутый Толстым).
Говорил он с Наполеоном заносчиво и гордо, а тот постарался сделать всё, чтобы убедить князя в своей слабости и готовности сдать позиции… И уж конечно, обвёл незадачливого переговорщика вокруг пальца: Долгорукий пустился докладывать Александру, что дело за малым – дать генеральное сражение и победить [84].
Справедливость требует отметить, что некоторые историки (например, С.М. Соловьёв), считают, что князь в данной ситуации оказался «стрелочником»: на него якобы дружно списали все промахи нашей дипломатии и разведки – и так это пошло гулять по всем письменным источникам [61, 106].
Как бы там ни было, в ставке воодушевились пуще прежнего и стали готовиться к битве. Кутузов был против, предлагая дождаться дополнительных подкреплений, но его не очень послушали, а он как-то не особо настаивал. Почему? Мнения на сей счёт бытуют разные, даже экзотические; но если говорить серьёзно, то о мотивах пассивности главнокомандующего сегодня можно лишь гадать. Человек немолодой: устал, приболел, махнул на всё рукой: вам надо, сами и побеждайте… Бог весть.
Итак, битва была решена. Австрийский штабной генерал Вейротер разработал план сражения. План этот совершенно иллюстративно воспроизводил баснословное «гладко было на бумаге…» Видимо, как не очень искусный шахматист, выиграв пешку, считает, что с этим преимуществом он автоматически доведёт партию до победы, так и Вейротер полагал, что уже имеющееся численное превосходство (85 тысяч против 73-х) скажется само собой в ходе боя. Наполеон же не поленился собственными глазами тщательно изучить местность у крохотного городка Аустерлиц чуть восточнее Брюнна и разработать свой план, куда более реалистичный, основанный на том, что при верном знании и умелом использовании условий местности, а также с полководческим вдохновением можно добиться успеха и с меньшими силами. Что и доказал 2 декабря 1805 года – или, по Юлианскому календарю, 20 ноября.
5
Ранним утром 2 декабря в стане союзников началась торопливая, нервная суета. Все понимали, что это – последние часы перед боем. В темноте спешно собирались, на ходу жевали хлеб, швыряли в догоравшие костры ненужный хлам. Слышались резкие выкрики команд.
Судя по дошедшим до нас данным, начинающаяся зима была аномально тёплой: никакого снега не было в помине, зато стоял густой, непроглядный, непроходимый туман, маршевые колонны двигались практически вслепую… И почти сразу же, в этом тумане, появились первые признаки неразберихи, неумелого управления войсками.
Кто-то уже на марше стал вносить коррективы в движение колонн, из-за чего австрийская кавалерия пересекла путь русской пехоте; возникла заминка и ругань среди начальства. Командиры никак не могли договориться о порядке действий… Время шло, светало, туман нехотя рассеивался, вершины холмов проступали из него.
На одной из таких вершин стоял со свитой Наполеон, удовлетворённо наблюдая, как противник своими маневрами делает именно то, что ему, Наполеону, надо. Наверное, он ощущал тот особенный, счастливый, знакомый лишь избранникам судьбы взлёт ясновидения – когда точно знаешь, что всё будет по-твоему. Наверное, так было. Да иначе и не может! – в такой день, в первую годовщину коронации. Французский император ощущал себя в этот миг почти пророком.
Часов около восьми ударили первые выстрелы. Завязалась несильная и бессмысленная перестрелка – куда палить в таком тумане, толком не знал никто. Стреляли скорее для поддержания бодрости духа.
Передвижение союзных войск оголяло господствующую над местностью вершину, так называемые Праценские высоты, ключевую точку диспозиции боя. Дождавшись, когда противник сам достаточно ослабит силы на данном направлении, Наполеон вдруг обрушил на них внезапный удар, захватил высоты и мигом втащил туда артиллерию. Теперь инициатива была в его руках: он мог действовать как хотел, а русско-австрийские войска лишь как могли – им оставалось только отбиваться.
С верхней точки французы открыли пушечный и ружейный огонь, окончательно смешавший порядки союзников. Затем, не теряя ни секунды, Наполеон стремительно бросил кавалерию и пехоту на неповоротливую основную массу противника.
История войн – всегда история солдатской доблести, того, как воин бьётся в совершенно безнадёжной ситуации – умру, но не сдамся! – высшая честь бойца. Примеры этого входят в историю, становятся легендой… Но увы – часто солдатский подвиг есть результат генеральской глупости. Или, скажем мягче, недальновидности; армии всех крупнейших стран мира имеют в своих книгах славы такие чёрные или серые страницы.
В Англии, например, давно сделалась преданием атака лёгкой кавалерии в Крымскую войну под Балаклавой, где некие тугодумные военачальники бросили свою конницу на почти неприступные русские позиции – наши артиллеристы и пехота крыли шквальным огнём по мчащимся всадникам, как по мишеням. Прежде, чем британские Ганибаллы сообразили, что происходит что-то не совсем то, больше половины атакующих было уничтожено.
Но отвага бойцов – вне сомнений. Выражение «атака лёгкой кавалерии», Сharge of Light brigade – стало в английском языке почти именем собственным, знаменитый поэт Альфред Теннисон написал об этом вдохновенную балладу, не прошёл мимо и Голливуд, снявший об этом фильм… Такая вот суровая военная романтика.
У нас образцом подобного возвышенно-грустного рода стал на века бросок Кавалергардского полка под Аустерлицем. Вообще-то, слово «кавалергард» есть некоторая популярная мифологема, охотно тиражируемая масс-культурой, примерно так же как и слово «гардемарин»; но то, что элитную кавалерийскую часть издавна овевал особенный гвардейски-петербургский шик – это уж, конечно, так. Цвет служилого дворянства! попасть в Кавалергардский полк было голубой мечтой любого честолюбивого дворянского юноши тех лет. И ясно, что слава о подвигах такого воинства куда громче, нежели ничуть не меньший подвиг какого-нибудь скромного провинциального полка.
Что нисколько не должно отменять и принижать собственно храбрости кавалергардов. Под Аустерлицем их товарищи по гвардии попали в тяжёлое положение: один из военачальников, генерал-лейтенант Кологривов, неудачно расположил подразделения Конного и Гусарского полков, и их смяла атака конных егерей генерала Раппа и полковника Морлана [85]. Расстройство в рядах кавалерии позволило французам навалиться на пехотные Преображенский и Семёновский полки; те, перестроившись, успешно отразили первый натиск противника. Удачно сработала и артиллерия генерал-майора Касперского, залпом картечи сильно выбившая ряды вражеских всадников – в числе прочих был убит полковник Морлан.
Но не оплошала и французская пехота. Поддерживая свою кавалерию, стрелки осыпали пулями преображенцев и семёновцев, и те вынуждены были отходить. Егеря с приданной к ним ротой мамелюков [арабов на французской службе – В. Г.] вновь насели на отступающих. В особенно тяжёлую переделку попал Семёновский полк. Ещё немного – и от него вряд ли бы что осталось.
Было около часу дня.
И вот тогда командующий гвардией цесаревич Константин бросил на выручку пехоте гвардейские казачьи части и Кавалергардский полк. Повёл их в атаку сам командир полка генерал-майор Депрерадович.
Это не было таким уж бестолковым приказом, как в случае под Балаклавой – хотя в целом инициатива была упущена уже безнадежно. Союзная армия стремительно превращалась в расползающийся по швам кафтан, в котором начальство пыталось судорожно латать по пять дыр сразу. Атака казаков и кавалергардов остановила французов и позволила пехоте отступить в относительном порядке; другое дело, что наши всадники «приняли огонь на себя», схватившись с более крупными силами врага. Сначала, правда, рубка шла на равных, но лучшее управление войсками у Наполеона сказалось и здесь: к месту боя первыми успели конные гренадеры во главе с маршалом Бессьером – здоровенные парни на огромных нормандских конях, тогдашний аналог современных танковых войск. «Заставим плакать петербургских дам!» – с этим лихим кличем могучие вояки ударили по нашей кавалерии.
Наши не дрогнули. Бились отчаянно. Но силы были уже очень неравны. Французы сумели рассечь Кавалергардский полк на две части; большей удалось отступить, а вот 4-й эскадрон полковника князя Репнина оказался окружён – и тем дамам, что ждали возвращения своих кавалеров именно из этого эскадрона, в самом деле пришлось вскоре горько плакать…
Кавалергардская атака оказалась пиковым моментом битвы. После неё всё сломалось и рассыпалось вконец. Некоторое время в отступлении союзных войск ещё наблюдался какой-то порядок, но довольно быстро оно превратилось в катастрофическое бегство, где каждый сам за себя. Сражение кончилось.
Наполеон считал Аустерлиц своей лучшей победой. Справедливо: то был чистой воды полководческий триумф. Русские солдаты и офицеры были не трусливее французов и сражались не хуже (про австрийцев сказать особо нечего). А вот в той гигантской партии в супершахматы, какой является война, Наполеон, конечно, оказался в данный миг чемпионом.
Ну, а нашему незадачливому коронованному полководцу довелось испить горькую чашу до краёв. В стихии повальной паники ему только и осталось, что бежать в толпе со всеми. Рядом остались двое самых верных, те, кто не чванился, не блистал эполетами, не сверкал орденами: личный врач Виллие (спутник всей жизни императора, вплоть до последнего дня) и берейтор Эне. Орденоносцев же как ветром сдуло. Втроём так и скакали, куда глаза глядят. Рядом с ними упало ядро, всех обдало землёй… Начало темнеть, резко похолодало – беда не ходит одна, все напасти обрушились разом… Долго и неприкаянно мотались по каким-то буеракам, наконец, нашли скудный приют в чешской крестьянской избе, где грязный, голодный, павший духом Император Всероссийский наконец-то в слезах прикорнул на соломе.
Такова была плата за самонадеянность. Аустерлиц стал для Александра сильнейшим ударом – почти таким же, что и смерть отца. Но стало это и уроком, пусть жестоким. Говорят, что после этой битвы император сильно изменился. Больше он никогда не рвался командовать войсками. К людям сделался суше, недоверчивей. Негласный комитет приказал долго жить совсем – очень похоже, что Александра уязвило поведение друзей, перед сражением хвастливых и задорных, а в тяжкий момент испарившихся кто куда. Очень скоро лишился министерского поста Чарторыйский, отдалился Строганов… Удалили и Кутузова – в Киев, генерал-губернатором. Это формальной ссылкой не назовёшь, даже понижением вряд ли, но явным всё же выглядит здесь нежелание видеть близ себя живой укор.
Хотя многие прочие укоры никуда не делись, так и маячили рядом… К этому времени Александр, похоже, в полной мере осознал нелёгкую правду относительно того, что такое политика мирового масштаба – правду, элементы которой раньше проскальзывали как-то мимолётно, а теперь она предстала во всей весомости и грубости и заставила императора крепко думать.
6
Александр начал политическую карьеру, считая, что его задачей является совершенствование государственного российского аппарата, неуклюжего и малоэффективного. Решение этой задачи, по его мнению, должно привести к созданию справедливого общества, где люди будут счастливы – а вот тогда можно будет сложить с себя царские регалии, забыть о власти и предаться творчеству: наукам, философии, искусству… Впрочем, даже в молодости, наверное, Александр не был столь наивен, чтобы рисовать себе именно такую картину своей будущности, но он предполагал, что сумеет по крайней мере создать условия, могущие вызвать в людях стремление ко всеобщей справедливости, когда они поймут, что вот она! – правда нашего мира, идти надо к ней, по этой дороге… Иначе говоря, он, Александр, может хотя бы указать человечеству путь к счастью; а в этом случае тот самый грех… или пусть это была слабость… ну, словом, то самое, о чём даже вспомнить страшно – даже это может стать оправданным: власть монарха есть свет, который способен путь к счастью озарить. Не для себя, для всех.
Вероятно, и мечтами о том, что, узнав мысли императора, его подданные с восторгом примутся воплощать эти мысли в жизнь, Александр себя не тешил. Он достаточно быстро понял, что предстоит долгая, трудная, рядовая работа; настроил себя на это и взялся за обязанности всерьёз. Ему казалось, что он не боится трудностей.
Но он не представлял себе, какие это трудности. Стратегия увязла в болоте повседневных дел, мозговой центр в лице Негласного комитета старался, напрягался что есть сил… однако, держать курс получалось не очень – да и вправду сложно сделать это, когда планы не очень отчётливые, а каждый день вбрасывает новые и новые проблемы, которые надо решать немедля, сейчас, сию секунду – и каждая попытка решить один вопрос тут же ставит перед тобой два новых. Уравнение с тысячью неизвестных! – и конца-краю этой алгебре не видно.
Царь всё-таки считал, что он справится. Разбирая ежедневно ворохи суетных дел, он памятовал о главном и надеялся, что его генеральную линию вот-вот оценят, она заработает сама, люди втянутся в идею, проникнутся, осознают…
Но этого не получалось. Обстоятельства не подчинялись Александру, и он, наверное, чувствовал себя человеком, пытающимся сладить с огромной и незнакомой машиной: та скрипит, лязгает, дёргается, где-то из неё вдруг вылетает гайка, где-то рвётся шланг, где-то клинит шестерню – а он, машинист, мечется, пытаясь сразу и наладить в нескольких местах, и угадать, что надо сделать, чтобы этот неукротимый монстр подчинился и заработал легко и гладко. Но ничего подобного! Обстоятельства не поддавались и не подчинялись; наоборот, они наваливались нарастающим массивом… и наконец, вырвались из-под контроля совсем. Всё развалилось – и вот император Александр лежит на соломе в крестьянской хате, плачет и дрожит от холода.
7
С ужасным позором Аустерлица рухнула и Третья коалиция. Посланник прусского короля министр Гаугвиц прибыл к месту сражения, когда оно закончилось. Министр вёз с собою ультиматум Наполеону, но никому о нём не говорил, и правильно сделал: Фридрих-Вильгельм хоть и прослезился вместе с Александром над остовом своего пращура, был осторожен в прогнозах. Когда Гаугвиц узнал о том, что случилось, то спрятал ультиматум подальше и поспешил ко французскому императору с поздравлениями, на что Бонапарт едко заметил: мол, в поздравлениях самое главное вовремя указать адресата, а прочие слова – какая разница [64, 143]…
Пруссакам он не доверял.
Что же касается Австрии в ранге Священной Римской империи – если перед Аустерлицем она балансировала на грани катастрофы, то после началась агония. Полководческие таланты австрийских генералов привели к тому, что у императора Франца не осталось ни столицы, ни армии, ни территории. Собственно, не осталось ничего. Потому трудно упрекать Франца в том, что он с повинной головой сдался на милость победителя – это был единственный шанс сохранить хоть какую-то австрийскую государственность.
Так и вышло: государственность и вправду осталась «хоть какая-то», в глубоко ущемлённом виде. Мирный договор, заключённый 14 декабря 1805 года в Пресбурге (Братиславе) [10, т. 34, 435] оставил от Священной Римской империи нечто такое, что называть его Римским, да ещё Священным было бы просто совестно… Официальная кончина данного государственного образования была зарегистрирована 6 августа 1806 года.
Видимо, в Западной Европе в самом деле может быть либо один наследник Римского кесаря, либо ни одного. Двоим же там тесно. В начале девятнадцатого века таким наследником явил себя Наполеон – и наглядно доказал, что он «право имеет». Франц, правда, носил ещё титул императора Австрии, каковой титул при нём и остался; но это, конечно, было не то – что-то вроде утешительного приза.
Тяжелее всех пережил крах Третьей коалиции её духовный и финансовый отец – Питт-младший. Собственно говоря, никак не пережил. Судя по всему, он действительно весь выложился, как спортсмен, в гонке за первенством идущий ва-банк, уже не думая об осторожности, об экономии сил – всё на карту! И вроде бы некий успех обозначился: продолжая спортивные сравнения, можно сказать, что английский премьер сумел захватить лидерство. Но эта Питтова победа обернулась Пирровой – лидерство лопнуло в один день, 2 декабря 1805 года, и вместе с этим лопнул стержень, составлявший цель, смысл, содержание жизни премьер-министра. Машина обстоятельств, которой пытался управлять Питт, была, пожалуй, ещё более сложной и вздорной, чем у Александра, с ней надо было быть просто эквилибристом. Некоторое время у Питта это даже как бы получалось: он явил миру чудеса политической акробатики, «золото и ненависть» стянули-таки, скрепили как бечёвками антифранцузскую коалицию… но лишь на миг. Бечёвки лопнули, конструкция рухнула и погребла под собой сэра Уильяма Питта-младшего. Он умер 23 января 1806 года, через полтора месяца после Аустерлица. Как острили злопыхатели – от «французской болезни».
Пресбургский мир вывел Австрию из большой игры, зато забеспокоилась Пруссия, да и не могла она остаться спокойной, ибо Наполеон загнал её в такой угол, что Фридриху осталось либо воевать, либо капитулировать без боя. Цугцванг! – на шахматном языке такая позиция, когда любой следующий ход лишь ухудшает ситуацию, и выбирать приходится между плохим и очень плохим. Наполеону удалось создать так называемый Рейнский союз [59, т.11, 994]: конфедерацию германских княжеств, полностью зависимую от Франции; эта мера ставила прусского короля в чрезвычайно ограниченное пространство политического маневра.
Насколько рассчитывал на победу Фридрих-Вильгельм, затевая войну с Наполеоном? Имелись ли у него нелёгкие предчувствия?.. Если и были, то сработали они с устрашающей точностью. Война была объявлена 25 сентября (по Григорианскому календарю) 1806 года, а уже 14 октября в сражении близ саксонских городов Иена и Ауэрштадт армия «наследников Фридриха Великого», по старой памяти имевшая высокую репутацию, была разгромлена наголову. Точности ради следует упомянуть, что к Пруссии присоединилась Саксония и ещё несколько мелких государств, так что против Наполеона действовала объединённая прусско-саксонская армия – что ей ничуть не помогло.
После разгрома под Иеной саксонский курфюрст (особо привилегированный князь) Фридрих-Август II тут же переметнулся к Наполеону; и более того, так сумел войти в доверие к императору, что тот «повысил» перебежчика, сделав его королём. Правда, с ликвидацией Священной Римской империи институт курфюршества практически исчез, но не всякий курфюрст приобрёл королевский титул…
Фридрих-Август – забежим немного вперёд! – став саксонским королём под порядковым № I, служил Наполеону, покуда тот был в силе, а как силы подались, перебежал обратно в стан противников – и те опять-таки вынуждены были иметь с ним дело: политическая необходимость, ничего не поделаешь.
Россия, Англия и Швеция формально находились в состоянии войны с Францией, потому боевые действия 1806-07 гг. называют войной Четвёртой антифранцузской коалиции; хотя реально участвовали в этих действиях из крупных держав лишь Россия и Пруссия, да и то последняя лишь в качестве объекта избиения. Англичане зачем-то обстреляли с моря нейтральный Копенгаген и больше ничем себя в этой войне не проявили.
Иена-Ауэрштадтское сражение открыло Наполеону путь на Берлин, куда он пышно вошёл 25 октября и торжественно объявил там о начале «континентальной блокады» Англии. Что представляло из себя данный феномен? То, что страны, принявшие условия блокады, обязывались прекратить все экономические отношения с Англией, вплоть до запрета принимать в своих портах суда, идущие с Британских островов; даже почтовое сообщение с Великобританией прерывалось.
Собственно говоря, это было чистой воды экономическое самодурство: мероприятие неэффективное, неоправданное… и ещё с полдесятка «не» – однако, Наполеон этого понимать не желал: что ему, гению, какие-то там материальные интересы!.. Официально континентальная блокада существовала вплоть до 1814 года.
В ноябре вступила в дело русская армия. Начало зимы прошло в изматывающих боях, не принесших решительного успеха ни одной из сторон, и к Новому году активные действия сами собой сошли на нет. Измотанные, обескровленные войска расположились на «зимних квартирах», как тогда говорили.
Стоит сказать, что почти все события Четвёртой коалиции – те, что вела наша армия – разворачивались на территории современной Калининградской области. Теперь места, связанные с той давней войной, носят иные названия: Прейсиш-Эйлау – Багратионовск, Фридланд – Правдинск, Тильзит – Советск…
Между прочим, в это время России приходилось воевать на целых три фронта. На восточном Кавказе в 1804 года возобновилась война с Персией (нынешним Ираном) и тянулась в вялотекущем режиме, а осенью 1806 года в Бессарабии (нынешняя Молдавия) вспыхнул конфликт с турками.
Вообще-то Турция ещё со времён Павла Петровича продолжала номинально состоять в наших союзниках, но тут уж постарался Талейран. Он сумел убедить султана (всё того же Селима III) в том, что Россия после Аустерлица очень ослаблена и Османскому государству лучше бы наладить «стратегическое партнёрство» с Францией… Убеждать Талейран умел. Обещания показались Селиму заманчивыми, и он на них поддался.
В качестве необязательного дополнения отметим, что этот маневр никакой пользы не принёс султану, к этому времени безысходно запутавшемуся во внутриполитических проблемах. Его «низам-и-джедид» вызвал в стране сильную негативную реакцию, преодолеть которую он не смог. Среди противников реформ оказались влиятельные лица, сумевшие спровоцировать янычарский мятеж, в результате чего в мае 1807 года Селима свергли с престола. А через год бывший султан был убит.
Обе эти второстепенные войны были для России нелёгкими, длинными и изматывающими. На них вечно не хватало сил и средств, отчего никак не удавалось достичь кардинального преимущества – всё отнимал главный, европейский театр.
Там после примерно месячного затишья возобновились бои, которые в феврале 1807 года вылились, наконец, в крупном сражении под Прейсиш-Эйлау. Битва растянулась на два дня и окончилась вничью; её особая черта – огромные потери с обеих сторон. Под Аустерлицем, где массы войск были больше, убитых и раненых насчитывалось меньше… Сражение сильно обескровило противников, и почти до начала лета наступило вынужденное затишье. В мае боестолкновения вновь начались, и вот – совсем рядом с Прейсиш-Эйлау – под Фридландом войска сошлись в решающей битве.
Главнокомандующим русской армией был генерал Л. Беннигсен, не просто «русский немец», каковых в после-Петровской российской элите было великое множество, а самый настоящий, «немецкий немец» из Ганновера. На царской службе он состоял уже очень давно; в своё время сделался одним из активнейших участников заговора против Павла, но несмотря на это, и при Александре места в строю не потерял. Военачальник он был опытный, квалифицированный – в кампанию 1806-07 гг. армия под его командованием воевала умело, грамотно. Однако во Фридландской битве генерал оплошал: допустил ошибку при выборе исходной позиции – а уж в противодействии с Наполеоном такие промахи чреваты бедой… Сражение закончилось для нас разгромом, не столь тяжёлым как Аустерлиц в смысле чисто военном, но едва ли не трагическим в политическом отношении. Тогда война велась всё-таки далеко за пределами России, а после Фридланда нашим войскам пришлось отступить за реку Неман – границу Российской империи.
Войска Наполеона стояли на русской границе! Правда, переходить её император Франции не собирался. Пушки своё отговорили. Заговорила дипломатия.
8
Мирные переговоры двух реальных обладателей имперских корон – восточной и западной – наверняка должны были когда-нибудь да состояться. Они и состоялись; и стали, вероятно, самыми необычными в истории, если иметь в виду их внешний антураж.
Стороны выразили желание общаться на нейтральной полосе. Нейтральная полоса? Да вот же она – Неман! Самая естественная. И строго посреди реки соорудили плавучий павильон: домик, где должна была состояться императорская встреча. Павильон украсили вензелями A и N – и вот, 25 (13) июня 1807 года бывшие враги впервые взглянули друг другу в глаза.
Тильзитские переговоры описаны тысячекратно, и повторять ещё один рассказ о них смысла нет. Но отметить самое важное в них – совершенно необходимо. Что здесь самое важное?.. То, что с Наполеоном разговаривал другой Александр – не тот, что плакал после Аустерлица.
Да, русский император изменился. Он вёл диалог твёрдо, умно, выгадывая для себя максимум того, что можно было сделать в тяжёлой в целом ситуации. Ему больше не ассистировали субтильные инфанты вроде того же Петра Долгорукого; теперь в его советниках были опытные интриганы Лобанов-Ростовский и Куракин. Эта команда, видимо, была не такой, какую рассчитывал увидеть Наполеон, помнивший свой блестящий психологический демарш полтора года назад.
Был ли он хорошим психологом? Наверное, и да и нет. Да – чисто практически, в разговоре с глазу на глаз быстро схватывал, в чём сильные, в чём слабые места оппонента, и что надо сделать, чтобы оставить его в дураках. Многие упоминают о том, что он едва ли не с одного взгляда мог угадать масштаб личности – и уж конечно, большей частью этот масштаб оценивался надменной усмешкой. Невероятная феерия судьбы быстро развила в Бонапарте чувство гипер-превосходства над другими; а это стало, вероятно, стратегическим просчётом его психологии. Нельзя считать людей ничтожествами – даже если они таковы и есть, даже если бы никакой морали на свете не было… Это не только неэтично, это и невыгодно. В упоении собой великий человек не видит обид людей мелких; а эти люди помнят обиды, копят их, нарочно растравляют свою память, готовясь предъявить счёт – и горе великому, когда он перестаёт таковым быть…
Но как психолог-практик, как дипломат Наполеон, конечно, умел заглянуть человеку в душу. В Тильзите он быстро понял, что о таком явном преимуществе, как раньше, речи быть не может – и мгновенно перестроился. Он зауважал Александра – он, вообще-то не очень уважавший род людской. Что касается нашего царя, то у него к партнёру сформировалось более сложное отношение; поскольку сам Александр был натурой более сложной, вернее, не столь цельной, как Наполеон в зените своего могущества. Но это не исключало ответного уважения; конечно, не уважать Наполеона в эти годы было смерти подобно, однако основой уважения у Александра был всё-таки не страх.
Бедный Фридрих-Вильгельм!.. Четвёртая коалиция сделала из него такого же короля-бродягу, что из Франца – Третья. Покуда императоры беседовали наедине, прусский король уныло бродил по берегу Немана, не зная, как решится его судьба [73, 127]. Кто знает, не вспоминались ли ему в этот миг его хитрости накануне Аустерлица, когда он отсиживался в стороне, подставляя Россию и Австрию под сокрушительный удар Бонапарта?.. Не приходило ли в голову вечное и горькое «Не рой другому яму…» Кто знает! Но Александр клятве над гробом остался верен. Он делал всё, чтобы выручить Пруссию.
Переговоры не были простыми и краткими. Тем не менее, они завершились компромиссом, известным как Тильзитский мир. Наверное, российская сторона отыграла в свою пользу всё, что могла. Но после стольких неудач это «всё» оказалось довольно плачевным – и общественность не оценила дипломатические труды миротворцев. По возвращении в столицу встретили их неласково.
Глава 5. Земное и небесное
1
Мировоззрение каждого человека есть сложная, меняющаяся, саморазвивающаяся система. Понятно, что люди разные: некоторым, в общем-то, сугубо всё равно, куда, как и зачем ведёт их жизнь. Но в большинстве, пусть даже не очень осознанно, нормальный субъект бытия стремится к тому, чтобы наше «Я» находилось в реальном контакте с миром, чтобы мысль работала, надёжно цеплялась за окружающее, поворачивая его в должную сторону, и сама здравым образом воспринимала происходящие события. Иначе говоря, с позиции практической мировоззрение суть более или менее успешное врастание человека в мир – и если этот последний ведёт себя как-то не так, со сбоями и неприятными сюрпризами, значит, некие недостатки есть в выстроенной нами машине «Я и мир». Система неадекватна. Значит, что-то надо в ней менять… а что именно – вопрос, на который в ином случае может не хватить и жизни.
2
Бабушкино хлопотливое воспитание имело целью создать из Александра гармонично развитую личность. Екатерина мыслила достаточно широко и перспективно, однако итогом её хлопот стало не совсем то, что замышлялось, а именно: два главнейших жизненных фактора:
а) масштабные социальные идеи…
б) необходимость вращаться в повседневной дворцовой политике…
у внука разъехались далеко в стороны.
Возвышенные мечты и конкуренция придворных групп никак не сопрягались, отчего царевич обитал одновременно как бы в двух параллельных мирах… По восшествии на престол Павла Петровича мир первый резко сдал: в неистовом стремлении творить благо император сделал жизнь первенца невыносимой, и какой уж тут идеализм. Но вот кризис разрешился страшной ночью 12 марта, и, как бы там ни было, философическая мысль к Александру вернулась. Если руководить продуманно, по плану, наукообразно… Он со сподвижниками в лице Негласного комитета взялся было за это; кое-что удалось сделать, но прошло не так уж много лет, и ресурс комитета исчерпался. Продолжению реформ потребовалось иное кадровое наполнение.
Учителя-гуманитарии – Лагарп, Сомборский, Муравьёв – действуя с разных сторон, совокупно сформировали в воспитаннике нечто такое, что условно можно бы назвать около-платонизмом: действия Александра говорят об этом внимательному философскому взору достаточно отчётливо; он, Александр, пытался уловить в вещах и событиях нашего мира отсветы мира высшего, прекрасного и чистого, ему хотелось этой чистотой наполнить Землю, сделать её ближе к Небу… В этом было много наивности и немного проку, но воистину намерения важнее результата. Если Александр в ту, довоенную пору ещё и не дорос до истинных духовных высот, то средний уровень тогдашнего дилетантского вольнодумства он, конечно же, превзошёл.
Скудная мысль «просветительства» не вникала, откуда человеку дан разум. Он воспринимался как данность, а дальше следовали заклинания о его всемогуществе – как пустяковые, так и талантливые. Несколько популяризируя, но по сути не искажая «вольтерианскую» догматику, можно вкратце изложить её так: принятый за аксиому разум человечества, если ему не мешать и не сковывать его ни догматически, ни социально, сам собою выстроит эффективное общество, где будет царить справедливость, и все будут счастливы.
В речах Лагарпа это казалось простым, приятным и увлекательным и находило горячий отклик в сердце юного Александра. Как им воспринималась куда более сложная христианская теология, и как её преподносил о. Андрей?.. – о том сейчас судить трудно, однако ясно, что и это общение без последствий не осталось. Вполне вероятно, что в сознании великого князя а затем самодержца слово «православие» практически не пересекалось с интеллектуальной и духовной жизнью; по сути, оно оставалось вне мировоззрения, по крайней мере, вне активной его части. Церкви, обряды, попы… всё это было житейской рутиной. Но совершенно несправедливо было бы утверждать, что уроки Самборского были пустым звуком! Несомненная привлекательность душевного мира Александра, проявившаяся и в ранние годы, его внимание к людям, участливость, милосердие, простое человеческое тепло – вряд ли всё это было возможным, обретайся он в парадигме одиозного просветительства, в коей существовали Лагарп или, того пуще, Жильбер Ромм, чьи идеалы и ценности были сведены к одной воспалённой точке в собственном мозгу, а всё прочее ощущалось либо подспорьем либо помехой к пульсации этой точки.
Александр таким, слава Богу, не стал. Оценивая начало его правления, должно отметить, что он довольно вдумчиво и настойчиво пытался выстроить рабочую систему своего, императорского взаимодействия с миром, и действовал он так, словно окружающие его объекты и события оживают и живут постольку, поскольку на них сверху простирается свет идей: вечных, ясных, нетленных сущностей – и чем выше, значительнее идея, тем мощнее она заряжает энергией какую-то линию земных событий. Стало быть, надо по разным признакам найти эту проекцию высокой идеи на Земле, найти и подстроить государство под её действие: тогда все обстоятельства послушно оборотятся на пользу дела, и само дело пойдёт живым ходом… Да, разумеется, возникнут на этом пути трудности, и немалые, он это прекрасно сознавал; но всё же полагал, что главный стержень будет найден, а остальное приложится.
Трудно судить, такой ли именно концентрат мысли сформировался в императоре, но, то, что по сути оно было так, видно из внимательного взгляда на действия Александра как властителя в первые годы XIX века. Этот взгляд отчётливо свидетельствует о том, как молодой царь пытался найти руководящую идею.
Здесь закономерно может возникнуть вопрос: а чего ради её искать, если эта идея давно была Александру известна. Прежде многократно говорилось об его приверженности некоей расплывчатой «свободе» – вот идея свободы теоретически и должна стать центрообразующей сущностью… Приверженность была, это правда; однако, в отличие от тех, кто понимал идею свободы вкривь и вкось, но горделиво думал, что всё знает, император был самокритичнее: он догадывался, что это само по себе не просто, а реализация ещё сложнее – возможно потому, что сложность жизни он очень рано постиг на себе. Одними разговорами ничего не сделаешь. Потому он стремился отыскать подсказки в окружающем, включить, так сказать, «автоматику идей»: если события, вызванные твоими действиями, вдруг все дружно, одно за другим, начинают работать на тебя, на поставленную цель – значит, цель выбрана верно, ибо лишь сильная, высокая идея способна ровно выстелить дорогу судьбы.
Вот только со строительством этой дороги у Александра что-то не очень заладилось.
Он искал, искал реальную руководящую идею – методом проб и ошибок, старался, но не мог ещё преодолеть инерцию прошлого, воспитания своего, школьного и дворцового. Это не удивительно, и вряд ли стоит упрекать начинающего правителя. Ведь это легко сказать: преодолеть инерцию! Жизнь человеческая вообще пребывает в стандартной матрице множества догм, и вырваться из них, увидеть в суете и спешке повседневности что-то действительно яркое, новое, оригинальное – это дорогого стоит.
3
Какие идейные течения могли оказать заметное воздействие на императора в ранние годы его правления?..
В самые первые дни после воцарения Александру доложили об удивительном монахе, якобы точно предсказавшем время кончины Екатерины и Павла. Но Александру, видимо, было тогда в такую тягость любое напоминание о трагедии, что он не стал вникать в подробности, но поспешил распорядиться об отправке непрошеного пророка куда-нибудь подальше. С давних пор таким дальним местом для духовных лиц являлся Соловецкий монастырь – и весьма естественно, что прозорливый монах Авель отбыл именно туда. На долгие годы этот человек выпал из духовного кругозора императора…
Масонство – оно в те годы было модой. Но именно потому оно в кругах придворных, вообще элитных стало обыденностью. Флёр тайны при ближайшем рассмотрении как правило оказывался скучной, серой кисеёй… Хотя многие, многие ещё видели в ухватках «вольных каменщиков» пределы человеческой премудрости, и долго ещё российский «средний класс» клевал на удочку трёхкопеечных таинств (у Гоголя в «Мёртвых душах» Собакевич говорит Чичикову про одного из губернских чиновников: «… он только что масон, а такой дурак, какого свет не производил» [19, т. 5, 95] – а чиновник этот, председатель казённой палаты [финансового управления – В. Г.], совершенно безобидный, добродушный и глуповатый бездельник).
Но то средний класс. Для Александра же масонство особого интереса не представляло. Он его не преследовал, не поощрял; впрочем, интересовался, следил за его развитием. Следить надо было, ибо туманные секреты влекли к себе людей беспокойных, экзальтированных, и Бог знает, в какую крайность их могло бы занести, не будь за ними глаз да глаз. Вот, например, был такой деятель Александр Фёдорович Лабзин; он основал некую ложу и назвал её «Умирающий сфинкс»: одно это название вроде бы должно насторожить здравомыслящего человека… но куда там! от желающих стать сфинксами и в этом качестве помереть – отбоя не было.
В общем, отношение Александра к ревностным масонам было примерно такое же, как бабушкино, разве что более терпимое. Он воспринимал их как шаманов, довольно безобидных, но с известными отклонениями от нормы; их надо аккуратно держать в рамках, а в остальном пусть себе шаманят. Масонство же придворное стало расхожим атрибутом света, таким же, как французский язык, изысканный этикет, адюльтеры… Словом, этот духовный поток императора не очень задел.
Иногда приходится читать, что Александр был-таки членом масонских лож [57, 49; 73, 112]. Другие же источники заверяют, что подобные сведения «… не заслуживают ни малейшего доверия» [32, т. 6, 405]. Что правда, что нет?.. Во всяком случае, категорически исключать возможность подобного нельзя. Но это ровным счётом ничего не значит. Духовные поиски если и заводили государя туда, то очень скоро он, при его уме и нравственности, а также в силу государственных обстоятельств, не мог не увидеть наивности и скудости предлагаемых ему секретов.
Но в чём он, вероятно, ошибался – в своём мнении относительно безобидности масонства. Прошло десять лет, и в русском образованном обществе проросли как подземные грибницы, нити тайных обществ нового поколения, генетически связанных с прежними, безусловно ведущих свою родословную от «шаманов» Екатерининских времён, но куда менее игривых, куда более жёстких, даже беспощадных. «Младое племя», восприняв от прародителей установку о своей избранности, стремилось реализовать эту избранность так, что дожившие до новых времён ветераны масонского движения растерянно взирали на своих духовных потомков, в ужасе и негодовании от того, какие побеги выросли изо всходов, некогда ими же, стариками, посеянных…
Наверняка, пытались по-своему обработать государя и иезуиты, народ неугомонный и пронырливый. Достаточно вспомнить, что патер Грубер, если даже и преувеличивал свои успехи, на самом деле немалого добился: он не просто закрепился при дворе, но стал одним из конфидентов Павла I. Правда, все труды обратились в прах 11 марта 1801 года: Павел Петрович погиб, и пришлось начинать всё сначала. А новое начало оказалось далеко не таким многообещающим, как при прежнем императоре: Александр воспринимал присутствие ордена в России спокойно, вежливо, однако сплетать вокруг себя интриги не позволил – возможно потому, что слишком уж хорошо видел, как обхаживали батюшку… Потом, много лет спустя, его отношение к иезуитам резко изменилось в худшую сторону – и тому были свои причины.
Между прочим, Грубер в 1802 году стал главой («генералом») ордена, который, правда, существовал на полу-легальном положении: Пий VII не рискнул провозгласить восстановление ордена открыто, но закрывал глаза на его подпольную деятельность… Вот такую теневую организацию и возглавил Грубер.
Ненадолго. Конец этого человека был страшным и нелепым – и если исходить из того, что случайностей на белом свете нет, то в данном случае приходится признать, что истинные причины событий остаются повседневному разуму неведомы… В доме, где Грубер жил, вдруг вспыхнул пожар – и «генерал» погиб в пламени. Орден возглавил, и на многие годы, некий Тадеуш Бржозовский.
Итак, все эти метафизические течения Александра не очень тронули. Не убедили они его в качестве предлагаемых путей реализации идеи Блага, которую он стремился воплотить в этом мире. Не показались способными ответить на вызовы эпохи ни масоны, ни иезуиты, ни тем более какой-то там непонятный монах, от которого в душе смута и тревога… Почему поиски привели к решению, внешне на редкость тривиальному: пригласить старых друзей, чтоб в этом тесном дружеском кругу идея высветилась как бы сама (приём, успешно апробированный ещё Сократом, «майевтика»)… понятно чисто психологически. Эти люди, Негласный комитет, были душевно близки императору, и в ком, как не в них, видеть то, что хотел бы видеть, с кем ещё сомкнуть силы! Самые тёплые чувства, самые светлые воспоминания – это, конечно, они, наши друзья, особенно друзья юных лет, с кем есть что вспомнить, те дни, вроде бы близкие, а как подумаешь – такие далёкие уже!.. и вспомнишь, и умилишься, и почудятся они, ушедшие, невозвратимые – самой лучшей порой, какая только могла быть на Земле.
Дружба, прошедшая сквозь годы – это, конечно, немало. Но это не метод и даже тактическим приёмом не всегда способно быть. Отчасти, впрочем, да – и Александр решил было, что он нашёл в ней универсальный инструмент, золотой ключик к этой жизни, которым возможно будет отомкнуть вход в государственную гармонию… Но жизнь оказалась сложнее.
Она вдруг замелькала, зарябила перед друзьями, разбежалась в стороны тысячью путей, дорог, тропинок – и все с малоприятными сюрпризами… С некоторой самонадеянностью титулованные топ-менеджеры пустились в путь, сознавая его непростым, но всех сложностей которого всё-таки не представляли – и скоро забуксовали.
Какое-то время Александр, должно быть, этого не понимал. Очень уж заманчиво светила ему его мечта, сквозь все тени и сумерки мира. Казалось, вот-вот – и настигнешь её, только иди по выбранной дороге, пусть она и долгая, с преградами – но надо быть спокойным и настойчивым, и он старался быть таким. Вообще, он при всех своих мягкости и обходительности был из тех, кто способен выдерживать давление сторонних сил и не поддаваться ему, проводя свою линию. Конечно, ему было куда как непросто делать это, приходилось ювелирно ладить с окружением, где каждый преследовал свои интересы – но он и в этих условиях умел держать курс.
Правда никак этот курс не выводил на магистраль, всё оказалось куда труднее – и привело к нескольким крупным неудачам подряд. Почему так?.. И при том перед глазами не то, чтобы стоял, а прямо-таки сиял и гремел образец того, как весь мир стелется под ноги – да кому! Несуразному человечку, крикливому, коротконогому, пузатому. А это почему так?! – вопрос, который ставил в тупик не одного Александра.
4
Это Гегелю всё было понятно: Наполеон Бонапарт суть актуальное острие Мирового Духа, что ведёт историю к неведомой нам цели, закономерно и равнодушно к судьбам человеческим. Но многим людям трудно, даже невозможно было принять такое: великая идея не может быть вне добра, и тот, кто с плотоядной лихостью царит над миром, в упоении от власти, не думая о людях, каково им там, под его властью – тот просто вселенский фат. В таком властелине, конечно, никакого величия нет и в помине, это фантом величия; кого-то он и в самом деле может ввести в заблуждение, но тем, кто в вере твёрд, кто знает, что не только гений и злодейство несовместны, но не совместен гений с равнодушием, с презрением к людям, даже со снисходительной усмешкой – тем ясно, что такой фантом когда-то лопнет.
Наверное, и во времена гремящей славы императора Наполеона I были проницательные люди, которые догадывались, что феерия кончится крахом. Но это было, так сказать, теоретически, а вот Александру-то пришлось столкнуться с Наполеоном лицом к лицу, ощутить на себе сей феномен, а затем ощутить растерянность. Да как же это так?!
Как так! – и ведь впрямь для Бонапарта не то чтобы не было преград, а все события, все обстоятельства сами дружно стелились под него, точно один лишь взгляд корсиканца делал из мира верного слугу. Александр так старался найти идею, способную включить события в нужном русле – искал, вроде бы находил, что-то получалось, но с таким великим трудом, с такой натугой… а у Наполеона, который о том вроде бы думать не думал, всё шло как по волшебству, и первое же столкновение с ним рассыпало Александровы прожекты в прах.
Это, конечно, не могло не вызвать тягостных раздумий. Чего же тогда стоит поиск генеральной идеи, и какова цена самой этой идеи – если при встрече с настоящей трудностью всё вдруг стало повергнуто в ничто? Стало быть, всё было впустую? Искал не то, шёл не туда и делал не так? Полжизни – зря?..
По времени было прожито уже больше, чем полжизни, только Александр о том не знал. А вот по сути… По сути всё главное было ещё впереди.
Зря или нет – Александр тоже не знал, но тут сказать себе «не знаю…» и погрузиться в меланхолию возможности не было. Надо было решать твёрдо: да – нет, и всё дальнейшее зависело от этого выбора.
Александр сказал: «нет, не зря» – и спас себя, и оказался прав. Прошли годы, и потрясённый мир увидел, что такое Россия и её император. То было чудо! а истоки чуда там, в невесёлых днях Аустерлица, Фридланда, Тильзита… Победа начинается с испытания на прочность – это испытание Александр выдержал. Да, у него были моменты малодушия. Но он не сломался. Он принял трудный вызов судьбы, сумел критически взглянуть на прошлое, переоценить его – и победил.
Но тогда, в 1807-м, до победы казалось невероятно далеко…
Серьёзные размышления не могли не подтвердить Александру, что курс на идею разумного и справедливого правления был принципиально верным. Экспериментальное воспитание всё-таки оказалось в чём-то очень здравым: оно сделало из воспитуемого Человека – в том смысле, в каком понимал эту сущность ещё Диоген. Александр сумел быть честным наедине с собой, и желая добра всем, не лукавил. И сверх того: он, хотя и был в душе сентиментален, понимал, что хотеть добра – не значит слезливо умиляться, а настойчиво, тяжело, день из дня трудиться, преодолевая чьи-то косность, глупость, чью-то вражду, неустанно искать пути, по которым самые высшие даже в мире идей, идеи блага и справедливости могли бы снизойти в наш неблагой мир…
И ничего не вышло.
Но это значило только одно: надо бороться.
Александр, очевидно, всерьёз осмыслил свои поражения. Что было непросто – после Тильзита он испытывал сильнейшее внутриполитическое давление: общественность сочла договор с Наполеоном чем-то святотатственным и была возмущена. Но император лавировал в сложных обстоятельствах умело, с редким политическим изяществом нейтрализовал недовольство, и о метафизике нашёл время поразмыслить, не упустил это.
Итак: почему же фортуна так подхватила Бонапарта?.. Какой-то смысл в этом должен быть! Возможно, Мировой Дух на данном историческом витке вдруг решил вычертить огненно-кровавыми письменами именно идею власти и славы, сперва соприкоснувшись с Землёй на острове Корсика, по какой-то своей прихоти, которую весьма трудно понять. Возможно; однако, сами ведь эти идеи – обширной власти и громкой славы – не суть какие светлые и высокие. Да, поворот истории может выкатить их на первый план, воплотив в некоей индивидуальной персоне. Вероятно, они способны сочетаться с идеями высшего порядка – тогда власть и слава конкретной личности длятся долго. Но, довлеющие сами себе, они подобны метеору: сверкнуть и погаснуть – вот всё, что им дано… Об этом говорит, кстати, не только судьба Наполеона, хотя для иллюстрации данного тезиса первым делом прибегают всё-таки к ней.
Если Александр твёрдо убедился, что вдохновляющая его идея выше, чем у французского владыки, то из такой предпосылки должен был вытекать только один вывод, объясняющий грустные результаты прямого соревнования, а именно: идея не стала силой, не включила ход событий. Золотой ключик – человеческий фактор – покуда в руках императора оказывался не золотым.
Но, конечно, не был он и вовсе уж бесплодным; Александра окружали разные люди, в том числе и умные, работоспособные, умеющие делать дело. Они и делали, и делали неплохо. Но это были частности, отдельные направления работы. Александру же надо было видеть, знать и успевать всё – и вот это у него как раз не получалось. Хоровод обстоятельств мчался быстрее, чем царь успевал разгадывать его броски и выверты, а друзья царя ему в этом помочь не смогли. Да ведь и вправду задача такова, что не позавидуешь тому, кому довелось решать её: Французская революция как-то вдруг изменила мир, он стал резким, нервным, злым. Дни замелькали, месяцы побежали, годы потекли быстрей… Идеей овладеть вообще непросто, а чем она выше, тем труднее, а в бешеной жизненной гонке труднее многократно – что Александр сполна ощутил на себе. Тем острее он испытал необходимость в «магии менеджмента», в том, чтобы нашёлся кто-либо, кто помог бы ему обуздать стихию событий. Наверняка император – сознательно ли, бессознательно – искал такого человека… И человек отыскался.
5
Есть разные версии относительно того, как Михаил Сперанский, сын сельского священника из глухомани во Владимирской губернии, сделался вторым по значимости лицом Российской империи. Бывает, нелёгким словом поминаются всё те же масоны, которых иные авторы возводят в ранг всемогущих чародеев. Дескать, они, эти теневые заправилы – тут упоминаются известные нам Куракин и Мордвинов – выдвинули владимирского поповича как орудие своекорыстных происков. Бывает и обратное: диковинный подъём Сперанского объясняют едва ли не гениальностью этого человека… И не обходится, конечно, без толков о «счастливой звезде».
Всё это, вероятно, по-своему справедливо. Действовала придворная интрига? Да! Хотя приписывать ей могущественную сверхъестественную силу было бы, наверное, слишком смелым утверждением. Способности? Бесспорно! И главная из них – упорство, трудолюбие, настойчивость. Что же до «счастливой звезды», известно: везёт тому, кто везёт.
Духовное сословие во времена Екатерины обреталось в каком-то двусмысленном состоянии. С одной стороны, оно хорошо ли, худо ли, но являлось хранителем образованности, и система подготовки священнослужителей находила и выдвигала таланты, формируя из них таких высококультурных, эрудированных специалистов, как Самборский, Памфилов; или даже настоящих теологов и философов – как митрополит Платон. С одной стороны! – приходится подчеркнуть, добавив: со стороны высшей. С другой же, низшей стороны, российское православное духовенство представляло собой нечто неудобопонятное. Класс вроде бы привилегированный – но в сугубо дворянской государственности, где церковь как таковая лишена была независимости, ему не то, чтобы совсем уж не было места, но место отводилось дальнее и тусклое… Дворянской элите конца XVIII века, нахватавшейся с миру по нитке вольтерьянства плюс розенкрейцерства с иллюминатством, православие наверное казалось устаревшим, раритетным ритуалом, который исполнять надо, но не очень хочется; иерархи же церковные – тот же самый Платон – воспринимались как вполне светские, утончённые люди высшего общества, по государственным соображениям вынужденные рядиться в рясы. Надо думать, Платона даже осторожно уважали за учёность, хотя богословские его теории, конечно, не воспринимали никак. Это было сложно и непонятно – а потому скучно.
Семью будущего вельможи и реформатора, хотя и обитала она в том самом тусклом углу, дремучей никак не назвать. Именно священники в глубинке были, как правило, хранителями знаний, истинного просвещения, и семья Сперанских принадлежала, очевидно, к замечательной в нашей стране прослойке «сельской интеллигенции», тому слою, который создаёт культурное пространство по городам и весям, по бесчисленным «медвежьим углам» огромных российских пространств. Книги в доме водились – мальчик Миша, рано овладев с помощью деда грамотой, глубоко пристрастился к чтению.
Вообще, он с детства стал первым учеником, «ботаником», как сейчас говорят. Счастливая звезда! – если была она в жизни Михаила, то, наверное, в том, что ему довелось всё же родиться в духовном сословии: в те годы это был лучший случай получить настоящее, серьёзное образование – самое благоприятное обстоятельство для человека с такими задатками.
Как подобает сыну священника, юный Сперанский поступил на учёбу в семинарию, в Суздаль, где разумеется, сразу сделался лучшим учеником. И разумеется, когда по всей России начался отбор перспективных учащихся в недавно созданную столичную «главную семинарию», прообраз будущей Духовной академии, лучший суздальский студент очутился в Петербурге, где также взялся за науки со своим фирменным прилежанием.
Учебная программа главной семинарии была очень интенсивной и жёсткой. Тогдашние педагоги не морочили себя психологическими подходами и тонкостями. Ничтоже сумняшеся, они обрушивали на головы слушателей водопады знаний, а потом требовали результата по их усвоению. Причём это не был механический навал информации, и от студентов требовали отнюдь не бессмысленной зубрёжки, но усвоения смыслов. Риторика, логика, математика, философия, теология – всё это приучало семинаристов к систематической умственной работе, воспитывало чёткость, строгость мысли, умение излагать её в надлежащей форме, владеть словом и пером. Плюс к этому все обязательные священнические функции: церковные службы, молитвы, послушание… Естественный отбор: суровая нагрузка отсеивала слабых, а сильных делала сильнее; и уж понятно, что Михаил Сперанский оказался в числе сильнейших. Как правило, выпускники, окончив курс, отправлялись по своим же родным семинариям в качестве преподавателей – а вот Сперанскому, как лучшему из лучших, было сделано предложение, о которого он не смог отказаться: занять преподавательскую должность в главной семинарии, к этому времени ставшей академией.
И эта работа стала серьёзным испытанием – она не оставляла времени для безделья. Содержать себя в столице на академическое жалованье было туговато, молодой профессор вынужденно искал дополнительные заработки: устраивался репетитором, секретарём в разные знатные дома… Эти хозрасчётные труды имели для него два существенных последствия – одно романтическое и одно прагматическое. Романтика настигла интеллектуала в семействе графов Шуваловых – в образе молодой англичанки Элизабет, гувернантки графских детей. Сюжет, достойный психологического романа! – два человека с таких далёких краёв Земли нашли друг друга при мимолётной встрече: какими странными путями ходит судьба по нашей планете… А в том, что это судьба, сомневаться нечего: Элизабет ждало несчастье, она умерла при родах, оставив девочку, которую отец назвал, конечно же, Елизаветой и воспитывал сам, никогда больше не женившись. Одна любовь на всю жизнь! – Михаил Михайлович действительно был серьёзный человек.
Практическое следствие дополнительных работ начинающего профессора выразилось в том, что он сблизился с князем Александром Куракиным, спутником Павла Петровича в таинственной ночной прогулке, а ныне высокопоставленным дипломатом. Опытнейший, изощрённый царедворец быстро угадал в своём секретаре (Сперанский исполнял при князе эту должность) необычайный талант, поначалу хотя бы секретарский: «академик» мог на диво ясно, убедительно и элегантно составить любую бумагу, и никогда ничего не забывал. Ну, а дальше – больше: изумлённый и восхищённый, Куракин переманивает молодого человека уже на официальную государственную службу.
Мотивы покровительства со стороны вельможи не столь очевидны, как на первый взгляд может показаться; впрочем, всё это оказалось со временем не столь уж и важно. Какие бы планы ни строил князь в отношении покровительствуемого, жизнь последнего явилась функцией самостоятельной и достаточно независимой… Нередко, читая о Сперанском, испытываешь впечатление, будто бы он в 1807 году вынырнул из ниоткуда, внезапно оказавшись близ Александра – это впечатление, конечно, ошибочное. Сперанский действительно в 1807 году оказался близ власти так, что ближе некуда, но его предыдущий рост по карьерной лестнице был положительным и закономерным, без больших чудес.
Хотя малые чудеса с ним всё же случились.
Разве не удивителен следующий факт: на государственную службу Михаил Михайлович поступил 2 января 1797 года (а день рождения у него, заметим между прочим, 1 января) в чине титулярного советника, то есть, по-армейски, капитана; прошло четыре с половиной года – и в июле 1801-го послужной список молодого бюрократа украсился званием действительного статского советника: на армейском опять же языке – генерал-майора. И было тогда новоиспечённому генералу… двадцать девять лет. Причём этот стремительный карьерный взлёт практически полностью приходится на царствование Павла Петровича.
А вот за все последующие тридцать восемь лет Михаил Сперанский по Табели о рангах приподнялся всего на одну ступеньку и жизнь свою закончил тайным советником (генерал-лейтенантом), что для сановника, обладавшего таким огромным политическим весом, на редкость скромный чин. Правда, под самый занавес его настигло крупное поощрение: император Николай I присвоил ему титул графа – но ведь то отличие по дворянской, а не по служебной линии…
Потомственным дворянином, согласно той же Табели о рангах, становился государственный служащий, получивший чин VIII класса (майор, коллежский асессор); чины с XIV (низшего) по IX давали дворянство личное: сам обладатель такого чина дворянин, но его дети и дальнейшие потомки – нет. Позже, при Александре II, требования были ужесточены, но то позже. Для Сперанского получение дворянства оказалось делом не очень трудным.
Итак, при пятом императоре он вышел в крупные чины. Чуть позже, летом 1801года одарённого чиновника приметил Кочубей, сам-то всего на три года старше. Действительный статский советник прочно вошёл в «команду» члена Негласного комитета, а когда Виктор Павлович стал министром внутренних дел, то сделал Сперанского начальником отдела.
В его карьере вообще не было ничего путаного, необычайного, хотя крутых поворотов и перепадов – предостаточно, но сами эти перепады имели совершенно явную причинно-следственную связь. Логика, педантизм, аккуратность преследовали Михаила Михайловича даже в неприятностях. Ну, а в приятностях тем более – логичным стало и то, что он в министерстве внутренних дел вскоре сделался незаменим.
Один лишь раз случилось с этим человеком нечто потрясающе-необъяснимое – не на службе, но дома.
У его жены Элизабет в самом начале осени 1799 года (сразу после появления на свет дочери!) обнаружилась чахотка. Новость, конечно, неприятная, что там говорить, однако ж, ничего ужасного никто в этом не обнаружил – в те времена болезнь такая считалась достаточно заурядным событием. Какие-то служебные дела вызвали на несколько дней чиновника из Петербурга в Павловск, он оставил супругу под надзором сиделки и уехал. А когда приехал…
В организме Элизабет, видимо, самым несчастным образом присутствовал какой-то имуннодефицит. Болезнь поразила её враз.
Словом, когда муж вернулся домой, то застал бездыханное тело любимой жены.
Он был так потрясён, что убежал из дому – там оставаться не мог. Отпевание, похороны, поминки – всё прошло без него. Вдовец бесследно исчез. Где он был несколько дней?.. Это так навсегда и осталось тайной. Обнаружили его на одном из полуобитаемых островов в дельте Невы. Как он там оказался – он и сам не знал. Видимо, он был почти невменяем от горя в эти дни – но всё-таки помня о дочери, страшным усилием воли вернулся в жизнь, и более из неё не выходил [37, т.1, 76].
Уже на службе у Кочубея Сперанского нельзя считать лишь исполнителем, хотя лучшего, чем он, исполнителя, желать, наверное, грех. Но самая сильная сторона Сперанского состояла в том, что он систематично и уверенно генерировал продуктивные идеи. Формулировал он их письменно, в виде аналитических записок – а далее это озвучивалось министром либо на заседаниях Негласного комитета, либо в личных встречах с императором.
Кочубей был, вероятно, хорошим начальником – не из тех, кто, требуя от сотрудников идей и действий, потом выдаёт их за свои и ревниво следит, чтобы никто из подчинённых не был виден «из-под него». Нет, граф умел ценить по-настоящему ценных и продвигать их, не калеча собственное честолюбие. А раз так – то самый ценный из служащих МВД был неоднократно отмечаем и государственными наградами и материальными поощрениями. Делалось это с санкции императора, и толковый исправный чиновник был наверху известен. Но в большой свет, в «высшую лигу», конечно же, ещё не входил. Маячил где-то на границе света и полутени.
Так продолжалось до 1806 года. К этому времени у Кочубея, совсем ещё не старого человека – тридцать восемь лет – начались серьёзные проблемы со здоровьем, что и не удивительно. Виктор Павлович действительно всю жизнь работал на износ: уже в 24 года он стал послом, и не где-нибудь, а в Турции, державе, отношения с которой для тогдашней России были важнейшими, острейшими и тяжелейшими, и эта миссия стоила молодому дипломату, конечно, немало преждевременных седин… Поэтому ничего удивительного в пошатнувшемся графском здоровье нет.
Тем не менее на министерском посту он продолжал оставаться, а так как по болезни не мог делать государю персональных докладов, то эту миссию возложил на первого своего приближенного, то есть на Сперанского. Стоит ли говорить, что с данной задачей Михайла Михайлович справился блестяще?..
Наверное, Александр с некоторым удивлением обнаружил, что в его царстве есть такой сильный управленец, способный столь чётко сформулировать, проанализировать самую сложную проблему и ясно указать на самый здравый путь её решения – при том готовый квалифицированно и исчерпывающе ответить на всякий заданный ему вопрос. Реконструировать камерные события двухсотлетней давности, конечно, дело шаткое, но с некоторой долей творческой фантазии можно представить: как Александр, раз за разом слушая Сперанского, нарочно озадачивал докладчика разными каверзными, внезапными вопросами – и всегда получал на них совершенно всеобъемлющий ответ.
И чем дальше развивалось знакомство императора с чиновником, тем радостнее нарастало изумление первого: он всё более и более убеждался, что имеет дело с административным феноменом, способным держать под контролем любую ситуацию…
6
Здесь следует остановиться подробнее не двух обстоятельствах.
Есть нечто закономерно-ироническое в весьма нередких случаях, когда бурные, пылкие адепты какой-либо деятельности в практике этой деятельности бывают слабоваты, а иной раз и откровенно беспомощны. Случается такое в философии, политике, науке, спорте, вообще разного вида творчестве… К концу XVIII века в большой моде сделались «разум» и «просвещение», понимаемые как способность мыслить предельно логично, а точнее, индуктивно и аналитически: мысленно препарировать наблюдаемые явления, выделять главное, отбрасывать второстепенное и вовсе ненужное, и на основе этого главного – ценного материала, оставшегося после отсева пустой породы – правильно понимать мир, без лишних сентиментальных и туманных блужданий. Оставим пока в стороне рассуждения о том, насколько данная точка зрения была верна или ошибочна; лишь скажем, что в ту эпоху быть поклонником разума стало престижным, а это бывает сильнее, чем истинность.
У моды нет недостатка в последователях. Некоторые из таких – скажем, отец и сын Строгановы – уже появлялись на предыдущих страницах. Достаточно вспомнить, каким энтузиастом «просвещения» был Строганов-старший, как ездил он припасть страждущей душой ко глубинам первоисточника – Вольтера, кумира тогдашних «передовых»… И мы видели, что из этого всего вышло.
Поклонник разума вёл себя по жизни на редкость неразумно. Да просто глупо! И ведь не один он был такой. Наверное, большинство тогдашних вельможных вольтерианцев понятия не имели о том, чему равен логарифм восьми с основанием два – но это ничуть не смущало их, когда они, делая значительные лица, вещали о могуществе человеческого ума…
Для Александра среда подобных людей была естественной, он в ней вырос. Важные разговоры, куртуазность, внешний блеск, изящество – и неумение решить задачку из школьного учебника; самое обычное дело. И вдруг император встречает человека, который не пустозвонит о силе разума, но являет эту силу в натуральном виде! Сперанскому, должно быть, просто не приходило в голову пышно разглагольствовать о том, что с юных лет было для него привычкой. Для него разум был не фетишем, не предметом пустых говорений, а рабочим инструментом, как для плотника топор, для слесаря – ключ… Александру же такое явилось удивительным и восхитительным.
И не надо забывать о втором обстоятельстве: о времени, когда состоялось близкое знакомство государя со Сперанским. Это время горьких неудач, огорчений и разочарований: две подряд проигранные войны, тяжкие поражения Аустерлица и Фридланда, трудный Тильзитский мир… Что-то не так делал он, Александр, не склеились дела и у его команды. Да, спору нет, члены Негласного комитета, министры, здравомыслящие придворные – все они старались, трудились, и что-то у них получалось. Но всё-таки массив проблем, навалившихся на правительство, оказался для него чрезмерным. Если с делами внутренними ещё кое-как управлялись, то международная политика стала грузом неподъёмным.
Император понял это поздновато – потребовалось несколько тяжких неудач, заметно ослабивших внешнеполитические позиции России и внутриполитические, ослабившие самого государя, чтобы признаться себе в неприятной правде: мне и моим друзьям не удалось решить задачи, которые мы поспешили на себя взгромоздить. Слишком уж много неизвестных оказалось в политической высшей математике… Ни сам Александр, ни его окружение не сумели их расшифровать. Да, на отдельных участках иные сановники работали хорошо, даже отлично: Завадовский, Чичагов, Румянцев. Но вот стратегически «мозговой центр» государства российского оплошал – взялся за гуж и оказался не дюж.
Насколько честен был с собою Александр? Что испытал он, особенно после Тильзита – не ощутил ли жутковатую близость чего-то непоправимого, не почудилось ли ему, что он забрёл в лабиринт к Минотавру, сам о том не зная, и теперь один на один с призрачным ужасом, притаившимся за неизвестно каким изгибом будущего?.. И кто знает, что думал в эти месяцы император о своей судьбе! Вполне мог подумать, что рассердил её – неверным выбором пути – и пережить унизительное чувство беспомощности, когда человеку мерещится, что он вдруг очутился во власти чуждых сил, влекущих его неведомо куда, и некому помочь, не на кого опереться, никто не протянет тебе руку… Кто знает! Кто знает!..
Но если отчаяние и навестило оплошавшего самодержца, всё же следует признать, что он сумел совладать со слабостью и не утратил веры в правильность избранного пути. Почти не знакомый чиновник, явившийся на доклад вместо заболевшего министра, конечно, не мог явиться просто так. Это есть знак того, что не всё потеряно, что императору дано-таки справиться с обстоятельствами!.. И счастливое изумление Александра тоже не было нервно-припадочным. Нет: он явственно почувствовал, что нашёл свою палочку-выручалочку. А точнее, она сама нашла его.
7
Стоит задаться вопросом: неужто в самом деле Михайла Михайлович Сперанский был таким уж повелителем бурь, умевшим укрощать, уравновешивать жизнь?.. Что ж, придётся признать, что нечто подобное в нём, несомненно, было. Впрочем, ничего загадочного: Сперанский был умный человек в самом прямом смысле слова. Если б в те времена было тестирование на IQ, он наверняка бы оказался в числе первых, если не первым. Следовательно, он умел спокойно и быстро проанализировать всякую ситуацию, разобрать её на части, среди которых и выбрать то, что может дать лучшее решение. И он это решение предлагал.
«Вообще главная черта ума Сперанского, поразившая князя Андрея, была несомненная, непоколебимая вера в силу и законность ума. Видно было, что никогда Сперанскому не могла прийти в голову та обыкновенная для князя Андрея мысль, что нельзя всё-таки выразить всего того, что думаешь, и никогда не приходило сомнение в том, что не вздор ли всё то, что я думаю, и всё то, во что верю?»[65, т.2, 395].
Толстого трудно заподозрить в поверхностности. Сказано всерьёз. Умение хорошо думать – не блистать на досуге остроумием, а постоянно и качественно размышлять логически – дело далеко не простое и не столь часто встречающееся; так что поражён был не один князь Андрей.
Мыслитель, считающий, что логика делит этот мир на части без остатка, тоже поначалу бывает упоён её могуществом, которое обнажает суть и делает смутное явным. И он принимает это могущество за всемогущество – полагает, что нашёл универсальное средство познания, что отныне так теперь и будет: нашёл, проанализировал, победил.
Но со временем рационалисту приходится постичь горькую истину. Мир оказывается сложнее, труднее и своенравнее, в нём так и остаётся нечто неуловимое, упорно не поддающееся анализу – чего разум рано или поздно не может не понять, хотя ему и страшновато сознаться в том, что это нечто ускользнуло от него, как вода меж пальцев, а ещё страшнее – что в этом ускользнувшем и могло быть самое главное, самое важное, что должно быть в человеческой жизни…
Про Сперанского, правда, не скажешь, что он начал за здравие, кончил за упокой; но схожий мотив в его жизни был. Энергичное начало карьеры, пик – и обрыв, полузабвение, а потом долгое, медленное возвращение, так и не вернувшее утраченного. Неудачи эти суть очевидное следствие того органического изъяна рационализма, возведённого в абсолют: обманчивой убеждённости во всемогуществе человеческого разума… Но было бы неоправданно грубой ошибкой впасть в обратную крайность, принижая человеческий разум как замечательную технологию познания: если всемогущества разума нет, то могущество-то есть, да ещё какое! Надо быть слепцом, чтоб это отрицать. И вот это совершенно реальное действенное могущество сильного ума очаровало Александра. И правильно – оно не было фата-морганой, но упорным рабочим методом, который планомерно, методично принялся за дело – и сами события, и всё окружавшее царя бытие почувствовали его силу. Они послушно выстроились в ряд, готовые служить на пользу русской короне…
В 1808 году Михаил Сперанский стал в Российской Империи человеком № 2.
8
В Тильзите повзрослевший Александр был умён, твёрд, и в самом деле выжал из ситуации всё, что мог. Но к сожалению, это «всё» было едва ли не самым уж последним; слишком много растеряли прежде… Во встрече на Немане Наполеон действовал с позиции силы, и нашей дипломатии приходилось куда более защищаться, чем наступать – что и определило критическую оценку переговоров со стороны современников, а потом и историков. Так и пишут иной раз презрительно: «комедия Тильзита» [73, 126].
Царям (вообще первым лицам) можно посочувствовать. Зачастую их с размаху судят люди, не знающие, а иной раз и не желающие знать, какие трудности и какая мера ответственности лежат на государевых плечах. Видимо, эти люди даже мало-мальски не представляют себя во власти (имея в виду, разумеется, представление серьёзное, а не какую-нибудь ребяческую чушь)… Это не значит, разумеется, обратной крайности: что все деяния той или иной персоны нужно расписывать в умильных тонах – просто надо быть терпимее и взвешеннее, не спешить обличать соринки в чужих глазах, памятуя о собственном возможном бревне, которое так часто остаётся незамеченным. Впрочем, спору нет: промахи политиков обходятся миру болезненнее, чем чьи бы то ни было – они сами должны быть к этому готовы…
Современники Александра были к нему после Тильзита безжалостны.
Общественное мнение восприняло договор с Наполеоном как оскорбление державы, даже позор; дальнейшие события показали, что это не так, но и «общественное мнение» можно понять. Ему подавай результаты здесь и сейчас – и что ему до мужания и становления царского характера!.. А результаты были таковы: французы нас крепко поколотили несколько раз подряд, после чего законный император Александр униженно просил «самозванца» Бонапарта сменить гнев на милость. В петербургских салонах заговорили об этом горячо, гневно, ядовито, ехидно, с болью, со злорадством – по-всякому, но равно с осуждением и критикой высшей власти.
При этом в большом свете отчётливо вычертились две основные тактические конфигурации. Первая была продиктована искренней горечью поражения, гневом на действительно корявые, неумелые действия правительства: и теоретически, так сказать, это можно признать справедливым; однако, практически… Практически, политология в гостиных, за зелёными столами сродни занятиям «пикейных жилетов» – взялись бы светские критики сами за дело, быстро бы поняли, насколько легко замечать ошибки других и насколько трудно не допускать своих.
Другой мотив мог как вырастать из первого, так и возникать независимо от него. Здесь уже было посерьёзнее, здесь застольное фрондёрство становилось настоящим: интригами, наветами, заговорами… Словом, в империи появилась оппозиция.
Почва, на которой распустился этот политический чертополох, щедро удобрялась навозом и своим родным и заморским. В общем-то, возникло нечто похожее на то, что имело место в последние годы Павловского правления: волею нежеланных обстоятельств в противниках вдруг снова оказалась Англия. Тильзитский мир включил Россию в механизм континентальной блокады – а это означало крайне жёсткие антианглийские меры, вплоть до полного разрыва отношений.
Вот что предписывала блокада: запрещалась всякая торговля с Великобританией – нельзя ввозить английские товары к себе, нельзя везти свою продукцию на острова; прекращалась доставка торговой корреспонденции; подданные Георга III, задержанные на территориях стран, присоединившихся к блокаде, объявлялись военнопленными.
Почему Наполеон так враждебно прицепился к Англии? Было ли в этом нечто психоидное, примерно как у Питта-старшего, только в обратную сторону?.. Отчасти, возможно, да – но в особенном, куда более замысловатом контексте.
Наполеон Бонапарт был личностью сложной, многомерной и взрывной. Наверняка он мог бы быть любопытнейшим объектом психоанализа… Он был одновременно и прагматик и маньяк – что, кстати, вовсе не такая уж редкость, но его-то мания не была пустым бредом. Он зиждилась на самых что ни на есть земных основаниях.
Каково жить во Франции корсиканцу с неестественно обострённым самолюбием?.. Да в общем-то, никак не жить. Корсиканец – ещё не француз, уже не итальянец, здесь чужой и там чужой, и остаётся ему либо обижаться на несправедливость мира, либо бесславно прозябать на своей Корсике среди скал, камней и овечьих стад… что, собственно, для честолюбца одно и то же.
Но вдруг незримая рука подхватывает неказистого парня с окраины – и весь мир послушно прогибается под него. Парень ничуть не удивлён: он-то давно знает о своих талантах, ему лишь не понятно, как этого прежде не замечали другие. Он действует разумно, деловито, и всё у него получается – он вообще превосходный логик, обожает математику, геометрию и шахматы. Обстоятельства не помеха для него, он умеет проанализировать их, просчитать всё (вспомним Аустерлиц!) и принять самое верное решение. И – опять победа. Ещё какая-то часть вселенной валится под ноги триумфатору.
Когда с человеком на протяжении многих лет происходит то, чего по правилам вероятности происходить не может, то сильный и острый ум этого человека приходит к выводу: я избранный. Даже вот так: Я – ИЗБРАННЫЙ. И сверх того – ЕДИНСТВЕННЫЙ. Я должен править миром. Всё указывает на то, всё подталкивает меня к тому. Значит, мне надо жить и действовать именно так.
Лукавый, искушающий умного человека – ещё более изощрённый логик и диалектик, чем его жертва. Он подбрасывает сотни доказательств и подтверждений избранности, которые, падая на трепещущее честолюбие, превращают целеустремлённость и волю в манию, при том ничуть не отнимая силы и трезвости ума.
Когда Наполеону померещилось, что он может всё, он решил, что он должен всё – то есть должен возглавить человечество, облагодетельствовать его. Тут же этот вывод ему дружно и радостно подтвердили его придворные, множество мелких царьков, и даже правители больших держав нехотя, но вроде бы согласились… И лишь одна только Британская империя почему-то упорно отказывалась понимать это – хотя это так очевидно! Но в том, что англичане упрямы до невозможности, Бонапарт давно убедился. И он взялся вразумлять их.
Он принялся за дело с присущими ему энергией, настойчивостью и изобретательностью. Действовал планомерно, системно, решительно – как всегда. Здраво рассудив, что завоевать Британию военной силой сейчас немыслимо, он решил обескровить её экономически… Логично? Вполне!
И при этом он уже не замечал, что его блестящий разум решает совершенно химерическую задачу. Власть искривила взгляд. Он за деревьями не стал видеть леса. Континентальная блокада пыталась бороться с экономическими реалиями, а это почти то же, что бороться с законами физики. Торговля с таким крупным государством как Британская империя составляла существенную часть экономики континентальной Европы. Английские товары пользовались успешным спросом на материке, и наоборот, англичане охотно закупали многое в России, Австрии, Пруссии…
И всё это Наполеон решил волевым порядком прикрыть.
Пример очень житейский и тем более иллюстративный: представим, что в некоем городе есть рынок, где кипит-бурлит купля-продажа. Это удобно и хорошо всем, кроме мэра – по каким-то одному ему ведомым причинам. Он приказывает ликвидировать рынок: торговцев выпроваживают, ворота запирают, а по округе выставляют милицейские посты, дабы никто не смел ослушаться грозного босса. Что из этого выйдет?.. Правильный ответ один: рынок стихийно возникнет где-нибудь в другом месте, а милиционеры станут кормиться не только зарплатой, но и тем, что будут «не замечать» запрещённой торговли.
Если представить себе эту ситуацию увеличенной в тысячу раз – то перед нами примерная картина континентальной блокады. Конечно, она нанесла ощутимый удар по британскому бизнесу: пошли банкротства, разорения, вплоть до самоубийств – и такое, увы, случалось… По всем границам Франции Наполеон разослал тучи жандармов и таможенников, коим надлежало задерживать и конфисковывать английскую продукцию. Но купцы – народ ушлый, а таможенники с жандармами такие же люди грешные, как все прочие; когда у тебя перед носом потряхивают кошельком, содержащим твоё жалованье за полгода службы, очень нелегко не случиться грехопадению… И случалось, конечно. Контрабанда сделалась хоть и рискованным, но сверхъестественно доходным бизнесом, а по острому слову Маркса, нет такого преступления, а которое не пойдёт капитал ради трёхсот процентов прибыли.
Английские товары продолжали расползаться по Европе – удушить Британию экономически у Наполеона не получилось. Разумеется, он знал о коррупции среди таможенников. Пытался бороться с этим. Рассылал проверяющих, надзирающих, карающих – «службу собственной безопасности». Проходило какое-то время… и проверяющие начинали грести в пять раз больше рядовых.
Если такое творилось во Франции, то что же говорить о других странах, принудительно включённых в блокаду! В том числе и о России…
На этой почве, между прочим, испортились отношения между Наполеоном и папой Пием VII – для последнего блокада Англии оказалась очень болезненной мерой, и он вздумал протестовать. Своеволие понтифика чрезвычайно рассердило Бонапарта – в отместку император просто-напросто ликвидировал Папскую область как государство, включив её в состав Франции [59, т.10, 807]. После чего папе, лишившемуся всякой светской власти, осталось только уныло сидеть в Ватикане, вздыхая о давно минувших временах…
Таким образом официально Англия очутилась в недругах Российской империи. Королевские же спецслужбы продолжали работать умело… Несмотря на разрыв отношений, британская агентура в Петербурге действовал вовсю: англофилов среди русской аристократии всегда хватало. Теперь же они особенно активизировались. Масла в огонь подливало и то, что Сперанский, которого знать немедля невзлюбила (выскочка!) явно симпатизировал Наполеону: очевидно, усмотрел во французском императоре родственную душу, поклонницу аналитического интеллекта (и в этом был прав – заметим от себя). Разумеется, грех был бы англичанам не использовать такой потенциал!..
Однако, и безо всяких «Джеймсов Бондов» оппозиция возникла бы. Слишком уж скверным казался многим русским вельможам мир с Бонапартом – мир, делавший, по их мнению, Россию едва ли не вассалом Франции. Это было не так, и ошибки Александра были из тех, на которых учатся… но аристократы знать не хотели о трудностях императорского становления: им подавай побед и славы, а каким путём, это не их заботы. О том должна болеть голова у Александра! – на то он и царь. Если же не справляется…
Лихие времена Орловых, Зубовых в самом начале девятнадцатого века ещё не воспринимались как нечто окончательно ушедшее в прошлое; то есть среднестатистический придворный разум не воспринимал их так, хотя на самом деле прежние привычки в 1807 году становились бессмысленными. Новый император шаг за шагом формировал новую эпоху – незаметно для тех, кто жил, не очень замечая, как меняется мир вокруг них… А ведь Александр вправду изменил этот мир. Он сумел выстроить правительственную систему с несколькими степенями защиты, и то, что так легко удавалось заговорщикам в восемнадцатом столетии – в девятнадцатом если ещё и не стало невозможным, то натолкнулось бы на мощные административные бастионы… Кстати: вполне можно допустить, что сам Александр не до конца сознавал, насколько прочную конфигурацию «сдержек и противовесов» создал он вместе с Негласным комитетом. Во всяком случае, оппозиции – что возросшей самочинно, что питаемой из Лондона – решись она на некие резкие действия, вряд ли бы что-то удалось.
Похоже, это чутко уловила императрица-мать, Мария Фёдоровна, чьё властолюбие было огромным – но здравый смысл её был ещё сильнее. Отчаянный выкрик: «Я буду царствовать!..» не был истеричным импульсом, как показали годы. Она действительно хотела властвовать – и между прочим, придворные «революционеры» это учли, рассчитывали на неё в своих потенциальных комбинациях… Она воспринимала это довольно благосклонно, чем вселяла в них надежды… Но надеждам этим так и не суждено было сбыться.
Отношения матери с первенцем после смерти Павла Петровича были сложными, это правда (при внешней, разумеется, светской учтивости). Императрице трудно было простить малодушие (а может, и предательство, кто знает, что она думала про себя?..) сына. И возможно, при благоприятных условиях она, вероятно, не постеснялась бы отправить своего старшего в отставку. Да вот только условия благоприятными так и не сделались.
Умная Мария Фёдоровна не могла не видеть, что её Александр стал профессионалом власти. То что иным ветреным головам представлялось проще простого – взять и сместить царя, заставить отречься… было в действительности лишь «лёгкостью в мыслях». А вот у Марии Фёдоровны этой опасной лёгкости не было и в помине. По-немецки аккуратная и расчётливая, она (наверное, не обошлось здесь и без обстоятельных и откровенных бесед с дочерью Екатериной, очень любившей старшего брата и ответно любимой им) сделала вывод: слегка играть в оппозицию можно, и даже полезно, а вот в «революцию» – нет; такая игра не стоит свеч.
Видимо она была права. К этому времени Александр и вправду ухитрился оградить свою власть прочным кольцом защитных редутов. Один такой редут – в персонифицированном антропоморфном виде – со временем заматерел и превратился в настоящую административную крепость. Началось превращение при Павле Петровиче, стало ещё более заметным именно тогда, в 1807-08 годах… Следует поговорить об этом подробнее.
9
Алексей Андреевич Аракчеев родился в 1769 году в очень небогатой помещичьей семье в Новгородской губернии (теперь это территория Тверской области). Ровесник Александровых друзей по Негласному комитету, он выдвинулся в первые придворные ряды куда раньше их – что следует признать необычайным, почти фантастическим успехом новгородского дворянина. Если Строганов, Новосильцев, Кочубей родились в аристократических семьях, и большой свет был им дом родной, то Аракчееву карьера давалась трудом, горбом, десятым потом. Многие потом удивлялись, в том числе и печатно, и довольно раздражённо: как-де получилось, что едва не четверть века делами великой империи заправлял человек, не имеющий ровно никаких дарований? Не учёный, не дипломат, не полководец, попросту не очень образованный, совсем не политичный, даже каким-то природным умом не то чтоб одарённый?.. Советская же историческая мифология старалась изобразить его совершенной нелюдью. Да и некоторые дореволюционные мемуаристы, например Ф. Вигель (о нём и о его мемуарах в своё время скажем подробнее) не были мягче в характеристиках…
Таковым Аракчеев не был. Но тот недоумённо-риторический вопрос явился, в общем, закономерно. Закономерность в том, что задавали его и недоумевали люди яркие, блестящие, «звёздные», которым казалось странным и, наверное, обидным, что какая-то нудная серость в мундире в чём-то превзошла их. Не в талантах, разумеется – этого они допустить не могли – но в чинах и во влиянии. Отсюда делался горько-вопиющий вывод: в России служебных высот достигают бездари, а всему одарённому и умному ходу нет…
Возьмём на себя дерзость поправить обиженных талантов и светил. Очевидно, им, по складу их натур, не представлялось как дар то, что не требует явно выраженного ума, во всех его ипостасях: в виде интеллекта ли, остроумия, смекалки… Ничем этим Аракчеев, верно, не обладал. Но жизнь – простор для всех, для множества разных действий, она открывает и такие дороги, на которых ум и вдохновение не очень и нужны. Эти дороги выглядят непривлекательно в глазах людей ярких, творческих – вряд ли кто-то из них захочет выполнять ежедневную, рутинную, пошаговую работу. А между тем нередко случается так, что рутинёры и педанты оказываются на вершине, к сердитой досаде многих умников – хотя это справедливо, только и всего. Почему? Да потому, что их дар не бросается в глаза, и кажется, что его нет. А он есть. Возможно, следует назвать это талантом стоика.
Философия стоицизма – если несколько упрощённо – говорит, что каждому человеку – каждому, каждому из нас! – определена хорошая дорога его судьбы; иначе говоря, максимально благоприятная совокупность жизненных обстоятельств. Задача человека – так их угадать и так в них встроиться, чтобы они заработали сами, чтобы повели по той самой дороге, одной верной среди сотен других. В житейском измерении это проявляется в случайном вроде бы выборе профессии, в неподходящей, на первый взгляд, женитьбе, в знакомстве с теми или иными людьми… Тогда говорят, что человеку везёт.
На самом деле везёт всем. Жизнь каждому подбрасывает подсказки, выводящие на ту самую, персональную дорогу – но почему-то мало кто даёт себе труд уловить в мимолётном событии стрелку, указатель: куда надо идти, чтобы выйти на верный курс. А кто-то узнаёт – и умные, и не очень. Для этого особого ума не надо, хотя как таковой он, конечно, не помеха. Но главное – наблюдательность, внимание, терпение, трудолюбие… словом, весь набор прописных и, возможно, надоевших, истин, но не перестающих быть истинами оттого, что они надоевшие и прописные.
Всё это сошлось в Алексее Аракчееве – и выстрелило, к удивлению многих, в том числе и его родителей. Отец, Андрей Андреевич, с огромным трудом определивший своего старшего в Артиллерийский корпус, в мечтах видел сына майором, а мечтать о большем просто не видел смысла: Андрей Андреевич совершенно искренне и простодушно полагал, что без должных связей этого большего быть не может, что генералами суждено быть только детям генералов…
А возможно, ещё нечто неуловимое, нечто особенное было в Алексее Андреевиче, чего не сумел разглядеть никто?.. Мы к этому в своё время вернёмся.
В корпусе Алексей числился одним из самых примерных курсантов, однако (а вернее всего, именно потому!) товарищи его недолюбливали. Возможно, и не только потому?.. Пожалуй, есть здесь нечто симптоматичное: те причудливые качества, что впоследствии развились в почти патологические, видимо, наблюдались в характере Аракчеева уже в юности, и неблагообразная его репутация в отечественной истории не на пустом месте возникла. Без ненужной деликатности приходится признать, что он попросту был тяжёлый, нудный, неприятный тип, с элементами какой-то ломброзианской жестокости, к тому же и морально не очень чистоплотный (хотя в иных случаях был честен и справедлив до щепетильности – этого не отнять). Но при всём том он действительно нашёл себя в жизни, наверняка ни кем иным, кроме чиновника высокого ранга он не мог состояться, и его титулы, чины, ордена вполне заслужены. Нашёл, и жизнь ответно помогла ему, ибо найти – немалого стоит. Не всякому таланту это дано!
Аракчеева заметил и приблизил Павел – ещё не будучи императором, в «гатчинский» период. А во время краткого Павловского царствования Алексей Андреевич сделался едва ли не наперсником императора, с удивительной быстротой стал бароном, а затем и графом. Правда, и буйным, громовым опалам Павла Петровича подвергался тоже – в том числе и той, которая для самого Павла стала роковой. В критический миг выяснилось, что самым необходимым человеком является всё-таки Аракчеев, некогда в высочайшем гневе удалённый из столицы. За ним послали – но Пален тоже не был дилетантом. Он успел, а Аракчеев – нет. Немного не успел…
Александр хорошо знал Аракчеева ещё по Гатчине. Отношения у них сложились вполне приязненные, но в годы «прекрасного начала» граф несколько стушевался, отошёл на второй план. Что и весьма понятно: то как раз была эпоха блеска и пира мысли, к чему Алексей Андреевич был приспособлен слабо; однако ж, прошло время, и он вновь неотложно потребовался. Вновь оказалось, что без него как без рук.
Факт есть факт, и никуда от него не деться: граф Аракчеев упорно и закономерно оказывался лучшими «руками» российских царей. Собственно, это и есть «найти себя»: совпадение места работы и дара. Всё-таки был у Алексея Андреевича дар, был! Он был скромен, с ним наверняка не стоило стремиться в литературу, философию, науку. Граф и не стремился; как, в сущности, не стремился и в политику. Что он и в сам деле умел делать на «отлично» – надзирать, следить и заставлять. Возможно, он делал это феноменально. Он как-то сумел поставить себя так, что одно упоминание о нём вызывало у окружающих сперва пугливую дрожь, и сразу же – страшный приступ трудолюбия. Работать, работать и работать! и при том помалкивать – на всякий случай. Вот что мог Алексей Андреевич. Так разве же это не дар?!..
10
Исследователи творчества Достоевского дружно отмечают во многих его романах приём «двойного героя»: персонажа-резонёра, философствующего или практически воплощающего определённые принципы, оттеняет другой, в котором теоретик, к неприятному удивлению своему, узнаёт собственные идеи, но воспринятые иным умом, с иной мировоззренческой установкой – и оттого ставшие пошлыми, нелепыми, зловеще-искажёнными, ещё невесть какими… Литературоведы находят данный мотив в парах: Раскольников – Свидригайлов, Ставрогин – Пётр Верховенский, Иван Карамазов – Чёрт… Наблюдение достаточно верное и тем более справедливое, что Достоевский, очевидно, заметил эту закономерность в реальной жизни. Хорошенько всмотревшись, можно увидать немало тому примеров: как удивительно, в неожиданном, неуловимом ракурсе схожи бывают человек просвещённый, широко и сильно мыслящий – и некто сумеречный, хотя со странной светящейся, блуждающей точкой в душе, как бывают схожи оригинал и шарж. Как дневной и ночной ландшафт. Как рассвет и закат.
Императору Александру жизнь сама, твёрдыми приёмами отбирала сподвижников – и вот, распорядилась так, что к 1808 году ближайшими из них, незаменимыми, стали двое, совсем не похожие и гротескно похожие один на другого: Михаил Сперанский и Алексей Аракчеев. «Друг друга отражают зеркала, взаимно искажая отраженья…» Двум столпам власти вряд ли приходило в голову, что каждый из них – кривое зеркало другого, а ведь оно и вправду было так…
Сперанский – интеллектуал, мозговой центр государства. Сильный, но сугубо аналитический разум, приложенный к управленческой деятельности, не мог, видимо, не привести его обладателя к идее универсальной правящей машины, то есть такого устройства Российской империи, которое работало бы безостановочно и исправно при любых персоналиях и любых обстоятельствах. Иначе говоря – административный перпетуум-мобиле, способный сам себя по ходу дела чинить, ремонтировать, исправлять не чьей-либо персональной волей, но совокупным действием множества обезличенных воль, каждая из которых сама по себе ничто, а вместе они – Левиафан. Надо бы, полагал Михаил Михайлович, продумать такую систему, выстроить, запустить… а уж дальше она пойдёт работать сама по себе.
Некоторые исследователи упрекали и упрекают поныне Сперанского в масонстве: именно упрекают, горячо и сердито, как бы априори определяя вредоносность масонства вообще и Михайлы Михайловича в частности. Идеологема о государстве-автомате и людях-запчастях этого автомата действительно вполне масонская, а вернее, она просто в русле, в интеллектуальной моде того времени – но, думается, никакого сатанинского умысла в ней не было, вне зависимости от того, мыслил так масон или не масон. Это типичнейший простодушный рационализм, отросток наивной веры в способность разума понять, организовать и упорядочить всё. В данном случае – социальную жизнь.
Может показаться, что такая псевдо-вера (которая, конечно, «псевдо»!) должна абсолютно исключать веру настоящую: не сочетаются эти два качества в одном человеке, или – или… Но закон исключённого третьего вещь всё же ограниченная: бытие человеческое не любит слишком уж схематичных сюжетов, с удовольствием сочетая несочетаемое. Сын священника Михаил Сперанский, выросший в духовной среде, естественно впитал её в себя – а детство остаётся в человеке навсегда, если даже потом человек всю жизнь воюет с ним, со своим детством. Да потому, собственно, и воюет, что чувствует его странную, неизъяснимую силу: силу маленького ростка, пробившегося сквозь камень… Самые неистовые русские атеисты чаще всего были выходцами из духовного сословия – и этот их атеизм был скорее анти-теизмом, ни чем иным, как верой, пусть и анти-верой…
Сперанский атеистом совершенно не был. Более того, он воистину полагал себя православным человеком. И при том, как государственный деятель он действовал так, словно никакой веры и никакого православия на свете нет, а есть лишь политическая необходимость… «Царство Божие внутри нас, – говорил он, – но нас самих там нет» [30, 120]. От менеджера-теоретика, очевидно, веры и не требовалось.
Сегодня, с расстояния двухсот лет, этому удивляться незачем. Не стоит удивляться и тому, что это было в Российской империи, государстве, официально и настойчиво позиционировавшем себя как православное. Ничего странного: в течение столетий в христианской цивилизации вера и повседневность разъезжались в стороны, и то был объективный исторический процесс…
Аракчеева подозревать в масонстве не приходило в голову никому из самых отъявленных недоброжелателей. И правильно. Вся идеология, вся психологическая аура масонства бесконечно чужда душевному строю графа. Вряд ли, правда, его душу назовёшь светлой, прозрачной, ясной – но её сумрак вовсе не масонский, шуршащий и извилистый; нет, то, скорее, сумрак казармы: строгий строй нар и тумбочек, сапоги, голые стены… Это настоящий порядок – наверняка думал Алексей Андреевич и ещё думал, что хорошо бы, когда б такой порядок настал по всей России.
Было, впрочем, в этой душе кое-что ещё: тёмные закоулки, тщательно запертые на ключ, а что в них – о том позже.
Нет совершенно никаких сомнений, что сам Аракчеев считал себя истинным христианином. Но вот со стороны назвать житие графа христианским как-то рука не поднимается… Не стоит, впрочем, воспринимать это как обвинение; да, в полумраке графской психики были совсем уж таинственные углы, куда лучше всего заглядывать записным фрейдистам – но вообще говоря, был он человек как человек, не самый лучший, не самый худший. Его мировоззрение также адекватно отражало некую часть тогдашней эпохи – какую-то другую, но объективно присутвующую в этом подлунном мире её часть. Он, вероятно, просто не мог, да и не хотел представить иного мироустройства – и идеологию имперской, дворянской России по суровой простоте разума воспринимал как действительное православие, правду и справедливость, чему и служил истово.
Если продолжить метафизические аналогии, то можно выразиться так: к началу 1808 года поле тяготения российской власти, приобретшей облик Александра I, по закону единства и борьбы противоположностей притянуло на ближнюю орбиту две контрастные планеты. Разумеется, они, Аракчеев и Сперанский, невзлюбили друг друга, при том, что, конечно, вынуждены были взаимно терпеть: слишком уж, слишком уж разные люди, ничего похожего, ни одной чёрточки… Хотя, пожалуй, не в противоположности дело – потом, много лет спустя, оба они сосуществовали в системе власти вполне мирно, чуть ли не по-приятельски. Тогда их, должно быть, свело слишком близко, замкнуло в системе политической гравитации: обоюдно не любя и сторонясь друг друга, они диалектически заполнили ту самую ближнюю орбиту, создали устойчивость и функциональность власти. Сперанский – стратег, Аракчеев – тактик. Сперанский – фронт, Аракчеев – тыл. Сперанский – будущее, Аракчеев – настоящее…
Последнее состоялось с точностью до наоборот, но тогда о том ещё никто не знал.
Аракчеев 13 января 1808 года сменил на посту военного министра Вязьмитинова. Для последнего очень уж несчастным образом сложились обстоятельства… Граф Сергей Кузьмич вызвал сильное неудовольствие императора: человек он был мягкий, добродушный, в финансовой отчётности совсем не разбирался… и под его незлобивым началом вконец расшалились армейские интенданты – воровство сделалось совершенно бесстыжим. Слухи о непорядках (возможно, искривлённые некими «доброжелателями» в нужную им сторону) дошли до Александра, тот разгневался, принял строгие меры – интендантский корпус отлучался от права носить военную форму (по тем временам – страшный позор!). С такой же оскорбительной формулировкой был уволен в отставку и сам министр: «без права ношения мундира».
Аракчеев, приняв должность, разобрался в ситуации и нашёл, что Вязьмитинов не виноват: он чист и простодушен, его обвели вокруг пальца проныры из интендантства. И тогда… Алексей Андреевич сам подал в отставку – мотивируя это тем, что с его предшественником поступили несправедливо.
Был ли это виртуозный политический трюк или на самом деле честная прямота верного служаки?.. Как знать! Нам известен результат: император Аракчееву поверил, перепроверил дело и убедился, что новый министр был прав. Отставка его принята не была, а Вязьмитинову возвращены и мундир и монаршая благосклонность: генерал вплоть до самой своей кончины остался в числе приближенных ко двору [5, 332].
Аракчеев обеспечил Александру спокойный тыл – он это умел. Вельможные диссиденты попритихли. Фрондировать они, правда, не перестали, но теперь их свободомыслие блуждало и шептало где-то по углам и закоулкам «света». Это было не опасно.
И вот тогда-то Александр со Сперанским могли заняться настоящим, главным делом.
11
На бюрократическом Олимпе всегда тесно: места мало, а желающих хоть отбавляй. Покинуть же сонм добровольно – на это очень редко кто решается.
Поэтому даже если б Сперанский был не «поповичем», а природным дворянином, наверху никто бы не спешил перед им расступиться. И Александр прекрасно понимал это, и понимал ещё, что действовать напролом здесь неприемлемо. И он пошёл обходным путём: назначил Сперанского своим статс-секретарём, в сущности, чиновником по особым поручениям. Не стоит, однако, думать, что это было что-то вроде адъютанта: всё же поручения не чьи-то, а царские. Скорее, Сперанский стал министром без портфеля. К тому же поручение, по большому счёту, было одно: обустроить Россию. С соответствующими для решения данной задачи полномочиями.
Таким вежливым и хитроумным маневром реформаторы обошли на вершине всех и принялись за дело.
Апогеем влияния Сперанского считаются 1809-10 годы. Год 1808 почти весь ушёл на черновую, подготовительную работу. За этот год Александр и его первый сановник очень сблизились, можно сказать, что они стали друзьями… Осенью должна была состояться встреча Александра с Наполеоном – второе (и, как оказалось, последнее) рандеву правителей Восточной и Западной империй; она и состоялась, эта встреча: в сентябре-октябре, в прусском городе Эрфурте. Разумеется, царь включил в свою дипломатическую команду и Сперанского.
Михаил Михайлович относился к Наполеону с глубоким пиететом: его сильный ум угадывал такой же в Бонапарте, и не мог не уважать подобное, тем более, что оно сумело организовать и пустить в ход столь мощную государственную машину… В Эрфурте два этих интеллектуала познакомились, пообщались – и остались в самых выгодных впечатлениях друг от друга. Наполеон, вдобавок ко всем прочим своим качествам, был, конечно, и актёром. В лучах всеобщего восхищённого внимания он расцветал, это внимание было для него род энергии – и он сверкал и гремел внезапными, ослепительными эффектами. Можно не сомневаться, что в Эрфурте он блистал, как Гаррик в «Короле Лире»: после Тильзита Французская империя вознеслась к зениту своему.
Зенит в нашем земном мире, однако, имеет то неприятное свойство, что он – конец подъёма. Дальше – спуск. Правда, выясняется это запоздало и с сожалением… Разве что ясновидящие вроде Авеля действительно способны заранее знать подобное – и это без малейшей иронии; но их-то как раз о том не спрашивают.
Справедливости ради нужно сказать, что первые тревожные звоночки для Бонапарта уже прозвучали. В Испании – в недавнем прошлом союзнице, а теперь, по сути, оккупированной стране, где напором французской дипломатии королём был сделан брат Наполеона Жозеф. Но сам Наполеон не сумел расслышать в этих сигналах с юга тревожные мотивы своей будущности…
К слову: с испанского трона братья сместили всё тех же Бурбонов – в восемнадцатом веке разные колена этой династии правили как во Франции, так и в Испании. В последней, претерпев много исторических невзгод, Бурбоны царствуют и сейчас, и современные французские монархисты (есть такие!) вполне всерьёз считают нынешнего испанского короля Хуана Карлоса II претендентом на потенциальный французский престол.
Народное возмущение против французского владычества покоритель мира воспринял как досадную, но быстро устранимую помеху. Пустяки и мелочи, считал он; в два счёта разгоним эти банды.
Не разогнал. Вообще, испанская война для императора Наполеона так никогда и не кончилась – «банды» оказались не бандами, а всей страной, не пожелавшей содержать на шее соседей-благодетелей. Можно победить армию, но никогда не победить народ – эту истину Бонапарту довелось постичь не отвлечённо, а совершенно конкретно, правда, опять-таки с фатальным запозданием…
Но в Эрфурте царила эйфория от успехов. Трепеща, крылья вдохновения ещё держали Наполеона в зените. Александр, правда, уже знал цену этому трепету, грому и блеску, а вот у Сперанского, впервые оказавшегося в центре мировой политики, глаза оказались велики от восторженного изумления.
Это немного странно: Сперанский, такой аристотелианский, прохладно-аккуратный ум, стремившийся создать государство-автомат, бесперебойно работающее независимо от личностного наполнения, открыто восхищался совершенно противоположным: имперской Францией, государством, созданным одной-единственной личностью и на этой личности держащимся. Да, какое-то время Наполеонова держава была всесокрушающей, почти сверхъестественной машиной. Но ритм её работы был безумный, на износ, и он в любом случае не мог быть долгим, ни экономически, ни политически… Впрочем, разум человеческий необъятного объять не может, какой бы он ни был развитой и мощный. И почему б не заблуждаться даже Сперанскому?.. А от самого создателя этой Гомерической системы он удостоился высшей, хотя и неофициальной похвалы, ставшей, наряду со многими прочими афоризмами императора, историческим преданием. В какой-то из бесед, поражённый интеллектом русского статс-секретаря, Бонапарт воскликнул: «Государь, не согласитесь ли Вы уступить мне этого человека в обмен на какое-нибудь королевство!..» [86] Александр шутку оценил, улыбнулся, ответил изящной и незначащей любезностью… В свите же его переглянулись, ядовито ухмыльнулись. Запомнили. Для свитских «выскочка» был как заноза в самом ранимом месте души.
Ну, а в целом переговоры – как сказали бы сейчас, саммит Россия-Франция – проходили ни шатко ни валко. Партнёры темнили и хитрили, обещали, уверяли, каждый зная, что обещаний своих не исполнит, и зная, что собеседник об этом знает… Игра была не столько сложной, сколько путаной и утомительной, блуждающей в неустойчивых лабиринтах логических дизъюнкций и импликаций: «или… или…», «если… то…». Если Австрия нападёт на Францию, то Россия… Если Россия претендует на обладание Финляндией… Если в русско-турецкую войну на стороне Турции вмешается Австрия, то Франция…
А если отвлечься от этой преходящей актуальности и спросить главное: понимал ли Александр, что рано или поздно ему придётся вновь сразиться с Бонапартом?.. – то как ответить на этот вопрос? Более вероятно – скорее да, чем нет. Понимал. Во всяком случае, старался выгадать время и позицию, ради чего и берёг союзнические (а точнее, псевдосоюзнические) отношения с Францией, предоставляя Наполеону возможность овладеть Европой всей, до последнего ничтожного герцогства, сознавая, что время идёт и работает на него, на Александра: Наполеон в своих войнах слабеет, а Россия постепенно, шаг за шагом, но восстанавливается, набирает силы.
Ну так что же, в таком случае можно счесть Александра почти провидцем?! Почти, почти – эта осторожная оговорка здесь к месту. Вряд ли он мог провидеть и предвидеть все нюансы, вплоть до дней и часов; но он тонко прочувствовал ситуацию, он сумел верно проложить курс меж всеми Сциллами и Харибдами, внешними и внутренними – что стоит немалого. Политическая интуиция царя сработала безупречно.
Наполеону с его размахом в Европе было тесно, он давно уже рвался на простор: в Азию, в Африку… «Только на Востоке создаются великие империи!» – говаривал он. Совершить Индийский поход совместно с Павлом I не вышло – но вот, спустя почти десять лет, потребовавшихся на усмирение Запада, можно вновь взяться за Восток.
К этому времени страстная корсиканская фантазия, видимо, совсем оторвалась от реальности. Бонапарт видел себя магом, который может всё, которому этот мир сам спешит пасть под ноги… ради одного него всходит солнце, бегут дни, океаны плещутся вокруг материков, звёзды слагаются в созвездия!.. Всё, всё для него, это ж яснее ясного. Весь этот белый свет создавался лишь потому, что в нём когда-то должен был появиться Наполеон Бонапарт.
То была иллюзия, обман мировоззрения. Кто-то сыграл с Наполеоном жестокую шутку. Кто? Вопрос риторический, но каждый волен отвечать на него по своему разумению…
Александр знал (в том числе имел агентурные данные), что его заклятый друг рвётся на Восток, в бескрайнюю азиатскую ширь, и вряд ли кто-либо сможет отвлечь его от этой идеи-фикс. А между Европой и Азией находятся два государства: Российская и Оттоманская империи, две наследницы Византии, духовная и территориальная, более ста лет едва ли не беспрестанно воюющие друг с другом. Вот и сейчас, после коротенького союзничества, вновь война, вновь бои, сразу на двух фронтах: на западном Кавказе и в Валахии. Французам была выгодна эта война, изматывающая обе державы, и французская дипломатия (сначала во главе с Талейраном, потом без него, но с равным усердием) умело маневрировала, науськивая русских на турок и турок на русских… А кроме того, вся Европа, независимо от союзнических ли, враждебных ли отношений внутри неё смертельно боялась чрезмерного усиления России на Средиземном море, в особенности же контроля над Проливами – и Наполеон тут не исключение, тем более с его-то восточными планами! Словом, Александру приходилось держать в уме старую мудрость: надейся на лучшее, но ожидай худшего.
Любая историческая аналогия условна. Сходство в чём-то одном отнюдь не предполагает сходства в другом. И всё же нельзя не заметить параллелей в двух разных эпохах: перед обеими Отечественными войнами в нашей истории. Оба раза руководство страны вынуждено было заключать союз с будущими противниками, оба раза было уверено, что наступит момент, когда насильственная дружба разлетится в прах… И оба раза почему-то оказывалось не готово к войне. Конечно, этому можно найти множество вполне рациональных причин, всё проанализировать, разложить по полочкам. Но всё равно останется нечто неуловимое, необъяснимое, ускользающее от самой изощрённой логики…
Эрфуртская встреча не то, чтобы кончилась ничем, но продлила неустойчивое статус-кво мировой политики. Однако, пусть и неустойчивое, но оно всё же сохранилось, позволило взяться за внутренние дела, не менее долгие и трудные, чем дела внешние…
12
Пушкинское «в лице и жизни Арлекин», с размаху прилепленное к Александру, в чём-то верно, в чём-то нет. Если поэт имел в виду какое-то фальшивое гаерство, то, конечно, это несправедливо. Но актёром император был, и талантливым, только совсем другого склада, нежели Наполеон. Тот был слишком уж упоён собой, а Александра жизнь заставила овладеть искусством перевоплощения – и при этом он воспринимал и переживал происходящее с ним глубоко, на самом деле существуя в предлагаемых обстоятельствах, предвосхищая Станиславского. «Северный Тальма» – назвал его Наполеон именно в Эрфурте (Франсуа Жозеф Тальма – знаменитый драматический актёр того времени). Может быть, царь сам не замечал того, артистизм его сделался личиной, приросшей к лицу… Каким он был наедине с собой? Вероятно, и плутая по бескрайним просторам духа, он был разным: искренне разным, трагически разным. Он хотел того и к тому стремился, что оказалось выше его сил, а жить только по силам – значило для него забыть правду. Он знал свою правду, но был слабее её. И понимал это. А современники не понимали его. Они лишь замечали, что перед ними странный человек – зыбкий, текучий, неуловимый, человек-облако. Другой! вот лучшее слово. Он был другой. И это было трудно понять. Это раздражало. Этого, видно, не хотели прощать.
Тем более, что слабости его были такие же, что и у всех. Другие люди другие в чём-то не очень понятном, а в слабостях, пороках они точно те же, что и всякий мещанин… Те же? Пушкин, например, был с этим не согласен – он зло написал о зубоскальстве публики, узнавшей о каких-то тёмных делишках Байрона. Вот тебе и гений! – радостно ухмылялись обыватели. Такой же мелкий, такой же гадкий, как мы… Разве не так?..
Нет! – ответ Пушкина. Нет! – говорит он с гневом. Врёте! Байрон мог быть гадким, мелким человеком, но он и мелок не так, как вы, и гадок не так как вы – вы мельче, гаже, а он велик даже в гадостях!..
С Пушкиным и в этом случае можно согласиться, можно не согласиться, но что здесь правда – то, что можно простить слабости и даже некие (до определённой степени, разумеется) моральные падения, если в жизни человека не это было главным – а вершины. По ним стоит ценить личность, а не по провалам и подпольям.
Ну, а подполья всё-таки – какими они были в жизни Александра?..
Так называемая личная жизнь его в юности отличилась чрезвычайно ранней женитьбой, а потом потекла, в общем, примерно так же, как у миллионов других, совсем не царственных мужчин. Хотя, разумеется, были и свои тонкости, присущие, впрочем, не императору, а просто человеку, Александру Павловичу Романову. Свадьба шестнадцатилетнего юноши и четырнадцатилетней девушки имела цель скорее политическую, нежели физиологическую, но и эту последнюю функцию она, конечно, исполнила тоже – спасибо всеобъемлющей бабушке… Познать в таком возрасте страсти плотской любви – дело двусмысленное. Конечно, «Амур и Психея» охотно предавались сладостным минуткам, но сколь рано это вошло в их жизнь, столь быстро им и надоело. Натешились. Что совершенно закономерно: супружеский секс сделался обыденностью, скучной и пресной, как всё обыденное. Поэтому ничего удивительного, что и Амур и Психея принялись искать общения на стороне.
Не надо, наверное, объяснять, отчего Александр не испытывал недостатка в женском внимании. И, надо признать, относился к этому неравнодушно. Но всегда трезво. Он умел властвовать собой и головы не терял. Даже в любовных увлечениях, в которых, в общем-то, себе не отказывал.
Многие придворные красавицы пытались обольстить и покорить великого князя, а затем императора – удалось же это лишь одной, Марье Антоновне Нарышкиной, урождённой княгине Святополк-Четвертинской, польке по национальности. Хотя и многим другим прелестницам Александр охотно уделял минуты мужского внимания…
Мария Антоновна была невероятно хороша собой.
Государь увлёкся ею в 1804 году, ещё в эпоху «прекрасного начала», и это увлечение стало настоящей любовью, на много, много лет. В отличие от супруги, Нарышкина не вызывала у него рутинного привыкания; почему?.. тайна сия знакома многим, но велика есть. Отношения с женой, правда, оставались всегда в рамках благоприличия: развод царственной четы в те времена – вещь практически невозможная… Да и не только в том дело.
Всё-таки супруги за годы нажили взаимную привязанность и дорожили ею. В громовое царствование папеньки, который утром обнимал и целовал, а вечером грозил расстрелять, молодые люди, случалось, находили спасение лишь наедине друг с другом: утешали, подбадривали один другого, вместе, обнявшись, плакали… Такое не забывается. Они и не забыли. А всё прочее дело житейское.
Но житейское – не значит лёгкое. Императрица восприняла роман мужа непросто. Её можно понять, можно посочувствовать: в самом деле, узнать, что самый близкий тебе человек, с которым делилась самым сокровенным, теперь так же близок, так же делится с кем-то другим… Тяжко это, ничего не скажешь.
От огорчения ли, ещё от какой причины, Бог весть – но и у Елизаветы Алексеевны моральные устои подкосились тоже. Подкосил их некий ротмистр Алексей Охотников, гвардеец-кавалергард, красавчик, разумеется – типичный герой-любовник придворной сцены. Ничем другим ротмистр себя не зарекомендовал, возможно, просто не успел: адюльтер [предполагаемый?.. – В.Г.] с царицей стоил ему жизни. Осенью 1806 года Охотников был убит при каких-то невнятных обстоятельствах. Молва почему-то осторожно загуляла вокруг Константина Павловича: то ли он счёл себя оскорблённым за брата, то ли сам неровно дышал к невестке; то ли память о мадам Араужо была ещё свежа [73, 137]… Но, в общем, трагическое это происшествие недолго волновало свет – если кто и горевал, то лишь Елизавета, да и той положение не позволяло горевать открыто.
Слухи приписывают женолюбивому Александру Павловичу довольно много детей от разных женщин, но слухами они и остаются. Что же касается детей законорожденных… Первого ребёнка, дочку Марию, супруги родили ещё в годы правления Павла Петровича: тот в последний раз стал отцом всего-то на год раньше, чем стал дедом.
Слово «дед», право же, на редкость не вяжется со взрывным, неуёмным Павлом. Да он недолго таковым и был: бедная девочка прожила чуть более года, и больше своих внуков энергичный император не увидел. К рождению же старшей внучки отнёсся с некоторым скепсисом; увидев чернявенькую кроху, съязвил: «Возможно ли, чтобы у мужа-блондина и жены-блондинки была такая дочь?..» [68, 72] – но вдаваться в подробности не стал.
Кратенькая жизнь девочки как-то не оставила следа в бурной жизни её отца, гонимого всемирными бурями. И биографы если вспоминают о малышке, то мельком, на бегу. И в Исторической Энциклопедии – в древе династии Романовых – ей уделён квадратик с надписью: «Мария 18.V.1799-27.VII.1800» [59, т. 12, 131]. Вот и всё. Конечно, мать любила её, ласково называла Мышкой (Mauschen – по-немецки), плакала, страдала, когда бедняжка умерла от болезни… Но и это прошло. Прав был царь Соломон.
Может быть, тут нечего печалиться: дитя покинуло наш мир почти безгрешным, сразу обретя ясный свет вечности, в отличие от многих тех, кто бесцветными годами прозябал на Земле… Может быть. Но всё же почему-то так грустно бывает иной раз обернуться в прошлое, грустно думать, что крохотное существо ушло из этой жизни в вечную, не успев испытать отцовской любви, которая – кто знает! – могла бы стать драгоценной земной отрадой, поживи маленькая Мария хоть немножко подольше.
С младшей дочерью Елизаветой, родившейся в 1806 году, тоже вышло нескладно. Неофициальные источники довольно дружно утверждают, что девочка была ребёнком Охотникова, официальные, естественно, на сей счёт хранят благоприличное молчание… Но всё это не суть важно – ибо маленькая Лиза, к несчастью, разделила судьбу Марии и ещё одной сводной сестрёнки, дочери Александра от Нарышкиной: скончалась в возрасте полутора лет.
Зато редкостным долгожителем оказался сын Марии Антоновны по имени Эммануил – он созерцал грешный мир едва ли не сто лет. Этого человека тоже иногда называют сыном Александра [86], во что, признаться, не очень верится. Правда считать ли его отцом самого князя Нарышкина, Дмитрия Львовича?.. Вопрос! Мария Антоновна была дама-загадка, историкам, биографам очень непросто выявить последствия её ветреного характера.
Что до Дмитрия Львовича, то как личность он являл собой немногое. Молодым человеком застал Екатерининский двор, стал его неотъемлемой частью – да, можно сказать, таковой и остался. Новый век не задел князя – видимо, очень уж комфортно ему жилось в старом. Собственно, никто его там особо и не беспокоил: меняющийся мир менялся без него. Князь этому миру был не очень нужен, да и сам в него не рвался.
Потомственный аристократ, Дмитрий Львович всю жизнь провёл в «свете» и ничем другим отродясь не занимался. Давал балы, сам посещал их, с важным, осанистым видом толковал о всякой чепухе, с таким же видом играл в карты – вот вся его «трудовая биография». Носил придворный чин обер-гофмейстера (очень высокий, II класс в Табели о рангах), но светские проказники язвили, что главный титул у него другой: «снисходительный муж» [44, т. 3, 97]… С возрастом обер-гофмейстер приобрёл не только множество рогов, но и нервный тик – бывало, в разговоре невроз вдруг дёргал его лицо так, что непривычный человек мог опешить. Правда, в петербургском высшем обществе непривычных почти не было: Дмитрий Львович казался там приложением от сотворения мира.
Государь к «снисходительному мужу» благоволил, как, впрочем, и ко всей семье Нарышкиных. Но особенно – к дочери Софье, с в о е й дочери. Относительно отцовства Софьи разногласий нет; болезненная, слабая, она росла замкнутой, мечтательной и ранимой. Со временем узнала о тайнах семейного алькова, тогда Дмитрия Львовича стала называть дядей… Это, конечно, несколько странно, и даже отдаёт каким-то неприятным ханжеством, но ведь и сама Софья Дмитриевна (всё-таки Дмитриевна!) была странная девушка – воистину дочь своего отца. Два странных, в чём-то чуждых этому миру человека, они стали очень близки друг другу – правда, позже, на закате дней своих.
Печальной была эта дружба, именно закатной: так бывает, когда за плечами долгая, трудная, так и оставшаяся непонятной жизнь…
Впрочем всё это будет потом. Тридцатилетнему императору жизнь не давала вздыхать, тужить, даже если этого ему иной раз и хотелось. Большая игра крепко взяла его в свои объятья, он уже не мог вырваться из них.
13
Тильзитский мир был для России труден.
Континентальная блокада разоряла не только Англию, но и самих блокирующих – в частности, многие отечественные помещичьи хозяйства: русско-английские коммерческие связи составляли вполне существенную часть внешней торговли империи. Макроэкономические показатели сразу же поползли вниз. Возник дефицит бюджета; ассигнации, введённые ещё Екатериной, и прежде постепенно обесценивались – а с 1807 года их курс стал падать стремительно.
В 1769–1843 годах в Российской империи фактически сосуществовали две валюты: металлическая и бумажная, при одинаковом номинале стоимость их была очень разной. Впрочем, до 1786 года всё шло относительно ровно, а вот затем ассигнации прекратили обменивать на серебро, и курс их пошёл вниз. Павел I пытался было восстановить свободный размен, но это у него не получилось.
Послетильзитская эпоха, а пуще того война с Наполеоном вызвали гиперинфляцию бумажного рубля – к 1817 году он падал в цене до 20 копеек серебром, то есть 1:5. И в 1818 году была, наконец, проведена решительная финансовая санация – из обращения были изъяты около 240 миллионов рублей ассигнациями, попросту физически уничтожены. Кроме того был введён свободный обмен бумажных денег на государственные облигации, приносящие не такой уж большой, но стабильный доход. Это сразу подняло курс банкнот и даже на какое-то время они сделались престижными [32, т.5, 319].
Занятно: по некоторым косвенным данным наблюдательный человек может довольно точно определить время действия Гоголевских «Мёртвых душ», в тексте «поэмы» прямо не указанное. Наполеон низложен окончательно, но ещё жив (умер в 1821-м), содержится в английском плену на острове Святой Елены; городские чиновники выдвигают потрясающую гипотезу: а не есть ли Чичиков сбежавший и переодетый Наполеон, потому что «…англичанин издавна завидует, что, дескать, Россия так велика и обширна, что даже несколько раз выходили и карикатуры, где русский изображён разговаривающим с англичанином. Англичанин стоит и сзади держит на верёвке собаку, и под собакой разумеется Наполеон: «Смотри, мол, говорит, если что не так, так я на тебя выпущу эту собаку!» [19, т.5, 205]. Сам же Чичиков, вразумляя «дубинноголовую» помещицу Коробочку насчёт преимущества продажи ревизских душ, соблазняет её наличными деньгами, причём именно бумажными: «Там вы получили за труд, за старание двенадцать рублей, а тут вы берёте на за что, даром, да и не двенадцать, а пятнадцать, да и не серебром, а всё синими ассигнациями»[19, т.5, 52].
(«Синие» – пятирублёвки, цвет нам ещё памятный по советским купюрам. Это не просто так: неграмотные люди не могли прочитать символы и надписи на купюрах, различали их лишь по цвету, который государство старалось сохранить неизменным: трёшки – зелёные, пятёрки – синие, десятки – красные, отсюда и «червонец»)…
Таким образом, несложное дедуктивное размышление позволяет утверждать, что странные приключения П. И. Чичикова имели место в 1818–1819 годах.
Правда, Гоголь не был бы Гоголем, если бы всё в его текстах было строго хронологизировано – напротив, он всегда отличался чрезвычайной вольностью по отношению ко времени, это прямо-таки его фирменная черта; например, действие «Тараса Бульбы», если вчитываться внимательно, можно проассоциировать и с XV, и с XVI, и с XVII веками… В «Мёртвых душах» подобной щедрости нет, но всё же другой эпизод заставляет подумать, будто бричка кучера Селифана колесила по Руси в 1821–1823 годах…
Итак, Тильзитский мир – что же, он стал тотальной неудачей? Нравственное посрамление, экономическое разорение… Император Александр оказался самым банальным образом бит на внешнеполитическом фронте?
Нет. Доля истины в упрёках есть, но всё же это не так.
Невыгодное экономически, невыгодное идеологически, перемирие с Наполеоном оказалось всё же выгодно политически. Правда, невозможно отрицать, что эта выгода случилась лишь после того, как проиграно было если не всё, то многое, и в этом многом вина императора очевидна – в конце концов, он глава государства, а потому отвечает за всё, что в нём происходит, и за промахи не только свои, но и подданных. Однако, на ошибках учатся! Не все правда, но Александра в этом никак не упрекнуть: уж кто-кто, а он учиться умел. И пятилетку перемирия он выиграл: Россия усилилась, а Наполеон ослаб. Это ослабление могло быть не видимо «невооружённым глазом» – и тем не менее это было именно так.
Хотя перемирие не было миром. Не следует забывать, что в период третьей-четвёртой коалиций Россия вела ещё две окраинных войны: с Турцией и Персией. Это были две такие напасти, подобные несильным, но незаживающим болячкам, от которых умереть, конечно, не умрёшь, но и жизни полноценной нет… Затишье на главном фронте позволило империи – не сразу, отнюдь не сразу! – покончить с этой надоедливой невзгодой по окраинам. Война с турками тянулась до 1812, а с персами даже до 1813 года, то есть и после того, как Наполеона разгромили, на юге продолжались боевые действия… И это ещё не всё: вдобавок к этим южным конфликтам разгорелся северный – со шведами.
Это произошло не без нажима французской дипломатии, но и свой интерес здесь у русской политики имелся: Швеция была по отношению к Российской империи державой сомнительной, после Тильзита не очень дружественной, а российская столица – у неё под боком (Финляндия тогда числилась шведской территорией). Шведское королевство осталось союзником Англии, в блокаду не включилось, а уж англичане – известные мастера сталкивать чьи-то интересы, сами при этом оставаясь в стороне… Словом, нерешительность в данном случае становилась равной крупной политической ошибке, а чем это чревато, Александр уже знал. Политическому цинизму и макиавеллизму он тоже научился вполне, чем без малейшего зазрения и воспользовался. Война началась без объявления войны: русские войска вторглись в Финляндию, а официальная нота была предъявлена лишь через месяц.
Война есть война, всякая; и на самой скоротечной и бесславной войне – всё как на войне. Гибнут, калечатся, страдают люди в мелких стычках так же, как в грандиозных битвах, разница только в количестве. «Замёрзший, маленький, убитый на той войне незнаменитой…» – прошли столетия и Александр Твардовский написал эти строки о такой же незнаменитой войне в тех же самых местах… Вот и та, совсем уж давняя, давно забытая финская кампания 1808-09 годов была для наших войск отнюдь не простой, не прогулкой по красотам тысячи озёр, несмотря на явное превосходство в силах: не тот противник шведы, который бежит или сдаётся… вернее, тот, который бегал бы или сдавался. Можно говорить в прошедшем времени – эта война с Россией стала для Швеции практически последней в её истории.
Всё-таки скандинавское королевство очень невелико по населению – и сегодня-то шведов насчитывается немногим больше десяти миллионов, а тогда столетия сплошных войн едва не опустошили весь генофонд. Последние сражения триумфов-лавров шведской армии не принесли: при всём к ней уважении она просто количественно не могла соперничать с русской, да и полководцы наши профанами не были, действовали грамотно, разумно, и никаких шансов противнику не оставили.
Вот тогда-то в Стокгольме и спохватились: если и дальше так пойдёт, то дело обернётся совсем нехорошо… Выход один: заключить мир. И заключили, да так, что на все времена. Разве что в 1813-14 годах шведская армия поучаствовала в боевых действиях, теперь вместе с русской и со многими другими на стороне очередной антинаполеоновской коалиции – но уж после этого ни в каких активных боевых действиях замечена не была.
Заодно в стране произошла и монархическая революция. Шведский трон ничем не отличался ото всех прочих в том смысле, что и вокруг него плелись интриги и заговоры; война же с Российским государством и неудачи на ней обострили дворцовые противоречия. Король Густав IV не сумел с ними совладать, утратил контроль над ситуацией… Бои ещё продолжались, когда 13 марта 1809 года оппозиционеры, умело муссируя слухи о поражениях на финском фронте, сместили короля и выдвинули на трон герцога Зюдерманландского, некогда бывшего при том же Густаве IV регентом. Герцог стал новым королём под именем Карла XIII… и здесь те же самые оппозиционеры (ставшие, впрочем, теперь «партией власти»!) решили подстраховаться и ублажить Наполеона, которого, конечно, побаивались: они пригласили в качестве наследника трона французского маршала Жана Бернадота, одного из когорты великих полководцев, взращённых революцией, да и формального родственника императора к тому же – Бернадот был свояком Жозефа Бонапарта, испанского короля (женаты на родных сёстрах) [53, 56]. Тем самым и Карл XIII делался хоть и чрезвычайно дальним, но всё-таки тоже родственником Наполеона, ибо официально усыновил великовозрастного маршала.
Сверхдиалектическая логика шведских мудрецов, возможно, и заслуживала бы похвалы, хотя бы за изобретательность, если бы вся эта диалектика не оказалась совершенно пустым делом: в Стокгольме не знали хитросплетений французской политики, не знали того, что у Наполеона с Бернадотом отношения давно уже натянутые, и император вовсе не обрадовался такому монархическому ходу, хотя возражать не стал, только поморщился и рукой махнул. Что думал на эту тему Талейран? – неведомо никому. Возможно, замысливал какие-то свои великолепные комбинации… но жизнь распорядилась сама: не по-Наполеоновски, не по-Талейрановски, и не так, как это предполагали инициаторы приглашения Бернадота. У жизни своя логика – и часто она бывает посильнее, чем самые, казалось бы, блестящие и самые просчитанные задумки… Впрочем, Швеция от неё всё-таки выиграла.
Сын адвоката, Бернадот сделал феерическую карьеру в годы революции. В 1792 году – лейтенант, в 1794-м – генерал!.. Конечно же, такое возможно лишь в революционные год, но отнюдь не со всяким. А вот с Бернадотом оказалось возможным. И очевидно, по заслугам: человек он был умный, твёрдый, руководитель – блестящий. Что и доказал.
Кто назовёт Наполеона с Талейраном глупцами?.. Они и сами, можно ничуть не сомневаться, кичились своим умом, хотя и по-разному: первый хвастливо и тщеславно, всему миру напоказ, второй – иронически, с тонкой усмешечкой, всегда чуть-чуть в тени… Вот в этой самой тени бывший иезуит, конечно, считал себя умнее всех. В том числе и своего императора.
И всё же ум – не мудрость. Ни Наполеон, ни Талейран не могли заглянуть в будущее. Они могли предполагать, что Бернадот будет сильным правителем, но вряд ли думали, что настолько сильным. А тот взял власть железной хваткой и уже никому не позволил покуситься на неё: фактически он сделался правителем Швеции, Карл XIII руководил страной номинально.
Приёмный принц не собирался прозябать в сателлитах прежней родины, а повёл свою политику, постепенно дистанцируясь от Бонапарта. И как политик оказался прав. После свержения Наполеона и ликвидации империи Швеция очень выиграла: к её короне присоединилась Норвегия, возникло объединённое шведско-норвежское королевство. Ну, а после смерти Карла XIII в 1818 году эта корона оказалась на голове Жана Бернадота – надолго и заслуженно.
Карл XIV Юхан – так бывший маршал стал именоваться на престоле – стал одним из самых эффективных правителей за всю историю Швеции. Не будем перечислять его заслуг, это не входит в нашу тему; скажем лишь, что опочил он в почёте и всеобщем уважении в 1844 году, в возрасте 81 года, надолго пережив всех тех, с кем когда-то начинал вершить судьбы Европы.
То была совсем уже другая эпоха…
Бравый вояка так крепко вошёл во власть, что передал её своим потомкам навсегда – сегодня можно говорить так. Династия Бернадотов благополучно царствует в Швеции и поныне, хотя давно уже не правит – подобно всем европейским монархиям…
Итак, последняя русско-шведская война закончилась 5 (17) сентября 1809 года подписанием мирного договора в маленьком городке Фридрихсгаме. Этот фронт закрылся, но войны на южных рубежах продолжались. В боях восходили на полководческие небеса звёзды будущих героев Отечественной войны: Барклая де Толли, Кульнева, Тучкова, Тормасова… А руководил всем военным механизмом империи Аракчеев, и делал это очень хорошо. Александр имел основания похвалить себя: он сделал верный выбор.
Аракчеев не был полководцем, но был администратором. Очень может быть, что он сумел бы наладить всё, что ему поручили бы: металлургию, пищевую промышленность, рыболовецкий флот… Впрочем, подобные догадки дело пустое. А что было, то было: Аракчеев стал военным министром и справился с работой отлично.
История – тот же «чёрный ящик». Она согласна забыть, «как», если есть помнить «что». Какими способами Алексей Андреевич добивался дисциплины, исполнения приказов и прогресса?.. Это оказалось не столь важно в сравнении с достигнутым результатом.
Итак, вот что сделал Аракчеев.
Он упростил и улучшил делопроизводство. Заметно повысил уровень подготовки войск (между прочим, это именно он ввёл в армии учебные батальоны – нынешние «учебки»). И наконец, как артиллерист, он особенно заботился об этом роде войск и добился того, что русские пушки стали лучшими в мире – с ними наши войска встретили войну 1812 года. Артиллерию граф считал основной ударной силой боя, и оказался в этом прозорлив на века вперёд: в сущности, и поныне массивные снаряды (ракеты) остаются решающим фактором в прямых боестолкновениях.
То была рутинная, повседневная, нудная работа: воз с нею тянули Аракчеев и правительство в целом. Тянул, конечно, и Александр, но как долг службы, не более. Душа государя, его творческая мысль стремилась к стратегическим преобразованиям, к парению свободных идей – и находила это в общении со Сперанским. В сущности, создался новый «Негласный комитет», только в сокращённом виде: теперь в нём были двое – император и его статс-секретарь.
14
Но и здесь приходилось работать, работать и работать!
Сперанский вообще был трудоголик, он бы добросовестно выполнял и те поручения, что ему не нравились, а тут он получил карт-бланш: дерзай!.. твори!. Мощный разум взялся за руль державного корабля – сбылась мечта старика Платона. Мудрецы правят государством! Что-то будет?!..
А ничего особенного и не случилось.
И прежде не бывало, хотя совсем не надо препарировать прошлое, чтобы убедиться: Платоновы мечты сбывались не раз. История насыщена правителями-интеллектуалами; не скажешь, правда, что это совсем уж ординарное явление, но и чуда здесь нет. Было, было такое. Одна только Римская империя кем может по праву гордиться: Марк Аврелий, Константин Великий, Юстиниан – люди вселенского масштаба, люди-созвездия!.. А кто ходил в советниках царей в разные времена и в разных странах? И сам Платон, и Аристотель, и ещё Сенека, Михаил Пселл, Лейбниц, Гёте… называем здесь не всех, далеко не всех. Политика, да, дело на этом свете не самое почтенное, но всё же нельзя не признать, что власть влекла к себе мудрецов; по желанию ли, против желания, но влекла. И уж наверняка все они трудились на важных государственных постах на благо мира, и немало успевали, и мы должны понимать, что не будь такие люди у власти, мир был бы много хуже. Всё это так. И всё же… всё же, всё же. Мир мог быть хуже. Но должен быть лучше. Должен! – вот в чём дело, и никуда не деться от осознания того, что лучшая часть бытия скрыта от нашего духовного взора и, несмотря на тысячелетние усилия мыслящей части человечества, продолжает оставаться таковой.
Да ведь Платон о том и говорил (правда, не объяснил, отчего так), что мы живём в поддельном бытии, тусклом, бедном, болезненном и смертном. Время – тень вечности, истинного бытия, прекрасного, чудесного, но далёкого от нас так же, как небо далеко от земли… Мы все – по-разному и в разной степени! – чувствуем, что где-то над нами в бесконечной высоте царят истина, счастье, красота и бессмертие. Мы должны быть там! – но нас там нет. Как нам вернуться туда? Где эта дорога, да и есть ли она вообще?..
Сам Платон отвечал на этот вопрос с осторожным оптимизмом, приличествующим философу, а одним из путей возвращения видел определённые социальные технологии, именно: создание иерархически строго выверенного государства, где мудро и справедливо правит узкий круг мыслителей, интеллектуалов, а прочие классы располагаются сверху вниз в порядке увеличения численности: чем ниже класс, тем народу больше. Тем самым схема Платонова государства предстаёт в виде пирамиды (или Эйфелевой башни, если угодно) (Рис. 1).
Рис. 1
Если отвлечься от нюансов, то имеются три основных социальных этажа: мудрые правители, воины-защитники и, говоря условно, все остальные, производители материальных благ.
Очень похоже на то, что над великим философом сильно довлела неотразимая наглядность этой схемы: пирамида, остриём устремлённая вверх, в небо – даже графически видно, что государство, построенное подобным образом, «автоматически» тянется в метафизическую высь, к миру вечных идей, тем самым туда же тянет всех своих граждан. И надо сказать, что это не отвлечённая выдумка умника-теоретика. По сути, Платон прав, что подтверждается не одним аргументом, в том числе многочисленными историческими фактами присутствия во власти настоящих мыслителей, профессионалов от интеллекта.
Но… «дьявол кроется в деталях». В том-то и проблема, что прав был афинянин «по сути», а не «по факту». Идеальный образ государства Платона самой же Платоновой философией и размывался: ведь государство это строится не на Небе, на Земле, и потому оно, земное государство, являет собой лишь тень истинного, оно отягощается необходимостью иметь, помимо создающих стройную пирамиду трёх главных сословий, множество других, в том числе не слишком-то почтенных работников: мытарей, палачей, шпионов, лакеев, мусорщиков… et cetera. Не обходится и без выпадения в социальный осадок: нищие, бродяги, люмпены… Ну и, кроме того, власть – сильнейшее искушение, сильнее которого, наверное, просто нет; поэтому наряду с мудрецами, которые быть там просто обязаны, на политических вершинах неизменно оказываются отъявленные честолюбцы, да и просто негодяи, если уж называть всё своими именами. При том эти люди вовсе не без способностей: неспособный просто не сможет пробиться наверх. А они – могут.
И в результате вместо элегантной конструкции выходит нечто вроде полусформированного холма (Рис. 2),
Рис. 2
который вроде бы растёт, движется вверх, но тут же где-то осыпается, проваливается, рушится… и так из века в век: шаг вперёд, пол-шага назад.
Потому-то весь исторический процесс – не что иное, как мучительная борьба неземного идеала со своими земными недугами, борьба, в которой человечество с тяжким усилием тянется ввысь, к свету, но часто не видит того, что под ногами, оступается и падает… И ещё хорошо, что холм пусть кое-как, но растёт.
Читал ли Александр Платона: «Государство» или «Законы»? Наверняка что-то некогда толковал ему Лагарп, но что из того воспринял великий князь по молодости лет?.. Неведомо. К тому же, Лагарп, в теории республиканец, Платоново аристократическое государство должен был с негодованием отвергать; другое дело, что на практике он превратился в тирана… Как бы там ни было, первую половину своего царствования Александр действовал именно как платоник – так учила жизнь. И эта же самая жизнь расстраивала его теоремы.
С самых первых дней своей власти Александр создавал при себе «когорту мудрых». То было непростое дело, долгий, трудный путь – мы видели. Надежды, разочарования, удачи, поражения… и вот, неужто удалось?! Нашёлся ум, который фундаментально, последовательно, неуклонно строил систему эффективной власти. Пирамида-не пирамида, но во всяком случае нечто системное, стройное и несомненно действующее – вот что увидел государь в проектах Сперанского. Александру показалось, что неровный, трепещущий огонёк истины, с которым он прежде бродил по сумеркам, превратился в сильный, уверенный, нацеленный вперёд луч.
15
Если брать этическое измерение реформ «по Сперанскому», то целью их следует признать создание «государства с человеческим лицом», справедливого и заботливого, где гражданам жилось бы сытно, благодатно, умиротворённо… Может, и счастливо? Может быть. Кто знает, возможно в воображении Александра являлся именно этот эпитет, и император умилялся, с приятностью думал о том, какой он хороший…
Но это умозрение, метафизика. Что же до стороны практической, то справедливое государство представлялось – Сперанскому прежде всего, разумеется – механизмом, закономерно выдвигающим на вершины власти лучших, то есть образованных, учёных, интеллектуалов. Этот механизм надо сделать, запустить, отладить… Задача немалая: уже не черновая, но творческая – и ей, в сущности был посвящён весь 1809 год. Отладка, впрочем, дело оперативное, для неё в структуре нового механизма предусматривались регулирующие органы. Главное, всё-таки запустить процесс…
Один из символов – уже порядком позабытый – нашего недальнего прошлого: «Программа 500 дней», разработанная тогдашним вице-премьером правительства тогдашней РСФСР Г. А. Явлинским и корифеем советской экономической мысли С. Шаталины…. Сумбурные 90-е и жёсткие, напористые 2000-е затмили то время, его героев и их труды, потому стоит, очевидно, напомнить: за данный срок – чуть меньше полутора лет – учёно-правительственный коллектив планировал осуществить переход страны от директивной экономики к рыночной, с созданием соответствующей законодательной базы. Программа усопла, так толком и не родившись – мир её праху; однако, упомянута она не всуе. А именно: Явлинский и Шаталин (видно, у них были сведущие подсказчики) буквально воспроизвели название плана, разработанного Сперанским по заданию императора Александра.
Программа Александра-Сперанского пунктуально определила последовательность юридических и экономических преобразований, должных в 500 дней осуществить преобразование государственного аппарата управления. День первый – примерно в ноябре 1809, когда готовый план должен быть представлен императору, день пятисотый – где-нибудь около десятилетнего юбилея со дня восшествия Александра на престол, то есть в марте 1811 года…
Конкретно – «500 дней» Сперанского предлагали следующее.
1 января 1810 года учреждался Государственный Совет: синклит мудрейших, орган стратегического управления страной, своего рода гражданский Генеральный штаб… эпитетов может быть много, суть одна. В известной, даже в значительной степени можно считать Госсовет прямым наследником Непременного совета, но всё же отождествлять эти две инстанции не следует. Непременный совет – как уже было отмечено – поcле образования министерств сделался несколько «потусторонней» организацией: Александр строил вынужденную систему «сдержек и противовесов» эмпирически, на ощупь, из-за чего, случалось, разные структуры ненужно дублировали друг друга. В результате реально работали министерства, а Непременный совет оказался где-то в Зазеркалье.
Теперь не так: Государственный совет становился вершиной бюрократической пирамиды (министры, кстати, автоматически являлись его членами), являя собой синтез законодательной, исполнительной и, отчасти, судебной властей.
Не надо забывать, что речь покуда о теоретической конструкции. Другое дело, что в случае с Госсоветом теоремы Сперанского наиболее всего совпали с жизнью.
Итак, 1 января – учреждение высшего руководящего органа. Далее, некоторая реорганизация министерств (появлялось министерство полиции, а министерство коммерции упразднялось, вливаясь в состав министерства внутренних дел)…
Следует отметить, хотя это, конечно, и не принципиально: тогдашние названия были «честнее», что ли; точнее, во всяком случае: современное МВД как раз и есть министерство полиции, а тогда внутренние дела понимались в прямом и широком смысле – как системное управление хозяйством, ресурсами и кадрами.
К концу апреля 1810 предполагалось закончить работу над Государственным Уложением (кто хочет, читай: Конституцией). Первого же мая особым царским манифестом объявлялись выборы Собрания (читай: парламента), которое с 15 августа переименовывалось в Государственную Думу; она-то и ратифицировала Уложение. Разумеется, всё это санкционировалось Госсоветом и лично императором…
Впрочем, ничего этого так никогда и не состоялось.
Вряд ли ещё когда в истории отечественного реформаторства появится программа «500 дней» – таким упорно невезучим оказалось это название. И первый и второй проекты кончились ничем.
Почему?.. Второй случай вне рассмотрения, а в первом: решительно все придворные, все бюрократические столпы и влиятельные интеллектуалы – Карамзин, Державин – не приняли новшеств, можно сказать, восстали против них. Александр, конечно, был мастер дворцовых инверсий, но в данном случае он столкнулся с оппозицией не игривой, а настоящей, массированной, и при всём своём лукавом искусстве ничего не мог сделать. Он вынужден был отступить.
Вроде бы вырисовывается очевидная схема: прогрессисты Александр и Сперанский против всех прочих ретроградов. Первые начали сеять разумное, доброе, вечное, вторые подняли шум, и посев пришлось прекратить… Но нет, такое объяснение случившегося никуда не годится. Это было бы неоправданным упрощением.
Да, среди противников реформ наверняка были окоченелые крепостники, которым вообще ничего ни объяснить, ни доказать было нельзя, и которые самое малейшее изменение воспринимали как шаг ко вселенской катастрофе. Но ведь Карамзин и Державин таковыми не были! Да и Аракчеев, коего трудно назвать мыслителем, вовсе не представлял собой нечто вроде Скалозуба… Он всегда готов был исполить то, что исходило от государя, но в данном случае он воспротивился реформаторству Сперанского; и в совокупности всё это оказалось настолько серьёзно, что Александру пришлось идти на попятную.
Когда мы говорим, что «дьявол прячется в деталях» – то на философском языке это означает, что мировоззренческие конфликты чаще всего разгораются вокруг не формы, но содержания. На языке простецком можно сказать так: дело не в пироге, а в начинке. По форме – то есть по идее, по тому, что должно быть, по системности этого должного – расхождений как будто и нет, ибо любому нормальному человеку ясно, что богатство и здоровье лучше, чем бедность и болезнь. Применительно к государственному устройству это, как несложно догадаться, выражается в «правлении лучших»: с тем, что во главе социума надо бы стоять некоему кругу умудрённых, просветлённых, гуманных… не спорит никто, по крайней мере, в здравом уме и твёрдой памяти. Схема Платонова государства, стало быть, универсальна (что ещё раз говорит в пользу Платона, видимо, вправду уловившего отблеск какой-то очень важной духовной сущности)… Но опять же: здесь, в нашем мире это не более, чем схема. Это не мало, разумеется, не мало!.. Но всё-таки не более. Макет, манекен идеи – чтобы он ожил, его надо наполнить человеческой начинкой.
И вот тут-то начинаются расхождения.
Ими, собственно, полна вся мировая история. Можно сказать и наоборот: история есть бесконечный перечень расхождений, размолвок, разрывов меж людьми, стремящимися к одной цели, и в этом смысле расхождений не имеющими. Реформа Александра и Сперанского – просто классическая иллюстрация к сказанному. Действительно: главные из оппонентов Сперанского ничуть не меньше думали о том, какой быть России, не менее его желали видеть страну процветающим, сильным и более того, моральным, справедливым обществом. Но вот взгляд на процветание и справедливость у них был иным.
В известной степени контроверза 1809-11 годов в российской элите явилась всплеском бесконечного спора «о роли личности в истории», а если шире – о роли личности как таковой. Какая именно индивидуальность должна быть вознесена наверх? Почему? Каким образом?..
Сперанский – действительный, реальный, а не пустозвонный рационалист – очевидно, вполне искренне полагал, что правильно сконструированное государство должно работать само собою; то есть сумма его функций такова, что лучшие люди будут выдвигаться в первые ряды в силу своей «лучшести» – а что такое быть лучшим «по Сперанскому», нам известно.
А вот когда это стало известно сановному кругу, там почти все сделались очень недовольны. Кого-то это взволновало, кого-то просто оскорбило… В 1809 году, когда Финляндия была отвоёвана у шведов, государь, при немалом содействии Сперанского, сохранил существующую там Конституцию и привилегии местного населения – это во-первых, а во-вторых, издал два указа, касающихся государственной службы: «О придворных званиях, по которому камергеры и камер-юнкеры обязываются поступать в службу» и «О чинах гражданских» [5, 122] – они, особенно последний, допускавший присвоение чинов от коллежского асессора (майора) и выше только лицам, окончившим университет – вызвали ропот и даже негодование.
Мотивы неудовольствий, конечно, были разные, были и пустяковые, и просто глупые. Но не надо забывать, что любые житейские выходки суть феноменизация глубокой сути бытия – и какой-нибудь замшелый чиновник, ворча и проклиная всех на свете новаторов и реформаторов, неосознанно и нелепо выражал то же, что и те, кому «по штату» понимать положено. Эти люди – тот же Карамзин – вообще усматривали в модных идеологиях ядовитые струи, размывающие хорошо ли, плохо ли, но сложившийся и работающий социум (Карамзин сам побывал в масонах, и совершенно по велению благородной души, его привели в ряды «каменщиков» серьёзные духовные искания, они же оттуда и увели)… И в данном случае он (и не только он) явственно уловили в государевых новшествах одну из неприятнейших, с их точки зрения, тенденций: обезличивание царства, деградация его: из живой жизни, одухотворённой личностью помазанника, власть превращается в робота – в стиле плоско-популярного механицизма эпохи.
Власть должна быть нравственным светочем, непрестанно источающим эманации добра, справедливости, отеческой заботы о подданных – вот позиция монархиста-мыслителя. Умозрительно – это социальный неоплатонизм, где государь представляется «Единым-Благом»; и уж, конечно, всякое «республиканство», в том числе и политтехнологии Сперанского, с данной позиции выглядят выхолащивающими из власти это личностное, а следовательно, и нравственное наполнение. Одно дело – Божьим соизволением царь, чья метафизическая мощь сверху вниз простирается на всё царство, оберегая, защищая его… и разве может с этим сравниться бездушный механизм, из недр своих выбрасывающий вверх то одну, то другую куклу: каких там «президентов», или того смешнее, какой-то «парламент»… Душа государя, души преданных лиц – вот что главное, вот что держит страну, всю ее жизнь, благополучие, её судьбу. А эти господа, вольтерианцы, республиканцы и тому подобные кичатся вольнодумством – а сами ничего, ну ровным счётом ничего не понимают и не соображают! Они как слепцы, только сами не замечают своей слепоты – значит, хуже слепцов: самодовольные, самонадеянные невежды. Вот и всё.
Убедительно?..
Ну, скажем, для Гаврилы Романовича Державина это не то чтобы убедительно, а просто он ничего другого себе и не представлял, и не мог смотреть иначе как на безумных дикарей на тех, кто пытался оспорить одушевлённую монаршей личностью жизнь, противопоставляя ей голые мертворождённые конструкты… Но могло быть ещё хуже.
Державин не мог не видеть, что некоторые из противных ему типов явно не дикари и не безумцы. Нет, они действуют тихой сапой, осторожно, хитроумно, сладкоречиво… Стало быть, это – мошенники. Они-то как раз всё отлично понимают, но они корыстны, себялюбивы и, наверное, безжалостны. Они утверждают, что замена живого, светозарного на поддельно-механическое есть нечто полезное и достойное? Ну, так это может значить лишь одно: такая подмена им выгодна. Они хотят разрушить сакральную природу государства – и властвовать самим, пусть и поддельно, вне Божественной санкции. Это, конечно, власть фальшивая, но ведь и фальшивые деньги делают затем, чтобы разбогатеть по-настоящему… Пускай неправедная власть, но всё же власть! Синица в руках. А насчёт журавля в небе, ну, это ещё поглядим!.. Что будет там – Бог весть, а что моё – моё.
Потому и нет ничего странного в том, что «консерваторы» так дружно сплотились против «прогрессистов», сиречь затаённых вредителей. Обиднее же и болезненнее всего было видеть, что государь – тот, кто должен быть животворящим светочем (да ведь таков и есть! все знают, насколько император Александр милосерден и кроток) поддался обольщению вкрадчивого обманщика… Кого именно – повторять незачем.
Ещё убедительнее?..
16
Есть замечательная восточная – индийская, вероятно – притча о том, как трое слепых не могли себе представить слона, а никто из окружающих не мог им этого толком объяснить.
Что правда, то правда: словесно описать такое необычное существо, как слон, действительно не так-то просто…
Но вот каким-то путём слон всё же оказался рядом со слепцами, и они принялись его ощупывать, причём один поймал хобот, другой слоновье ухо, а третий обхватил одну из ног; после этого исследователи стали делиться впечатлениями.
Тот, кто взялся за ухо, заявил, что слон – это такое складчатое кожаное одеяло. Держащийся за хобот очень удивился и сообщил, что по его данным, слон не что иное, как толстая змея… Ну, а третий, тот, что обнимал слоновью ногу, решил, что оба его товарища полные глупцы, ибо совершенно неопровержимо, что слон – это ствол большого дерева.
Сказка ложь, да в ней намёк… Заставляющий призадуматься. Ведь самое занятное в этой сказке то, что каждый из троих не ошибался, каждый по-своему был прав! Но – прав по-своему, частично, в том-то и дело, что по-своему, в том всё и дело!.. Наши истины суть детали мироздания, мы познаём их шаг за шагом, и это дельно, они вправду истины, они хорошо помогают нам ориентироваться и орудовать в этом мире. Но вот одна большая Истина, она вовсе не сумма малых, а их совершенно новый, не арифметический и не алгебраический, но трансцендентный синтез – который для каждого из нас, даже для самого мудрого и разумного – загадка.
Что там, за ветхой занавеской тьмы? В гаданиях запутались умы. Когда же с треском лопнет занавеска, Увидим все, как ошибались мы.Каждый из трёх слепых был в чём-то прав. В слоне действительно есть элементы змеи, вертикального ствола и кожаного листа; и при этом слон как целое – ни то, ни другое и ни третье, а что-то совсем не похожее на них.
Правы были придворные, отстаивавшие этический потенциал самодержавия и усматривавшие в поползновениях Сперанского деструктивные тенденции? Несомненно. Прав был Сперанский, демонтируя и реконструируя управленческий аппарат империи?.. Безусловно! Теоретически, наверное, нет лучшей власти, чем власть доброго просвещённого монарха: проекция Царства Божия на Земле. Но ведь проекция эта всегда искажена, как ни старайся строить её прямо. Как выправить искажения, как устранить их?.. Вот тут-то и начинаются те самые злосчастные детали.
Каким быть властителю: наследственным, выборным (никто, наверное, не будет спорить с тем, что президентам или премьер-министрам временно предоставляются царские полномочия)? Как должно формироваться государево окружение?.. Зоилы Сперанского были неправы, полагая, что «выскочка» злостно и вредительски разлагает империю изнутри. Нет, конечно: он всерьёз полагал, что его реформы оздоровят систему, что по открытым им путям на высшие этажи потянутся таланты, возможно, и гении.
Был ли Михаил Михайлович антимонархистом в обиходном смысле слова, то есть мечтал ли он в никому не ведомой глубине души о замене помазанника Божия на банальных президента и парламент?.. А если метафизчески – не отвергал ли он в принципе сакральную природу власти?.. наверняка его подозревали и обвиняли в этом. Со значительной степенью достоверности можно утверждать, что эти подозрения ложны.
И дело вовсе не в том, что речь идёт о сыне священника – выше уже говорилось, что именно из духовного сословия происходили самые отчаянные русские безбожники (правда и то, что их дикая фанатичность не атеизм, но анти-теизм, в коем как раз и чувствуется именно религиозность, религиозность анти-мира, если так можно выразиться)… Но дело и не в этом тоже.
Просто Сперанский был сильный, последовательный, методичный мыслитель. И он не мог не сознавать, что без сакрального начала власть – не власть. Но он был воистину уж рационалист так рационалист: логическое, разумное начало в нём явно превалировало над мистическим, художественным, всем прочим. Он свои истины понимал, а не переживал, как мог пережить всем существом тот же Державин. И опять-таки, дело тут не совсем в поэтическом даре Гаврилы Романовича, и уж тем более не в розовых очках: придворный с незапамятных времён, Державин видел и знал всю грязную изнанку отечественной политики. Но он какой-то особой, высшей интуицией, в которой сплочены душа и разум, мудрость и опыт, был твёрдо убеждён, что самодержавная династическая власть, при всех её очевидных огрехах – это именно то, что нужно России. Другое будет только хуже.
Насколько полна истина, рождаемая таковой интуицией – пусть останется на усмотрение её обладателей. Те же, кто не обладает, скорее всего сочтут это мистической блажью… Счёл и Сперанский – во всяком случае, счёл бы, если допустить, что он знал о душевных страстях своих оппонентов: можно позволить себе здесь психологическую гипотезу. Он многократно убеждался в эффективности логических моделей и, даже если предполагал, что прочие философические поиски дело интересное, благодатное – то всё-таки думал, что практическая жизнь вполне способна обойтись и без них.
Неоднократно упомянутая нами популярная индукция – «если так было всегда, значит, так же будет и потом» – метод неплохой, действенный, но изначально ограниченный… Михаилу Сперанскому эту ограниченность пришлось познать на себе. Пришло время, и он столкнулся с тем, чего прежде никогда не было: его интеллект оказался бессилен перед проблемой, в которой без метафизики всё-таки не обошлось.
17
Впрочем, интрига против фаворита-отличника затеялась давно и без особой философии. Просто имели место зависть и борьба за существование – почти по Дарвину, с поправкой на существование придворное, то есть переживание невыносимейшего чувства: знать, что кому-то живётся лучше, чем тебе… Затем, впрочем, ситуация и вправду оформилась как конфликт мировоззрений, дело дошло до стадии «кто кого», и повести его на мировую стало невозможным.
При этом придётся констатировать, что Александр Павлович упустил ход событий из-под контроля. Он недооценил силы сопротивления реформам: знал, конечно, что Сперанский нелюбим, что окружающие не радуются, но полагал, что сумеет со всем этим справиться… Понадеялся на свой немалый уже к этому времени опыт руководителя.
И ошибся. Реформы заело. Программа «500 дней» с первых же шагов поползла по швам. В сущности, ни один из пунктов этой программы, за исключением создания Госсовета и преобразования некоторых министерств, так и не был выполнен… Аракчеев же и вовсе выступил с демонстративным демаршем в декабре 1809 года, после царских указов об образовательных цензах чиновников. Указы вызвали особо сильное брожение умов, и тут надо отметить, что, пожалуй, эти забродившие умы были отчасти правы: с образовательным цензом Александр и Сперанский палку явно перегнули… Так вот, Аракчеев письменно запросил императора об отставке – весьма логично, ибо сам университетов не проходил [5, 135]. Александр ужаснулся: до сих пор он мог уповать на военного министра, как на адамантов камень, а тут вдруг эта опора вылетала из-под ног.
Начались лихорадочная переписка, всякие бюрократические маневры – однако упрямый граф своего добился: в отставку ушёл-таки, из принципа. Впрочем, влияния и места при августейшей особе не потерял, то есть позиций не сдал. А принципиальность проявил… Тактически выиграл, словом. Министром стал выдвинувшийся в ходе шведской войны Барклай-де-Толли.
Аракчеев не был идеологом: понятно, он не Державин и не Карамзин. Но именно он в силу суммы исторических обстоятельств сделался обратным полюсом, «анти-Сперанским», именно в нём сошлись силовые линии противоборствующего поля… Волею судеб он стал фигурой символической – и этот символ, так сказать, штандарт земной имперской бюрократии воспарил над непрочным знаменем прожектёрства, так и оставшегося чарующей абстракцией.
По-видимому, Александр долго пытался примирить непримиримых. Он видел, что реформа провалилась, но продолжал тактически лавировать, не в силах расстаться со Сперанским – так мощно возросла в душе царя эта надежда…
Да, государь пытался настоять на продолжении реформ, хотя уже понимал, что инициатива не на его стороне, а международная обстановка усложняется день ото дня, и в такой ситуации недоразумения в верхах смерти подобны…
Надо признать, что императору приходилось выдерживать колоссальное давление. При этом оно не было топорным, грубым, нет. Скорее, напротив, изощрённым. Каждый день разными путями Александру исправно доставлялась информация, так или иначе наводящая на мысль о «бонапартизме» его ближайшего сотрудника – вспомним восклицание Наполеона в Эрфурте! Зацепка была очень хорошей, и вот пошли умно выстроенные разговоры о том, что Сперанский едва ли не французский «агент влияния»… Когда ложь искусно перемешана с элементами правды, создаётся правдоподобие, особая реальность, которая сильнее правды как таковой: совокупность человеческих мнений, комментариев, намёков, обвинений… Почему этот миф сильнее? Да потому, что он-то и есть контекст истории, потому, что и искренне борясь за идеалы, и юля, хитря, обманывая в каких-то своих меркантильных интересах, люди когда нечувствительно, а когда осознанно включаются в вектора вселенских сил; потому, что личность неотрывна от общества и – шире – от чего-то эфемерного, неуловимого, что все мы вроде бы ощущаем, но никак не можем догнать, разглядеть, понять – таинственного единства человечества, Земли и мироздания.
Только из этого ни в коем случае не надо делать вывод об отсутствии свободы воли, и том, что во все эпохи наверху оказывается угадавший и попавший во всемирную струю: чкобы, Аракчеев победил Сперанского, Победоносцев – Лорис-Меликова, Сталин – Троцкого, Брежнев – Шелепина с Семичастным… потому, что каждый из этих победителей попал в резонанс с эпохой, стал камертоном вселенной в нужное время в нужном месте. В этом есть резон, бесспорно; и тем не менее мерить всё одной этой мерой было бы неверно. Слишком примитивно. Масса примеров тому, как человека отторгает его время, а через годы потомки спохватываются: надо же, ещё когда предвидел, а его не поняли, не оценили!.. Правда, так чаще бывает не с политиками, а с творцами, они живут с опережением времён; более того: должны так жить – на то они и творцы. А политику и в самом деле надо угодить в своё место в своём времени – но это условие необходимое, а не достаточное. Политика – игра для взрослых, идя туда, человек как бы заводит себя в царство лукавого случая, в самое большое в мире казино, где нужно ещё нечто, перебор огромного множества вариантов: попал, не попал, попал, ещё попал… Среди нескольких умных, чутких, знающих, хитрых, умелых – один почему-то попадает на пару раз больше. И выигрывает.
Сказать, что Сперанский не вписался в своё время, опередил его?.. Да нет, пожалуй. Опередил – может быть; вернее, поспешил, а вот «невписавшимся» его назвать трудно. Человек достиг предельных должностных высот, испытал, правда, и падения, но потом на высоты почти вернулся и жизнь закончил в совершенном благополучии… Но вот тогда – в 1811 году – он всё же проиграл.
18
Фактическое падение Сперанского свершилось в 1812 году, но предопределилось оно раньше, когда обстоятельства сделались спрутом – и даже такой сильный ум, как у государственного секретаря, не сумел из этих щупалец выпутаться. Что, собственно, лишь подтверждает знакомую уже истину: ум не мудрость. Но – что же тогда она такое?..
Что есть мудрость? – это даже не столько вопрос как таковой, сколько тема, создающая фон интеллектуальной жизни человечества, наряду, скажем, с темой «гений и злодейство», такой же неисчерпаемой… Бескрайнее, неисчерпаемое, неоглядное, необъятное! – звучит волнительно, прекрасно и возвышенно, да на самом деле так и есть. Не будь этого в человеческой жизни – что б это была за жизнь?! Только один недостаток, вернее, соблазн порождаем необъятным: его так и хочется объять…
Сейчас самое время подвести черту очередного промежуточного финиша: первые десять лет Александрова царствования, Александровой эпохи: достижениям, победам, неудачам, промахам, ошибкам императора… всему тому, что что ему удалось и не удалось.
Первой победой придётся посчитать уже то, что Александр прочно завладел троном. Достижение само по себе, может, и не Бог весть какое, но в тех условиях… То, что император Александр I твёрдо поставил себя над придворными происками, потребовало определённой политической воли. Происки, конечно, не прекратились, но сделались куда более осторожными, изменились и ноавы двора; во всяком случае, прежнее разгульное эпикурейство исчезло. В этом смысле обходительный Александр проявил себя намного успешнее, чем громовержец Павел I. Ловко лавируя, он взял власть в руки – и уж тогда никому ни на секунду не позволил усомниться в том, кто хозяин в доме под названием «Россия».
Правда, данный успех не столько победа как таковая, сколько залог будущих побед. Власть в руках просвещённого, человечного самодержца – фундамент, на котором можно возвести здание справедливого общества. Александр – не постесняемся похвалить его – старался именно для этого свою власть и использовать. И не побоимся громких слов: он воистину попытался нести благо человечеству с высоты престола.
Указ о вольных хлебопашцах. Запрет пыток (фактически, правда, не запретивший их). Цензурный устав. Конституция Финляндии. Училища, гимназии и университеты. Кругосветный вояж Крузенштерна. Российско-американская компания (не Александром созданная, но при нём вошедшая в расцвет…). Министерства. Государственный Совет.
Всё это несомненные достижения императора – даже с учётом того, что какие-то из них сработали не полностью, а какие-то и вовсе вышли куцыми, незавершёнными. Идейный посыл Александра действительно начал – не блестяще, но лучше так, чем никак! – выправлять неухоженный российский социум. Не забудем слова Пушкина: этот государь умел уважать человечество. А такое дорогого стоит. Есть, есть незримая связь между правителем и страной!.. Страна откликнулась на искреннее стремление творить добро. Не сразу и не слишком ощутимо, но что-то изменилось в ауре бытия. XVIII век был страшно жесток к русскому простонародью: наследие Петровского царствования, люди, превращённые в сырьё для империи, словно и не христианская вовсе держава Россия… И вот с приходом нового века и нового царя нечто вдруг сдвинулось с места. Страна задышала иначе.
Время – хороший индикатор; сейчас, через двести лет после начала Александровой эпохи, вряд ли кто станет спорить с тем, что самым долговечным, а стало быть, и самым замечательным тогдашним новшеством стала реформа системы образования. Четырёхзвенная последовательность от уездного училища до университета оказалась очень эффективной. А классическая гимназия, как известно, задала эталон средней школы на столетия вперёд: ничего лучше и по сей день никто не придумал.
Указ «О чинах гражданских», согласно коему для получения как минимум коллежского асессора требовался университетский диплом, имел одно вполне историческое последствие. Александр, видимо, понял, что тут они со Сперанским перестарались: всё же выпускники университета – люди, претендующие более на карьеру научную, нежели административную; так можно остаться и вовсе без коллежских асессоров. Тогда-то и возникла идея создания особых высших учебных заведений, должных специально готовить чиновников элитной квалификации. Инициатором был опять-таки Сперанский, работу по их созданию начал Завадовский, но 11 апреля 1810 года он ушёл в отставку, по возрасту и состоянию здоровья: он и к этому времени оставался самым возрастным из министров, было ему уже за семьдесят… Проект был утверждён Александром уже при новом министре просвещения Алексее Разумовском (кстати, бывшим со Сперанским в контрах). Назвали заведение пышно: Царскосельский лицей, решив разместить его в Царском селе, летней резиденции императорской семьи.
Особенность лицеев вообще состояла в том, что они являли собой совокупность двух верхних блоков четырёхуровневой системы: начинали учиться лицеисты как школьники, а заканчивали как студенты. Предполагаемая продолжительность обучения семь лет, в возрасте с двенадцати-тринадцати до примерно двадцати. Выпускники – надежда российской бюрократии…
Лицеи вполне встроились в структуру унифицированного образовательного процесса. Конечно, самым легендарным из них навсегда остался тот самый, Царскосельский, а в нём – первый, «пушкинский» выпуск 1817 года, двадцать девять человек, из которых едва ли не каждый второй – «звезда» русской культуры: Пушкин, Дельвиг, Горчаков, Корф, Кюхельбекер, Пущин, Илличевский!.. Но кроме Царскосельского, позже возникли и другие лицеи, обучавшие по схеме «школа – ВУЗ». В царствование Александра таковых появилось два: в Одессе и небольшом украинском городе Нежине (в те времена он имел куда большее административное значение, чем сейчас; к слову, Нежинский лицей окончил в 1828 году Гоголь). Ещё было одно близкое по рангу учреждение в Ярославле: «Ярославское Демидовское высших наук училище», основанное по инициативе П.Г. Демидова, одного из представителей знаменитой бизнес-династии в 1803 году. Но официально оно обрело статус лицея лишь через 30 лет… И наконец, совсем уже в другие времена, при Александре II, открылся так называемый Катковский лицей в Москве.
Это, разумеется, не панегирик. Всех дел не переделать никому и никогда, дел же императорских тем более. Даже если предположить невероятное: что Александр никогда ни в чём не ошибался, то и тогда бы его действия смотрелись огоньком в огромном пространстве полумрака. А он не ошибаться не мог. Огонёк трепетал, чадил на холодных ветрах… И всё-таки он был. Был – и это главное.
Глава 6. Преддверие
1
Если революции, по горько-запоздалому прозрению Дантона, пожирают своих детей, то многие империи (не все!) пожирают сами себя. Как жуткие призрачные химеры, возникают они, да так, что житья от них соседям нет – набрасываются на другие страны и народы, и чем дальше, тем больше… и вот это становится каким-то безумием, какой-то необъяснимой напастью: империя уже не в силах остановиться, и всё ей мало, мало, мало!..
Но чем сильнее жжёт ее изнутри эта ненасытность, тем слабее делается она сама. Она не справляется с собственной громадностью, становится рыхлой, неповоротливой, её начинает разъедать изнутри… и вот приходит миг, когда в ненормально огромном организме что-то безвозвратно ломается. Империя начинает путь к гибели.
В годы 1809–1812 – точно не сказать, когда именно, да это и не важно – в Наполеоновской мега-державе случился такой надлом. Она росла и росла, она поглотила почти всю Европу и не собиралась останавливаться. На неё смотрели в каком-то оцепенелом гипнотическом ужасе: это ещё не всё?.. что ещё будет?!.. Конечно, были и такие, кто понимал: долго это длиться не может; но и они вряд ли представляли, когда и как этот дурной колосс наконец-то рухнет. Не знал и Александр. Предвидел ли он вообще крах Бонапартовой авантюры? Вопрос не простой. Сложными и неоднозначными путями шёл русский император по пространствам мировой политики; случалось ему попадать впросак, но случалось оказываться и в прозорливцах – интуиция его нередко находила должный путь. Не стоит думать, что решение загнать Наполеона на разрешение неразрешимой задачи, на которой тот должен надорваться – и в самом деле надорвался! осенило царя молниеносно, вдруг; вероятнее, оно вызревало, обдумывалось, осторожно, косвенно обсуждалось… Но то, что идея витала в воздухе, а Александр сам целенаправленно нащупывал её, это совершенно так. Они действительно нашли друг друга, идея и государь: один искал, другая откликнулась на зов – и этот синтез дал результат.
Выше затрагивалась гипотеза, согласно которой Александр, претерпев унижения 1805-07 годов, следующие восемь лет жизни посвятил тому, что мстил Наполеону и успокоился лишь тогда, когда уничтожил врага дотла. Что правда, то правда, впечатление такое может сложиться: Александр как никто другой имеет право называться «победителем Наполеона». К тому же победил он по классическим канонам политического коварства: с показной мягкостью, уклончивостью, а под этим покровом – настойчиво, жёстко и беспощадно. Бонапарт закончил свои дни на краю Земли, обращённый в ничтожество, одинокий и обречённый на безнадёжное прозябание; Александр стёр противника в прах, в пустое место. Но то, что злопамятная расправа стала идеей фикс, поглотившей душу императора?.. Утверждать такое – значит ровно ничего не понять в душевной сути Александра. Не так уж трудно допустить, что ему были знакомы чувства мстительного торжества и сладости победы над поверженным врагом, а то, что он отдал этой победе годы, силы и жертвы, и догадок не требует – это на поверхности истории… Но это всё не были цели. То были обстоятельства жизни, в которые он попал в том числе и по своей вине. От них некуда было деться, их надо было решать. Он взялся решать. И решил.
Конечно – мы можем ещё раз это подтвердить – когда Александр входил в европейскую политику, он не представлял себе, во что угодил. Но не входить, во-первых, было нельзя, а во-вторых, когда вошёл и осмотрелся, то содрогнулся от увиденного и от того, что войти можно, а выйти никак… К тому же вошёл, прямо скажем, неудачно, своими же непродуманными маневрами завёл себя в такую позицию, из которой невдомо как выбираться. А выбираться надо! Конечно, хорошо бы заниматься стратегическим переустройством государства, оставив все прочие, мешкотные и хлопотные дела… но ведь это не более, чем мечты. Не дадут спокойной жизни, не позволят творить и созидать без помех… И прежде всего злой гений современности Бонапарт.
Александр умел «держать удар», жизнь научила. Да, он хотел и стремился заниматься реформаторским творчеством, избавив себя от рутины, благо и помощники толковые отыскались – Сперанский, Аракчеев… Но ясно было и то, что такого счастья ждать неоткуда. Если дела внутренние ещё можно перегрузить на Аракчеева и соответствующих министров, то дела внешнеполитические приходилось держать под контролем самому.
Небольшая справка о министрах «внутренних»: 24 ноября 1807 года ушёл в отставку Кочубей, поправлять пошатнувшееся здоровье. Его сменил Алексей Куракин (брат всё того же Александра Куракина, которого император счёл нужным отправить послом в Париж). А в 1810 году на министерский пост заступил Осип Петрович Козодавлев, образованный, культурный, здравомыслящий человек, отметившийся и в русской литературе… Он прослужил в министрах долгие девять лет.
Александр смотрел на ситуацию исключительно реально, если можно так сказать; то есть всё оценил и сделал верно. Не то, чтобы дела у него пошли как по маслу, в сложнейшей и тяжелейшей игре это просто невозможно. Однако именно ему удалось решить задачу, прежде никем не разрешимую: заманить Наполеона в роковую западню. Тот из неё не выбрался.
2
Тильзитско-эрфуртский период – пик Наполеоновской гегемонии в Европе. Правда, и потом расширение его державы продолжалось, и она по-прежнему выглядела непобедимой, но время показало, что то была, скорее, инерция… Главной мишенью неугомонного императора оставалась Англия, и чем отчаяннее напрягал он силы в стремлении удавить ненавистное ему королевство, тем их меньше оставалось у него. Империя, кое-как, на живую нитку скрепленная, изнемогала от государевых затей.
Континентальная блокада не давала должного эффекта. Наполеон норовил закрыть для англичан все европейские порты, но это было невозможно, британские товары перевозились на нейтральных судах; к тому же французский флот, если брать в расчёт весь мировой океан, не мог соперничать с английским – ни как военная, ни как коммерческая сила. Всё это Наполеон, бесспорно, понимал, но понимал он и то, что обратного хода него нет: только вперёд, ещё больше, ещё дальше… Ну так что ж? у него до сих пор всё получалось, получится и впредь. Кто сомневается в могуществе империи, может проверить. Он, император Наполеон I, развеет эти сомнения.
И развеивал. Его держава воевать не прекращала.
После Тильзита Россия вроде бы сделалась союзницей Франции. Условной, конечно, но всё же в сложившихся обстоятельствах худой мир был лучше доброй ссоры… Пруссия ничего не могла противопоставить сверхдержаве Наполеона: юридически оставаясь независимым государством, фактически она согнулась в три погибели под Бонапартовой пятой. Фридрих-Вильгельм не смел и шагу ступить без негласного одобрения из Парижа. Но к 1809 году более или менее ожила Австрия, отошла после надругательства над ней в Пресбурге. Заключённый тогда, в 1805 году мир лишал Вену её традиционного приоритета в Центральной Европе – конечно, для Франца это было тяжкой невзгодой, но до поры до времени он вынужден был молчать. А в 1809 году ему почудилось, что время молчания прошло, и теперь в полный голос могут заговорить австрийские пушки.
Надо признать, что горькие уроки Ульма и Аустерлица для австрийцев не прошли даром. Они cумели реорганизовать, модернизировать и отмобилизовать армию, сделав её куда более боеспособной – и война 1809 года, называемая войной Пятой антифранцузской коалиции (Австрию, разумеется, поддержала Англия), не стала для Наполеона сплошной феерией побед. Теперь они давались с трудом.
Австрийцы просто вынуждены были научиться воевать по-новому. В битве при Асперне 21–22 мая Наполеон формально даже проиграл: он безуспешно атаковал защитные порядки австрийцев и, понеся тяжёлые потери, вынужден был отступить. Военные историки отмечают, что в этом сражении Бонапарт действовал неряшливо, управление войсками было не на высоте [10, т.3, 251]… Тем не менее выводы из неудачи он сумел сделать. В решающей битве под Ваграмом – 5–6 июля – Наполеон победил, хотя далеко не столь блестяще, как в Аустерлице. Французы имели значительное превосходство в силах, просто задавили противника массой, при этом разгрома не добились: противник отступил в порядке, сохранив боеспособность.
Правда, сам Наполеон считал Ваграм одним из самых памятных своих достижений; но то было, вероятно, восприятие этой победы как «волевой», говоря спортивным языком – победы над неудачно поначалу сложившимися обстоятельствами.
Но как бы там ни было, победа есть победа. А поражение – поражение, и горе побеждённым. В Шёнбрунне [дворцовый комплекс в Вене, имперская резиденция Габсбургов – В.Г.] позаседали, поломали головы и с прискорбием решили: увы, и в этот раз оптимистические прогнозы оказались ошибочны… Австрийская империя признала себя побеждённой.
Мирный договор был заключён 14 октября в Вене (иногда его называют Шёнбруннским миром). Австрия по факту переставала быть независимой политической силой. Наполеон отчленил от неё изрядные куски: часть в пользу непосредственно Франции, а часть с барского плеча передал вассальным государствам Рейнского союза. И уж, разумеется, Австрия разрывала союз с Англией и присоединялась к континентальной блокаде.
Очередной успех, в очередной, казалось бы, раз подтвердивший избранность, раззадорил Бонапарта пуще прежнего. Задор этот бурным потоком устремился по двум основным руслам: во-первых, император продолжил территориальные приобретения (об этом позже), а во-вторых, решил окончательно, чтобы уж ни с какой стороны к нему никто не мог придраться, закрепить свой императорский статус.
Конечно, к этому времени императором его титуловали все, кроме разве что Англии – но всё же Наполеона, видимо, глодал внутренний червячок: что бы ни пели подобострастные умники про Карла Великого, как бы ни раболепствовали, ни ползали в пыли герцоги, князья и даже короли… себя-то не обманешь, память не переделаешь. А память, досаждая, подсказывает, что он, Наполеон Бонапарт, сын захудалого корсиканского дворянина, парвеню. Габсбурги привычны к тронам более трёхсот лет, Гогенцоллерны – все четыреста, Романовы – почти двести: уже прапрадеды Франца, Фридриха и Александра были владыками, а он?.. Досадно, что там говорить. И где династия? Сорок лет не шутка, по тем временам возраст совсем зрелый – а законных детей у императора нет.
Был у него сын от любовницы, польской графини Марии Валевской – но с монархической точки зрения это, конечно, не являлось династическим феноменом…
Здесь не место входить в подробности отношений Наполеона с его первой супругой Жозефиной Богарне. Скажем лишь, что политика и власть были главной страстью в его жизни, всё прочее пред этим меркло; можно сказать, что он умел это прочее гасить бестрепетно. И в том, что он затеял расторжение брака с Жозефиной – только политика, ничего личного. Наполеон стал искать спутницу дальнейшей императорской жизни в царствующих домах Европы.
Впервые он вздумал свататься ещё в Тильзите, к любимице Александра Екатерине Павловне, сообщив об этом самому царю. Тот стал в тупик: что делать? Попробовал осторожно поговорить с сестрой – она расплакалась и заявила, что скорее выйдет замуж за последнего русского истопника (почему-то именно эта профессия фигурировала в её решительном отказе). О матушке же, Марии Фёдоровне, и говорить нечего, та и слышать не хотела про «разбойника».
Но женщинам вольно причитать и ругаться, а объясняться-то с женихом пришлось Александру, как главе семьи… Впрочем, вопрос этот как-то благовидно затёрли, Екатерину выдали замуж – конечно, не за истопника, а за герцога Ольденбургского, одного из немногих германских князьков, оставшихся вне Рейнского союза. Но прошло немного времени, и Бонапарт свои поползновения возобновил. Теперь он обращался к русскому императору как к партнёру, союзнику и даже как бы другу. Коли друзья, то отчего б не породниться?.. Логично!
Мы помним, что супруги Павел Петрович и Мария Фёдоровна отменно потрудились на поприще отечественной демографии. Десять детей – серьёзная работа, по нынешним временам Мария Фёдоровна получила бы орден «Мать-героиня». Шесть девочек, четыре мальчика. Причём рождались они в интересной последовательности, не очень согласуемой с теорией вероятности: два мальчика (Александр и Константин), потом все шесть дочерей подряд (Александра, Елена, Мария, Екатерина, Ольга, Анна), и замыкающими опять два сына: Николай и Михаил.
К описываемому времени (1809 год) из шести принцесс трое, увы, уже покинули этот свет: пятая дочь Ольга умерла во младенчестве; самая старшая, Александра, та, что в 1799 году вышла замуж за австрийского эрцгерцога Иосифа, скончалась через два года после замужества, и, наконец, вторая дочь Елена, также в 1799 году став герцогиней Мекленбург-Шверинской, почила в 1803-м. Из трёх оставшихся две: третья Мария и четвётрая Екатерина были замужем, причём Екатерина, повторим, за герцогом Гольштейн-Ольденбургским – этот факт в недалёком будущем сыграет большую роль!
Таким образом на выданье у Александра оставалась самая младшая его сестра Анна – на неё-то и простёр вожделеющий взор Наполеон. То, что невесте отроду едва исполнилось четырнадцать годков, сорокалетнего корсиканского «мачо» ничуть не смущало.
В Петербурге вторичное Бонапартово сватовство встретили, мягко говоря, без восторгов. Конечно, какие-то соответствующе-вежливые слова прозвучали, но о свадьбе Александр даже не думал. Есть ли это пресловутая его проницательность, уже тогда предсказывавшая ему скорый крах новоявленного Карла Великого?.. Кто знает. К тому времени у Александра было достаточно поводов убедиться в том, что в азарте и вдохновении Наполеона нет ничего, кроме всепоглощающей страсти повелевать – а если и есть некие попытки решить социальные проблемы, то всё равно в ореоле персонального владычества, так, чтобы он, Наполеон, был всеобщим благодетелем, и все бы восхищённо благоговели и трепетали перед ним.
Александр сумел увидеть это, сопоставить со своей личной сверхзадачей и убедиться, что она выше и значительнее. Следовательно, всё лишь вопрос времени. И – гениальный вывод: надо просто ничего не делать. Пусть время идёт. Надо подождать.
Он ждал. А время шло и подтверждало правильность этой теоремы.
Причём первый любопытный звоночек прозвучал для царя ещё в Эрфурте. Обыкновенно про такие ситуации говорят «как гром с ясного неба» – но в данном случае звякнуло совсем тихонько, даже не звякнуло, а скорее шепнуло, и уж совсем не с неба, тем более ясного. Потому что источником шепота был не кто иной, как Талейран [64, 491].
Умнейший циник, к тому же много лет наблюдавший Наполеона лицом к лицу, он ещё раньше уловил тревожные знаки из будущего. В 1807 году он официально оставил пост министра иностранных дел, хотя от двора не отошёл и по-прежнему формировал французскую внешнюю политику, а вернее сказать, свою собственную, рассуждая совершенно здраво: Наполеон-то кончится, а мне жить дальше… Исходя из этого мудрого посыла, он в Эрфурте секретно снёсся с Александром, предлагая свои услуги в качестве тайного агента, по существу «агента влияния» (несколько позже Талейран с тем же предложением вышел на Австрию, а именно на будущего титана мировой дипломатии Клеменса Меттерниха, в 1806-09 годах посла в Париже, а с 1809 года министра иностранных дел).
Конечно, эрфуртские происки Талейрана сильно отдавали провокацией, но сам он прекрасно понимал, что Александр точно так и должен воспринять их, а потому постарался убедить царя в своей выгоде – и очень разумно сделал, так как слова «искренность» и «преданность» в его устах насторожили бы кого угодно.
Ещё бы Талейран не поступал разумно! Он настолько приучил всех к тому, что ни одного жеста, ни одного взгляда у него не бывает просто так – что когда, наконец, он умер, парижские остряки пустили злую шутку: «Интересно, ну а это зачем ему понадобилось?!..»
Впрочем, Александр и так вряд ли поверил Талейрану до конца. Он, вероятнее всего, поразмыслив, решил: если это правда, хорошо; если ложь, тоже ладно, пусть думают, что я попался на крючок. А я уж найду способ проверить, будет ли князь (этот титул Талейран получил от Наполеона) поставлять достоверные сведения, или же это очередная его бесовская уловка.
Что верно, то верно: русское посольство во Франции достигло немалы успехов в сборе разведданных. Старый интриган Куракин, вращаясь в парижском высшем обществе, без особых усилий сумел найти продажные источники ценнейшей информации. Преуспели на сей ниве и молодые дипломаты, впоследствии сделавшие блестящие карьеры: Карл Нессельроде и Александр Чернышёв (последний в ранге военного атташе сопровождал Наполеона на войну с Австрией). Анализ и осмысление поступавших из Франции данных укрепляли царя в правильности стратегического вывода: могущество Бонапарта – химера, гримаса несчастного мира, изувеченного революцией… А отсюда следовал вывод тактический: время работает на нас. Впрочем, насчёт того, что надо просто сидеть сложа руки, а «эффект Наполеона» иссякнет сам собой – это, пожалуй, метафора. Следует осторожно и неуклонно помогать французскому коллеге двигаться к пропасти. Возможности для того есть.
Здесь следует заметить, что в данном случае Александр концептуально разошёлся со своим министром иностранных дел, Румянцевым.
Следом за Чарторыйским МИД чуть больше года возглавлял А. Я. Будберг, но после Тильзита император счёл нужным доверить этот пост Румянцеву, не освобождая того от должности министра коммерции…
Между строк заметим, что Румянцев оказался первым и последним в истории нашей страны министром коммерции (если не считать внесистемного существования этой должности при Павле I). В 1810 году ведомство было упразднено – его влили в министерство финансов – и больше под таким названием в структуре отечественной исполнительной власти не возникало.
Румянцев был сторонником идеи франко-русского раздела Европы: он считал, что в Европе есть ещё что делить, и две могущественные державы, одна с Запада, другая с Востока, сумеют расчленить континент к обоюдному удовлетворению. Александр, прогнозируя будущее Наполеона и его империи, оказался в итоге более дальновиден, однако министр-франкофил был ему тогда выгоден – чтобы за ним, как за ширмой действовать обходными путями. Чернышёв, Нессельроде, Иоаннис Каподистрия, грек на русской службе – вот они-то и сделались главными проводниками основной, тайной политики царя.
Итак, непрошеному жениху вновь отказали, постаравшись, разумеется, чтобы отказ звучал как можно более тактично и убедительно. Наполеона это наверняка задело – не пристало властелину полумира получать такие отказы – но хорошую мину он сохранил, ссориться с Александром отнюдь не желая. Да и на Анне Павловне свет клином не сошёлся: после Шёнбруннского мира Бонапарт мог с Австрией делать всё, что угодно, вот и угодно ему стало заключить династический брак с дочерью Франца Марией-Луизой. Захотел – и сделал, а Францу оставалось только играть роль счастливого папеньки невесты… Родившийся вскоре у супругов сын радовал императора едва ли не больше всех побед и завоеваний: этот младенец в отличие от своего отца был потомственным аристократом, потомком не только Бонапартов, но и Габсбургов – и впереди у него расстилалась расчищенная отцом дорога к безграничной власти…
Чего никогда не случилось.
3
Итак, с женитьбой Наполеон достиг своего. Это открывало перед ним новые перспективы: отныне Австрия делалась не просто союзной, а, по сути, вассальной державой… С европейской же государственностью второго сорта император если и раньше не очень церемонился, то теперь отбросил какие бы то ни было подобия приличия.
Государство Нидерланды в те бурные годы пережило ряд трансформаций. До 1795 года там правил так называемый статхаудер – буквально «держатель государства», президент, если угодно – со вполне королевским именем Вильгельм V. Он принял участие в войне против революционной Франции (Первая антифранцузская коалиция) потерпел полный разгром, после чего со своей властью расстался: французские войска при поддержке местных сочувствующих его «держание государства» прекратили. Была провозглашена республика, которую патриотично назвали Батавской (подобно Гельветической в Швейцарии; батавы – древнегерманское племя, жившее некогда на территории Голландии). Эта республика тут же заключила военно-политический союз с «большим братом» – Республикой Французской, что вскоре обернулось вовсе не той стороной, на которую, вероятно, рассчитывали: Наполеон республику ликвидировал, но от её завоеваний отказываться отнюдь не собирался. Он сделал Нидерланды монархией, а на престол – трепещите, враги! – посадил ещё одного своего брата, Луи.
Тот, правда, оказался монархом никчемным, правил нерешительно, вяло и безынициативно, чем немало старшего брата раздражал. Какое-то время Наполеон терпел это вялотекущее правление, но кончилось тем, что он упразднил даже такую государственность, поступив с Голландией точно так же, как с Папской областью: совсем уж незамысловато включил в состав Франции и разделил на департаменты.
Это произошло в июле 1810 года. Декабрь ознаменовался захватом швейцарского кантона Валлис, а в следующем году были оккупированы немецкие территории: части герцогства Берг и королевства Ганноверского, бывшие вольные города Гамбург, Бремен и Любек, а также герцогство Ольденбургское – то самое, принцессой которого стала Екатерина Павловна [31, т. 1, 482].
Все эти ассимиляции, кроме последней, прошли как по маслу: никто в Европе не посмел произнести ни слова; наверняка бы сошло тихо и по поводу Ольденбурга, не будь у тамошней правящей фамилии такого могучего, как Александр I, родственника.
Надо сказать, что супруг Екатерины Павловны, принц Георг Ольденбургский, предпочёл жить в России. Что соврешенно понятно: Александр от царских щедрот назначил шурина генерал-губернатором целых трёх околостоличных губерний, крупных и не бедных: Тверской, Новгородской и Ярославской, что и по территории и по населению было как полтора десятка Ольденбургов. Мало того: император назначил принца Георга руководить новым департаментом на правах министерства, Главным управлением путей сообщения (один из немногих плодов «500 дней») – дело неосвоенное, интересное… Администратором принц оказался неплохим.
Но при всём том лишиться родной вотчины, конечно, горько. Александр, как покровитель сестры и её семьи, просто обязан был заявить протест – строго говоря, Наполеон посягнул на его, Александрову, собственность. И сам Наполеон это, разумеется, понимал. И, вероятно, был готов к формальному протесту, на который ответил бы столь же формальным опровержением… так дело бы само собою и сошло на нет. Но оно вдруг повернулось совершенно иначе.
4
Здесь придётся сделать очередной экскурс в прошлое – относительно того прошлого, о котором речь. Недалёкое, впрочем.
В 1772-95 годах некогда большое и мощное, а к этому времени одряхлевшее и беспомощное государство Речь Посполитая последовательно расчленялось ярыми, бодрыми, агрессивными державами – Россией и Пруссией, а также примкнувшей к ним Священной Римской империей, которая сама была на излёте, но не преминула, конечно, отхватить изрядные куски от соседа, впавшего в глубокий маразм. В 1795 году состоялся третий, последний раздел Польши. Более чем на сто лет она, как самостоятельное государство, исчезла с политической карты мира.
Конечно, польские патриоты никогда не смирились с унижением Отечества, стремясь восстановить его разными способами, как военными, так и дипломатическими. Александр, как известно, к полякам относился сочувственно, трагизм их положения понимал – недаром Чарторыйский оказался одним из ближайших к нему людей. Возможно, вполне возможно, что император взялся бы за восстановление польской государственности, но его опередил… Бонапарт!
В Тильзите Александр как мог отстаивал интересы Пруссии – хотя и в самом деле мог не многое. При этом – чего греха таить, политика есть политика: подвернулась возможность поживиться за счёт Фридриховых владений, города Белостока с небольшой округой – и русский государь эту возможность упускать не стал. Другое дело, что не прояви он твёрдость в некоторых пунктах, Прусского королевства как такового могло бы вовсе не остаться… А так – бытие, конечно, ущербное, но, как говорится, спасибо и на том.
Тильзитским миром Пруссия действительно обрекалась на многие ограничения её суверенитета, как то: порт Данциг объявлялся вольным городом (читай: французским), Висла – рекой, свободной для судоходства (читай: для французских судов), по прусским дорогам могли свободно передвигаться французские войска… От подобных огорчений скоропостижно скончалась королева Луиза; после этого Фридрих-Вильгельм III, и без того склонный к мистицизму, надолго впал в унылое самосозерцание.
Дочь Фридриха и Луизы Каролина, через годы ставшая русской императрицей Александрой Фёдоровной (супругой Николая I), до конца дней своих не могла спокойно вспоминать о Бонапарте, не могла простить ему тех унижений, страхов и бедности, которыми он навсегда отравил её детство[58, 73]…
Разумеется, Наполеон постарался и территориально обобрать меланхолика. Тот лишился практически всего, что приобрели два предыдущих Фридриха: Фридрих II-й великим трудом и тщанием, Фридрих-Вильгельм II-й необыкновенной удачей, плывшей к нему в руки… В том числе и польских земель, полученных в 1772-95 годах.
Бонапарт не был бы политиком, если бы не объявил громогласно о восстановлении польского государства и не провозгласил себя лучшим другом всех поляков на свете. Ход, оригинальностью не блещущий, зато беспроигрышный – в лице польской нации Наполеон нашёл самого преданного и искреннего союзника, пожалуй, единственного в Европе, кто служил Франции и её императору не за страх, а за совесть. «Польский вопрос» Бонапарт сумел решить в свою пользу.
Но опять же: он не был бы политиком, если бы взял и вот так сразу огорошил всех воссозданием независимой Речи Посполитой. Нет, конечно. Это была бы такая бомба, от которой не поздоровилось бы ему самому. Поэтому начал он с паллиатива: образовывалось так называемое Варшавское герцогство, государство, вошедшее в систему многоступенчатого вассалитета Французской империи, причём не на самую высокую ступень. Герцогство формально подчинялось саксонскому королю, тому самому изворотливому Фридриху-Августу, который и стал называться герцогом Варшавским.
Тем не менее – радуйся малому, тогда и большое сбудется; так гласит мудрая пословица… Большинство поляков восторженно приняли Наполеоновы дары. Пусть герцогство! – это ведь начало, первый шаг. За ним последуют другие, и так, постепенно, шаг за шагом, год за годом Речь Посполитая восстанет из праха, словно птица Феникс…
Наполеону пылкие мечты в шляхетских головах были, разумеется, выгодны, и он их исправно подогревал, не давая остыть. Что он думал на самом деле? – очевидно, каждый вправе домысливать за него, как хочет. Александру в Тильзите он торжественно обещал не восстанавливать независимой Польши: для России, имевшей покорённое польское население и ещё помнившей восстание Костюшко, это было бы подобно тлеющей головне возле парадного крыльца. Но варшавскую элиту Бонапарт, ясное дело, снабжал совсем другими обещаниями, и Александр знал об этом – собственно, тут не надо было быть Заратустрой, чтобы догадаться… А Александру и догадываться было незачем, он всё знал досконально.
К этому времени Чарторыйский, уйдя из министерства иностранных дел, проживал частным лицом у себя на родине, а именно в Варшаве, то есть на территории пресловутого герцогства. Той прежней дружбы, что во времена Негласного комитета, между императором и магнатом уже не было, но вполне товарищеские, рабочие отношения сохранялись, и Чарторыйский стал до некоторой степени агентом Александра в герцогстве. «До некоторой степени» – потому что у князя были собственные амбиции, которые, правда, в данном случае совпадали с интересами его прежнего государя. В столь профранцузском обществе бывшему русскому министру большого хода не было – к тому же была пущена в ход смутная легенда о том, что князь Адам был некогда рождён от русского посла в Варшаве Н. В. Репнина [16, т.1, 216]. Ни подтвердить, ни опровергнуть это, правда, ничем нельзя, зато распространить слух и жизнь князю испортить вполне можно…
Хотя он не тушевался и действовал довольно ловко. Ему удалось собрать в Варшаве «русскую партию», соблазняемую посулами Александра. Что мог предложить полякам наш император?.. Отчасти он предлагал демагогию, но всё же неверно считать его в этом случае лжецом. Он умел таковым быть и не стеснялся это делать – однако, умел быть и великодушен. «Польский вопрос» случай крайне нелёгкий, и здесь императору приходилось решать чрезвычайно сложную задачу – как влить патриотизм поляков в такое русло, которое не мешало бы движению огромного корабля под названием «Россия»… Есть основания считать, что он имел в виду реставрацию (тоже, очевидно, постепенную) пророссийского польского государства – но Бонапарт, бурей ворвавшись в Восточную Европу, превратил эти планы в бессмыслицу. Польское государство возродилось профранцузским, и лучшего плацдарма для войны с Россией – буде таковая назреет, Наполеону лучше не придумать. И уж, разумеется, понимал это Александр.
Они с Чарторыйским действовали достаточно грамотно, осмотрительно, и какая-никакая «русская партия» начала создаваться… Но тут царские интриги разгадал и забил тревогу военный министр Варшавского герцогства Юзеф Понятовский.
Понятовские – одна из знатнейших польских фамилий. В своё время блестящий аристократ Станислав Август Понятовский сделался на какое-то время фаворитом Екатерины II, и она вкупе с вездесущим Фридрихом Великим сумела провести бывшего конфидента на польский трон. Станислав Август занимал его долго – 31 год. Сказать, что он правил? это было бы некоторой натяжкой. Большей частью за него правили из Петербурга, Вены и Берлина. Екатерине он оставался послушен – наибольшие территории разделённой Речи Посполитой отошли именно Российской империи. И дни свои бывший король – уже после того, как царить ему было не над чем – окончил в России.
Станислав Понятовский остался в истории последним королём Польши. Его племянник Юзеф, в отличие от дяди настроен был резко антироссийски.
Он заподозрил в действиях Чарторыйского нечто сомнительное и даже опасное, и поднял шум. Это было нетрудно: в герцогстве на французов смотрели как на освободителей, а на русских как на врагов. Немногочисленные варшавские союзники Александра вынуждены были притихнуть. Попытка создать оппозицию провалилась.
Что дальше раздумывал Наполеон сделать с Варшавским герцогством? – вопрос, уводящий во тьму ненужных гипотез. А что было, то было… Играя между честолюбивыми поляками и Александром, Бонапарт не торопился повышать статус вассального образования, но и не забывал о нём, кое-какие преференции ему подкидывал. Шёнбруннский мир, усугубив австрийские печали, добавил герцогству Западную Галицию, чему в Варшаве, конечно, были рады, но вместе с тем и возжелали дальнейшего: аппетит, известно, приходит во время еды. И аппетит этот был больше, нежели то, что мог предложить император Франции.
Отметим: Шёнбруннский мир принёс небольшую добычу и России. Ей отошёл город Тернополь (ныне Украина) с округой. Ход Наполеона понятен: и Александру хорошее дело сделал (тот от подарка не отказался) и Францу свинью подложил (а этот, по расчёту Бонапарта должен был затаить обиду) – а тем самым и Александру жизнь отравил тонко, комбинационно… Но Александр был дальновиднее. Он готов был пережить обиду Франца, предвидя, что вскоре Наполеон обидит и Австрию и Пруссию так, что никаких других эмоций у них больше не останется… И эта догадка оказалась верной.
Sic transit gloria mundi! (мирская слава проходит быстро) – безымянный римлянин, впервые сказавший это, наверное, так никогда и не узнал, насколько он был прав. Властители, избранные, вознесённые, держащие в руках незримые нити человеческих судеб… всех их растворило прошлое, их тени бледнеют в архивных полках, и кому из наших современников дело до тех, кто некогда царил над миром?.. Они такие же тени, как все тени Аида, а их бывшие власть, могущество, богатство – тени теней. Столетья – призраки! Наша планета идёт сквозь них, меняя очертания материков и океанов, рождая и низводя в ничто леса, долины, реки и озёра, стада ящеров, зверей и творения рук людских… Время уносит всё. Или не всё?.. Во всяком случае, власть земную уносит напрочь – и следа не найти.
Сейчас события двухсотлетней давности кажутся полуразмытыми безмолвными картинками: это естественно, и ничего нет удивительного в том, что многое из того прошлого мы открываем для себя заново. Давно забытое старое оказывается новым – ещё одна расхожая мудрость, которая неизменно напоминает о себе, когда хочешь разобраться в делах минувших дней…
Политические деяния Александра Павловича Романова сделали своё дело и теперь тают в уходящем от нас времени. Но всматриваясь в прошлое внимательно, мы можем увидеть, как в дипломатии 1809-12 годов проглядывают черты Александра-метафизика, собеседника вечности, сумевшего провести сложную, опасную, рисковую игру с редким самообладанием – точно он совсем уверился в том, что его ведёт сила высшая, чем у императора французов, калифа, час которого растянулся на несколько лет…
Александр начал свой путь к победе.
5
Протест против захвата Наполеоном Ольденбурга действительно мог быть сугубо, так сказать, представительским: данью международным ритуалам. Но Александр постарался испортить жизнь Бонапарту по всей программе. Сначала он выразил возмущение, зная, что результата это не принесёт – оно и не принесло; тогда он сделал Бонапарту предложение, опять же зная, что на него согласия не будет никогда.
Что же предложил Александр?..
Если перевести это с языка дипломатических ухищрений на нормальный русский разговорный, то получится примерно следующее.
Ваше величество! – с невинно-дружеским видом заявил русский император. Да, я готов вникнуть в Ваше положение: Вам необходим контроль над Балтийским побережьем. Понимаю. Потому Бог с ним, с Ольденбургом – но согласитесь, что и меня положение обязывает… Я не могу оставить это просто так, меня не поймут на родине. Поэтому я предлагаю компромисс: передать в подданство России часть герцогства Варшавского! Совсем небольшую часть. Многого нам не надо. Так мы и разрешим это пустяковое недоразумение… Засим остаюсь с совершенным почтением, Ваш друг и брат Александр.
Наверное, он даже улыбался про себя, представляя реакцию Бонапарта. Для того Польша была самым ценным изо всех приобретений, ею он дорожил всего пуще, и ни малейшей мысли не мог допустить о том, чтобы хоть как-то разочаровать поляков – единственный от всей души преданный ему народ. А тут такое изощрённо-оскорбительное предложение!.. Вспыльчивый корсиканец впадал в бешенство и по куда менее значимым поводам, а гнев его выражался иной раз очень причудливо. Александр сам в Эрфурте был свидетелем того, как Наполеон, разъярённый каким-то неподатливым пунктом в переговорах, с размаху швырнул на пол шляпу и растоптал её в блин.
Нужно, правда, сказать, что Наполеон даже в припадках ярости (неподдельной!) сохранял контроль над собой. Пока он истреблял свою легендарную треуголку, Александр бесстрастно и несколько отчуждённо смотрел на эту безобразную сцену, а потом вежливо заявил, что ему, пожалуй, лучше всего удалиться, а разговор продолжить завтра. Наполеон мигом переменился – точно не бесновался только что; и так же вежливо стал просить собеседника остаться.
Поэтому Александр мог улыбаться, предвидя новую адскую пляску Бонапарта, которому, несомненно, ясен подтекст русских предложений: изысканно-ехидное издевательство. И намёк. Если раньше Наполеона одолевали косвенные подозрения насчёт того, что его непростой византийский собрат темнит и лукавит, то сейчас он получил доказательство – правда, по форме тоже косвенное, но по содержанию прямое. Александр из дружеских тильзитско-эрфуртских объятий ушёл.
Впрочем, можно считать, что прямые доказательства были и раньше: в России континентальная блокада действовала с многочисленными прорехами, а в самом конце 1810 года были введены новые таможенные пошлины, сразу сделавшие нерентабельным импорт французских товаров. Наполеон и по этому поводу немало сердился, а Александр резонно оправдывался «защитой отечественного производителя»… Так что, правду сказать, монархи с самого начала своей взаимно-принудительной дружбы сознавали, что когда-нибудь она лопнет, и сумма подтверждений мало-помалу накапливалась. Но Бонапарта особенно уязвило то, что союзник, по-видимому, совершенно сознательно и целенаправленно портил жизнь Французской империи в момент наивысшего напряжения её сил, когда она затягивает последние удавки, наконец-то должные удушить строптивую Британию!..
А в самом деле, возможно было бы так, чтобы Россия и Франция поделили бы континентальную Европу на зоны влияния и держали бы её под контролем с востока и с запада? – вариант, который горячо отстаивал Румянцев и к которому в значительной степени склонялся Сперанский. Возможно ли?..
Нет. Александр был стопроцентно прав. Он угадал характер Наполеона, а соответственно, и его державы. Власть ослепила Бонапарта, и он упоённо смотрел в неё, уже не сознавая, что смотрит в кривое зеркало, видя в нём то, что ему обманно подсказывает своенравная судьба…
Не вышло бы баланса – даже при том, что оба императора на самом деле по-человечески неплохо относились друг к другу. И даже если предположить – маловероятно, но предположим! – что неистовая южная фантазия угомонилась и ограничилась одной Европой, то и в этом случае Бонапартова держава смотрелась бы Вавилонской башней, построенной на песке. У неё не нашлось бы стимулов прочно скрепить разноязыкое царство, обитатели которого, кроме французов и поляков, боялись и ненавидели своего великого, ужасного и вместе с тем в чём-то нелепого и даже забавного властелина.
Но сам-то властелин этого не видел. А когда он с горечью убедился в том, что Россия, числясь в союзниках, тайком стремится максимально ослабить Францию – то он, может быть, и бушевал, швыряя мебель и предметы помельче, но вывод сделал хладнокровно и решительно: Россию надо остановить.
Как?..
6
С тех пор, как Московское царство, неудержимо разрастаясь во все стороны, на западе упёрлось в уже сформировавшуюся, разделённую на множество владений Европу – для всех последующих поколений европейских политиков среди прочих забот и головных болей неизменно присутствует одна: как жить рядом с таким колоссом. Как выстроить прочную ограду, которая может сдержать напор огромных, пугающих восточных пространств?..
Нам не стоит обижаться на это: у европейцев есть для того свои резоны. Надо работать – спокойно, терпеливо, методично, отстаивая свои интересы, и стараясь не упустить ни малейшего выгодного эпизода… Наши предки поработали неплохо: сумели поставить дело так, что история мира без России немыслима. Иметь её в союзниках – значит, иметь одного из тузов в игре, где ставка больше жизни. Заслон заслоном, но ворота в нём Европе необходимы, чем отечественная дипломатия с переменным успехом пользуется и поныне. У европейских стран тоже ведь интересы разные: кто-то хочет, чтобы кордон был как можно крепче, кто-то, напротив, норовит проделать в нём отверстие…
В XVII–XVIII веках функции «восточного забора», за которым теоретически надо бы держать Россию, выполняли три крупные державы: Швеция, Речь Посполитая и Оттоманская империя – от севера к югу. С середины XVIII столетия ситуация начала меняться: Швеция и Польша заметно ослабели, последняя вскоре стала чахнуть, чахнуть… и наконец, приказала долго жить. Не блистала на международной арене и Турция, зато освободилось место для Австрии, и особенно усилилась Пруссия: у этих государств отношения с Россией выстраивались непростые, однако, скорее терпимые, чем враждебные… Но с явлением Наполеона в Восточной Европе всё перевернулось.
В 1811 году Наполеон не без оснований рассчитывал, что изолировать Россию ему не составит труда. В самом деле: все европейские соседи Александра могли (не без помощи французской дипломатии!) считать себя обиженными Российской империей. У Швеции была отторгнута Финляндия, у Пруссии – Белосток, у Австрии – Тернополь. У Варшавского герцогства, конечно, ничего отторгнуто не было, но там антироссийские настроения были и без того в самом высоком градусе ожесточения, а кроме того, Наполеон, конечно же, не преминул довести до сведения поляков предложение Александра отвести под русскую корону часть герцогства – от этого шляхетский гордый дух воспылал гневом до небес… Турция же и вовсе находилась в состоянии войны с Россией.
Все эти государства, кроме Турции, Наполеон самоуверенно полагал в той или иной степени зависимыми от него и принуждёнными: мол, стоит ему, Наполеону, повелительно указать перстом, как все они послушно и охотно выстроятся теперь уже не в антифранцузскую, а в антироссийскую коалицию…
Но данные предположения грешили неоправданной самоуверенностью.
Почти все упомянутые страны действительно были так или иначе стиснуты Французской империей – что верно, то верно; но вот насчёт того, что все они радостным строем пойдут в восточный поход – серьёзных оснований быть не могло; планы Наполеона в этом направлении отдавали самым тривиальным авантюризмом…
Рассмотрим данную ситуацию подробнее.
Турция. Что касается Турции, то ещё в 1807-08 годах велись переговоры между Румянцевым и послом Наполеона в Петербурге маркизом Коленкуром на предмет франко-русского расчленения дряхлого Оттоманского царства. Коленкур, представитель старой родовитой аристократии, к России относился с большой симпатией, с Румянцевым они отлично друг друга понимали; но у Наполеона уже тогда были свои планы по Ближнему Востоку: он находил, что ему выгоднее цельная Турция в противовес российскому влиянию – и переговоры кончились ничем.
Поэтому вялотекущая русско-турецкая война продолжала тянуться и тянуться – что совершенно устраивало Наполеона и никак не устраивало Александра. В начале 1811 года он поставил перед главнокомандующим Молдавской армией Кутузовым задачу: в кратчайшее время разобраться с противником.
Задача была весьма трудная. Кутузов располагал ограниченным контингентом – часть его войск перебросили севернее, к западным границам. В Молдавской армии осталось 45 тысяч человек. Немного. Но хитроумный старец справился блестяще. Нестандартными и решительными действиями он начисто разгромил турок; а затем ему пришлось вспомнить, что он не только полководец, но и дипломат, причём специалист именно по Востоку (в 1792-94, ещё до Кочубея, был послом в Стамбуле). И вновь ему всё удалось! Он сумел заключить мир на выгодных для России условиях [31, т.1, 484] – а произошло это в Бухаресте 16 мая 1812 года, то есть до начала «большой» войны, несмотря на колоссальное противодействие французской дипломатии, стремившейся всеми правдами и неправдами связать Россию на её юго-западных рубежах. Не вышло! На этом фланге никакого кордона создать не удалось.
На Кутузова пролился золотой дождь наград – как по дворянской, так и по служебной части. 29 октября 1811 года он стал графом (за военные успехи), а 29 июля 1812 года – светлейшим князем (за достижения дипломатические)… Ну, а дальнейшее общеизвестно.
Обидный провал ждал Бонапарта и на противоположном, северном фланге. Хотя, казалось бы, логика здесь прямая и неоспоримая: Швеция жестоко обижена Россией, следовательно, с радостью должна примкнуть к коалиции – да и заправляет ею как-никак бывший француз, с которым, правда, Наполеон не очень ладил, но теперь-то никаких оснований для неладов нет…
И этот расчёт тоже не сработал.
Ошибка императора была, похоже, в данном случае психологической. Он недооценил, а точнее, не очень понял Бернадота, хотя ему, Наполеону, никак не откажешь в практической психологической сметке. Но было это у него всё на бегу, поверхностно… во всяком случае, в глубь души бывшего своего соратника императору заглянуть не удалось.
А что там обреталось, в этой глубине? Разумеется, много чего, как и во всякой человеческой душе. Но прежде всего – огромное и голодное самолюбие, к тому же всё израненное ослепительными и сокрушительными успехами Бонапарта. Почему он, а не я?! – мысль, изнурявшая душевное естество маршала. Было бы пустым делом укорять его за это: лидерство – естественное качество полководца, иначе не полки ему водить, а дома на боку лежать; а у Бернадота к тому же имелись немалые причины огорчаться на странные прихоти судьбы. Действительно: сначала его карьера ринулась ввысь с космической скоростью – одновременно с ним такой же взлёт совершил ещё один революционный генерал, Бонапарт; но он-то потом стал безраздельным повелителем, а Бернадот, хотя и достиг воинских вершин, всё-таки, что ни говори, очутился в подчинённых. Обидно! – начинали некогда вровень, и вдвойне обидно, что обогнавший на шесть лет моложе.
Но вдруг судьба решила исправить свою неправду и тоже посадила маршала на трон. Точнее говоря, не совсем на трон, но фактически, конечно, он сделался главой государства… Самолюбие утешилось. Зато родилась мстительная непокорность: Бонапарт по привычке вознамерился было помыкать наследником шведского престола, а тот, считая, что отныне с прежнего поводка ушёл, властные замашки императора воспринял как оскорбление. Это обстоятельство подметила наблюдательная русская дипломатия: она принялась щедро подкармливать ненасытное самолюбие Бернадота, на что принц тут же приветливо откликнулся. «Забудем прошлое. Я находился тогда в ужасных обстоятельствах и, клянусь честью, никогда не желал зла Швеции,» – извинительно говорил шведскому посланнику Александр, объясняя захват Финляндии [12, т.4, 366]. Русское правительство дало также понять, что оно ни словом не обмолвится, если правительство шведское заявит права на Норвегию, которая тогда являлась полуизолированной провинцией Дании (эта страна в декаду Наполеоновских войн пыталась сохранять нейтралитет, лавируя меж более сильными державами, но не очень это ей помогало). Швеция давно посматривала плотоядно на западную соседку, выдумывая свои права на неё – и потому предложение России пришлось как нельзя кстати. В Стокгольме тут же дали понять, что они готовы и Финляндию забыть ради такого блага.
Таким образом, «северный Тальма» Александр переиграл южанина Бонапарта и на севере и на юге. «Кордон» обвалился по краям. Плацдармом Бонапарта остался только центр.
В центре вроде бы Наполеон достиг немалых удач. Австрия с недавних пор стала для него родственной страной… да, собственно, это даже и не суть важно. В 1809-12 годах с правительствами Австрии и Пруссии он мог творить всё, что хотел. И к февралю-марту 1812 года он продавил союзные договоры с обеими странами. Согласно этим договорам Пруссия обязывалась выставить 20-тысячный, а Австрия – 30-тысячный контингенты на стороне Франции, в случае, если последняя начнёт войну с Россией.
Но эти достижения Наполеона действительно были – «вроде бы». Он мог давить на правительства, но не мог давить народы этих стран. Сам-то он полагал, что мог – он вообще считал, что может всё, и что ему какие-то там народы… Потом-то, конечно, он запоздало прозрел, но чтобы прозреть и понять суровые истины, ему понадобилось оставить в снегах России, в горячей пыли Испании сотни тысяч жизней – не солдат, людей, сотворённых по образу и подобию Божию… Но покуда не понял, он мыслил лишь дивизиями, корпусами, эскадронами, полагая, что это и есть настоящие орудия истории…
Он заблуждался.
Немецкие патриоты, конечно же, не могли смириться с тем, во что превратились германские государства под тяжкой Бонапартовой дланью и зорким приглядом. Ещё в 1808 году в Пруссии возникла организация непокорных – Тугенбунд (Tugendbund – «Союз добродетели»), объединявшая тех, кто ставил целью борьбу против французского влияния. Сначала это была партия легальная, и характер её деятельности был более культуртрегерский, нежели политический: собирались люди, говорили о славном немецком прошлом, вспоминали свободолюбивый нрав древних германцев, которых невозможно было обратить в рабство – они убивали сами себя, но не сдавались в плен. Такие разговоры, конечно, пьянили молодые горячие головы, и вот уже пошло сверканье глаз, биение кулаками в грудь… Наполеон какими-то путями узнал о подобных сборищах, недовольно прикрикнул на Фридриха-Вильгельма, и тот с перепугу «Союз добродетели» запретил. Но Тугенбунд продолжал собираться нелегально, распространился и на другие государства, приобретая всё более явно выраженный политический оттенок. Ничего реального он, правда, сделать не успел – дело решилось без него; однако, настроения, преобладавшие в германских обществах, выразил явственно. И государи знали об этих настроениях… О мелких тут говорить особо нечего, а вот Фридрих-Вильгельм и Франц, чувствуя себя между молотом и наковальней, за спиной Наполеона тайно общались с Александром, уверяя, что даже если их и втянут в войну против России, то они будут всячески эту войну саботировать. Что в этих уверениях правда, а что ложь – на совести монархов, но то, что от таких союзников Наполеону радости оказалось немного, несколько позже подтвердилось полностью.
Особенно не доверяли Наполеону и боялись его в Пруссии. Должно сказать, что он сам бестрепетной рукою рассеял там семена недоверия, обращаясь с этой страной до крайности небрежно – видимо, считал, что она доведена до такого состояния, при котором никакие политесы больше не нужны. Поведение императора одно время (к концу 1810 года) довело прусское правительство до отчаяния, возникла жуткая мысль о предстоящем тотальном уничтожении королевства [12, т.4, 253], и в Петербург полетели умоляющие просьбы – пруссаки соглашались едва ли не на русскую оккупацию, лишь бы избавиться от парижского покровителя.
Впрочем, тот увидел, что переборщил, спохватился и осадил себя, заговорив более милостиво. Тем не менее давления он не прекратил и, наконец, вымучил из обессиленной Пруссии пресловутый союзный договор.
Русскому императору, ведшему крайне деликатную игру, к тому же находившемуся в состоянии войны с Турцией (и с Персией, не надо забывать!) никак нельзя было не то, чтобы вводить войска в Пруссию, но даже ненароком продемонстрировать излишнюю симпатию к ней – это тотчас же вызвало бы острую и совершенно не нужную России реакцию Наполеона. Поэтому Александр, при неизменной своей любезности, к прусским мольбам отнёсся сдержанно, если не прохладно, чем, конечно, бывших союзников от себя отстранил. Но он сознательно пошёл на эту жертву и спокойно воспринял франко-прусский договор, ибо убеждён был в его непрочности.
Несколько большее беспокойство вызвал у него договор франко-австрийский; правда, Меттерних через доверенных лиц клялся и божился, что Австрия, случись война, будет максимально лояльной к России – но уж кому, как не Александру знать цену дипломатическим клятвам! Хотя в данном случае Меттерних мог быть почти искренним… однако мог и не быть. Поэтому позиция Австрии не могла не заботить Александра – не очень уж большое, но всё же тёмное пятно в его международной стратегии, которую он так тщательно и тонко выстраивал, и которая работала, реально работала! события разворачивались именно так, как Александр хотел. Результата ещё не было – но его и не должно было быть, стратегия рассчитывалась так, чтобы он проявился позже…
7
Стратегия императора! Можно назвать её провокацией. Можно – активным бездействием. Действительно, с сентября 1809 по июнь 1812 года государство Российское не предпринимало на европейской сцене никаких видимых движений, если не считать войны в Валахии – что никоим образом не равнялось отсутствию действий как таковых. Александр действовал, и один Бог ведает, чего это ему стоило! Его часто не понимали приближённые, даже самые близкие, на него каждый день обрушивалась тьма административных забот, придворные затевали вокруг него разные вздорные игры, он постоянно находился в поле столкновений интересов, самолюбий, своеволий и амбиций… Понятно, что такова уж государева жизнь – но ведь не каждому государю дано твёрдо держать должный курс в этом море, полном коварных невидимых рифов!.. Александр это сделать сумел.
Придётся повториться, но здесь тот самый случай, когда повторение благо. Исходный пункт стратегии: идея, руководящая Александром, императором Всероссийским, несомненно выше, чем призраки взбудораженного Бонапартова воображения. Правда, эти призраки вот уже который год держат Европу в плену совсем не призрачного ужаса – но ему-то, Александру, ясно, что рано или поздно они лопнут, рассеются… А вот с тем, чтобы это сделалось по возможности раньше, можно помочь.
И Александр взялся за это – помогать Наполеону выполнять невыполнимое. Он, продолжая именоваться союзником Наполеона, не просто саботировал этот союз и не только вёл свою политику втайне от французского императора. Нет, всё было куда сложнее, тоньше, психологичней. Александр должен был делать это так, чтобы Наполеон догадывался о неверности восточного коллеги – и не догадывался об истинных причинах этой неверности, точнее, причине, поскольку она одна: обман в данном случае не средство, а цель. Александр обманывал Наполеона не с целью обмануть, а с целью заставить поверить в обман и соответственно действовать; ну, а то, что ложные действия противника есть часть твоей победы – это азбука политики. Бонапарт есть противник?.. В этом Александр ничуть не сомневался.
В сущности, он провёл грандиозную спецоперацию. Ему удалось создать миф, который, как известно, сильнее фактов – Наполеон смотрел пьесу, где режиссёром был Александр. Он показывал, что его министр иностранных дел Румянцев и посол в Париже Куракин – ширмы, за которыми в Петербурге загадочно дымит своя кухня; он собирал войска на западной границе и стремился поскорее завершить войну с турками, чтобы высвободить силы для того же западного направления (на восточном Кавказе всё никак не мог закончиться конфликт с Персией, но он по масштабам был несопоставим с европейскими проблемами России)… Наконец, Александр позволил себе издевательские ультиматумы – насчёт Варшавского герцогства, скажем – заранее зная, что Наполеону их исполнить невозможно. Что же касается соблюдения режима континентальной блокады, таможенного тарифа… то об этом и говорить нечего.
Так что же должен был думать единственный зритель, для которого и предназначался сей спектакль? Наверное, подумать он мог всякое, но судя по тому, как события развернулись, подумал всё-таки то, что нужно Александру. А именно: что Александр, сохраняя маску показного дружелюбия, втайне пытается соединиться с врагами Французской империи. То есть враг-то, если не считать двуличного Бернадота, один: Англия. Вот уж – гневался в своей резиденции Тюильри Наполеон – вот уж корень всему, всем зловредным гнусностям!.. Конечно – Англия известный мошенник, а Александр хоть лукав, но недалёк. Наверняка англичане прельстили его какими-то ложными выгодами (они это умеют!), пообещали что-нибудь вроде того, что нужно, дескать, втихомолку накопить силы, да ударить с двух сторон одновременно – и Наполеонова держава расколется, как орех в клещах. Он, несчастный, поверил в это, сделался орудием в гнусных английских руках; пуще же всего поверил в то, что герцогство Варшавское – плохо замаскированный инструмент будущей агрессии против России! Что вернув части поляков независимость, Бонапарт, освободитель в их глазах, непременно взбудоражит польских подданных Российской империи, усыпляя бдительность Александра пустыми разговорами о том, что никогда не восстановит польскую государственность в полном объёме… Видимо, это так напугало царя, что он теперь спешно наращивает силы на западных рубежах, и кто знает, может быть, в страхе решится первым нанести удар по герцогству и по Пруссии – чего допустить нельзя.
Не поздно ли исправить это, попытаться убедить Александра в дружеских намерениях (правдивых или нет – другой вопрос), как в недавнем прошлом – в Тильзите, в Эрфурте?.. Может, и не поздно. Да вот стоит ли! Если русский император так слепо сам лезет в западню, то чего ради мешать ему? Вероятно, лучше было бы совсем не воевать с Россией, но если Александр так несуразно «подставляется»… ну что ж, значит, сам виноват. А не использовать момент грех. Что могут сделать русские войска, по крайней мере, в их нынешнем виде, с великой армией, вобравшей в себя всю Европу?.. Последний рывок на восток, последний удар – империя московитов развалится, и тогда будет открыт путь в Азию, в Индию… а уж известно, что стоит лишь коснуться Ганга острием французской шпаги, чтобы рухнуло всё величие Англии. И тогда Наполеон Бонапарт – повелитель мира!..
Фантомному повелителю, видимо, и в голову не могло прийти, что он думает так, как за него уже подумал Александр. Что он, в угаре мнимого всемогущества, влеком незримой нитью, которую без шума и громких слов держит в руках Император Всероссийский…
Александр разыграл эту пьесу блестяще – не убоимся такого эпитета. Его убеждённость кажется почти невероятной! – тем она ценнее. В сложнейшей обстановке мировой политики он сумел выдержать тот курс, что считал должным. И победил.
Ум, энергия и воля есть огромные плюсы при верно выбранной цели. Если же цель взята ошибочно, то эти плюсы превращаются в столь же гигантские минусы: чем больше ума и воли у человека, ступившего на ложный путь, тем страшнее будет крах. Александр смог отправить Наполеона на дорогу к миражам, и… и лучше всего здесь привести слова французского историка А. Вандаля, в которых звучит горький упрёк за Отечество – зарвавшемуся, ставшему маньяком власти императору:
«Мы проследили, как в течение шести месяцев он добивался этого результата, с каким искусством замедлял ход событий, какими глубоко рассчитанными маневрами то успокаивал, то насиловал Пруссию; как не спеша оплетал Австрию, как хитрил всё время, всюду, с непоколебимым упорством. Странное, невыразимо тяжёлое впечатление производит это зрелище: сердце сжимается от боли, когда видишь, как он неистово стремится к приобретению выгод, которые приведут его к гибели, сколько сверхчеловеческих усилий затрачивает он, чтобы добиться их; как терпеливо прокладывает себе пути к порогу той России, где закатится его счастливая звезда; с каким неподражаемым искусством обеспечивает себе путь к пропасти!» [12, т.4, 296]
8
С мастерством гипнотизёра подводя Бонапарта к роковому для того решению вторгнуться в пределы Российской империи, Александр, разумеется, исходил из своих очевидных преимуществ: бескрайних просторов родной страны, где растворится любая вражеская армада. Тот же Вандаль (в трудах которого, при всём их галльском патриотизме, явно заметны симпатии к России) объявил: «…Александр, озарённый пророческим ясновидением, видел спасение России именно в её обособленности, в то время, как он прекрасно распознал своих истинных и всесильных союзников – время, климат, природу и бесконечные степи…» [12, т.4, 288]. Сказано как-то даже слишком уж восторженно – вероятно, сказался эффект «обратного взора»; но в сущности-то, Вандаль прав. Хотя, где именно, когда и как родилась идея «скифской войны» – призрачной, заманивающей противника в никуда, в азиатский космос уходящих в бесконечность горизонтов?.. Скорее всего, это вовсе не редкий случай, когда идея носится в воздухе: когда одновременно или почти одновременно множество людей думают на одну и ту же тему, подбираются мыслью к одному и тому же решению – тогда идея постепенно обретает плоть, становится действиями, фактами, вещами… Конечно, бывает по-разному. В данном случае приоритет достался Александру – и это, очевидно, справедливо. Кто бы ни прикоснулся к идее первым, император есть император: он ответствен за всё, с него и спрос. А ответить на этот спрос он сумел.
Но разумеется, данная идея нуждалась в детальной, кропотливой аналитической проработке. Необходимо выбирать маршруты отхода войск, создавать базы и укрепрайоны, высчитывать количество пушек, ружей, пороха, обмундирования, провианта, фуража… Нудная, повседневная, тяжёлая работа, содержащая сотни вопросов и ещё большее количество ответов, порождающих всё новые и новые вопросы… несть числа заботам, сколько людей, столько и мнений, а уж в генералах-то вокруг Александра недостатка не было. И потому путей реализации «скифского» плана наметилось несколько.
По некоторым свидетельствам, сама идея – размазать, распылить Наполеона по необъятному русскому пространству – высказывалась Барклаем ещё в 1807 году, задолго до того, как он стал военным министром; а когда стал, то предоставил царю уже вполне подробно проработанную схему реализации этой идеи, и получил высочайшее одобрение [5, 166].
К этому времени император уже вовсю разыгрывал Наполеона политически – Барклаева идея явилась закономерным продолжением такой политики… Но тут вдруг возник близ Александра ещё один военный теоретик, предложил свой план. Это был некий генерал Фуль [в некоторых источниках Пфуль; исходно, по-немецки – Phull, а в отечественных источниках равно встречаются оба варианта написания – В.Г.]. Сей профессор стратегии отличился во времена Четвёртой коалиции: тогда он служил своей родной Пруссии и уже тогда ходил в теоретиках. Он и был составителем генерального плана боевых действий против Наполеона. Чем эти действия закончились, мы знаем: страшным разгромом в Иена-Ауэрштадтском сражении; однако Фуль не смутился даже ни на йоту. Он заявил во всеуслышание, что план замечательный, но его не выполнили, так как прусские генералы руководили из рук вон скверно, а боевой дух войск упал ниже некуда… Ну, что правда, то правда – так оно и было.
Вообще, странный, какой-то трагикомический персонаж был этот Фуль – одна фамилия чего стоит! Если уж Барклая-де-Толли наши изобретательные солдаты ухитрились прозвать «Болтай, да и только», то каким псевдонимом они бы покрыли Фуля?.. – каждый волен догадываться сам.
Тильзитский мир лишил «академика» возможности применять свои таланты на родине, и он перебрался в русскую службу, вскоре оказавшись в свите императора. Александр почему-то счёл Фуля гигантом военно-научной мысли, и тот приобрёл немалое влияние на царя. Тогда и возник пресловутый план.
Если вкратце – предполагалось создание мощного укрепрайона («лагеря») близ местечка Дрисса на одноимённой реке – ныне это территория Белоруссии, а тогда не то, чтобы граница, но и не глубь империи, такое послепограничье. Подразумевалось, что Наполеон, вторгшись в пределы России и имея дальнейшую дирекцию либо на Москву, либо на Петербург, никак не минует Дрисского лагеря, где будут сосредоточены основные силы русских войск. Они-то и задержат неприятеля; а множество отрядов помельче будут в это время наносить застрявшей армии Наполеона с разных сторон небольшие, но чувствительные удары – пока не изнурят её вконец.
Хорош или плох был этот план? – вопрос из разряда тех, что в формальной логике называются нетривиально некорректными: то есть, какие-то более или менее здравые предпосылки у них есть, но ответить всё равно не представляется возможным. Советские исследователи не оставляли от бедолаги Фуля и от его стратагем камня на камне, ссылаясь на утверждения некоторых генералов из ставки Александра: «Дрисский лагерь мог придумать или сумасшедший или изменник» [63, 93]. Возможно, они и были правы, а Фуль на самом деле круглый дурак; однако все подобные дебаты аннулированы историей. Она распорядилась самовластно, и благодаря ей Фуль остался строителем воздушных замков, нелепым мрачным курьёзом – он и в самом деле был субъект угрюмый, малосимпатичный, во время войны Александр к его стратегическому гению охладел… на чём, собственно, и наш интерес к нему исчерпан.
В целом, военная реальность оказалась гораздо серьёзнее, чем это думалось государю, заводившему Бонапарта в бездну – причём диалектически: в «неправильной» войне открылись Александру как позитивные, так и негативные флюиды, которых он не ожидал…
9
Политика – грязное дело; избитая фраза, многие люди частенько повторяют её как клише, не очень-то вдумываясь. Почему грязное? Что, все политики без исключения – морально нечистоплотные люди?.. Да вроде бы нет. Ну а почему всё-таки?..
Потому, что политик живёт и действует в атмосфере колоссальной нравственной ответственности. Каждый его шаг, жест, слово, движение – судьбы людей. А эти жесты и слова – итог сложения множества сил, разнонаправленных, меняющихся, непредсказуемых, тех, которые уловить и учесть не удалось… Отсюда неизбежные ошибки, промахи, вынужденные решения, которые совсем не хочется принимать, а принимать приходится. И то, что запросто прощается обывателю – на облик министра, президента, короля, императора ложится тенью, пятном, чернотой. У кого-то это, спору нет, не вызывает никаких моральных преживаний; но что на душе у людей совестливых, коих в политике совсем не мало? У них ведь пятен и теней тоже хватает – наверное, не столько, сколько у бесстыжих, но и они слышат про себя всякое, с неизбежным рефреном «политика – дело грязное»…
Если у «дотильзитского» Александра что-то да получалось в делах внутренних и хуже некуда вышло с международными, то Александр 1810-12 годов сделался в этом смысле зеркальным отображением себя раннего. Он гроссмейстерски разыграл свою партию во внешней политике – и провалил реформы, с такими надеждами и амбициями развиваемые в 1808-10-м… Глагол «провалил» употреблён здесь в единственном числе потому только, что глава государства есть глава государства, и любой провал – его провал. Реально же Александр работал с исключительно сложным набором обстоятельств – правда, во многом сам себя в эту обитель проблем и загнал; однако же и сам из неё сумел выпутаться, не опустил руки, не сломался. Победил! Но… куда же без этих «но»! Но выйти из крутого полит-пике без потерь, конечно, не дано.
Если вочередной раз сделать аналогию с шахматами, то придётся сказать, что ради победы в партии Александр пожертвовал ферзя. В шахматах, наверное, так не бывает – пожертвовать ферзя и после победить – но жизнь сложнее и щедрее, что ли: даже с такой потерей император сумел выбраться из очень сложной ситуации. И сумел пережить эту потерю, хотя, скажем истину, времени на душевный самоанализ у него просто не было.
По мере того, как Наполеон подминал под себя Европу, в покорённых или намертво обузданных им государствах образовывался слой людей из элиты, которым в новой, Бонапартовой реальности места не находилось – тот же Фуль, к слову. Куда податься?.. Вне французского протектората оставались только Швеция, Англия, Россия, в очень слабой степени Дания, да ещё дралась вроде бы завоёванная, но непокорная Испания – и о нормальных жизни и карьере для человека, наделённого здоровым честолюбием, в тогдашней Европе говорить было весьма сложно (обе Америки, и Северная, и тем более Южная в те годы были всё же для большинства жителей Старого Света экзотикой…). Швеция, Англия, а уж Дания и подавно – страны небольшие, там давным-давно всё занято, не протолкнёшься. А вот Россия – другое дело. Там размах, простор, возможности!.. И многие европейцы, не видя перспектив под Наполеоном, подались на службу к русскому императору. Это немало сердило Бонапарта, ибо у Александра таким образом оказывались люди, которых он считал своими врагами: например, бывший прусский министр Генрих Штейн (его Наполеон особенно терпеть не мог). Были в свите царя и «новые французы» – не роялисты, а те, кто успел разругаться уже с имперским режимом; среди таковых оказался соотечественник, а потому и крайне непримиримый враг Наполеона, корсиканец Поццо-ди-Борго… Много, словом, всякого рода личностей.
Среди таковых явился и шведский барон Густав Армфельт, уроженец Финляндии, человек лихой судьбы, с юных лет воевавший, интриговавший, флиртовавший… При всём своём лихом авантюризме головы, однако, он не терял, и «чашу жизни» зря не расплескал, как многие другие. Хотя потрепало его то бурное время изрядно: было дело, пришлось ему спасаться, убегая из Швеции от гнева известного нам герцога Зюдерманландского, регента при малолетнем короле. Неприкаянные пути-дороги завели барона в Россию, где он прожил несколько лет – ещё при императоре Павле, так что наша страна для Армфельта давно не была чужой. Вероятно, мысль самому возглавить родную Финляндию зрела у него постепенно… зрела, зрела и созрела – когда страна Тысячи озёр стала вотчиной российского императора, он решил, что самое время начать действовать в Петербурге, за что и взялся.
Финскими делами занимался тогда Сперанский – и уж, разумеется, безвозмездно делиться властью не собирался. Но Армфельт был не из тех, кто отступает перед трудностями. Он сумел войти в доверие к государю, стал вхож в ближний круг, а уж с этой позиции, понятно, «вести боевые действия» ему стало куда удобнее, учитывая едва ли не поголовную неприязнь большого света к госсекретарю.
Придворные – особенно в деле интриг – простофилями никогда не были. Они ловко сообразили, в какую игру им сыграть, вернее, какую сторону выбрать в уже ведущейся игре. Франкофильские настроения Сперанского очевидны, император же затеял хитроумную комбинационную борьбу с Наполеоном; следовательно – не представить ли «поповича» как французского «агента влияния»?.. Такие попытки наверняка делались, но сомнительно, чтобы они имели какой-либо успех: Александр был всё же слишком умён для того, чтобы в это поверить. Но это не остудило энтузиастов, и тем более не значило, что в позиции Сперанского не было никаких слабых мест, ни субъективных, ни объективных. Были. И вот их-то умные интриганы – Армфельт и другие, которые, бывало, действовали сообща, бывало, что порознь – нащупали и использовали успешно.
Субъективные обстоятельства: отчасти Сперанский «подставился» сам. Попросту говоря, зарвался, утратил реальный, осторожный взгляд на вещи – дело для фаворитов обычное. Власть изменяет людей, изменился и Михаил Михайлович, свыкся с положением первого лица при государе, привык к знакам внимания, почтительности и даже подобострастия… Часто случается так, что заместители, помощники, секретари считают себя умнее своего начальства – и что ж, это вправду бывает так. А по-настоящему умные ещё и умело скрывают это; во всяком случае, знают грань, до которой можно блистать интеллектом, а после которой – не рекомендуется.
Считал ли Михаил Михайлович, что он умнее Александра?.. Совершенно не исключено. Было ли так действительно? Если понимать под «умом» развитую способность рационально мыслить – вероятно, да, с этим можно согласиться. Правда, такая способность не составляет всего духовного мира человека, не составляет даже главного в этом мире. И Александр, уступая своему приближённому в таланте и ремесле строить умозаключения, наверняка превосходил его в чём-то другом: интуиции, проницательности, широте взглядов… Впрочем, это разговор отвлечённый. Вернёмся к существу дела.
Итак, если Сперанский и считал себя умнее царя, то до поры виду такого не подавал. Может, и не подал бы, но… всё проходит, всё забывается, от всего устаёшь. Власть меняет людей, а они не замечают этого. То, чего никогда бы не позволил себе выходящий на придворную орбиту чиновник, заматеревшему вельможе стало казаться пустяком. Вполне возможно, что он ничего дурного и не имел в виду – просто угол его социального зрения в самом деле стал другим. Сперанский в частных письмах позволил себе иронически и язвительно отозваться об императоре – и, конечно, тому это очень скоро стало известным, поскольку свет не без добрых людей, они мигом и донесли. По страницам многих исследований ходит предание о бурной реакции Александра на ядовитые слова Сперанского: о гневе, слезах и жутких угрозах, вплоть до расстрела [12, т.4, 366]. Разбираться в том, насколько это правда – занятие бесполезное; это и похоже на правду, и с равной вероятностью может быть вымыслом… Как бы там ни было, госсекретарь незаметно для самого себя потерял придворную бдительность. И поплатился за это.
С максимально объективной точки зрения следует признать: проводя свою затяжную антинаполеоновскую комбинацию, государь добился той ситуации, которую и провоцировал: агрессия Бонапарта против России сделалась неизбежностью. Но это же и требовало предельной, строжайшей ответственности: внутреннее единство страны, а точнее, элиты, поскольку под «страной» Александр разумел, конечно же, элиту – это единство стало нужно как воздух. Возможно, Александру достижение этого казалось менее сложным, чем это было на самом деле… На самом деле единства-то и не было.
По существу, элита раскололась на две неравные части: Сперанский и все остальные. Правда, за Сперанским стоял сам император, и это как бы выравнивало силы; было также несколько высокопоставленных сочувствующих, но, как выяснилось, в сложившемся положении дел этого оказалось не достаточно.
Занятное обстоятельство: почему-то такими защитниками или «полузащитниками» Сперанского оказались бывшие моряки, два адмирала и даже оба Семёновичи! – вот ещё небольшая причуда судьбы… Всё тот же Николай Семёнович Мордвинов и Александр Семёнович Шишков, который также известен в нашей истории не столько подвигами в мореплавании, сколько культуртрегерством, несколько спорным – над адмиралом, а также над его идейными соратниками, князьями Сергеем Ширинским-Шахматовым и Александром Шаховским, весело зубоскалили Пушкин и компания…
Разумеется, не один Армфельт был в окружении царя такой смекалистый. Нашлись и другие, а следом сообразили и почти все, какой им выпал шанс свалить невыносимого для всех выскочку. Если все вдруг выставят напоказ свою неприязнь: тонко, под каким-то благовидным предлогом, но так, что умный государь прекрасно поймёт придворные эвфемизмы – то, оказавшись в ловушке закона исключённого третьего: «или – или, а третьего не дано», император не будет иметь иного выхода, кроме как «сдать» Сперанского, ибо не вступать же в контры со всей страной.
И эта стратегия себя оправдала. Так и вышло. Александр явственно увидел, что, действуя на двух фронтах, внешнем и внутреннем, он приближается к победе на первом и увяз в неудачах по втором. Программа «500 дней» фактически сорвана. Государственный Совет действует, но не так, как это рисовалось в проектах… Кроме того, Сперанский, будучи превосходным менеджером, оказался, по-видимому, не самым сильным экономистом; так, он долго конфликтовал с министром финансов Фёдором Голубцовым, не дававшим госсекретарю подмять под себя это министерство. Лишь после долгой борьбы, в 1810 году Сперанскому, наконец, удалось Голубцова сместить и пролоббировать его заместителя, графа Дмитрия Гурьева [80, т.18, 919]. Однако, взявшись наводить свой порядок в финансах, и новый министр и сам госсекретарь не сумели придумать ничего нового, кроме повышения налогов – это малооригинальное деяние, нетрудно понять, радости что в элите, что среди широких масс не вызвало… Ситуация в верхах стала весьма напряжённой, все ополчились против этих проектов, против реформ, против самого реформатора – и что в такой обстановке оставалось делать делать государю?
Опасался ли он разделить судьбу отца?.. В это не очень верится. Времена изменились – Александр добился повиновения не только властностью, хотя и этим тоже; но он умел быть справедливым и внимательным. И как бы ни ворчали, как бы ни брюзжали аристократы на Александра и его нововведения, они, бесспорно, чувствовали и понимали, что от добра искать добра – дело сомнительное. В целом ясно, что император человек осторожный, здравомыслящий, старающийся раздать всем сестрам по серьгам; правда, наломал он дров немало, но на его месте всякий бы наломал. Как-никак десять лет на троне – это срок, за это время вполне ясным делается, кто есть кто… Александр вёл свою линию, стремясь устраивать всех, что не всегда получалось, но в сумме, бесспорно, грех жаловаться – наоборот, жить бы да жить при таком царе!.. Но никто и не собирался упустить возможность ухватить своё – то есть устранить Сперанского в тот момент, когда Александр, сложно маневрируя внешнеполитически, загнал себя в уязвимую позицию. В марте 1812 года, когда предстоящая война была для него совершенно очевидна, обвинения против госсекретаря, выдвинутые аккуратнейшим образом именно в это время:
а) стремился расстроить государственные финансы;
б) нарочно повышал налоги, желая вызвать неприязнь народа к правительству;
в) презрительно отзывался о правительстве (читай: императоре) —
Александр расценил как завуалированный ультиматум себе.
Обвинения слишком серьёзны для того, чтобы их с ходу объявить вздором и отмахнуться. А разбираться всерьёз, конечно, некогда. Так что ход был беспроигрышный: более почтительно и твёрдо намекнуть государю на то, какое решение он должен принять – наверное, нельзя…
Александр намёк понял.
Существующие апокрифы говорят о том, что разлука со своей «правой рукой» [5, 156] императора ударила тяжко. Да так оно, верно, и должно быть: двух этих людей связывало большое, настоящее, мужское дело. И Александр сам, по своей воле – не сказать, что доброй, но всё-таки, что ни говори, по своей, поскольку по чьей же ещё?.. – это дело прервал. Можно объяснять всё государственной необходимостью, сложностью политической обстановки – в чём никакого лукавства нет, что совершенно справедливо… но это ведь не избавляет человека от себя самого, от того, что бывает наедине с собой – а уж наедине-то Александру – если на то у него хватало мужества – было что сказать себе горького и честного.
Из лиц высшего круга демонстративное недовольство падением фаворита выразили всё те же Мордвинов и Шишков, однако, именно последний занял освободившуюся должность, то есть секретаря Государственного Совета. Бумаги Сперанского император поручил разбирать князю Александру Голицыну, своему давнему товарищу; он, правда, прежде был в придворном мире заслонён другими персонами, но в недалёком будущем ему суждено будет выйти на первый, действительно на первый план… Армфельт, как того и хотел, занялся родной Финляндией. Сперанский – которого, кстати, формально ни в чём не обвинили, не разжаловали, тем более не арестовали, его лишь отстранили от должности на время разбирательства – неофициально сопровождаемый полицейскими чинами, едет в Нижний Новгород, а оттуда в Пермь, изображая собой непостижимый для иностранцев, чисто наш, родной юридический казус.
10
Итак, с весны 1812 года российско-французские отношения стремительно покатились к войне. Александр продолжал слегка подталкивать пылкого коллегу, но много усилий на это не требовалось. Бонапарт уже неостановимо лез в приготовленную ему западню. Он и сам спешил – разделаться с Россией (как он полагал!) необходимо было побыстрее: оставалась неприступной Англия, горела войной Испания, нарастали проблемы дома, трещал по швам бюджет, экономическое положение страны и граждан делалось всё хуже и хуже… В таких условиях любой пустяк подхлёстывал Наполеона, и без того не отличавшегося кротким характером, он срывался, бурей налетал на подчинённых, требовал, подгонял, грозил – а его армии, повинуясь грандиозному плану, двигались и двигались на восток – Пруссия и Варшавское герцогство всё более заполонялись войсками.
Это заметно противоречило действующим тильзитско-эрфуртским договорённостям, и Александр счёл себя вправе выступить с нотой протеста, почти ультиматумом (24 апреля по Григорианскому календарю), где с убийственной дипломатической вежливостью предлагал Наполеону удалиться из Прусского королевства. Ясно, что на это последовал столь же невыносимо-вежливый ответ, в сухом остатке отправлявший Императора Всероссийского по самому популярному простонародному адресу…
Обменявшись такими вычурными любезностями, государи тем не менее решили вести переговоры – в Петербург на помощь сменившему Коленкура послу Лористону отправился специальный представитель Бонапарта граф Нарбонн; впрочем, эта затея, как и следовало ожидать, кончилась ничем [12, т.4, 456]. В конце апреля Александр выехал в Вильно (Вильнюс) – к теперь уже очевидному будущему театру военных действий.
А в Париже у русского посла Куракина голова шла кругом – он чувствовал, как стремительно нарастает напряжение вокруг, а что делать, не знал: Александр вдруг умолк и не присылал никаких инструкций. Делал он так сознательно, или же просто посол не очень был ему нужен, и он предпочитал действовать через Нессельроде и Чернышёва?.. – о том историки гадают, хотя значение имеет не мотив, а результат, поскольку оба государевых мотива вели к одному и тому же результату, который и имел место быть: изнервничавшийся, издёрганный, растерявшийся от неизвестности старик [к тому же два года назад переживший сильный шок – едва не погиб на пожаре, случившемся во время бала у австрийского посла – В.Г.] пошёл на крайний демарш – заявился на приём к французскому министру Бассано и потребовал паспорта для отъезда домой – на языке дипломатической практики действие крайне жёсткое.
Наполеон, узнав о демарше Куракина, обрадовался: это практически решало стоявшую перед ним пикантную задачу – как напасть на Россию и при этом не выглядеть агрессором. Теперь же русский посол сам давал в руки нужный козырь! Последнее препятствие было устранено.
Итак – Александр в Вильно, Бонапарт по ту сторону границы. «Великая армия» готова начать последний бросок на восток, ещё не ведая, что он последний. Наполеон – в своей стихии! Он с войсками, он готовится к боям, вокруг него все его старые друзья, прошедшие с ним огни и воды и пришедшие к победам, каких ещё не знала история. Но что это в сравнении с будущим! Им всем, захваченным, упоённым масштабами происходящего, хотелось уверить себя в том, что им предстоит свершить нечто невероятно грандиозное, самый необычайный, самый великий поход – эта грядущая победа будет несравнимой с прежними, она затмит их, вспыхнет огромной сверхновой звездой!..
И тут всё испортил заяц.
Наполеон, как всегда, хотел увидеть местность предстоящих боёв своими глазами, лично изучить её. Привычный к седлу, он верхом объезжал расположения войск, вникая, уточняя, давая указания… И вот в одну из таких рекогносцировок, а именно 11 июня, когда император скорой рысью нёсся по просёлочной дороге, из кустов вдруг выскочил заяц, кинулся прямо под ноги лошади, та испугалась, шарахнулась – и покоритель мира от неожиданности как куль плюхнулся наземь [12, т.4, 474].
Ничего страшного: ушиб ногу, только и всего. Но настроение было сломано. Наполеон, подобно всем гневно-самолюбивым людям, больше всего на свете страшился выглядеть смешным (хотя частенько, сам того не замечая, потешал окружающих) – а тут такая нелепость!..
Конечно же, никто не смеялся. Наоборот, вся свита, подскакав, наперебой стала спрашивать, не помочь ли чем, не расшибся ли, упаси Бог, их драгоценный повелитель?.. Нет, он не расшибся. Но встал мрачнее тучи.
Символ – хуже некуда. Уж кто-кто, а он, Наполеон Бонапарт, бывший с судьбой на «ты», знал её повадки. Невесело переглянулись и в свите, особенно содрогнулся Коленкур, который как был, так и остался противником войны с Россией, но не смог переубедить патрона… Да и тормозить что-либо было уже поздно. Гигантская махина, приведённая в движение волей императора, набрала ход, разогналась, и теперь даже если бы сам автор всего этого захотел остановить такую прорву – неизвестно, что бы тогда вышло.
А вот хотел ли? – вопрос не праздный. Исторический заяц, конечно, лишь сомкнул воедино подозрения и нехорошие предчувствия, постепенно копившиеся у Наполеона по мере движения на восток. Неизвестно, продолжал ли он считать, что в этом подлунном мире ему подвластно всё – после Тильзита он был в этом уверен, а дальнейшие события эту уверенность подтверждали… так вот, неведомо, пошатнулась ли Бонапартова несусветная гордость, но то, что до него только в походе дошло, какой он груз на себя взвалил – это, несомненно, так.
Полный состав «Великой армии», движимой на Россию, общепринято исчислять в 600 тысяч человек – при тогдашнем техническом оснащении попытка организовать в единую машину такое количество людей обращала это количество в неповоротливую, плохо управляемую ораву, которую очень трудно было обеспечивать провиантом, боеприпасами, обмундированием, фуражом. Обозы постоянно отставали, снабжение запаздывало, поэтому по пути войска мародёрствовали, разбойничали, случались и убийства… Явилась и ещё одна беда: Наполеон собрал в свою армаду разноплемённое воинство из покорённых и зависимых стран, в основном германских; этим солдатам вовсе не хотелось идти невесть куда и сражаться неизвестно за что – а оказываясь в Пруссии, они встречали сочувствие и распростёртые объятия местных жителей, отчего и разбегались сотнями, если не тысячами. Население охотно привечало дезертиров, и германская часть армии стала таять как снег на весеннем солнышке – командованию пришлось вводить самые суровые кары, вплоть до расстрелов.
Всё это Наполеон, конечно, знал. Но сомнения и горькие справедливые прозрения – если они и были – он старался подавить. Сильные люди часто думают: чем труднее препятствия, тем большая победа ждёт после – это судьба так испытывает, проверяет человека, достоин ли он, дескать, той самой большой цели… Действительно, в подобных рассуждениях смысл есть, но ими не исчерпываются взаимоотношения человека и мира; то есть, говоря языком теорем, вышесказанное является условием необходимым, но не достаточным. Нужно ещё что-то, нечто почти эфемерное, тончайшее – вот оно-то от Наполеона так и ускользнуло, не далось ему, осталось неразгаданным…
Двенадцатого июня огромная армия начала переправу через границу – тот же самый Неман, на котором пять лет назад началась «дружба» правителей Восточной и Западной империй. Здесь же она и закончилась.
Но заяц, этот чёртов заяц!.. Что же он всё-таки значил?!
11
У Александра тоже случилось своё предзнаменование.
В Вильно, ставшем на время императорской резиденцией, обстановка сделалась подобающей, торжественной и пышной. Давалось множество балов, один из них решено было провести в местном имении Беннигсена, который, разумеется, присутствовал тут же, в свите. Дело летнее, поэтому нарочно для такого случая построили лёгкий танцевальный павильон в парке; как его строили, тайна сия велика есть, но хорошо уже и то, что накануне бала кому-то вздумалось проверить, насколько прочно это сооружение. Ну и, ясное дело, что в процессе проверки павильон сперва зловеще покосился, после чего, видимо, обиделся на весь белый свет и решил совсем упасть. И упал.
Александр, узнав о таком конфузе, улыбнулся, сказал, что не беда, бал можно провести и под открытым небом. Так и сделали. Бал состоялся именно 12 июня, и именно на нём императору сообщили о переходе неприятельских сил через Неман.
Государь выслушал сообщение спокойно, распорядился шума не поднимать и вести себя так, будто бы ничего не случилось. Так и вели, танцевали, веселились, говорили привычные любезности, Александр был само обаяние. Никто и не заметил, как он куда-то делся…
А он отыскал укромное место, где его никто не мог увидеть – и там дал волю слезам [5, 158].
Что ж? Казалось бы, сбылось то, чего он с ювелирным тщанием добивался несколько лет подряд: Наполеон шагнул навстречу своей погибели. И всё же Александр был потрясён. Возможно, он сам от себя не ждал этих слёз! Всё немыслимое напряжение, вся та скрытность, утраты, разлуки, всё, через что пришлось пройти, и осознание того, что ещё предстоит… Словом, бывает так, что мужчины плачут.
Впервые со времён Петра I – спустя сто лет! – враги ступили на землю Российской империи (не считая пиратских набегов крымской конницы во время русско-турецких войн). Александр предпринял последнюю попытку примириться с Бонапартом, попытку, почти единодушно признаваемую безнадёжной, да и ненастоящей – только ради того, чтобы показать всем, что он, Император Всероссийский, исчерпал последние ресурсы миролюбия… В самом же деле Александр понимал, что Наполеон уже не остановится. Так ли это?.. Что уж говорить! Это давно уже перестало иметь какой-либо смысл. Случилось то, что случилось.
Александр Дмитриевич Балашов – специальный представитель русского императора, направленный в ставку Наполеона. Он выдвинулся в «первые ряды» в 1809 году, став военным губернатором Петербурга (должность Палена и Кутузова…). Вместе с Армфельтом стал одним из самых ярых активистов борьбы со Сперанским, хотя самого барона терпеть не мог, а новоявленный пост министра полиции получил именно в рамках «500 дней», всё в тот же день больших перемен, 25 июля 1810 года. 28 марта 1812-го Балашов этот пост оставил, сделавшись генерал-адьютантом. А министром – вернулся едва ли не на круги своя Вязьмитинов.
Наполеон принял Балашова после некоторых проволочек, однако вполне корректно. Правда, разговора не получилось – получился монолог. Императора, разумеется. Слушать самого себя ему чрезвычайно нравилось, он воодушевлялся в такие минуты, наверное, очень собой любовался… Воспламенился и на сей раз, пустился грозить и хвастать – собственно, ничего нового: он-де, Наполеон, всех своих противников презирает, потому что все они ничтожества, а он совсем другое дело… Впрочем, единственным источником, описывающим встречу французского императора и русского посланника, являются мемуары самого посланника, причём написанные много лет спустя. Высказываются сомнения в достоверности этих воспоминаний, особенно в части застольной беседы, состоявшейся в тот же день: Балашов пишет, что, довольно выказав нетерпеливую горячность, Наполеон сделался радушным и приветливым, пригласил гостя на обед, где обстановка была совершенно приятельская. Здесь генерал якобы блистал остроумием, дважды элегантно срезав Бонапарта намёками на поражения французов в Испании и на печальный опыт шведского короля Карла XII, также считавшего себя непобедимым полководцем – до тех пор, пока не ввязался в войну с Россией [65, т.3, 26]. Вот эти риторические перлы и вызывают недоверие историков [63, 84]… Но всё это опять-таки совершенно неважно. Дружеский разговор за столом ничего не изменил. Война началась.
И ещё об одном предзнаменовании.
В октябре 1811 года в небе возникло странное свечение. Оно день ото дня – вернее, ночь от ночи – разгоралось всё ярче и ярче, и наконец, достигло апогея весной 1812-го. То была знаменитая Комета – называемая так, почти именем собственным, ибо в отличие от других известных комет, это явление зафиксировано в истории цивилизованного человечества всего однажды. Следующий её визит к нашей планете ожидается ни много ни мало в 43-м веке.
Кто будет ждать её тогда, какие наши потомки?.. Будет ли он вообще, сорок третий век нашей эры? (героя «Машины времени» Уэллса занесло в восемь тысяч двести восьмой, но сегодня трудно быть уверенным и в сорок третьем). Что станется с человечеством, с Землёй, с самим временем – ну, хотя бы лет через тридцать?! Не знаем, не знаем, не знаем…
У современников Комета вызвала великое множество кривотолков. Каков смысл этого небесного знака? Что предвещает он – счастье, несчастья? Или же то и другое, как во все века, только как-то иначе?.. Кто знает! – скажем мы, кто знает… Если период её обращения 2400 лет, стало быть в предыдущий раз она должна была пройти – незамеченной?.. – близ Земли где-то в 500-м году до Рождества Христова, в эпоху, некоторыми философами названную «осевым временем» [81, 32] – и в этом есть резон! – именно тогда, в те сто-полтораста лет в разных краях мира Будда, Конфуций, Сократ повернули человечество на новый, доселе неведомый путь.
Забавный штрих: в 1811 году европейские виноградари были изумлены невиданным обилием ягод, а впоследствии пошёл слух, что вино того урожая обладает каким-то особенным, диковинным букетом, и на него, «Вино кометы», поднялся бешеный спрос, что и увековечил Пушкин, у которого Онегин, бездельничая, всякий вечер заявлялся в модный ресторан…
Вошёл: и пробка в потолок, Вина кометы брызнул ток;Хотя это сильно смахивает на удачно проведённую рекламную кампанию: надо же было сбывать излишки – вот и пошла в ход романтика, обернувшаяся потом немалой прибылью. Умелые люди делают деньги даже из звёздных ливней.
Ну, а что же император Александр Павлович – о чём он думал, глядя в небеса? Считал ли это знаком? Видел будущее?.. Бог весть. Он умел быть сдержанным. Может быть, то, что он вскоре пережил, случилось бы и без Кометы. Может быть. Но случилось с ней.
Глава 7. По ту сторону истории
1
«…В год 862. Так и сказали той Руси чудь, и словене, и кривичи: «Вся земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет, так приходите княжить и владеть нами!» [60, 135]
Одиннадцать столетий стоит под переменчивыми небесами Русская земля, и все эти одиннадцать веков все поколения рядовых россиян ругают начальство за то самое пресловутое отсутствие порядка, которое со времён Рюрика выражается между прочим ещё и в том, что в критические, пограничные моменты бытия наше родное государство пребывает в состоянии непреходящего тягостного изумления, будучи не готово ни к чему. К нашествиям моноголов, поляков, французов, немцев, к неурожаям, урожаям, зимам, вёснам, ливням, паводкам…
Александр ценою огромных усилий перехитрил Бонапарта, заманил в Россию, где вся армия того должна распылиться и сгинуть. То была первая часть плана, и она удалась блестяще. Теперь в действие пора было вступать части второй: верной организации военных действий. Чисто техническая задача – первая колонна сюда, вторая колонна туда… Но здесь-то и открылся секрет Полишинеля: никто понятия не имеет, куда идти этим колоннам. План Фуля признали негодным – а другого никакого нет. И разумеется, во всей красе выяснилось это тогда, когда о плане как таковом думать было поздно: Наполеоновские полки необратимо вливались на территорию страны. Война идёт! – а как воевать, Бог его знает.
Слёзы Александра на балу оказались не только завершением многолетних тяжких трудов. Даже не столько завершением – сколько предчувствием грядущих испытаний. Не ужаснулся ли он? Не пошатнулась ли его вера в свою правду?.. Вернее всего будет ответить так: Александр заставил её не пошатнуться. Наверняка он пережил сильнейшую душевную смуту – как всегда, в одиночестве, никому не открываясь, продолжая оставаться всё таким же обаятельно-учтивым, словно подражая Марку-Аврелию, великому стоику – а каких сил это от царя потребовало, известно только ему.
В самом деле: правда правдой, а до сих пор он видел только то, что идеи в нашем мире действуют не сами, но посредством достаточно грубых реалий, преимущественно стрелковых, артиллерийских и кавалерийских… «Бог всегда на стороне больших батальонов,» – как цинично выражался вчерашний друг, а сегодняшний недруг Бонапарт. Он-то был в этом уверен безоговорочно; насчёт Александра судить трудно, однако в полезности «больших батальонов» как таковых, независимо от Бога, сомневаться не приходится никому – стало быть, не сомневался и Александр. А вот это дело, батальонное, как раз обстояло довольно неприглядно.
К началу боевых действий – то есть к 12 июня – вооружённые силы вдоль западных рубежей Российской империи были сосредоточены в трёх оперативных группировках, именуемых соответственно 1-й, 2-й и 3-й армиями. Первую армию (Северное направление), насчитывавшую войск гораздо больше (около 127 тысяч человек), чем две другие, вместе взятые, возглавлял генерал-от-инфантерии Михаил Барклай-де-Толли, он же министр обороны. Второй (Центральное направление) командовал генерал-от-инфантерии Пётр Багратион, Третьей (Южное направление) – генерал-от-кавалерии Александр Тормасов. Обе эти армии оцениваются примерно в 45 тысяч человек каждая [59, т.10, 667]. То есть в совокупности – около 220 тысяч.
600 тысяч Наполеоновских солдат – это, понятно, вместе с резервами, тылами, обозами, госпиталями и тому подобным. Боевое ядро, главные силы «Великой армии» составляли приблизительно 440 тысяч человек; но и от этого, конечно, нашему генералитету впору было хвататься за голову: двойное преимущество противника! Этого не ожидали. Чего-то недоучли, недоглядели, недоразведали…
Военная разведка – «вышшая военная полиция» по терминологии того времени – была создана инициативою Барклая перед самой войной, в марте 1812-го [54, вып.2, 50]. Поздновато. Потом она неплохо проявит себя в ходе войны, и с тех пор останется неотъемлемой частью военной машины России… но это будет потом. Внешняя разведслужба в лице Куракина и Чернышёва потрудилась во Франции хорошо, наработала немало ценных сведений, однако, военно-оперативные вопросы были вне её компетенции – упрекать дипломатов за отсутствие точных цифр, конечно, нельзя; от чего, впрочем, не легче…
Нам ещё надо бы сказать спасибо испанцам: те оттянули на себя 200 тысяч французских войск! – такой гарнизон вынужден был держать Наполеон за Пиринеями, чтобы хоть как-то сдерживать непокорный народ. Однако, и без того картина «Не ждали» – символ перманентного состояния российской власти: враг в два раза сильнее, плана действий нет, и что делать – никто не знает.
Единственно, в чём количественно не уступала русская армия Наполеоновской – в артиллерии, за что особая благодарность Аракчееву [92]. Его стараниями артиллерийские части были экипированы превосходно, а по качеству русские пушки были лучше французских: маневреннее, надёжнее, дальнобойнее. Да, Аракчеев в этом смысле, конечно, молодец, но вот другие смыслы не много давали поводов для оптимизма.
И Александру здесь нет оправданий. Проведя великолепную дипломатическую интригу против Бонапарта (кстати, следует отметить ещё один успех русской дипломатии: уже после начала войны, 6 июля, при самом активном посредничестве Бернадота в Стокгольме был заключён русско-английский договор, наконец-то официально завершивший двусмысленную невнятицу в отношениях России и Британии – отныне никакой двусмысленности, никаких ложных ухищрений; две державы вновь становились дружественными)… так вот, проявив себя отменным дипломатом, Александр оказался далеко не на высоте как военный администратор: должного порядка на случай войны он создать не сумел. Теперь предстояло все проблемы решать на ходу. А ход, то есть план боевых действий, был в сложившейся ситуации один-единственный: отступать, а там видно будет.
2
У Наполеона, собственно, план тоже был один. Точно таков же, каков во всех его прежних победных кампаниях: стремительным броском настичь противника и разгромить его в решительном сражении. Это у него прекрасно получалось на протяжении последних десяти лет, за исключением разве что битвы при Асперне – но Бонапарт, уж конечно, умел учиться на своих ошибках. И сейчас он, уверенный в своём превосходстве, смело ринулся вперёд…
И провалился в пустоту. Никакого противника перед ним не было.
В Вильно, едва ли не вчера ещё бывший ставкой Александра, Наполеон вошёл так, словно двигался не во главе величайшей военной армады, а так, на прогулку вышел. Всё обыденно, просто и скучно – и в целом как-то нелепо. Не такого ожидал порфироносный пришелец, привыкший к блеску, шуму, всеобщим восторгу и поклонению… Разочаровали его и местные поляки.
«Идеологическим обеспечением» этого похода Наполеон сделал мотив освобождения поляков от власти поработившего их русского царизма, даже назвал своё деяние «Второй польской войной», рассчитывая явиться в ореоле освободителя. Однако, этот ореол как-то очень скоро поблек. Об идеологической-то части император позаботился, а вот с материальной дело обстояло плохо, хотя о ней он, спору нет, заботился тоже; но в самом деле, снабжать такую невероятную по тем временам массу людей тогдашними техническими средствами было б не под силу даже в том случае, если бы к себе в интенданты Наполеон собрал мудрецов со всего света… С питанием людей и лошадей всё было хуже некуда, и если кони ещё как-то могли пробавляться подножным кормом, то солдатам «Великой армии» только и оставалось, что грабить местных жителей, что они и делали нещадно, без зазрения совести. Особенно отличались разбойными подвигами немцы, которые о Бонапартовой пропаганде и польском патриотизме знать не хотели.
Слухи о повадках нерадивого воинства мгновенно распространились по окрестностям – отчего Вильно встретил Бонапарта настороженной пустотой. Освобождённые жители попрятались по домам; император, объезжая почти безлюдные улицы, пытался, правда, милостиво разговаривать с прохожими, которых ему удавалось застать, но те смотрели испуганно, отвечали односложно, боязливо… и вообще вид у них был такой, словно они беспаспортные бродяги, застигнутые строгим полицейским. Всё это Бонапарта раздосадовало, и он однажды сквозь зубы обронил: «Здешние поляки совсем не похожи на познанских поляков» [12, т.4, 504]. Однако, делать нечего! война пошла, уже не остановишь, и армия двинулась дальше, по меткому выражению С.М. Соловьёва «обнимать призрак» [61, 295] – в таинственную, непостижимо странную скифскую глубину.
И здесь завоевателей настиг ещё один удар.
На пятый день войны, 17 июня, погода, бывшая до сих пор достаточно терпимой к непрошеным гостям, вдруг показала дикий свой, свирепый нрав: разразилась грозой, к вечеру резко похолодало, студёный ливень зарядил на всю ночь… и когда сквозь тучи хмуро проглянул рассвет, он высветил несчастных, до нитки промокших людей и обессилевших лошадей, барахтавшихся в стылых лужах. Вот здесь-то им пришлось хуже, чем людям – лошади хотя и способны питаться травой, но не на войне, где энергозатраты организма, конечно, гораздо выше, нежели в обыденной обстановке – и полноценный корм, особенно овёс, животным необходим. Не получая должных калорий, кони слабели, слабели день ото дня… в тёплую погоду это было не очень заметно и сравнительно не страшно; но когда суровый русский климат нанёс вражеской армии первый удар – грянула беда.
Едва ли не треть «лошадиных сил» пала замертво: ослабленные организмы не выдержали внезапного переохлаждения. От этого удара французы так и не оправились, испытывая постоянную нехватку как в строевых, так и в рабочих лошадях вплоть до конца русской кампании… Так, с самых первых дней Наполеон стал нести болезненные потери на пустом месте – практически не ведя боевых действий, лишь продвигаясь в глубь загадочной страны.
3
А наши войска продолжали отступать. Наполеон, оценив обстановку, принял решение вогнать основной массив своих войск между 1-й и 2-й русскими армиями, рассчитывая разбить их по отдельности. Но наши генералы без труда разгадали этот маневр – собственно, тут кудесниками быть не надо… Правда, всё, что в сложившихся обстоятельствах русское командование могло сделать, это продолжить отступление.
Напомним: организованный отход есть самая сложная изо всех войсковых операций. Крайне дилетантским является представление, что отход есть стремление как можно дальше оторваться от противника; бесспорно, случается, конечно, на войне и такое, но тогда это не отход, а бегство, «драп». Нет, обе армии, 1-я и 2-я, отходили по всем канонам военной науки, с арьергардными боями, умело нанося противнику максимально возможный урон.
Что касается 3-й армии, то она оказалась на периферии войны. Против неё выдвинулся австрийский корпус генерала Шварценберга: Пруссия и Австрия, насильственные союзники Наполеона, вынуждены были, согласно этим союзническим кандалам, выступить против России, чего им совершенно не хотелось делать… Потаённо общаясь с Александром за спиной Наполеона, они клятвенно обещали не предпринимать активных действий – и обещание в целом сдержали. Шварценберг на южном фланге, перейдя границу, старался не тревожить войск Тормасова, а на северном фланге прусские войска, над которыми командующим был поставлен французский генерал Макдональд (шотландец по происхождению) вошли в Прибалтику, остановились близ Риги и более не стронулись с места.
Армии Барклая и Багратиона двигались на восток параллельно друг другу, будучи, несмотря на существенную разницу в силах, юридически равноценными боевыми единицами. И сами командующие были равны в чинах: генералы-от-инфантерии; при этом, однако, Барклай, как министр, был формальным начальником всех вооружённых сил. Но главнокомандующего, то есть того, кто руководит ими в условиях войны, Александр не назначал, тянул. Почему?.. Непростой вопрос. И царю нелегко было дать на него ответ – в данном случае надо бы поостеречься упрекать его в нерешительности. Слишком многое стояло на кону! Стало быть, непоправимо высока могла быть цена ошибки.
Барклай – «академик», тип военачальника-учёного: рассудительный, планомерный, суховатый. Мыслил здраво, руководил войсками отлично, добивался заметных побед. При этом был храбр, пулям не кланялся: настоящий боевой офицер. Александр весьма ценил его. Но… вот оно, то огромное «но», которое останавливало императора. Он понимал – интуитивно, остро понимал: эта война не для Барклая.
И был прав. Это ведь не просто война! и совершенно справедливо её уже через год назвали Отечественной. Здесь воевали не столько армия, сколько народ, не солдаты, но граждане, и даже вернее будет сказать, что против врага восстала страна как духовное единство – целостность пространства и времён, связь которых не распалась тогда, не распадалась и потом, спустя годы… и хочется думать, не распадётся никогда. Летом 1812 года россияне – с разной, конечно, степенью ясности – ощутили, как к ним прикоснулась вечность, та её сторона, что называется Россия – не территория, не государство, но что-то большее и высшее, что, вероятно, трудно осознать и выразить, но что живёт, не гаснет, зовёт нас… хотя и не всегда мы слышим этот зов в житейской суете, почти неразличим он в шуме будней. Но он есть! и это большее раскрывается как ценность, как присутствие великого единства, в особые моменты времени – когда оно, время, вдруг вздрогнет от близости вечности.
Александр, вероятно, уловил эту близость. В первом приближении, но уловил. И сумел понять: чтобы сохранить её, чтобы не пропала одухотворённость, осиявшая воинов, да и вообще всех подданных – необходимо нечто иное, нежели профессионализм и добросовестность; вернее, нечто большее, так как и профессионализм и добросовестность, разумеется, необходимы тоже. Но всё-таки в такой войне, в таких сражениях военная наука – не главное. Одна только русская фамилия здесь важнее, чем на редкость причудливое даже для иноземного «Барклай-де-Толли»… хотя сам Михаил Богданович иноземцем вовсе не был: он родился на земле Российской империи.
Впрочем, тогда, в первые недели войны до назначения главнокомандующего с русской фамилией было ещё не близко…
Сам Александр находился при действующей армии недолго: 6 июля (в день подписания договора с Англией) он покинул Ставку и выехал в Москву. Почему именно такое решение было принято – история довольно туманная; известно, что с коллективным письмом к царю обратились Аракчеев, Балашов и Шишков – предварительно посовещавшись, этот триумвират решил, что присутствие государя в войсках нежелательно. Причина? Причина на поверхности: очевидно, что предстоят недели, возможно, месяцы отступлений, неудач… Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы эти неудачи ассоциировались с персоной государя. Потому, дабы не сеять уныния, пустых и вредных слухов, а может, чего и похуже – императору не следует сейчас быть в армии. Генералов там хватает. Разберутся!
Прямых данных нет и быть не может, но косвенные дают простор для необязательных гипотез, а именно: сама собою возникает мысль, что Александр наводил своих самых приближённых на это решение, и вероятно, достаточно прозрачными намёками – прекрасно сознавая, что ему лучше покинуть армию, но не желая объявлять это самому: пусть попросят. Опытные царедворцы намёк поняли и попросили. Император вздохнул и согласился… Словом, артисты разыграли сцену грамотно.
Только не надо думать, что это трусость. Нет ни малейшего повода упрекать Александра в слабоволии. Это политика здравомыслия, это на самом деле разумно по вышеупомянутым причинам: царь, символ всей русской жизни, не должен быть связан с отступлением.
И вот Александр отбыл, перед этим подписав Манифест о созыве ополчения – чем, по сути, объявил войну народной. Произошло это в Полоцке, а пять дней спустя, 11 июля, император въехал в Москву. Там его ждал небывалый взлёт верноподданнических народных чувств – люди заполонили площадь перед Красным крыльцом Кремля и с ликованием приветствовали государя, когда утром 12 июля он вышел к ним в сопровождении духовенства и московского губернатора Фёдора Ростопчина… Всякое бывает в отношениях народа и власти, везде и всегда – всякое было и в России, хорошее, не очень хорошее, совсем дурное. Но вот такое единство, не показное, не концертное, самое настоящее… это не всякой власти дано испытать. Александру – дано было. И он это запомнил. Он умел «уважать человечество».
Столь выразительные теплота и преданность москвичей сказали Александру, что на свой народ он вполне может положиться. На битву с неприятелем подымутся все до единого – да и на фронте, пусть и непонятно как, но всё же получилось именно то, что и планировали: войска отходят в строгом порядке, экономя силы, а противник проваливается вглубь, распыляясь и ослабевая: пока не так уж катастрофически, но явно идёт к тому… Всё замечательно?
4
Да не совсем, конечно.
Отступая, командующие армиями неизменно ругались один с другим; то есть, ругался, обижался и жаловался Багратион, который не выносил первенства Барклая. И дело тут не только в честолюбии, хотя оно у князя (титул принадлежал Багратиону от рождения) было не просто как у всякого успешного полководца, а ещё и помноженное на грузинский темперамент – следовательно, было неистовым… Но всё же это не то. Как новообращённые католики во рвении своём, случается, превосходят Папу Римского, так и россиянин во втором поколении Багратион стал таким ярым русским патриотом, что порывы его пламенной души приходилось даже сдерживать – иначе они приобретали опасно-непредсказуемый характер. Конечно, князь пламенел по делу: ничуть он не притворялся, не позёрствовал, Россия для него была святыней, и себя он ради своей (своей, конечно же, своей!) страны и ради соотечественников не щадил: «Нет больше той любви, как если кто положит душу за друзей своих»[Ин., 15:13]. Об идее отступления с тактической целью он не то чтобы и слышать не хотел – как-никак он был профессионал, да и сам участвовал в подобном отступлении в войну Третьей коалиции; но то, во-первых, была чужбина, а здесь Багратион видел, что мы сдаём своё, родное, а во-вторых, Барклай, возглавляющий маневр, вёл себя, по мнению князя, себя слишком уж пугливо, избегая всяческих решительных действий, что, по мнению нетерпеливого полководца, было уже предательство.
Завоевания Наполеона были псевдо-успехом, и Барклай всё делал правильно. Если бы то же самое, как тогда, в Австрии, делал Кутузов, которому Багратион верил безгранично, то князь, вероятно, мирился бы с этим – но Барклай, чёрт возьми!.. Немец, чухонец – как только не попадало ему за глаза от коллеги, не смотревшего на то, что ни тем ни другим министр не был. Для князя, должно быть, все «иноземцы» (каковым Барклай опять-таки не являлся!) были на одну личину, и веры им – никакой ни на грош.
Впрочем, в общении с императором, и лично и эпистолярно, Багратион оставался вполне корректен. Волю чувствам он давал в переписке с вельможами: Аракчеевым и Ростопчиным – таким же гейзером патриотизма, что и он сам.
Фёдор Васильевич Ростопчин был большой оригинал. Родословную свою выводил ни много ни мало от Чингисхана [42, 5]; находясь при дворе, сумел добиться расположения Павла I (правда, ненадолго), приобрёл репутацию острослова, умел сказать метко, не в бровь, а в глаз… Его вообще тянуло к словесности, видимо, и вправду обладал он литературным даром. Что, однако, в сложной придворной борьбе ему не помогло: Палену удалось очернить сатирика и отстранить от двора. Ростопчин убыл в Москву, там и засел надолго. Александр его недолюбливал, к себе не приближал, да тот и сам был решительным противником нового курса, Негласного комитета; своё неудовольствие выражал в язвительно-юродственных иносказаниях, опять же не без остроумия. Такое творчество доставило Ростопчину популярность в Москве, вообще фрондировавшей в пику Петербургу: понаехали тут! Разве можно сравнить Петербург, где суетятся всякие там беглые немцы да выскочки, с древней Москвой, обителью родовитого, столбового дворянства!.. Императора, впрочем, этот затхлый гонор не беспокоил, и на отставного Эзопа он внимания обращал немного.
Пока не грянула война. То есть, она ещё не грянула, но всё уже катилось к ней, и когда угроза вторжения стала бесповоротной – вот тогда-то выяснилось, что лучшего губернатора старой столицы, такого, кто смог бы инициировать патриотизм москвичей по максимуму, не найти. И в мае 1812 года Ростопчин был назначен губернатором.
Итак, в письмах единомышленнику Багратион не стеснялся. На положении министра это, впрочем, не сказывалось явно; тем не менее, капля камень точила: возмущение командующего Второй армией подхватили многие, сам Ростопчин хотя бы. Разговоры, слухи, сплетни… и вот уже молва о «предательстве» стала расползаться среди офицерства, а затем и в солдатской массе – тогда-то и возник «Болтай, да и только»…
Мы долго молча отступали, Досадно было, боя ждали, Ворчали старики: «Что ж мы? На зимние квартиры? Не смеют, что ли, командиры Чужие изорвать мундиры О русские штыки?»Отступление было необходимо: армия неприятеля вытягивалась в необозримых русских лесах и полях, тыловые службы изнемогали – снабжение делалось всё отвратнее, дисциплина продолжала разлагаться, в небольших, но многочисленных стычках захватчики несли потери, не прекращалось и дезертирство… Барклаева идея скифской войны воплощалась в жизнь.
Но сам Барклай на роль «скифа», порождение стихии, никак не подходил. А вот на роль «громоотвода», неудачника, чьё имя символ отступления – весьма, по всем параметрам. Технически: никто лучше него не смог бы организовать отход; и идеологически – собрал на себя все проклятия, отведя их от светлого царского облика… Ну, а после того, как мавр своё дело сделал, понятно, что мавр может и удалиться.
Что тут сказать?.. В сущности, Александр просто-напросто «сдал» Барклая – примерно так же, как полгода назад Сперанского; с некоторыми, правда, существенными поправками: от Михаила Михайловича он отказываться не хотел, его вынудили, а Михаила Богдановича сознательно принёс в жертву, изначально наметив козлом отпущения – нормальный, так сказать, политический цинизм. Генерал понял это, видимо, с некоторым опозданием, будучи в политике не искушён… А поняв, пережил, конечно, тяжело, даже заболел – непритворно, по-настоящему. Однако, человек умный, он сумел принять эту правду, то, что сделано так было не из подлости, а из политической целесообразности. Да и Александр, сыграв с достойным человеком в недостойную игру, потом уж постарался дать тому понять, что это был хитроумный вынужденный маневр. Ещё, кстати, одно отличие от ситуации со Сперанским: с тем император расставался надолго, быть может, навсегда – и понимал это; Барклая не отлучал вовсе, а чуть погодя буквально засыпал высокими наградами: в течение нескольких лет военачальник стал графом (потом – князем), фельдмаршалом, стал-таки главнокомандующим, получил высшие ордена: св. Андрея Первозванного и св. Георгия I-й степени… Словом, Александр, не имея возможности – положение обязывает! – извиниться по-человечески, извинился по-императорски перед человеком, которого ценил и уважал, но с которым пришлось сыграть в такую жестокую игру. И Барклай, судя по всему, оценил это – и выбросил обиду из души.
Но то всё позже… А пока – идёт июль 1812 года, наши войска отходят. Наполеон пытается их преследовать, но больше преследует воздух, его армия теряет силы… и наконец, он принуждён 18 июля издать приказ об отдыхе, продолжительностью примерно неделю. Нужно стать лагерем, сгруппировать растянувшиеся части, привести в порядок измочаленное снаряжение… В русском штабе решили, что лучшего момента для контратаки не придумать.
Решение было абсолютно верным – но в теории; а на практике вышло недоразумение. Контрнаступление состоялось 26 июля… и закончилось провалом [59, т. 10, 670]. Отвратительные отношения между командармами вылились в крупную неприятность: наступление велось несогласованно, вразброд – а с таким противником как Наполеон, да ещё далеко не столь ослабленным, как хотелось бы, чьи силы были пока очень, очень велики – вся операция оказалась пустой тратой сил. Стремительным броском Бонапарт форсировал Днепр, угрожая Смоленску, важнейшему стратегическому пункту. Пришлось вновь спешно отступать – и лишь после этого маневра и тяжёлых боёв 1-я и 2-я армии наконец-то вечером 4 августа соединились у Смоленска.
Здесь уже превосходство французов в живой силе выглядело не столь чудовищным, оставаясь, однако, значительным: по боевым частям в полтора раза (180 тысяч человек против 120 тысяч). Наполеон, давно жаждавший генерального сражения – своей стихии! – воспрянул, рванулся вперёд, но умный Барклай, здраво рассудив, что ничего хорошего для нас из такой битвы не выйдет, дал приказ продолжить отступление, велев ряду частей 1-й армии оборонять город, по мере сил сдерживая натиск противника.
Это было оптимальное оперативно-тактическое решение – всякое другое привело бы лишь к худшим последствиям. Но с политической точки зрения… Так уж несчастливо сошлись звёзды для Барклая, а правильнее будет сказать, так их втихомолку расположил хитромудрый Александр Павлович – что опять министр остался один во всём виноват.
Недовольство начальством штука вообще мало хорошего обещающая, в армии вдвойне, а уж во время войны… Говорить нечего. Но император, как умелый повар, ожидающий, когда похлёбка закипит, при этом отнюдь не полившись через край – ни секундой раньше, ни секундой позже – выжидал критического уровня недовольства, и это случилось, когда наши войска оставили Смоленск. Вполне возможно, что Александр вовсе не думал о сдаче именно этого города, но так уж совпало. Вот тут-то и «черта наступила», как говаривал трактирный философ Семён Захарович Мармеладов. Пришло самое время назначить главнокомандующего.
5
Знал ли Александр заранее, что таковым станет именно Кутузов? Конечно, да. Хотел ли этого?.. – вопрос, уводящий в долгую психологическую глубь. Полководец был императору антипатичен по многим причинам, хотя бы и потому, что по неисповедимым капризам судьбы дополнял своей персоной самые тяжкие моменты жизни Александра. Смерть отца! Последний обед императора с семьёй и приближёнными – Кутузов за столом. Аустерлиц, страшный разгром – опять он тут как тут… Какой-то одноглазый знак Александровых бед! Конечно, в этих бедах великому князю, а затем царю винить бы себя самому, но символ, символ!.. кто же знает, какие таинственные невидимые нити соединяют людей. Наверняка император немало думал о том в трудные дни июня-июля 1812 года – и всё-таки не мог не прийти к выводу о неизбежности присутствия Кутузова и на сей раз.
Сам генерал-аншеф тоже это осознавал. К началу войны он явно оседлал фортуну: громкие победы, Бухарестский мир, нейтрализовавший Турцию, высокие награды, блестящие титулы, популярность в обществе… Будучи в июле назначен начальником Санкт-Петербургского ополчения, граф (пока ещё не князь!) немедля развил ураганную деятельность, и реальную, и рекламную, повёл умелую агитацию как среди широких масс, так и точечно, визитируя влиятельных лиц, в том числе и Марию Антоновну Нарышкину, любовницу государя… Опытнейший царедворец и дипломат, старый масон Кутузов в подобных коньюнктурах толк знал. Тут как раз подоспело и княжеское звание (29 июля), что даёт основание думать о ненавязчивом включении в пиар-кампанию самого императора – иначе другого дела у него в разгар войны нет, как сиятельные титулы раздавать…
Словом, общественное мнение к началу августа созрело. А возмущение Барклаем почти перезрело – «почти» потому, что Александр филигранно поймал момент, не дав нарыву гнева лопнуть, хотя едва-едва такое не случилось: уже и начштаба Первой армии Ермолов писал прямо императору о «предательстве» своего начальника, поддался подобным настроениям и великий князь Константин, находившийся при штабе Барклая [32, т.3, 222]… Но Александр всё просчитал мастерски. Более того, он как принципиальный либерал, сделал выбор главнокомандующего коллегиальным решением – собрал особый комитет, коему и поручил разобраться с данным вопросом. В комитет вошли крупнейшие сановники, всё знакомые нам лица: Аракчеев, Балашов, Вязьмитинов, Кочубей, Лопухин, Салтыков. Сей синклит мудрейших мудрил недолго, хотя справедливость требует сказать, что рассматривались там разные кандидатуры: Беннигсен, Багратион, даже всплыл из прошлого Пален, всеми давным-давно забытый; правда, речь шла не о нём самом, а об его сыне, Петре Петровиче, боевом генерале… Всерьёз ли велись эти дебаты или протокола ради, история умалчивает, но результат стал таким, каким должен был стать, а другим никак не мог: на пост главнокомандующего предлагался генерал-аншеф Михаил Илларионович Кутузов. Восьмого августа он был высочайше в этой должности утверждён.
Видимо, тогда-то до Барклая дошло, какой хитроумный маневр с ним проделали. Впоследствии, да, он сумел себя перебороть, признать суровую правду политики… но тогда ему пришлось тяжко. Отныне он становился одним из генералов в Ставке главнокомандующего. Заодно расстался и с постом министра.
Может показаться странным: в министерском кресле его заменил персонаж, отчасти случайно оказавшийся в премьер-лиге российской бюрократии, к тому же с неоднозначной репутацией. Но, впрочем, ничего странного в том не было: во время войны весь цвет генералитета был на фронте, и в министерстве за старшего, так сказать, остался генерал-лейтенант Алексей Иванович Горчаков. Он и стал аварийным министром. Правда, надо сказать, что он был не только аристократом в неведомо каком поколении [Горчаковы считаются Рюриковичами, равно как и Барятинские, Волконские, Львовы, Одоевские, Гагарины, Щербатовы, Лобановы-Ростовские… и многие другие дворянские фамилии – В.Г.], но и близким родственником знаменитых и влиятельных лиц: Суворова (дядя по матери) и Салтыкова (дядя жены Алексея Ивановича).
Да, Горчаковы – один из древнейших, знатнейших княжеских родов России, восходящий к основателю Руси Рюрику. Но в семье, как известно… Карьера Алексея Ивановича была на редкость экспансивной. К описываемому времени он дважды (дважды!!) обличался в растрате казённых денег: впервые при Екатерине, потом при Павле. И оба раза – ещё удивительнее! – был оправдан. Правда, во второй раз Павел Петрович, понимавший законность крайне своеобразно, повелел взыскать с оправданного убыток; видимо, императору надоело слушать истории про человека, которого всё подозревают, подозревают, и никак доказать подозрения не могут. Павел Петрович не без оснований предположил, что существует эффективный способ искоренить дальнейшие недоразумения: сделать один раз начёт на тридцать тысяч (именно такая сумма исчезла из казны Выборгского гарнизона, возглавляемого князем) – и подозрений больше не должно быть.
С чинами у Алексея Ивановича тоже вышла редкостная чехарда. Ему и тридцати не исполнилось, когда он стал генерал-лейтенантом (!), а менее чем через два месяца и ровно за неделю до смерти Екатерины был уволен в отставку. Спустя пару лет восстановился, но одним чином ниже: генерал-майор. И вторично до генерал-лейтенанта пришлось ему дослуживаться целых… двенадцать лет. В этом необычно скромном для министра звании он и встретил неожиданное назначение.
Впрочем, Горчаков не стал полноценным министром, а назывался «управляющим министерством», то есть исполняющим обязанности. И соответственно, полномочий имел гораздо меньше: например, не получил права личного доклада императору. Это также совершенно понятно – в военное время, тем более при заграничных походах управляющий министерством, оставленный «на хозяйстве», не великая фигура есть, что-то вроде начальника тыла… Но и с этими обязанностями князь справлялся неважно, хотя в августе 1814 года и был наконец-то утверждён министром.
Словом, назначение оказалось явным нонсенсом, но Александра здесь оправдывает то, что тогда ему, далеко в Европе занятому головоломными проблемами всемирного масштаба, было не до таких мелочей…
Итак Кутузов – во главе армии. Взрыв энтузиазма! «Пришёл Кутузов бить французов,» – несмотря на то, что главнокомандующий продолжил ровно то же, что делалось прежде, то есть отступление. Но идеология великая вещь! Всё продолжилось и всё изменилось: отступление с Барклаем – измена и катастрофа, а отступление с Кутузовым – накопление сил перед решающей схваткой… Да и сам светлейший был отличным психологом, в добренького дедушку не играл, а вот подход к сердцам воинов найти умел: несколько весёлых слов, брошенных им вроде бы мимоходом на смотру, мгновенно разнеслись по армии, люди воспрянули – сразу другая атмосфера. И надо сказать, что это не расчётливый жест на публику: Кутузов вправду был «солдатским» генералом, берёг жизни, он вообще твёрдо держался гуманных убеждений – может показаться странной такая характеристика военачальника, чья должность вынуждает посылать людей на смерть – но и это бывает по-разному…
Итак, отступление приобрело новое качество. Не по вине Барклая, и не по сверхъестественным каким-то заслугам Кутузова (не умаляя его «просто» заслуг!), а по сценарию Александра – первоначальное замешательство рассеялось, искусно выполняемый отход сохранял силы русской армии, ослаблял агрессора. Механизм «скифской войны» работал исправно, растворяя войска Наполеона непонятным для него образом… К 24 августа – накануне Шевардинского боя, предварившего Бородинскую битву, соотношение главных боевых сил заметно выправилось: 135 тысяч человек у Наполеона против всё тех же 120 тысяч наших (действовал Александров манифест о созыве ополчения). По артиллерийской же части у нас оставался перевес: 640 орудий против французских 587 [10, т.5, 598].
Иногда, впрочем, приходится встречать и другие сведения: у Наполеона 1400 орудий, в русской армии – 942 [23, 437]…
От Бородина до нынешней московской границы примерно сто километров. По тогдашним временам – немногим больше. Вот здесь-то Кутузов и решил дать Наполеону генеральное сражение, к которому тот так долго рвался.
6
Бородинскую битву обе стороны в своих реляциях объявили победой – следовательно, она закончилась вничью. Но лишь сама битва как таковая, отдельно взятое боестолкновение. В контексте всей войны для Бонапарта сражение стало провозвестником надвигающегося конца, для России – символом грядущей победы. И потому Бородино в нашей истории такая же героическая мифологема, что и Чудское озеро, Куликово поле, Полтава, Сталинград… Но этот высочайший статус пришёл со временем. Тогда же, в конце августа 1812-го, всё было ещё очень неясно.
Государь к этому времени находился в Петербурге. В течение августа он успел совершить важный дипломатический маневр: встретиться с Бернадотом в Або, в Финляндии. Русский монарх и наследник шведского престола обсудили взаимовыгодное будущее державных отношений; то был немалый успех, но Александра, конечно, больше всего тревожили вести с главного фронта, особенно к концу месяца: весть о главном сражении, которое вот-вот должно состояться. Или уже состоялось?.. Царь маялся в неведении, а Кутузов, знаток придворных игр, тянул с донесением, подгадывая к 30 августа, дню тезоименитства государя (в этот день все Александры – а также, к слову, Иваны и Павлы – могут считать себя именинниками). Старый лис угадал точно: 30 августа сообщение достигло императора, а на следующий день догадливый полководец возымел чин фельдмаршала и 100 тысяч рублей наградных. 50 тысяч получил тяжело раненый Багратион, что ему, увы, было ни к чему – через две недели он скончался от раны и душевных потрясений… Кто же мог ожидать того, что случится после успешной и многообещающей битвы?! А едва ли не меньше всех – Ростопчин, получивший от Кутузова заверения, что армия Москву не сдаст.
Фёдор Васильевич и на посту градоначальника продолжал чудить. Так, он очень горячо поддержал инновацию какого-то пронырливого немца, обещавшего сделать воздушный шар, с которого якобы можно будет наблюдать за перемещениями вражеских войск – авиаразведка, так сказать. Шар, конечно, немец не построил, зато финансирование – из городского бюджета в свой карман – наладил…
Между прочим отметим, что в эти времена в России имелся свой специалист по воздухоплаванию – сотрудник Академии наук Яков Захаров, впервые в мире поднимавшийся на шаре с целью метеорологических наблюдений. Факт малоизвестный, но реальный; в годы борьбы за приоритет отечественной науки и техники его имя извлекли на всеобщее обозрение и потрясали им [10, т. 16, 512] – вполне справедливо, в отличие от полёта легендарного подьячего Крякутного, в ту же кампанию «борьбы за приоритет» торжественно объявленного первым воздухоплавателем в истории человечества, и также удостоенного отдельной статьи в Большой Советской Энциклопедии [10, т.23, 567]…
Осознавая себя не только чиновником, но и литератором, Ростопчин решил, что писательско-гражданский долг повелевает ему отдаться агитации и пропаганде, «шершавому языку плаката», что и сделал. Агитпродукция московского мэра, «афиши» – развешивались в самых людных местах; тексты, написанные либо от первого лица, либо от имени юмористических персонажей, этаких Василиев Тёркиных той поры – повествовали о том, какие русские молодцы, а французы дураки, что в Москве всё прекрасно, провианта довольно, силы наши неисчислимы, и вообще всех шапками закидаем… Поэтому известие об оставлении Москвы грянуло на потомка Чингисхана как гром с ясного неба.
Увлекшись агитпропом, он как-то и не позаботился о возможной эвакуации. Когда «информационная бомба» – слух о том, что армия уходит, оставляя город неприятелю, и французы вот-вот войдут в Москву – внезапно лопнула средь жителей старой столицы, началось смятение и беспорядки.
Сказать, что возник хаос, было бы явным преувеличением; тем более не было каких-то политических выступлений, на которые Наполеон не прочь был бы рассчитывать. Но нет, рассчитывал зря… Однако, пьянство, мародёрство, драки – все эти прелести возникли, тут же начались и пожары. В них молва дружно обвинила незадачливого губернатора, официальные источники – французов… а в сущности, прав Лев Толстой: «Москва сгорела вследствие того, что она была поставлена в такие условия, при которых всякий деревянный город должен сгореть, независимо от того, имеются ли или не имеются в городе сто тридцать плохих пожарных труб»[65, т. 3, 265].
Всё верно: пожары неизбежные спутники людских несчастий, войн и революций. Где война – там пожары возникают словно сами по себе.
Иной раз приходится встречать мнение, что Кутузов крепко подвёл Ростопчина, вовремя не поставив того в известность о решении отступить [5, 190]. В этом есть, очевидно, доля истины, но надо войти и в положение главнокомандующего, представить себе ответственность и объём забот, возложенные на него! Ещё на знаменитом совете в Филях (1 сентября) мнения высказывались разные: давать сражение, не давать, отходить, не отходить… К единомыслию на совете так и не пришли, но в армии, когда единомыслия нет, вступает в дело единоначалие – волевым порядком фельдмаршал приказал оставить Москву.
Выбор Кутузова не просто главнокомандующим – победителем в Отечественной войне – был по большому счёту совершён не вельможной комиссией и даже не императором. Судьба страны – а тогда, в 1812 году, несомненно, решалась судьба нашей страны – всегда итог выбора провиденциального. Люди, за которыми в такой миг решающее слово, либо под светом Провидения, либо вне его. Кутузов сущность этой войны сознавал не хуже Александра и Барклая! Иначе – да, может быть; в большей мере чутьём, в меньшей разумом, но не хуже. И приказывая сдать Москву, он знал, что победа будет за нами. Наверное, это далось ему нелегко: ведь это было его персонально ответственное решение, и он должен был понимать, что именно сейчас его имя простирается в будущее, в историю. А память потомков субстанция сложная, капризная… правда, по тому самому большому счёту справедливая. Ростопчин прослыл поджигателем Москвы независимо от того, поджигал он на самом деле или не поджигал… Так кем же войти в историю светлейшему князю фельдмаршалу Кутузову: капитулянтом или триумфатором?!
С этим можно соглашаться или не соглашаться, но… право же, 1 сентября 1812 года светлейший был почти ясновидящим. Он видел – никуда враги не денутся, и идти им больше некуда. Дальше на восток? Абсолютно бессмысленно! Армия измотана, обескровлена, силы на исходе. А зима на носу. Значит, выбор простой: либо уносить ноги туда, откуда пришли, либо остаться здесь. Навек. В могилах. Вот и всё!
Решение принято – но как о нём сообщить императору?.. Правда, многоопытный Кутузов и рапорт о Бородинской битве отправил какой-то обтекаемый, несмотря на то, что не преминул указать на неудачи и потери противника [73, 156]. Тем самым мудрый старец заработал звание фельдмаршала, 100 тысяч наградных, а вместе с тем и продлил выгодную ему неопределённость: выгодную потому, что тогда он ещё не знал будущей правды. А после совета в Филях знал.
Правда суровая. Сообщать её нелегко. И фельдмаршал искусно отпасовал её Ростопчину – так что горькая доля гонца с плохой вестью повисла на невезучем сочинителе, за время московского вольнодумства отвыкшего, как видно, от придворных комбинаций… Конечно, сам лично Ростопчин не поехал с повинной к царю, но писать депешу пришлось ему. Седьмого сентября (французы уже четыре дня как в Москве!) оглушительное известие дошло до Царского Села.
7
Александр сложился как человек духовного поиска – натура «сложная, раздвоенная, совмещающая противоположности, духовно взволнованная и ищущая»[9, 59]. Он стремился найти смысл бытия в целом и оправдание бытия персонального, своего «Я», Александра Павловича Романова. Зачем он, Александр Павлович, явился в этот свет? Ясно, что не просто так – родился не в избе, не в хижине; хотя и там люди рождаются не по пустому случаю, но всё же там не так тревожно и огромно – как второе небо! – в неспокойно клубящихся облаках, над тобой этот бесконечный вопрос: зачем? Зачем выпало родиться единственным среди десятков миллионов, атлантом, держащим на плечах полмира?.. И как их удержать?! Система прочности! – какой она должна быть?
Выше «довоенный» Александр был назван платоником, и нам остаётся ещё раз подтвердить это. Его духовный путь есть своеобразный онтогенез исторического христианства, у которого, в точном соответствии с правилами нашего мира, два родителя: библейский пророческий дар и античная культура, философская прежде всего. «Греко-римский мир, то есть римская государственность, соединенная с эллинистической культурой – вот вторая после иудейства историческая «родина» христианства» [76, 41]. Греческая философия возникла как осознание универсума – целостности, упорядоченности мира, а стало быть, и его отзывчивости на творческую человеческую мысль. От этого посыла начинали первые легендарные мыслители Эллады: Фалес, Пифагор, Анаксимандр, чуть позже Гераклит и Парменид…
Со временем в исканиях определился основной, самый плодотворный вектор познания: по нему, целостность и структура сущего происходят из этически высшего всеобъемлющего начала, чем и объясняется порядок, даже эволюция мира при невообразимых его громадности, сложности и неоднозначности. Данный вектор хронологически украшен славными именами: Анаксагор, Сократ, Платон, Аристотель, стоики, неоплатоники… Все они от века к веку развивали, раскрывали, обогащали идею Высшего начала. Анаксагор первым логически внятно выразил разумный характер этого Высшего; Сократ догадался: Оно должно быть нравственным; Платон описал Его как прекрасный светлый мир добра и счастья, указав на то, что все организмы и объекты нашего, куда более скудного мира способны существовать лишь постольку, поскольку являются тенями, проекциями первообразов из мира того, истинного, чей волшебный свет, падая на поверхность второсортного бытия, оживотворяет его: оно упорядочивается, в нём возникают существа, чья форма воспроизводит – в ухудшенном, правда, виде – ту или иную вечную, прекрасную, непорочную сущность. Аристотель разработал классификацию этих сущностей: и там, в вечности, есть своя иерархия, выше всего в ней находится «форма форм», абсолютный Ум – «…он представляется наиболее божественным изо всего, что мы усматриваем» [3, 338]. Неоплатоники, объявлявшие себя идейными потомками и наследниками Платона, по-своему переосмыслившие также опыт эпикурейцев и стоиков, выстроили подробнейшую многоэтажную конструкцию мироздания, возглавляемую совершенным источником истины, добра и красоты, вообще источником всего: Единым-Благом. Это в теории; но философы неоплатонических школ были и практиками, оставили обширные описания мистических технологий слияния человеческой души с Единым-Благом – медитаций, если так понятнее.
Очевидно: любознательная греческая мысль последовательно шла к монотеизму, к признанию единого Бога, абсолютного добра, невыразимо прекрасной вечности, как единственной основы настоящего, а не фальшивого, полноценного, а не ущербного бытия. Ум, абсолютный Ум, Единое-Благо… всё это суть стадии понимания Бога. И если взглянуть философским взором на душевную эволюцию Александра Павловича Романова – то явным станет преломление истории мысли в одной взволнованной, жаждущей света человеческой душе.
Волей-неволей познавая эту бесконечно сложную жизнь и будучи серьёзным, ответственным человеком, император Александр I не мог не прийти к концепции иерархии сущностей, возглавляемых Абсолютом; и к социальным выводам из этой концепции, именно: император должен стремиться стать земным отражением Абсолюта, изливающим на подданных эманации добра, заботы, ласки… Александр так и старался делать, и подданные это почувствовали, откликнулись! Разумеется, не всё, не всегда получалось… а кроме того, помимо излияния отеческих забот и ласк приходилось хитрить, обманывать и предавать (да, да, и это тоже!..) – но тут уж никуда не денешься, такая жизнь, такой мир: не Абсолют, а лишь Его проекция где-то внизу.
Античную философию закономерно привело к единому Богу. Чего же, казалось бы, ещё?.. А вот и сложилось так, что чего-то не хватило, хотя мысль великих греков вовсе не была только рационально-отвлечённой, описывающей «схему Бога», но не проникающей в суть. Нет, эти люди были мистически одарены, они развивали в себе способности к переживанию бытия высшего плана… однако, время всё расставило по местам, а место платонических мистиков изо дня нынешнего смотрится поблекшим, устаревшим и тусклым, как солидная, но пыльная, продавленная мебель.
Это справедливо. Время оказалось сильнее. Идеализму классиков не хватило правды – пожалуй, это слово лучше всего передаст суть дела. Правды в самом простом и глубоком смысле: справедливости, сострадания, тепла, дружеской руки Бога, протянутой одинокому человеку, блуждающему в неприветливом мире. Единое-Благо действительно есть Абсолют, бытие, в котором нет зла, смерти и страданий – но ведь оно доступно только редким одиночкам, мудрецам, достигшим Его, и в Него погрузившимся, как буддист в свою нирвану. А тысячи, миллионы других, а вообще весь этот мир, испорченный, изъеденный, пропитанный злом?! Что с ним?.. Да ничего! Ни мудреца, ни самого Единого-Блага это не касается. Оно источает из себя добро, как небо – дождь, и этого ему довольно. Кто захочет понять, поймёт, кто не захочет – пропадёт. Свобода! Добрая, спокойная и равнодушная. Добрая к немногим мудрецам, равнодушная ко всем прочим. Вернее, ко всему прочему.
Иначе в ветхозаветной картине мира. Здесь вера – страстное ожидание Бога, того, что Он придёт и спасёт всех, весь мир… Впрочем, скажем истину, не всех, а избранных. Иудейское сознание было всё же кастовым. Оно жаждало Бога, должного явиться и вызволить из плена падшести праведников, хранивших верность закону Моисееву – и мстительно предвкушало наказание нечестивых.
Жёсткая, суровая вера! Но в должное время и в должном месте именно она, именно эта пассионарная напряжённость смогла стать «точкой прорыва», где затхлая ткань грешного бытия треснула – и вечность прикоснулась к человечеству.
Первое пришествие Христа – действительно событие, соединяющее миры. Оно вроде бы принадлежит истории, то есть, условно-одномерному времени, оно учтено во всемирной хронологии наряду с государствами, династиями, войнами, революциями… Но это его феноменальная, облекшаяся в плоть сторона. Сущностно же оно вне времени: Бог всегда касается мира, каждое его мгновенье, в каждой точке, каждой душе; другое дело, что не каждая душа готова воспринять такого Бога. Его так страстно ждали, так молились, так смотрели в небеса!.. – и вот Он явился. Но не в сиянии безмерного величия, а скромно и спокойно, с очень простыми словами любви и милосердия – ко всем людям, всему живому, всему, всему сущему, чтобы никто, до самой последней крохи в самом дальнем углу Вселенной не был забыт…
Это оказалось непонятным.
И всё же искра вечности попала точно туда, куда надо: в Иерусалим, самую напряжённо пульсирующую (и по сей день!) точку человеческого мира. Вспышка! – и отсвет побежал по Земле… и через какое-то время выяснилось, что лучшим проводником этого света является античность, столетиями подготавливавшая себя к восприятию его, но сама не сумевшая просиять: должно было сверкнуть извне, чтобы огромный массив культуры встряхнуло и повело в новое качество.
8
В 60-е годы XIX века, вскоре после шумного успеха гипотезы Дарвина, один из его самых пылких и морально неразборчивых сторонников, немец Эрнст Геккель выдвинул так называемый «основной биогенетический закон» (или «закон эмбриональной рекапитуляции»), предположив, что каждый организм в процессе своего индивидуального развития повторяет главнейшие этапы эволюции всей живой природы. Говоря проще, человеческий эмбрион, начиная свой путь от одноклеточного, на каком-то внутриутробном этапе начинает напоминать рыбу, потом земноводное, после этого пресмыкающееся… и так далее, прежде, чем станет человекоподобным: миллионы лет, сжатые в девять месяцев. Своё «открытие» Геккель проиллюстрировал собственноручными рисунками: якобы он наблюдал различные стадии эмбрионов и зарисовал их (эти картинки можно отыскать в советских школьных учебниках биологии, где грубый дарвинизм был главной идейной струёй). Однако, скоро выяснилось, что рисунки – фальсификация, ничего Геккель не наблюдал, а лишь образно воплощал свои умозрения; учёный мир сотряс шумный скандал. Авантюризм дорого обошёлся нечистому на руку биологу: большая часть научного сообщества подвергла его остракизму, хотя нашлись и сочувствующие, полагавшие, что ради утверждения эволюционно-дарвинистских взглядов можно пойти и на подлог. Всё равно, оправдывались они, теория верна, а доказательства, если даже их сейчас и нет, непременно отыщутся позже… Как бы там ни было, свою научную репутацию Геккель испортил навсегда – несмотря на то, что был способным и перспективным исследователем, и немало высказал дельного до того, как его разумом овладел псевдофилософский бред. Заодно опорочил и гипотезу, чего, вообще-то жаль: в идее аналогии между индивидуальным и глобальным есть здравый мотив – задолго до Геккеля об этом говорили такие серьёзные учёные, как К. Бэр и Ж. Кювье. Любой организм в известном смысле суть микрокосм, человек тем паче, а его душа…
Трудно сказать, всякая ли человеческая душа в персональном масштабе воспроизводит ту или иную сторону духовного пути человечества – но Александр Павлович в данную гипотезу вписывается весьма ярким аргументом. Он формировался как личность нравственная – можно это заявить совершенно ответственно. Он был политиком, да – то есть вынужден был быть хитрецом и притворщиком. Но при всём этом он стремился стать Государем не по Макиавелли, а по совести, хотел благо творить, и творил: это правда, он творил благо.
Скажем больше: он, номинальный христианин, постепенно приближался к христианству реальному, хотя и делал это на ощупь. Он заходил в храмы и там пытался прочувствовать действие благодати Божией… Есть свидетельство о том, как в самые последние дни перед войной некий ксендз из Вильно, зайдя в свой костёл, обнаружил там коленопреклонённого русского офицера, а подойдя поближе, оторопел, ибо узнал в этом погружённом в молитву человеке императора Александра I [12, т.4, 427].
Православный царь в католическом храме? Для Александра той поры ничего странного: он в догматике не был силён. Наивно?.. Да, разумеется. Зато искренне. Искренним стал его интерес к Библии, книге, до сих пор бывшей, по существу, закрытой для него. Смешно и грустно: когда он захотел почитать Библию, выяснилось, что всё наличествующее в семейной библиотеке августейшей четы – перевод на французский опять же католической Вульгаты [Библия, переведённая в конце IV века бл. Иеронимом на так называемую «вульгарную латынь», живой разговорный язык широких масс Римской империи – В. Г.], томик Елизаветы Алексеевны. Но для императора и этот дважды переводной текст стал откровением.
«Я пожирал Библию, находя, что её слова вливают новый, никогда не испытанный мир в моё сердце и удовлетворяют жажду моей души…» – вспоминал он после [73, 152]. Александр, человек духовно чуткий, тонко уловил: его поиск смысла жизни был верным, но недостаточным. Как картине, прекрасной, почти совершенной, не хватает какой-то детали, не хватает какой-то детали, быть может, совсем маленькой, быть может, чёрточки… и художник бессонно терзается ночами, стремясь найти и не находя её – так и мыслитель, художник духа, не ведает покоя, чувствуя незавершённость своего мировоззрения. Правда, оно строится всю жизнь, и потому недостроено всегда; но недострой недострою рознь. Иной раз человек ощущает себя на взлёте, душа его чудно озарена – и он видит и знает, что делать. А бывает грустное: жил, мыслил, даже поучал кого-то, был собой доволен… Но жизнь материя сложная, взяла и как-то очень сложно повернулась, и человек увидел, что всё, чем жил, чему учил – всё вздор; и как дальше жить, непонятно, а помереть вроде бы рано.
Александр, жизнь которого была сложнее некуда, вдруг открыл для себя христианство как чистый безграничный источник, всё время находившийся рядом, но отчего-то не замечаемый. То, что черпалось императором прежде, тоже было светлым, приятным – но в сравнении с новоприобретённым вдруг стало пресным, и Александр, наверное, удивлялся: как же раньше не видел очевидного!.. а удивляться нечему. Трудность моральных истин христианства не в том, что до них тяжело додуматься и сформулировать. «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим» [Матф., 22:37] и «возлюби ближнего твоего как самого себя» [Матф., 22:39] – слова самые ясные, и Александр наверняка слышал это едва ль не каждый день… Но нет, не доходило, скользило по поверхности сознания.
Вера суть в том числе и сопричастность человечеству, Земле, мирозданию, естественное переживание своего «Я» не как эмпирического индивида Homo sapiens, ограниченного, одинокого в огромной чуждой ему Вселенной, но равного ей. Я = Вселенная – одна из формул религиозной гениальности. Словесно – да, как будто проще некуда. Но способность радоваться счастью, сопереживать несчастьям, чувствовать тревоги, беды и надежды мира как свои – не вежливым сочувствием, не дежурной улыбкой, а с болью, гневом, скорбью, полным сердцем – великий дар, он либо дан непостижимо разуму, либо его надо воспитывать, взращивать, беречь и не давать угаснуть.
9
Современником Александра был человек, вознаграждённый таким талантом в превосходной степени.
Купеческому сыну Прохору Мошнину его будущее предназначение открывалось с первых лет жизни. Родившись в очень набожной – не поверхностно, начётнически квази-набожной, а реально жившей христианской нравственностью – семье, он естественным образом впитывал в себя светлую ауру православия, такую, какой она и должна быть; что, к сожалению, не частое явление в обыденной жизни… Это прекрасно – однако, само по себе не делает из человека гения веры, для того должна сложиться особая комбинация факторов, о которой судить, анализировать, прогнозировать… пустое дело. Очевидно, играют роль и генетические, и этнокультурные, и исторические, и биосферные данные; религиозно одарённые люди родятся в разные эпохи, в разных уголках Земли, и одарённость их разная: может быть горячей, страстной, увлекающей, а может – кроткой, умиротворённой… Вероятно, не каждому из них дано развить духовные дары: даже энергиям любви не так-то просто создать должный импульс в сумрачном пространстве-времени земного бытия. Но если уж сложилось всё, до последней ДНК в наборе хромосом – тогда чудесно просияет в человеке сила веры, не даст миру сумерек погрузиться ещё глубже во мрак.
Так всё сошлось: прекрасная семья, мягкий добрый характер, юг среднерусской полосы – светлые лиственные леса, спокойные реки, облака, отражённые в тихой воде… Чувство причастности к высшему, необычайные знамения. Кем стать юному Прохору? Иного ответа здесь и быть не могло. Он решает посвятить себя Богу.
В ноябре 1778 года (младенцу Александру вот-вот должен сравняться год) Прохор Мошнин поступает в Саровский монастырь. Его назначают служителем при монастырском казначее – и прежде, чем послушник Прохор будет пострижен в монахи и получит имя Серафим, пройдёт десять лет. Эти годы станут для послушника полными духовного труда, испытаний, откровений… Путь религиозного подвига доступен немногим. Он свершается в уединении, тишине и величайшей сосредоточенности, не обещает славы: чтобы объять мир просветлённой душой, человек должен сначала из этого мира уйти.
Собственно, таков – душа равна миру – смысл жизни вообще, такова истинная цель любого творчества, всякой философии, к этому трудно, через неисчислимые житейские помехи, окольными тропами добирался и Александр… Но путь подвижника самый прямой и самый трудный; зато итог его самый ясный и прочный. Человек, прошедший этот путь, живёт истиной, а не её подобиями, отражениями, пусть истина сама по себе есть огромная и сложная живая сущность, полная исканий и печалей, и осознания трагизма бытия. Это больше, чем безмятежная пустота буддийской нирваны или атараксии стоиков, это стремление вобрать всю полноту творения – и падший мир тоже, чтобы никто, ничто не осталось забытым и покинутым вне истинного (читай: Божественного) бытия.
Иеромонах Серафим, впоследствии канонизированный Русской Православной Церковью с именем преподобного Серафима Саровского, такой духовной высоты достиг. Каков, однако ж, был путь к ней!.. Воистину «дао», как сказал бы Лао-Цзы. Отец Серафим ведь не просто подвизался как монах, он стал отшельником: ушёл в уединение за несколько вёрст от монастыря, срубил из подручных средств келью («пустынька» – таким тёплым словом назвал он своё убежище). Там он совершил тысячедневное столпничество: в течение трёх с лишним лет ежедневно (и еженощно!) молился, стоя на большом камне в лесу… Прошли ещё годы. Отшельник подвергся жестокому нападению лихих людей, едва не погиб. Разбойники так изувечили его, что он до конца земных дней своих остался согбенным, ходил с посохом; но, конечно, никакой обиды на род людской, никакого мстительного чувства даже не возникло в его сердце – так как этому просто не могло быть там места. Отец Серафим, вероятно, и не знал, что это такое. Как не знал, что такое страх. Рассказывают, что дикие лесные звери смиренно приходили к отцу Серафиму, совершенно как ручные, ласкались к нему, и он ласкал и кормил их [5, 251]… Потом принял обет молчания, а в 1810 году, 8 мая вернулся в Саровскую обитель, где наложил на себя новое испытание: ушёл в затвор.
Затвор – одна из высших форм монашеского служения, заключающаяся в предельной сознательной самоизоляции подвижника от внешнего мира. Цель – полнота созерцания Бога в своём сердце [В. Г.].
Когда грянула война, о. Серафим пребывал как бы вне времени, вне этого мира. Ведал ли он о нашествии? Молился, восходя душой к незримому единению с Отчизной, открывая сердца соотечественников навстречу праведной уверенности, бесстрашию, бессмертию?.. Как молитвы затворника вливались энергией победы в биосферу, в жизнь планеты, в стихии русских пространств, ветров, ливней, вьюг?!..
Не знаем.
Мы не знаем, как эта энергия коснулась самого царя. Знаем, что по официальным данным Александр никогда не встречался с Саровским подвижником, чьё затворничество прекратилось, после явления ему Пресвятой Богородицы, 25 ноября 1825 года – через шесть (!!!) дней после кончины императора [38, 215] (данные неофициальные очень уж гипотетичны). Следовательно?.. Следовательно, то, что было меж этими двумя людьми, монахом и монархом – для нас тайна. А догадки здесь бессмысленны.
Мы не знаем и того, что было с Александром в ночь с 7 на 8 сентября, после того, как он узнал об оставлении Москвы. Он ужаснулся, написал письмо Кутузову с требованием объяснить причины сдачи, удалился в свой рабочий кабинет, и никто не посмел тревожить государя там. Лишь камердинер, дежуривший возле двери, уже глубокой ночью слышал медленные шаги: шаги человека, чьё время вдруг приостановилось, давая шанс постичь то, что прежде не постигалось, будучи недосуг за срочными, самыми срочными и невыносимо срочными хлопотами, терялось в убегающих за днями днях. Всё спешил, спешил, всё дела, дела… И вот дождался. Спешить поздно. Ночь. Один. Время смолкло.
10
Вопросы без ответов! Как человек из стремящегося верить превращается в христианина, как в нём срабатывает закон перехода количества в качество? Вслед за каким чудесным лучиком неясно-дымчатый рассвет Первоначала вдруг превратится в свет Божественный – и в этом свете человек увидит и поймёт, что кто б он ни был, какого земного бы величия, какой мудрости ни достиг в науках, искусствах, победах, титулах, в самой власти – всё это ровно ничего не стоит без любви к другим, как к себе, без того, чтобы чья-то радость стала твоей радостью, чужая боль не была чужой, чтобы слова «чужой» просто не стало для тебя! ибо нет вечности с дробью, отдельной для кого-то. Вечность есть одна для всех.
И тогда человек осознает, что до сих пор знал малую, ничтожную часть своего истинного «Я», такого, каким оно должно быть. Его лишь предстоит постичь, но мысль о том, что твоя страна есть начало большого «Я» – вот первый или один из первых шагов к Вечности. Опять-таки простая будто мысль! но лишь «будто». Она не может быть только рациональной, отвлечённой – не может практически; отвлечённая, она так же пуста, как мечта Манилова о том, что государь, узнавши об их дружбе с Чичиковым, пожалует обоих генералами. Нет, эта мысль должна стать живой водой души! Стать, может быть, событием не времени, но воспарить над временем… Довелось ли царю Александру дойти до края, пережить нечто близкое к отчаянию? Не спать, всю ночь ходить и думать! неужто всё, что было, все планы, что почти сбылись, та народная любовь, которую сам воочию наблюдал – всё зря? Всё это был фантом: лопнул, исчез, и – пустота?!
Чтобы увидеть свет, должно было дойти до края мрака – так, чтобы луч истины блеснул почти во тьме? Вышел ли государь утром 8 сентября из кабинета новым человеком?.. Именно после этой ночи в редеющей шевелюре Александра впервые появилась седина.
В столице воцарилось зловещее затишье. В день своей коронации, 15 сентября, император прибыл в Казанский собор на торжественное богослужение… и встретил там безмолвие огромной толпы.
Это должно быть, было впечатляющее зрелище! – тысячи людей и тишина. Слышны шаги ступающих по каменным плитам царя и царицы. Слышно чьё-то дыхание. Слышно, как мечется, чуть подвывая, над городом осенний ветер.
Александр прошёл сквозь безмолвие – и это, наверное, стоило ему ещё седых волос. Но он знал, что делал; а потом совсем один, безо всякого сопровождения долго гулял по петербургским улицам. В родственных и придворных кругах после известия о сдаче Москвы случились смятение, разброд: одни уговаривали государя вступить в переговоры с Бонапартом (Мария Фёдоровна и Константин), а Екатерина Павловна, наоборот, писала любимому брату письма, полные горьких упрёков… Император, как всегда, не споря и не противореча, всё решил и сделал сам. И всё сбылось.
11
Мы не знаем, как свершилось обращение императора Александра. Не знаем, что пережил он в осенние дни и ночи тридцать пятого года своей жизни, когда погасли, наконец, последние отблески Кометы (её слабое свечение виднелось ещё в канун Бородина). Не знаем, по молитвам ли царя, но знаем: вся страна вдруг встала на врага. Дворянство, простонародье, мужчины и женщины, армия, города, деревни, бесконечность вёрст, рассветы и закаты, ливни и метели, связь поколений и времён – земля предков и небо будущих веков – всё это встало как девятый вал и вышвырнуло врага прочь.
Глава 8. Победитель и побеждёный
1
Не в силе Бог, а в правде – даже если Александр и не произносил вслух этих слов, мы можем считать, что этот девиз был незримо начертан на императорском штандарте. Всё сложилось именно так. «Бог больших батальонов», профанный идол, по неведению принятый Бонапартом за некий универсум, мог какое-то время наводить ужас, мог тиранить и заставлять кланяться ему – но рано или поздно должен был рухнуть. Благодаря Александру (в том числе), этот Голем рухнул всё-таки раньше, нежели позже; правда, ещё барахтался, рыча и сея ужас… Российский государь решил, что полуразрушенное чудище следует добить до конца.
Сейчас – к началу 1813 года – он наверняка мог испытывать упоительное чувство: весь огромный мир вдруг стал для него точно укрощённый лев, послушный слову, взгляду, мановению его императорской руки. Каких же трудов это стоило, кто бы знал!.. Неведома тяжесть шапки Мономаха не носившим её. Александр верил в победу, знал, что правда на нашей стороне… а жизнь испытывала и ломала и веру и правду его сурово и свирепо, без снисхождения. И эти годы могли показаться царю столетиями – а когда они стали прошлым, ему могло почудиться, что всё это промелькнуло, как один день.
Да, Александра его время водило непростыми путями. Но он не потерялся, хотя судьба обходилась с ним так строго, что будь на его месте кто другой, наверняка б лишился душевного здоровья. Но на этом месте был Александр. Он не лишился. Он прошёл всё. Грешный человек, он шёл с сомненьями, бореньями, он ошибался и обманывался, обманывал сам… Иной раз, возможно, ему хотелось бросить всё – и будь что будет.
Не бросил. Даже в тот миг, когда натуре послабее могло бы почудиться, что – всё, конец всему; труды и годы были зря: прах, мираж, тлен… нет, и тогда император знал, что прав. Ему пришлось дойти до самого последнего, до края – но всё-таки «до», не «после». И тогда открылось: да! Это правда. Настоящий свет. И судьба присмирела под ним, светом Провидения.
Мир, долго не дававшийся императору Александру, смиренно прогнулся перед ним, когда Откровение воссияло в его сердце. Оно и увенчало долгий путь, огромный труд души: Александр был вознаграждён сполна за то, что в неимоверно сложной жизни, выпавшей ему, он смог понять, куда ему идти; понял и отстоял свой путь, как бы ни гнуло, ни ломало его со всех сторон. Зло и неправда способны временно кичиться и торжествовать – да, могут они это… В ком-то это пробудит грешные помыслы, кого-то ввергнет в уныние. Но император не пошатнулся, твёрдо веруя в силу Добра даже тогда, когда в это, казалось бы, не верил уже никто. И прав стал он, а не испуганные, побледневшие, отчаявшиеся. Бог сильнее идолов – как бы ни норовили они восстать над оробевшим миром. Они это могут, кто бы спорил!.. Но надо не бояться их. И они сгинут. Из праха сделаны – и обратятся в прах.
Когда остатки Наполеонова воинства были бесславно выброшены вон, Александр сказал: «Увидим, что лучше удастся – заставить себя бояться, или заставить себя любить» [32, т.3, 486]. Прошло немного времени, и его стали называть Благословенным, подтверждая этим то, что Бог благословил русского царя на победу… А 25 декабря 1812 года, в Рождество, уже сам царь подписал высочайший указ о создании в Москве храма Христа Спасителя – ибо Россию от страшного нашествия спас, конечно, не кто иной как Христос.
2
Русская победа в Отечественной войне сразу изменила весь европейский расклад сил. Да, Наполеон был покуда очень силён, он имел потенции собрать новую армию взамен бесславно угробленной им в России; конечно, уже не такую ни по количеству, ни по качеству, но достаточно мощную… И всё-таки это была бы не та армия. А главное – не тот Наполеон.
Несчастье кумиров, помимо прочего, ещё и в том, что всякая их неудача, слегка пошатнувшееся подножие тут же отзываются саморазрушительным резонансом. Нет в них настоящей прочности: стоит где-то в одном месте чему-то отвалиться, осыпаться – и процесс быстро перерастает в полную деструкцию… Для идолов нет малых неудач: любая несёт в себе зародыш катастрофы.
Причудливо-разноплеменная империя Наполеона оказалась, скажем истину, покрепче, нежели коалиции, подобные той, что наспех сколачивал Питт «из золота и ненависти». Но и она держалась насилием и неволей – стало быть, стоило шатнуться императору, мигом стала расползаться и она. Пруссия и Австрия, были Бонапартом буквально стиснуты, вдавлены в союз с ним, и уж, конечно, только и ждали часа, когда можно будет из драконьих Бонапартовых объятий вырваться… Вот он, этот час и пришёл. Оба «бумажных» союзника после русского разгрома «Великой армии» так и воспрянули. Особенно Пруссия.
Там Наполеона ненавидели – за непрерывные в течение шести лет поражения и унижения. Император действительно обходился с этим королевством не как с первостепенной европейской державой, а будто с каким-то захудалым герцогством. Потому и восторги прусские, после того, как Бонапарта студёными метельными ветрами выдуло из России – в том числе и в армии, формально воевавшей с Российской империей – были неописуемы [32, т. 4, 6].
Войска Макдональда с развалом «Великой армии» отступили от Риги к Кенигсбергу. Среди прусских генералов, офицеров, да и солдат шло и усиливалось брожение умов… и вот, наконец, один из корпусных генералов Макдональда, генерал Йорк фон Вартенбург громогласно объявил, что он сам и его корпус разрывают союзнические отношения с Наполеоном и переходят на сторону русских (так называемая Тауроггенская конвенция, подписанная Йорком – отдадим дань исторической точности – на мельнице близ местечка Таурогген) [47, 650].
С юридической точки зрения это, конечно, было вопиющее самоуправство. Фридрих-Вильгельм содрогнулся, ужаснулся: Наполеон-то был совсем рядом, а прусский король, выученный горьким опытом, трепетал от одного только грозного имени. Но и Пруссия вся бурлила, кипела, исполняясь воинственным пылом, поступок же Йорка и вовсе вызвал бурю радости – король увидел, что оказался между двух огней… и заметался, пытаясь выяснить, какой из них может опалить насмерть, а какой, напротив, вдруг окажется животворящим всемирным огнём Гераклита.
Видимо, тот самый горький опыт и определил решение. Фридрих-Вильгельм довольно мог убедиться в том, как грустно и болезненно бывает от Бонапартовой дружбы – а тут вроде бы и вправду русские победили, и такой подъём, такой энтузиазм! Поражение Наполеона отдалось и в других германских государствах, взялись за оружие граждане Гамбурга и герцогства Берг… И русская дипломатия не замедлила предложить такие заманчивые условия! Король решился.
Йорка простили – ибо Россия и Пруссия вновь вместе. 16 февраля 1813 года в польском городке Калиш был заключён договор; правда, подписанный не главами государств, а с одной стороны канцлером (Гарденбергом), с другой главнокомандующим (Кутузовым). Тем не менее это был полноценный договор, положивший начало Шестой антифранцузской коалиции [59, т. 6, 858].
В неё «автоматически» включались Англия и Швеция, с которыми у России союзнические отношения были уже оформлены (официально присоединение этих стран к коалиции состоялось несколько попозже, но практически это было несущественно). Англичане, впрочем, как всегда, сражаться не особо собирались, возлагая на себя более финансовое обеспечение; но союзники и за то им были благодарны… К тому же в Испании они всё-таки воевали, что правда, то правда. Скандинавское же королевство в лице Бернадота твёрдо обещало участвовать в боях: и здесь дипломатическое мастерство Александра достойно высокой похвалы. Он сумел убедить Бернадота в своей искренности, и тот поверил в реальность приобретения Швецией Норвегии; а кроме того, ещё на свидании в Або русский монарх намекнул шведскому наследнику и бывшему французскому маршалу, что тот вполне может в перспективе занять трон своей освобождённой родины [32, т.4., 139]. И это отнюдь не было одним лишь политическим лукавством: такой вариант, предполагающий, разумеется, низложение Наполеона, рассматривался на высшем дипломатическом уровне всерьёз. Правда, так это и не состоялось, но ведь Александр и не клялся всем святым, так что с точки зрения морали никак не согрешил… А с Норвегией всё вышло точно по задумке: Бернадот мог поздравить себя с крупной политической удачей. Александр тоже – шведский наследный принц (впоследствии король), человек, не лишённый воинского благородства, стал верным союзником России.
Итак, коалиция состоялась. А что же её противник, потрёпанный, осрамившийся, но отнюдь не сдавшийся и не потерявший боевого апломба?.. Наполеон отступил на территорию Саксонии, к своему союзнику Фридриху-Августу. Энергии, ясности мысли, твёрдости духа, воли ему отроду было не занимать, и он пустился всеми правдами и неправдами сколачивать новую армию, перебрасывая сюда войска из Испании, остатки резервов из стран Рейнского союза и, наконец, сгребая всё, что осталось мужского, юношеского, едва ли не подросткового в самой Франции. Там, понятно, рекрутским наборам не радовались, однако искушённый в демагогии император велел своему министру внутренних дел Монталиве опубликовать бодрый отчёт о состоянии государства: из этого бравурного документа явствовало, что всё в великой империи обстоит замечательно, несмотря на временные трудности. А через малое время – обещал кульминационный пассаж текста – державу императора Наполеона ожидают такие победы, каковых человечество ещё не видывало [32, т.4, 39]. Песня про невиданные победы звучала для измученных бесконечными войнами подданных не впервые, но кое-кто ещё верил в феноменальный гений их повелителя… Короче говоря, титаническими усилиями Бонапарту удалось собрать трёхсоттысячное войско [СИЭ, т.10, 663]. Ни количественно, ни тем более качественно, слов нет, оно не могло сравняться с канувшей в ничто «Великой армией» – но всё же представляло из себя такую боевую силу, с которой шутки плохи. Потому никто шутить и не собирался.
Для Александра не было сомнений в том, что Наполеона как фигуру политики надо изъять из европейской жизни окончательно и бесповоротно – иначе новых войн не избежать… То есть, собственно, их и так не избежать, но это будет завершением, а останься Бонапарт на троне, кровавая жатва будет длиться, длиться и длиться…
В этом русский император был совершенно прав. В данном случае вовсе не бесплодно ссылаться на сослагательное наклонение: Наполеон за годы, проведённые им в центре всеобщего внимания, убедил всех в том, что любые передышки и перемирия нужны ему лишь для того, чтобы накопить сил для утраченного первенства – и продолжить путь к неограниченной власти в Европе, а потом и в мире. И кто знает, на сколько бы ещё лет растянулась эпоха «Наполеоновских войн»…
В оппозиции к императору оказался главнокомандующий. Кутузов полагал, что добивать Бонапарта – дело сомнительное. С ним баланс сил на континенте в достаточной мере присутствует, в Россию Наполеон, учёный горьким опытом, больше не полезет; а если европейцам так уж хочется истреблять друг друга, то кто ж им это запретит! А наше, русское дело – сторона. Дел невпроворот: после войны хозяйство в расстройстве, в финансовой системе застарелые нелады… Так давайте же займёмся своими внутренними делами! Приведём себя в порядок, станем сильнее, а европейские распри нам лишь на руку.
В таких рассуждениях логика, бесспорно, присутствует, и здравый смысл наверняка готов с ними согласиться: в самом деле, ведь всё вроде бы верно. Требуется передышка, и возможность такая как раз есть; а все остальные за это время будут только слабеть.
Но Александр с тронной высоты смотрел дальше. Пока Наполеон у власти, в Европе не будет покоя, а от этого хуже не только Западу, но и нам, русским – с кем тогда нам торговать, откуда везти товары?.. Да и вообще нельзя выпадать из «концерта держав», нельзя замыкаться в самих себе: от самоизоляции ничего путного не станется. Да, разумеется, придётся ещё поднапрячься, разумеется, будут ещё жертвы, придётся посылать людей на смерть. Неофит, чудесным образом постигший высокие принципы религии, император это совершенно осознавал – и трудно переживал ответственность за человеческие жизни [73, 164]. Должно быть, его задевало, царапало душу то, что Кутузов выглядит большим христианином, чем он, Александр, чьё царское положение вынуждает его быть для других людей деспотом – каково это чувствовать либералу с юных лет, милосердному, а отныне ещё и истово верующему человеку?!.. И тем не менее, при всём при том идти и воевать необходимо.
Калиш, где был провозглашён русско-прусский союз – территория Варшавского герцогства, вассальная земля саксонского короля, клеврета Наполеона. Когда-то именно эта страна было острием агрессии против Александра, теперь она, мрачная и озлобленная, лежала у его ног, ног победителя… С ней надо было что-то делать. Что? Пока этого не знал никто.
И тут, конечно, не преминул проявить себя с патриотическими идеями Чарторыйский.
Мечта о полноценном польском государстве, безо всякого вассалитета, не остывала в душе магната – хотя жизнь немного давала ему поводов греть эту надежду. Одним из этого немногого были беседы с Александром, тогда ещё великим князем, в 1795-98 годах: друзья мечтали о свободе вообще, свободе Польши в частности, грезили хрупкими юношескими мыслями… Потом они, повзрослевшие, вместе стояли у кормила российской государственности, потом пытались осуществить сложную политическую комбинацию… но ничего не удалось. Прошли ещё годы, и вот теперь, в 1813 году, судьба Польши наконец-то оказалась в руках Александра, того самого человека, что так искренне, так чистосердечно желал полякам добра. Чарторыйский воспрял духом!
Он написал царственному другу. Но… но этот человек был уже далеко не тот. Пылко-благородные желания двадцатилетнего юноши и суровые реалии тридцатипятилетнего государя – это поэзия и проза. А история не пишется стихами. Александр и теперь не держал зла на поляков, даже несмотря на то, что очень многие из них шли с Наполеоном в поход на Россию не по принуждению, в отличие, скажем, от немцев, но со мстительной радостью: покажем этим схизматикам силу нашего оружия!.. Император от ответной мести был бесконечно далёк; не исключено, что в перспективе он разумел действительно суверенную Польшу. Правда, он и сам не знал, какова протяжённость этой перспективы. А вот что он точно знал – что сейчас подобным разговорам не время.
Он ответил Чарторыйскому туманно-благожелательным письмом [32, т.4, 7], в котором умный князь наверняка всё понял. А именно – что в очередной раз его надежды отодвигаются на неопределённый срок. И наверняка ещё одна обида упала в копилку княжеских печалей…
Неудач и огорчений, конечно, у всех хватает в жизни, но Чарторыйскому можно посочувствовать сугубо: он, человек духовно развитой, утончённый, неудачи, особенно политические, переживал, должно быть, остро – а ему так и суждено было прожить жизнь, раз за разом завёртываясь в тогу разочарования…
Для Александра же польский вопрос был одним из многих – важным, сложным, головоломным, и всё же лишь одним в ряду других, тоже непростых и ещё более насущных. Наполеон пока сила, да ещё какая сила! – и есть все основания думать, что может дополнительно усилиться. А не усилится, так всё одно, житья не даст. Это понимали и члены коалиции, и не члены: Австрия прежде всего. Венской дипломатии приходилось плести чрезвычайно вычурные кружева – юридически империя Габсбургов продолжала числиться союзницей Бонапарта, да и оба императора как-никак были близкие родственники; Франца, видимо, не могло не смущать то, что его дочь и внук находятся в Париже, в сущности, на ролях почётных заложников… Но и униженное положение Австрии сравнительно с Францией не могло быть терпимо, а прежние компаньоны – Россия, Пруссия – уж конечно, прилагали максимум усилий, соблазняя Вену возвращением всего того, что у неё когда-то отобрал Бонапарт. Но при одном условии: если Австрия вступит в коалицию. Если же нет – то, разумеется, ни о каких территориальных возвращениях и приобретениях и речи быть не может.
В Шёнбрунне мыслили дни и ночи напролёт: что делать? И Франц и Меттерних были благодаря жизненному опыту людьми осторожными, опасливыми; горькое прошлое хорошо их этому научило. Поэтому они постарались избрать тактику золотой середины, выдвинув концепцию «династического компромисса»: к коалиции присоединиться надо, надо и вернуть утраченное, а Францию ввести в королевские границы 1792 года. Но Бонапарта на престоле оставить! Точнее, не столько его, сколько династию Наполеонов – наследником ведь был внук Франца. План разумный, нельзя не признать: в случае его осуществления равноправные и родственные Австрия Габсбургов и Франция Наполеонов могли бы реально претендовать на совместное преобладание в европейской политике. Вот на реализацию этого плана и направила усилия австрийская дипломатия, имея в активе такого мастера, как Меттерних.
Русскую дипломатию Александр возглавил лично. Годы 1813-15 он провёл «на выезде», почти не был дома, улаживая европейские дела, расстроенные Французской революцией, непрекращавшимися двадцать лет войнами, Наполеоном… Румянцев для этого, конечно, уже не годился. Человек немолодой, к тому же с подорванным здоровьем (так переживал нападение Наполеона и неудачи первого периода войны, что тяжело заболел, почти полностью лишился слуха), он пребывал в Петербурга, продолжая, впрочем, оставаться министром – последним из могикан «первого призыва» 1802 года. Александр упорно считал нужным сохранять Румянцева на посту, хотя фактически сам на два года сделался равно как главой государства, так и министром иностранных дел. Ближайшими его сотрудниками стали всё те же Нессельроде и Каподистрия, а также земляк и отчаянный ненавистник Наполеона Карл Поццо-ди-Борго.
Корсиканский дворянин Карл-Андрей (так в русской транскрипции) Поццо-ди-Борго повздорил с Бонапартом, когда тот был ещё одним из генералов Директории, но уже успел овладеть немалой популярностью. Ссора кончилась скандалом: Поццо с родного острова изгнали, после чего он люто возненавидел Наполеона. А уж если корсиканец невзлюбит корсиканца… случай, видимо, почти непоправимый. Поццо колесил по Европе, везде обличая Бонапарта, интригуя против него, и известные нам антифранцузские коалиции – в том числе и его рук дело. В 1803 году он очутился на русской службе, однако Тильзитский мир счёл капитуляцией перед «тираном» и перебрался в Вену, продолжая будировать. Очевидно, ему удавалось немало досаждать врагу, потому что Наполеон злобствовал и требовал от Франца выдать «изменника» на расправу… Австрийцы от греха подальше сплавили беспокойного гостя в Англию, где правосудие Бонапарта не могло его достать. В 1812 году, в преддверии войны, Александр вспомнил о ценной кадровой единице, вызвал Поццо в Петербург и вторично принял его на службу.
Дипломатическая команда Александра работала неплохо. Воинская – тоже; правда, в самом начале боевых действий армия лишилась главнокомандующего: Кутузов скончался 16 апреля в саксонском городке Бунцлау.
Александр написал дочерям фельдмаршала проникновенное письмо. Думается, что строки эти были искренни: император мог недолюбливать полководца частным образом, но не уважать, тем паче не ценить, разумеется, не мог. Однако, горевать времени не было: армии без командующего нельзя. Таковым был назначен генерал Пётр Витгенштейн. Ненадолго – дальнейшие события внесли свои коррективы…
3
Первоначальные действия союзников (России и Пруссии) были вполне удачны. Немецкое население, в том числе и саксонское, восставало, начинало партизанское движение – это помогло к середине вытеснить противника из Саксонии. Однако, Наполеон не был бы Наполеоном, если бы сник! Он как кудесник тут же создал новую армию из ничего – не ту по качеству, что прежде; это было не под силу даже ему, но численного превосходства сумел добиться, а его стратегическое искусство оставалось при нём. Что не замедлило сказаться: он нанёс Витгенштейну поражения в двух крупных битвах под Лютценом (20 апреля) и Бауценом (8–9 мая)… Две подряд неудачи заставили русско-прусские войска отойти, Саксония вновь оказалась под Наполеоновым владычеством.
Впрочем, победы эти были относительны: обладая значительным превосходством в силах, он лишь оттеснял союзные войска, неся при этом изрядные потери (в обеих схватках они были больше, чем у коалиции). Не хотелось бы повторять избитое про Пиррову победу – но классика афоризма такая же классика, как всякая другая, и ничего лучше никто не придумал… Пришлось «просить пардону», как выражались про французов русские солдаты. Александр с Фридрихом не отказались: им тоже было туговато. 23 мая противники заключили Плейсвицкое перемирие до 8 июля, позже продлённое до 29-го [59, т.11, 212].
И вот тут в дело включился великий комбинатор Меттерних. Он встретился с союзниками в прусском городке Рейхенбахе (туда же прибыл английский министр иностранных дел лорд Каслри) – и начались самые заурядные политические торги. Детально их описывать нужды нет, стоит лишь отметить, что Меттерних выхлопотал себе роль посредника между Французской империей и коалицией: последняя выработала ряд условий, которые австрийский министр взялся донести до Наполеона. И донёс – в июле, в Праге, где выступал уже как представитель коалиции, правда, готовый моментально превратиться в нейтрала или даже в сторонника Франции в случае соответствующего развития событий… Но события так не развились, потому что Наполеон условия не принял, а Меттерниха, обозлившись на его бесконечное хамелеонство, попросту обругал и прогнал с глаз долой. Тем Пражский конгресс и кончился. Австрия вступила в войну.
Плейсвицкое перемирие оказалось победой союзников. Они усилились – а Наполеон проиграл, ещё не начав боевых действий, и все его весенние успехи обратились в дым. Горький дым осени 1813 года! – последней осени императора французов… Дни пошли на убыль, время под уклон: теперь оно повело по главной дороге истории императора Александра, уже тогда очевидного лидера и вдохновителя коалиции – именно его волей и дальновидностью готовился будущий триумф. Уверенность Александра ничто уже не могло пошатнуть; но, разумеется, это вовсе не значило, что можно расслабиться, а победа летит навстречу на крыльях блистающих и гремящих… В заграничном походе Александру, у которого вообще за последние двенадцать лет свободного времени было немного, пришлось жить на колёсах, обедать наспех, спать урывками и – работать, работать, работать! и так день за днём, месяц за месяцем… Благодаря австрийской прежде всего, политике Александру довелось пребывать в непреходящих заботах от рассвета до рассвета, и теперь уже не Бонапарт, а он терпеть не мог Меттерниха… Тому, кстати, удалось навязать в качестве главнокомандующего всеми союзными силами фельдмаршала Шварценберга, совсем недавно действовавшего на южном фланге «Великой армии» при вторжении в Россию. Главнокомандующим же русскими войсками стал, наконец, Барклай. Витгенштейн был, вероятно, неплохой генерал, но с масштабами порученного ему дела явно не справился; и Барклай по справедливости занял подобающее его полководческому рангу место. Прусскими войсками командовал легендарный Гебхард Блюхер, а шведскими сам Бернадот, наследник престола: всем им вскоре суждено было прославить свои имена как «маршалам победы» – ну, а знаменем её, добрым гением, конечно, стало имя «Александр». При всех трудностях, бесчисленных делах, всегда в дороге, валясь с ног от усталости и просыпаясь через два-три часа, русский император был вдохновлён и светел, чувствуя силу обретённой им веры, зная, что это и есть правда, которую он так долго искал.
4
Во время Плейсвицкого перемирия Александр заинтересовался местной (силезской) сектой так называемых «моравских братьев» или «чешских братьев» [70, т.3, 231]: небольшой христианской общиной, члены которой считали себя духовными потомками Яна Гуса. В догматике «братьев» не Бог весть какие теологические находки присутствовали, но Александру сейчас хотелось знать решительно всё, что связано с христианством, с его различными интерпретациями. Так, в ноябре 1812 года он вспомнил о монахе Авеле; вернее сказать, ощутил в нём потребность – забывать-то царь об этом странном человеке наверняка никогда не забывал. Должно быть, памятовал император и о Кондратии Селиванове, о словах того – верь-не верь, а ведь скопец оказался прав: в 1805 году «мера супостата» ещё не пришла, пришла в 1812-м… В этом же году, правда, в самом его начале, ещё до войны, Александр Голицын предоставил царю доклад об учреждении в России Библейского общества – организации, в Европе уже существовавшей и занимавшейся распространением христианских знаний. Доклад довольно долго пролежал в императорской канцелярии нетронутым: очевидно, государь считал, что у него полным-полно более веских забот. Заботы и вправду таковыми были, и менее вескими со временем не стали… но Александр до сентября 1812-го и Александр после – это ветхое и новое; и новое немедля ухватилось за проект Голицына и утвердило его. Библейскому обществу в России быть!
Что, казалось бы, толку в распространении христианских знаний, если мир сошёл с ума? Если жизнь человеческая ни гроша не стоит, а реки крови льются по Земле?.. Но Александру-то теперь был ведом мир в особом ракурсе, он понимал, что все эти чудовища нового времени терзают человечество как раз потому, что свет христианства помутился в нём! Отсюда вывод: Бог умудрил и просветил его, царя, не случайно, а именно затем, что его царский долг всемерно исправлять заблуждения, в больших, политических масштабах помогать людям выйти из лабиринта, куда они забрели большей частью не по злой воле, но искренне пытаясь отыскать источник света в мире сумерек, и искренне же принимая ложное, тленное мерцание за Истину…
В «моравских братьях» Александра, должно быть, привлекла их кроткая неиспорченность – и это посреди испорченной вселенной. Безумие мира совершенно не задело их уголок: волны этого безумия хлестали, били, расшатывали твердь земную где-то в стороне, а маленькую, но сплочённую верою твердь расшатать не смогли. Император ещё раз с радостью убедился, что вера сильнее всего – пусть и наивная, пусть в чём-то иная, чем у него, Александра; это лишь подтверждает многогранность Истины, и то, что «Всякое дыхание да хвалит Господа» и «всякая душа христианка». Значит не так уж плохо всё в пошатнувшемся мире! Пошатнулся, но не упал – и то хорошо. Есть островки надежды! А Провидение недаром озарило русского царя: его дело теперь превратить островки в материк.
5
Насколько совпадало субъективное восприятие императором Александром своей персональной жизненной миссии с ходом и смыслом истории? – это и есть главный вопрос в данном повествовании, и ему должно быть рассмотренным особо, что и будет сделано. Но уже и сейчас можно сказать, что вдохновение Александра не было экзальтированной блажью. Дорога 1813-14 годов провела его через трудные преграды, но все они распались пред его спокойной волей. Он не позёрствовал, не делал театральных жестов, не бросался звонким словом. Он лишь делал то, что считал нужным – и дорога вела и вела его. Вела непросто; но уверенность императора в том, что он делает, и делает не самозванно, а под покровом Божиим, хранимый им – эта уверенность осеняет весь звёздный час императора, вобравший в себя три года. Александр не боялся смерти. Он бестрепетно смотрел ей в лицо, и она ничего не посмела с ним сделать.
Первое крупное сражение после Плейсвицкого перемирия состоялось под Дрезденом. Во время боя пушечное ядро ударило в бывшего рядом с царём генерала Моро – того самого, героя Французской революции, потом соперника Наполеона в борьбе за власть, проигравшего эту борьбу и уехавшего обижаться в Америку; а вот теперь вернувшегося, чтобы освободить родину от «злодея» и уж наверняка державшего в глубине души мысль о будущих властных перспективах… Но нет, не сбылось – генералу суждено было пасть в битве с соотечественниками. Ядро перебило ему обе ноги и через неделю он скончался [32, т.4, 176]. А у Александра, находившегося здесь же – ни царапины! Дрезденское дело окончилось для союзников отходом, однако попытки Наполеона развить успех оказались бесплодными: во встречной схватке под Кульмом французы и их вассалы были отброшены. Ещё две быстрые, нервные схватки у городов Кацбах и Денневиц – и вновь две неудачи Бонапарта.
В эти дни – август-сентябрь 1813 – прозвенел для него предпоследний звонок, который он, наверно, не расслышал в грохоте войны. И не заметил, как его время уже неостановимо повернуло, пошло, побежало на закат.
Но насколько же трудно далась победа!.. Ведь ореол непобедимости Наполеона, пусть и потускневший, побледневший, всё сиял, и мало ли что кому могло почудиться: да, Наполеон проиграл в России; но он диковиным образом за три месяца восстал из пепла и собрал новую армаду, и опять воюет, и опять союзники не справляются с ним, и кое-кто пугливо и суеверно в какой уж раз убеждался в чудовищном феномене корсиканского колосса…
Но только не Александр. Он-то всё знал и видел ясно. И никакие отчаянные выбросы Бонапартовой энергии не могли ввести его в заблуждение. Он понимал, что надо подождать, перетерпеть совсем немного – стиснув зубы, крайнее усилие, но надо! – а потом противник рухнет. Это если не агония ещё, то пароксизмы, судороги огромного, безнадёжно больного организма. Скоро! Совсем скоро.
Поворот событий в пользу коалиции стал явным осенью. Дрогнули союзники Наполеона саксонцы. Саксония – государство небольшое, и когда там идут такие бурные боевые действия, то дезертировать, наверное, просто некуда: хочешь-не хочешь, а воюй – либо на одной стороне, либо на другой. Солдаты Фридриха-Августа, вероятно, способны были достаточно охотно воевать на стороне Бонапарта, покуда война велась где-то далеко, на чужих землях, у чужих народов, где можно было неплохо поживиться; но здесь, у себя рушатся и горят не чьи-то, а родные города и сёла… да и почему, собственно, немцы должны сражаться против немцев же: пруссаков и австрийцев?! И саксонские вояки стали массово перебегать на сторону коалиции.
Трудно сказать, развалилось бы Наполеоново поредевшее воинство само собой… впрочем, вряд ли, это маловероятно. Так или иначе, без генерального сражения не обошлось. Четвёртое октября, город Лейпциг. Битва народов.
Под таким выспренним названием сражение близ Лейпцига вошло в историю. Это действительно было огромное, страшное, кровавое побоище. Свидетели оставили потомкам жуткие подробности: стоны умирающих, коих невозможно было спасти, разыскав их среди тысяч трупов, стояли над полем ещё несколько дней после битвы [32, т.4, 191].
Нам вовсе не кажется странным, что история человечества – более чем наполовину история войн и битв, мы воспринимаем это как нечто само собою разумеющееся. Но если вдуматься: насколько же это ужасно! Каково представить себе это: стонущее поле, словно сама наша планета Земля стонет от людского безумия?! Идут часы, день сменяется ночью, потом встаёт рассвет, и стоны всё тише, тише… опять вечер, снова ночь, стоны ещё тише, опять заря… и, наконец, поле становится мёртвым. Всё тихо. Смрад. Моросит мелкий стылый дождь.
Этот кошмар и стал переломом в кампании 1813-14 годов. Правота русского императора после «битвы народов» превратилась в политический результат. Наполеон практически растерял всех союзников.
Если среди германских разнокалиберных государств Австрия и Пруссия были занимали лидирующее положение как крупнейшие и сильнейшие, то «второй ряд» по значимости составляли Саксония и Бавария, всё прочее не могло идти с ними в сравнение…
Правда, Наполеон было искусственно создал крупное образование западногерманских земель – Вестфальское королевство, куда посадил королём своего старшего брата Жерома – четыре Бонапарта надели на головы короны! Но скоро королевство бесславно развалилось, а Жерома его бывшие подданные выгнали.
Поражение Бонапарта смутило баварское руководство (которое, кстати говоря, получило от французского императора известные территориальные преференции), и оно, не обременяя себя моральными переживаниями, объявило о переходе на сторону коалиции. Саксонцы же за неё фактически «проголосовали ногами», а Фридрих-Август отдался на милость победителей.
Первым делом он явился с повинной к Францу и Фридриху-Вильгельму, но те сказали, что с такими вопросами надо обращаться к русскому царю, как высшему судии… Александр принял перебежчика строго. Короля объявили военнопленным; разумеется, при сохранении всего дипломатического этикета, подобавшего его титулу. «Уважение к вашему несчастному положению не позволяет мне входить в разбирательство побуждений, управлявших вашею политикой. В настоящих обстоятельствах должен Я действовать по отношению к Вашему Величеству исключительно на основании военных видов,» [32, т.4, 304] – сурово указал старому грешнику его место император в ответ на покаянное письмо… Саксонского короля препроводили в Берлин, где он должен был ожидать дальнейшей участи.
Также выпала из числа противников коалиции Дания. Монарх этой небольшой страны Фредерик как мог пытался уцелеть средь «битвы гигантов», то подслуживаясь Наполеону, то предавая его – выглядело это по нравственным критериям некрасиво, но не стоит упрекать короля: что ж делать, если государство ему досталось такое, что не могло на равных протвостоять мощным империям и королевствам – несмотря на то, что территориально по некоей иронии судьбы датская монархия была едва ли не самой обширной в Европе (не считая, разумеется, России); да только это всё были безлюдные приполярные земли… Но и от такой политики толку было, признаться, немного. Сначала Фредерику крепко влетело от англичан, потом от шведов: Бернадот, получив от Александра карт-бланш на отъём Норвегии, столь рьяно насел на южного соседа, что Фредерик вскоре взмолился о пощаде. Пощада пришла к нему в образе Кильских мирных договоров [59, т.7, 237], заключённых уже в новом, 1814 году между победившими Швецией и Англией и побеждённой Данией. Бернадот мог торжествовать: он дал своим новым подданным (как наследник престола) то, что обещал.
Однако, все эти события, несомненно, важные и позитивные, были для коалиции всё же второстепенны. Главное – все понимали: Франция, Париж, Бонапарт. Что делать?
Понимали все по-разному. Единомыслия в союзном стане как не было, так и не стало. Непримиримее всех по отношению к Наполеону была Англия. Александр и Фридрих-Вильгельм, настроенные не столь жёстко, тоже были весьма против – первый активнее, второй, сам по себе нерешительный и вялый, пассивнее; тем не менее, оба полагали, что Наполеон должен быть низложен. А вот Австрия, и воюя, продолжала упорно проводить ту же линию: Францию заключить в границы 1792 года, свои утраты вернуть, но Бонапарта оставить… Разногласия иной раз казались непреодолимыми – тяжко, с неимоверным скрипом двигалась вперёд колесница победы, Меттерних тормозил её как мог, а мог он профессионально. Главнокомандующий Шварценберг, выполняя волю начальства, придерживал движение союзных войск, и Александр потом с иронией говорил, что по милости австрийского фельдмаршала, этого «толстяка», у него, у Александра, не раз ворочалась по ночам под головой подушка [61, 305]… И всё-таки взлёт души царя был таков, что никакие Меттерних со Шварценбергом не могли сбить его, не их масштаба эта задача. Время подчинялось императору России, а всем прочим оставалось только приспосабливаться, подстраиваться. Не хочешь отстать от времени? следуй за Александром, а иначе пеняй на себя. Умный канцлер не мог не понимать этого, и как ни будировала австрийская политика, двигаться она принуждена была в кильватере могучего политического ледокола пол именем «Александр I».
А ледоколу в самом деле приходилось взламывать, как бронированным форштевнем, глыбы Наполеоновой обороны: тот и не думал сдаваться, несмотря на несоизмеримое превосходство союзных сил. Больше того! Он ещё мог идейно воодушевлять французов, видевших в нём гаранта их прав, которые с возвращением Бурбонов (а именно этим не без оснований стращала граждан императорская пропаганда), могут исчезнуть, и опять в стране наступит произвол знати, высасывающей соки из простонародья… Бонапартов режим, правда, высасывал соков не меньше, а то и больше, и кое-кому теперь уже та, прежняя жизнь при Бурбонах казалась утраченным по легкомыслию раем – но всё-таки, что там ни говори, а земля бывших дворянских угодий, которую крестьяне самовольно расхватали во время революции, оставалась у них, и никто на неё не посягал. Свобода слова, задушенная Наполеоном?.. От этого страдали интеллигенты, которым непременно надо было видеть свои имена в газетах, а крестьянскую свободу горланить на сельских сходах опять-таки никто не трогал. Да и Гражданский кодекс («кодекс Наполеона») сделался эффективным рабочим инструментом, достаточно успешно уравновешивающим социальные механизмы. Словом, гражданам Французской империи было за что сражаться, что отстаивать.
И Александр это понимал. Он сознавал, что быть во Франции захватчиками, покорителями нельзя. Бессмысленно. Они, союзные войска, напротив, должны стать для французов освободителями, должны избавить их от диктатора, заставлявшего страну бесконечно воевать – при этом сохранив все те законодательные плюсы, которые диктатор сумел стране дать. Это было совершенно разумно; однако, пока представляло из себя сугубую теорию. А дело приходилось иметь с самой что ни на есть земной практикой: то есть с сильной, отнюдь не деморализованной, вполне боеспособной армией с великим полководцем во главе.
То, что Наполеон великий стратег – тезис, не нуждающийся в дополнительных подтверждениях. Имея войска, по силам несопоставимые с силами противника, он умудрялся сражаться на равных и даже наносил армиям коалиции болезненные поражения. Кампания 1814 года – уже на французской территории – не стала для союзников вольготным вахт-парадом. Бои, бои, бои!.. Тяжёлые, кровопролитные, наступления, отступления, успехи, неудачи… Трения политические: согласия партнёры так и не достигли. Меттерних опять пустился в происки, пытаясь войти в сепаратный контакт с Наполеоном – всё-таки австрийцы стремились всеми силами удержать трон за его династией, передать корону малолетнему сыну при регентстве матери, Марии-Луизы. Правда, этого мальца (ему было три года) папенька научил говорить: «Пойдём бить дедушку Франца,» – и хохотал всласть, очень довольный своим остроумием [64, 292]… но что взять с неразумного дитяти! А вообще-то Франц вполне всерьёз относился к идее увидеть на французском престоле своего внука, и мечта эта выглядела вполне реальной. Меттерних, отдадим ему должное, обладал колоссальным дипломатическим талантом, то есть лгал с таким чистым и искренним видом, что мог обманывать и умных, и очень умных людей. И он вновь сумел вовлечь союзников в переговоры с Бонапартом: тому предлагались границы Франции 1801 года, соответствующие Люневильскому миру [64, 294]. Наполеон, получив информацию об этих условиях, принялся тянуть время, надеясь набраться сил и разгромить врагов в решающем бою… Словом, был неисправим, к негодованию и отчаянию Меттерниха, чья комбинация «Габсбурги + Наполеоны», на которую было потрачено столько усилий, так и лопнула. [61, 293].
Конгресс, на котором страны коалиции и Франция бессмысленно и безуспешно пытались о чём-то договориться, открылся в городе Шатильоне 16 января 1814 года. Дипломаты заседали, что-то говорили, о чём-то спорили – а вокруг бушевали бои, то Наполеон наносил немалые потери союзным войскам, то они отбрасывали его: при столь огромном перевесе войск коалиции им так и не удавалось достичь переломного успеха… И всё-таки теперь будущее мира было ясно всем, кроме французского государя. Александр, «царь царей, Агамемнон», светоч и вдохновитель наступающей эпохи, несмотря на отчаянную борьбу, блестящее тактическое искусство Наполеона, несмотря на трения и нелады в своём лагере, так вознёсся над всем прочим в этом мире – что никакая другая сила, какой бы сильной она ни казалась, уже ничего не сможет сделать с русским императором. Заря его победы всё ярче и ярче разгоралась над измученной и обескровленной Европой – и надежда стала селиться в людских сердцах. Если прежде все полушёпотом, со страхом повторяли: Бонапарт, Бонапарт… то теперь, ещё не очень уверенно, ещё не смея радоваться, робко трепетала надежда, и из уст в уста, из страны в страну перелетало другое, светлое имя: Александр, Александр… Александр!..
Это уловили своим сверхъестественным чутьём Фуше и Талейран. Они за спиной Бонапарта (который, конечно, давным-давно знал об их интригах, хотя и не обо всех, грозился и повесить и расстрелять обоих… но всё равно не мог без них обойтись) вели свою игру. Талейран, прямой агент Александра, окончательно убедившись в скором падении Наполеона, стал действовать почти открыто: он отправил своего эмиссара графа Витроля к командованию союзных войск. Тот добрался до Александра и сообщил ему, что коалиции лучше не терять время в стычках с Бонапартом, а идти прямо на Париж: там-де царят неразбериха и растерянность, сильны антинаполеоновские настроения – и коалиция одним решительным броском на столицу разом решит исход войны в свою пользу.
Вполне возможно, что в данном случае Александр поверил Талейрану безоговорочно. Князь не хуже коллеги Меттерниха мог обмануть кого угодно – но когда ему это было выгодно. В данном же случае ему выгодно было говорить правду. Краткое совещание – и решено: на Париж! Особенно бушевал и рвался вперёд ненавидевший Наполеона Поццо-ди-Борго, так что его приходилось вразумлять особо. Талейран, конечно, оказался прав: он вообще был прав всегда, во всём… кроме одного: того, что явился в этот свет.
Марш-бросок на Париж действительно оказался кардинальным маневром: он рассёк тягучую, всем надоевшую войну. Не надоела она разве что Бонапарту, тот готов был сражаться и дальше – но даже его боевые маршалы, солдаты из солдат, ветераны из ветеранов, настолько устали, что при мысли о дальнейших баталиях и подвигах им делалось не по себе. Когда войска Барклая-Блюхера-Шварценберга встали лагерем у самой столицы, Наполеон вовсе не считал, что дело проиграно, не считал так и позже, когда союзные монархи (кроме Франца, он из политических соображений не счёл целесообразным афишировать себя как одного из победителей) уже вошли в сдавшийся город… Но никто, никто не поддержал обанкротившегося владыку. Все были так изнурены войной, что казалось, пусть будет ужасный конец, чем ужас без конца. К тому же конец вроде бы ужасным не выглядел: Александр распорядился, чтобы действия союзных войск не были местью и злопамятством, но законностью и милосердием. Победитель, сознающий свою силу, должен быть снисходителен к побеждённому – эта идеологема стала базовой в воспитательной работе, проводимой в войсках…
Наполеон сдался.
19 марта 1814 года весь Париж высыпал на улицы. Город переживал странные, небывалые чувства: надежда, тревога, потаённый страх – всё вместе, шаткая карусель неведомого… Вот-вот величайшая победная армия должна вступить в величайший город мира, город-мечту, город-сказку, Вавилон новых веков! – и что будет?.. Люди ждали, ждали, сердца их бились всё отчаяннее… вот уже вроде бы слышны полковые трубы, цокот тысяч подков… Идут! Идут!
Вошли.
Армия хлынула в Париж – но Бог с ней, с армией! все взоры устремились на одного-единственного человека, на светло-серой лошади, во главе колонн… и увидав этого человека, статного, моложавого, с пленительной улыбкой на лице, город взорвался ликованием. Страх пропал, как остатки зимних холодов в этот весенний день: всем стало ясно, что они свидетели чуда, что вот ОН – вершина мира, царь царей, Александр Прекрасный, Александр Великий, Александр Всемогущий – принесший человечеству избавление.
6
Такого не было не только в русской, но, пожалуй, во всей мировой истории: армия триумфатора вступала в покорённую столицу, не считая её вражеской. Эту армию учили видеть в гражданах побеждённой страны своих друзей, которым надо помочь освободиться от того, кто тяготил их ненасытным самолюбием, от чудовищного эгоиста, не желавшего ни знать ни видеть ничего, кроме своей власти, своей славы, своего неугомонного «Я». На смену ему явились те, кто предоставит французам право самим восстановить свою страну такой, какой они захотят её видеть.
Наполеон в это время находился в парижском пригороде Фонтенбло. Официально он всё ещё продолжал числиться главой государства, даже лелеял планы контрнаступления… Но наконец и он всё понял, смирился с очевидным и отрёкся в пользу сына. Этот акт, как пишут в энциклопедиях, «практического значения не имел» [59, т.11, 1000] – и главой переходного правительства стал Талейран, тем самым формально вписавший своё имя в перечень первых лиц французского государства.
Над Наполеоном же простёрлась юрисдикция союзных монархов. Считать его пленником?.. Вопрос казуистический. Как и в случае с саксонским королём – для коронованной особы, тем более императорской, пусть добывшей титул силой, но что там ни говори, официально признанной – плен, конечно, дело относительное. Все понимали, что этого деятеля, от которого все чрезвычайно устали, изолировать необходимо, но – не роняя его императорского достоинства. Решение было найдено довольно быстро: с почётным эскортом побеждённого отправили на маленький остров Эльба в Средиземном море, совсем рядом от его родной Корсики, вёрст тридцать на восток. Жили там несколько тысяч полудиких тосканцев, которые отныне становились единственными подданными императора Наполеона, ибо он провозглашался императором этого маленького кусочка суши.
Император острова Эльба! – звучит, разумеется, нелепо и комично. Смирился ли неистовый честолюбец с такой участью?.. Трудно сказать; поначалу, может быть, и смирился – ведь и в его жизни было двадцать лет непрерывных войн, и колоссальный труд, и разлуки и утраты, и предательства ближних, и крах всего, что создавал, к чему стремился, чему посвятил жизнь… Немудрено впасть и в депрессию. В неё Наполеон, конечно, не впадал, но некий тайм-аут от «минут роковых» взял. Правда тогда, весной 1814-го, он, похоже, и сам не ведал, что перерыв окажется столь коротким.
А победители меж тем готовились к новым битвам, но уже дипломатическим, и уже не с Францией, а меж собою. Впрочем, и Франция, теперь новая, Франция Талейрана и Фуше, тоже становилась союзницей: понятно, что без неё невозможно обеспечить стратегический баланс в Европе. Сонму великих держав необходимо было выработать систему международных отношений, создающих единое политически-правовое пространство, в котором не должно быть места бациллоносной среде, питающей будущие войны…
Так мыслил Александр. И разумеется, без союзной и дееспособной Франции эти система и доброкачественная среда в Европе невозможны. Поэтому – нет больше никаких врагов, есть партнёры, есть одна цель, а разногласия подлежат обсуждениям и компромиссам на всеевропейском (читай: всемирном) конгрессе.
Такие константы и благие намерения содержались в мирном договоре, подписанном 18 мая 1814 года. Данный договор заканчивал противостояние Франции и Шестой коалиции, стало быть, и самоё коалицию, в которой более не было нужды. В пьянящем, дивном воздухе парижской весны чудились волнительные миражи будущего мира – императору Александру хотелось, чтобы этот мир, восприняв горький опыт новейшей истории, вернулся к абсолютным истинам, не то, чтобы утраченным, но как-то пошатнувшимся, будто бы взор человечества вдруг расфокусировался, поплыл… некие чудища, злобные призраки возникли в пространстве человеческого бытия – и ввергли мир в неистовство. Двадцать пять помрачённых лет!.. Он, Александр, сам отчасти отдал дань этому помрачению – он думал выстроить всеобщее счастье, веря в безличное добро, просто добро, без сострадания, без единения всех, всего мира… Разумеется, в том не было злого умысла, было заблуждение, вернее, недопонимание; царевича Александра учили и воспитывали так, что до истинного смысла жизни, до водворения в себе онтологического и нравственного Абсолюта – ему, уже императору Александру, пришлось доходить своими собственными умом и путём, через болезненные испытания и переживания.
Но анализ самого этого воспитания должен был наводить государя на трудные, непростые мысли. Христианство – суть истина, стержень, на котором держится мир. Нет другой жизни, кроме жизни во Христе, Александр в этом убедился совершенно. Но отчего же получилось так, что мир отклонился от своей оси, пошёл искать истины где-то по обочинам?.. Это ведь тоже не объяснишь чьей-то злой волей, к тому же ничтожной: вот-де, ни с того, ни с сего явились нехорошие люди и повернули этот мир на ложный путь. Таковые являлись, спору нет. Но не могли они явиться ни с того ни с сего! Никаким негодяям не под силу творить подлости, если сила Добра и Истины в человечестве непоколебима. Стало быть – поколебалась она, приходится с прискорбием признать, что дело в ней самой; что нечто странное и тревожное случилось в мире, раз нечисть вдруг столь активно проявила себя в последние десятилетия… Сбилась программа? Значит, надо исправлять.
Александр Павлович, личность, несомненно, философического склада, профессиональным философом всё же не был. Остаётся лишь догадываться, как ответил бы он на вопрос: почему? Почему программа сбилась?.. Да и времени у него не было над этим размышлять. Но, то что исправлять надо, он знал точно. Более того, он считал, что знает, как надо исправлять.
Пасха 1814 года пришлась на день 29 марта (10 апреля). В этом победном, как тогда казалось, году праздник совпал для христиан всех конфессий. Чудо!.. В свободном Париже католики, православные и протестанты молились, приветствовали Воскресение все вместе – и так прекрасно это было! Мир вроде бы опамятовался, безумие революции и Бонапартовых войн пресеклось: пришло время собирать камни, после того, как четверть века люди в каком-то нелепом помрачении только и делали, что разбрасывали их.
Площадь в Париже, на которой некогда стояла главная революционная гильотина, где были казнены и король Людовик XVI, чуть позже королева Мария-Антуанетта, а ещё позже получили своё Дантон, Робеспьер и им подобные – теперь носит название «Площадь Согласия», Place de la Concorde. Отчасти это имя заслужено и тем, что произошло на ней 29 марта 1814 года. А произошло вот что: посреди площади был выстроен амвон, вокруг выстроились русские войска во главе с царём, преклонили колена – и православные священники с амвона вознесли слова молитвы к Богу.
Этот мистериальный акт, организованный Александром, был призван выполнить двойную функцию. Во-первых – завершить прошлое, ибо кровь мучеников, принявших терновый венец на этой самой площади, всё ещё вопияла к небесам, метафизическое, моральное пространство Земли, поражённое злодеяниями, ещё волновалось и содрогалось… Необходимо было очистительной молитвой излечить страшные язвы прошлого. А во-вторых – торжественным богослужением не только закрывалось прошлое, но открывалось будущее. Помрачение было, да – но теперь «чёрные дыры» в моральном пространстве исчезли. И надо заново обживать это пространство, делать так, чтобы оно, как светлый купол, осеняло и озаряло жизнь. И тогда больше не повторится то чудовищное, что сотрясало Европу на рубеже восемнадцатого и девятнадцатого столетий. Ах, если б это поняли партнёры, так же, как понял он сам, император Александр I!.. Поняли, что политика и вообще государственная деятельность должны определяться абсолютными Добром и Истиной, а значит, состраданием, любовью к людям. Это ведь совсем несложно! И кроме того, просто выгодно. Нравственность – та же защита от бед; нравственность государей и министров – защита не только себя, но и подданных; союз государств, основанный на нравственности – защита всего человечества, то самое моральное небо, ясное, без пятнышка, без облачка… Должны понять – научили же их эти страшные годы, обожгли, образумили, сделали осторожными и вдумчивыми!.. Да, наверное, это будет трудно. Когда Александр представлял себе, как он будет излагать подобные мысли Францу, Фридриху-Вильгельму, Меттерниху, Талейрану – он не мог не понимать, насколько трудно это будет. Но, как выяснилось, что будет на самом деле, Александр ни понять, ни представить всё-таки тогда не мог…
7
Разногласия меж победителями ничуть не уменьшились с тех пор, когда они ещё победителями не были. И первое из этих разногласий: кто будет править Францией? С открытием вакансии ставки взлетели ввысь, и игроки на властном поле схлестнулись по-крупному.
Здесь следует сказать, что уже 19 марта, в день своего блистательного вступления в Париж, Александр приобрёл неотступного спутника, который в значительной степени мог влиять на действия даже такого политического супертяжеловеса, как Император Всероссийский. Понятно, что этот сателлит был Талейран – по виду ближайший французский сподвижник царя, по сути – скрытный и хитроумный иезуит, всю жизнь игравший одному ему ведомую партию (а может быть, и ему самому до конца не ведомую – кто знает?..). Он сумел внушить царю, что вольный, разудалый, лишившийся строгой Бонапартовой узды Париж довольно опасен, и самое в нём безопасное место – его, Талейрана, дом. Александр внял лукавому совету и вправду поселился у князя, который немедля приступил к тонкой обработке августейшего гостя, нашёптывая ему, что Бурбоны во главе французского государства суть лучшее из того, что имеет быть в настоящий момент.
У Талейрана были на то свои замыслы, говорить так. Но Александра это, сказать правду, не очень-то вдохновило. Он не забывал про Бернадота (что, впрочем, было маловероятно), вполне допускал номинальное правление малолетнего Наполеона II при регентстве Марии-Луизы, рассматривал всерьёз кандидатуру Евгения Богарне, пасынка Наполеона, ничего не имел против возможной республики – а вот реставрацию считал затеей сомнительной [64, 518], чем, кстати говоря, очень разочаровал и обидел французских роялистов… Но, в сущности, он оказался прав, что и подтвердилось в самом ближайшем будущем.
Однако, Талейран взялся орудовать сильным аргументом: «принципом легитимизма», который теоретически обещал стабильность и равновесие. Вкратце суть идеи, выдвинутой главой временного правительства, состояла в следующем: во всех европейских странах восстанавливаются законные, «настоящие» монархические династии – опять же по состоянию на пресловутый 1792 год; эти легитимные монархи обязуются не зариться и не претендовать на другие территории, а в случае возникновения угрозы какому-либо из общепризнанных престолов, все прочие государи должны дружно, единым фронтом выступить на выручку пошатнувшемуся трону, оказывая ему всемерную помощь, вплоть до военной.
Идея вроде бы разумная; однако, в ней было несколько слабых мест. Во-первых, изъян формальный: в 1792 году в Европе существовало такое государство, как Речь Посполитая – полумёртвое, конечно, тем не менее с данной точки зрения совершенно легитимное; однако же, восстанавливать его всерьёз никто не собирался. Во-вторых… а, может быть, и в-третьих, и в-четвёртых, двадцать два года есть двадцать два года, да ещё каких! – в реку прошлого ступить невозможно: попытаться сместить те новые династии, что за это время укрепились на некоторых европейских тронах, суть чрезвычайно трудоёмкая задача, которая не будет стоить потраченных на неё усилий. И конце концов, никто не мог забыть, что в Средиземном море возникла новая «империя» во главе с «императором»… С этим-то что делать?
В общем, всем было ясно, что принцип легитимизма, что называется, «притянут за уши»: Талейран пробивал им возвращение Бурбонов. Но ничего лучшего, ничего такого, что могло бы послужить более действенным компромиссом, никто придумать и предложить не мог… После непростых дебатов сошлись всё-таки на идее князя.
В этом есть один существенный аспект: значит, мысль Талейрана всё-таки не была сиюминутным политиканством, в ней содержалась некая объективная, так сказать, ценность – именно потому тогдашние вершители, возможно, и не вполне осознавая её потенциал, интуитивно ощутили ту мощь, что впоследствии упорно возобновлялась, проявляясь в других системах коллективной солидарности и безопасности, таких, как Лига наций, ООН – не идеальных, что там говорить, иной раз не слишком-то эффективных, а иной раз и вовсе бессильных – но всё же лучших, чем никакие, и как-никак удерживающих человечество на расстоянии от пропасти. Что до Александра, то он, будучи нравственно на порядок выше коллег и партнёров, не мог не заметить в принципе легитимизма религиозного измерения – вероятно, никем, кроме него, Александра, и не замеченного; и кстати, здесь не так уж важно, «те», или не «те» находятся на престолах. Важно искреннее согласие. Ведь не только политической, но и нравственной является речь о том, чтобы закрыть ужасы прошлого, но помнить его уроки. О том, чтобы вот теперь, на новом перепутье, после вместе пройденных тяжких дорог, выбрать верный путь, на белом листе начать новую повесть – настоящую, повесть добра и правды… Пройденное должно было сделать всех мудрее, а мудрость и есть осознание добра. Следовательно, возникла редкая, если не исключительная особенность: наконец-то заключить союз государств, основанный на христианской нравственности, а уж потом на законах, которые должны естественно проистекать прямо из неё.
Так мыслил император Александр. Однако, приходится с грустью признать, что он несколько промахнулся, переоценил и свои возможности и способности соратников. Хотя и прежде у него не много было оснований подозревать королей в избытке разуме, а их министров в соблюдении чести, но всё-таки…
Немного времени – и то, что на французский трон возвращаются Бурбоны, признали все. Талейран победил. Александр проиграл. Он, вероятно, уже успел отвыкнуть от поражений, и это болезненно царапнуло его. Талейран попал в царскую немилость – Александр очень изощрённо дал князю понять это [64, 537]. Что, однако, не изменило ситуации и не отменило необходимости общаться с Талейраном. Бурбоны вернулись.
Правда, какое-то время было неясно, кто именно из королевской семьи займёт трон. У покойного Людовика XVI остались два брата: тоже Людовик, граф Прованский (постарше) и Карл (помладше). Несмотря на порядок старшинства, именно Карл, он же граф Д`Артуа, считался было основным претендентом… Впрочем, интрига длилась недолго. Королём стал всё же Людовик – Восемнадцатым.
Сына казнённого монарха, после казни отца отданного революционерами на воспитание к сапожнику-якобинцу и умершего в десятилетнем возрасте, роялисты, чрезвычайно щепетильные в проблеме монаршей нумерации, считали Людовиком XVII, потому граф Прованский получил номинал Людовика XVIII.
Итак, 18 мая 1814 года был заключён Парижский мир, должный поставить предпоследнюю запятую во всемирной смуте. Точку предполагалось поставить осенью, в Вене. На лето же директора истории объявили себе заслуженные каникулы. Война кончилась. Врагов больше нет. Отныне все друзья.
Александр отправился в европейское турне, обещавшее вроде бы стать феерическим, превосходнейшим действом – триумф русского императора был невиданным и неслыханным с Гомерических времён, и встречать его везде собирались, как вселенского героя. Да, собственно, так оно и было, так и встречали; а сам он покорял всех своими фирменными любезностью и шармом. Почёт и ликование! Надежды! – и тогда, двести лет назад, людям хотелось мира, хотелось жить нормально, зная, что никто больше не вторгнется на их землю, не ворвётся в дом, не ограбит, угрожая саблей или штыком… А ведь сколько лет лишь это и царило, все ожесточились, осатанели, били друг друга нещадно и безжалостно – христиане христиан! – перебили миллионы, и невесть как долго это бы ещё продолжалось, если бы не взошёл над миром Он. «Наполеон был, и всяк его страшился. Александр явился, и Наполеон не бе» [5, 202].
26 мая император торжественно прибыл в Англию.
Здесь, в Лондоне уже находилась его любимая сестра Екатерина (успевшая, к слову, овдоветь), у неё Александр и остановился. Приём, оказанный ему, конечно, был великолепен – тут и говорить нечего. Восторженные лондонцы на улицах, льстивые, низко кланяющиеся придворные, радушнейший принц-регент… Профессура Оксфордского университета! Да, Александр побывал и там, а с ним за компанию, кстати, и Фридрих-Вильгельм: он совершал этот визит вместе с Александром, но служил разве что каким-то тусклым приложением к блистательному императору. Оба монарха несколько неожиданно для себя обрели в Оксфорде степень докторов права, можно сказать, оставили след в науке. Правда, если относительно русского государя этот учёный титул, в сущности, справедлив, то за какие ясные глаза он достался меланхолику Фридриху?.. – оставим этот вопрос на совести университетской коллегии.
Александр при вручении ему докторского диплома счёл нужным немного пококетничать. «Как же мне принять этот диплом? – спросил он. – Ведь я не держал диспута» [32, т.4, 547] [т. е., не защищал диссертации – В.Г.]. На что ректор с учтивейшим поклоном отвечал: мол, Ваше Величество выдержали такой диспут, какого отродясь не доводилось держать никакому доктору…
Из Англии император отправился в Голландию – и там всё тоже было великолепно. Голландцы встречали его с особым чувством: для них он стал освободителем воистину; не забудем, что при Наполеоне такой страны как Нидерланды, вовсе не стало, поскольку тот распорядился её судьбой проще простого – присоединил к Франции, и попробуй кто-либо что-то возрази… Но – «…Александр явился, и Наполеон не бе»… А дружественным политическим отношениям России и Нидерландов вскоре суждено было перетечь в династические: самая младшая сестра Александра Анна, та самая, к которой бездельно сватался Бонапарт, стала супругой наследника голландского престола, а со временем и королевой.
Да, европейское турне императора выглядело (и вправду было) необычайным успехом. Но ведь успех в политике – дело преходящее, пусть и такой великий. А кроме того, сама политика… Александр образца 1814 года явно перерос её как таковую. Он был уже не только и даже не столько государственным деятелем, хотя, безусловно, продолжал оставаться таковым, и более того, осознавал необходимость этого. Но он ментально взошёл выше и теперь видел дальше. Он смотрел над политикой – в те сферы, где уже чувствуется близость вечности… И ему виделась реальная, не юношески-мечтательная возможность создать новое общество, изжившее, исправившее в себе прежние недостатки: и то феодальное псевдо-христианство, что привело к чудовищным несправедливости и неравенству людей, и обратное – яростная атака на христианство вообще, неведомо как вызвавшая из тёмных глубин силы, превращавшие людей в вурдалаков… и войны, войны, войны! Александру казалось, что они все, монархи, как следует взявшись, сумеют вернуться к потерянному было потенциалу религии; хотя он наверняка не допускал никакого легкомыслия относительно масштабов и сложности этой задачи. Но не решать её уже не мог.
Вряд ли он тешил себя вселенскими восторгами в свой адрес – тщеславие если и было в нём, то давным-давно перегорело; он ведь не Бонапарт (но мнительность осталась – отметим это качество, в будущем проявившееся в более сложных и странных формах). А уж тем более для верующего православного – все эти степени и титулы, регалии и пышности ровно никакого значения не имеют.
Что впереди? Об этом, наверное, даже помыслить трудно. Конгресс, где тот, кто умён – хитрец и пройдоха, а прочие… Бог с ними: ограниченные, недалёкие люди; и всё-таки с ними надо как-то строить единый христианский мир, ибо других строителей всё равно нет и не будет. А ведь ещё ждёт его, своего сакрального отца, Россия, и без того-то неустроенная, а сейчас, после войны, разорённая и обескровленная вконец. А ему, отцу, всё не до неё, не до своих усталых и измученных детей… Да, он виноват перед ними. Но что ж делать, если такой нечеловеческий груз трудов и дней – и всё на человеческих плечах! Он помнит о начатом и не законченном, но никуда не деться: сначала надо всё же привести в порядок и обустроить Европу. Здесь время совсем не ждёт.
8
Венский конгресс открылся в сентябре 1814 года. На нём формально не было победителей и побеждённых. Четыре великие держав: Россия, Англия, Австрия, Пруссия, плюс множество государств средних и мелких, плюс великая держава, находящаяся на особом положении – Франция – должны были откровенно и дружественно обустроить пространство человечества так, чтобы исключить в нём конфликты, трения, тем более войны – по сути, воссоздать Кантовский «вечный мир». Теоретически! Да, теоретически должно быть так. Но вот практически…
А практически на конгрессе с самых первых дней пошла жёсткая подковёрная борьба. Бесспорно, отличился Талейран: он из почти нулевой для Франции позиции сумел выдавить всё, и даже сверх того. Это обострило ситуацию – и страсти запылали вовсю.
Очень скоро обозначались два самых трудоподъёмных вопроса: польский и саксонский. Они, эти вопросы, обозначили достаточно явственное, хотя покуда не категорическое размежевание между пятью сверхдержавами: Англия, Франция, Австрия с одной стороны – и Россия, Пруссия с другой. Правда, эта неустойчивая конфигурация могла рассыпаться в любой момент: слишком уж трудно было сопрягать интересы, каждый из которых противоречил какому-нибудь другому… Например, какие задачи стояли перед Александром? Во-первых, по возможности отстоять для себя как можно больше польской территории, а в пределе – всю; во-вторых, передать всю Саксонию во владения ближайшего союзника Фридриха-Вильгельма (Александр по-прежнему не хотел знать Фридриха-Августа, но тот ловко играл на противоречиях между «великими» и сумел добиться того, что стал нужной разменной монетой в большой игре); а в-третьих, не допустить и чрезмерного усиления Пруссии – в этом Россия была солидарна с Францией… И в-четвёртых, не упускать из виду всё остальное.
Такие утомительные, одна с другой не стыкующиеся задачи сделались перманентной головной болью для дипломатов разных стран – и всё же самыми трудными, самыми непроходимыми среди прочих выглядели две проблемы – польская и саксонская [74, т.3, 274].
Александр достаточно резко предъявил свою программу-максимум: всё бывшее герцогство Варшавское – России, всю Саксонию – Пруссии. Рассчитывал ли он реально на такой результат или действовал по принципу: требуй в два раза больше и получишь то, что надо?.. Трудно сказать; верить же мемуарам политиков дело не самое благодарное. Считал ли император свои польско-саксонские тезисы не политикой, но делом истины и справедливости, что подобает православному царю? Есть такая точка зрения: сугубо вроде бы дипломатическое противостояние между Александром, Меттернихом, Талейраном – суть проекция скрытых от дилетантского взора метафизических измерений. Александр-де бессознательно олицетворял идею Святой Руси как «свёрнутой Вселенной христианства» [5, 204], и его политические демарши являли собой не что иное, как выбросы свёрнутого метапространства, стремящегося не вширь, но «вверх» и увлекающего за собой весь прочий христианский мир, сильно погрязший в грехе… Романтическая – в лучшем смысле, без иронии! – версия, ибо и сам русский царь был в лучшем смысле романтиком, при том не оставлявшим трезвости, прагматизма, да и жёсткости, что там говорить – на конгрессе его побаивались, и было отчего. Он мог заставить побледнеть кого угодно, даже Талейрана. Думая ли о Святой Руси или нет, но о христианской вселенной точно, император Александр наверняка был убеждён, что геополитический баланс, предлагаемый Европе им, в наилучшей степени соответствует этому будущему движению мира вверх – при этом понимая, что вряд ли кто-то из тех людей, с кем ему приходится иметь дело, его поймёт. Разве что барон Генрих Штейн – тот тоже был метафизик и мистик, и даже что-то «демоническое» находили в нём [47, 646]… Но он к этому времени, продолжая находиться на конгрессе, от центра принятия решений был оттеснён; Фридрих-Вильгельм барона сильно недолюбливал, и когда представилась возможность оттеснить его на политическую периферию, так и сделал. А кроме того, у самого Штейна с Александром отношения сложились далёкие от безоблачных: барон надеялся, что император безоговорочно поддержит Пруссию как антитезу Франции, которую должно подвергнуть максимальному ограничению; однако тот, скрупулёзно соблюдая принцип всеевропейского баланса, прусские аппетиты укротил… Талейран же с Меттернихом, не говоря уж об остальных участниках многомесячного «саммита», от подобных духовных высот были далеки. Но Александр, похоже, и не рассчитывал на чью-либо помощь в этом. Он мог лишь заставлять двигаться «террариум друзей» в том направлении, в каком ему, Александру, это было необходимо.
Странно! – и никаких подтверждений тому нет, но изучая обстоятельства внешней политики Александра, трудно отделаться от мысли, что русского императора понял бы Наполеон, не будь он таким невозможным хвастуном и эгоистом, что его и погубило. И ещё кажется, что Александр это чувствовал… Но странная, парадоксальная, диалектическая штука жизнь: в ней человек, способный как никто другой тебя понять, становится врагом, да не каким-то условным, а самым что ни на есть настоящим, судьба столкнула двух талантливых и мыслящих так, что одному кому-то нет места на Земле.
Жалел ли Александр, что всё сложилось так, а не иначе? Что Наполеон, разгорячённый, раззадоренный бредовыми фантомами, утративший реальный взгляд на мир, уже не хотел, не мог, не в силах был остановиться, взглянуть трезво, стать действительным соавтором европейского мира?.. Может быть и жалел, кто знает. Да только виду не подал, ибо это бессмысленно: случилось то, что случилось, а прочее неважно. Строить жизнь приходится с теми, кто есть. И Александр строил – выбора в этом смысле у него не было.
Принято считать, что по саксонско-польской проблеме Александр, после труднейших, тяжелейших переговоров, иной раз едва не ставивших конгресс на грань разрыва, пошёл-таки на компромисс. Он отстоял практически всё герцогство Варшавское, отныне царство Польское; сравнительно небольшие территории бывшего герцогства отошли Австрии и Пруссии, а Краков (и ещё немного земель вокруг него) был объявлен «вольным городом» – или Краковской республикой.
Официальное название: «Вольный, независимый и строго нейтральный город Краков с округом» [СИЭ, т.8, 23] – но быть независимым, да ещё строго нейтральным в этом бушующем мире, конечно, не вышло. Впрочем, надо сказать, что Краковская республика просуществовала до 1846 года, свыше тридцати лет, и сделалась даже своеобразным оазисом этой части Европы, и экономическим и культурным… Но задиристые польские патриоты, во множестве туда стекшиеся, не давали спокойно жить могущественным соседям, отчего с республикой не раз случались всяческие неприятности, и, наконец, в ноябре 1846 года она была упразднена. Её территория отошла к Австрии.
Отстояв Польшу, Александр пошёл на уступки по Саксонии, а вместе с ним на эти уступки вынужден был пойти и Фридрих-Вильгельм. Мечты о полном поглощении Саксонии Пруссией пришлось оставить, но частичное-таки поглощение состоялось, причём немалое: около половины территории и сорока процентов населения Саксонского королевства досталось Берлину. Правда, в экономическом отношении это была худшая (северная) часть; лучшую (южную) с крупнейшими городами Лейпцигом и Дрезденом Фридрих-Август сохранил под своей короной.
Вымученная договорённость дорого обошлась партнёрам. Выше уже говорилось, что чёрная кошка между триадой Англия-Австрия-Франция и дуэтом Россия-Пруссия пробежала едва ли не с первых дней конгресса – а польско-саксонские дебаты превратили её в огромного сердитого кота. Обособляясь от России и Пруссии, «Тройка» в лицах Талейрана, Меттерниха, Каслри подписала сверхсекретный меморандум об оборонительном союзе – так он был осторожно назван. С этим самым меморандумом позже случился превеликий позор… но тогда, в январе 1815 года три мудреца тайно и радостно потирали руки, уверенные в том, что они чрезвычайно ловко перехитрили русского императора и прусского короля.
Тем не менее, Пруссия вряд ли могла счесть себя обделённой: к ней присоединялись некоторые западногерманские земли: так называемая Рейнская область и Вестфалия, в результате чего Прусское королевство стало представлять собой два территориально разделённых анклава. Это была своеобразная уступка Талейрана Александру и Фридриху-Вильгельму – князь полагал, что отстояв от этих государей Саксонию, он выиграл для Франции гораздо больше: Пруссия усилилась не так, как могла бы. В краткосрочной исторической перспективе Талейран был, безусловно, прав; а вот насчёт долгосрочной вышло далеко не так гладко…
Вообще, на конгрессе много было серьёзных тем: как-никак речь шла о стратегическом социальном будущем человечества. Нет никаких сомнений, что главные действующие лица понимали и сам конгресс и себя на нём именно так. Довольно острая коллизия возникла вокруг королевства Обеих Сицилий (столица – Неаполь), до недавнего времени возглавляемого Наполеоновским маршалом Мюратом, который уже успел предать своего патрона… В итоге это королю не помогло, но борьба интересов вокруг неаполитанского трона завелась нешуточная – и кончилась тем, что овладела им ещё одна ветвь Бурбонов. Некоторые германские государства: Бавария, родственные Александру Вюртемберг и Баден – сохранили приобретения, полученные от Наполеона. Ещё…
Но об «ещё» вдруг пришлось позабыть. Случилось такое, чего никто не мог предвидеть даже в страшном сне. Все вздрогнули.
9
Возвращая Бурбонов на французский трон, Талейран, вероятно, достиг чего-то своего, какой-то ему ведомой цели, несмотря на совершенно ясное осознание того, что для многих роялистов он пожизненный и ненавистный враг: ему их озлобленное мнение было глубоко безразлично. Но вряд ли даже он ожидал, что возвращённая им династия так скоро «достанет» страну… Нет, разумеется, нельзя всё красить одной краской, были и целые регионы, где Реставрацию встречали с восторгом: Вандея, например, историческая область на севере Франции.
В департаменте Вандея в 1793 году революционные войска творили такое, что уцелевшие жители и двадцать с лишним лет спустя вспоминали это как нашествие из преисподней. Говорят, результаты карательных рейдов ощущались вплоть до середины девятнадцатого века: обезлюдевшие деревни, стаи одичавших собак в лесах… И сейчас – сейчас! – уже не через двадцать, а двести двадцать лет, некоторые местные политики время от времени муссируют вопрос о покаянии нынешней Пятой республики, признающей себя наследницей всех республиканских режимов – держащей на президентском дворце трёхцветный флаг, поющей в качестве гимна «Марсельезу», празднующей день взятия Бастилии – перед жертвами тех ужасов.
Справедливости ради надо сказать, что вандейские жители ангелами не были, и Конвент направлял туда военные экспедиции не забавы для. Но такой звериной массовой свирепости мятежники и бунтари всё же не проявляли… Поэтому немудрено, что и в 1815 году любая власть, кроме королевской, воспринималась в Вандее как сатанинское порождение – в том числе и Наполеон.
С началом Реставрации заметно ожила столичная либеральная интеллигенция: Бонапарт, считая подобную публику крикливой и вредоносной, держал её за горло железной хваткой, и вполне успешно – умники смиренно помалкивали… Возвращение же Бурбонов принесло прослойке интеллигенции и богемы какие-никакие свободы. При самом активном воздействии Александра Франция получила конституцию – этот факт, должно быть, очень радовал сердце нашего царя: не имея пока возможности ввести столь любезный ему Основной закон на родине, он был рад и тому, что сумел внедрить таковой на чужбине: остался верен принципам свободолюбия, теперь ещё и усиленных верой… Только вот свободы, русским императором дарованные, не очень-то пошли реставрируемой Франции впрок.
Образованные парижане – те да, вздохнули попросторнее, вольный, свежий ветер перемен плеснул им в лица. А вот что касается французской глубинки, деревни, армии… там дунули совсем другие ветра. Вернувшиеся роялисты принялись восстанавливать прежние порядки, при этом вели себя обиженно и злобно, будто все прочие виноваты перед ними пожизненно, а они сами явились мстить, карать и торжествовать – и это их святое неотъемлемое право. Дворяне-помещики требовали реституции, возвращения конфискованных и проданных с торгов земель; духовенство возвещало о гневе Божием, должном постигнуть тех, кто эти земли некогда купил [64, 318]; офицеров Наполеона в массовом порядке увольняли из армии на копеечную пенсию, а вакансии заполнялись молодыми роялистами, которые пороху не нюхали, ничего ещё в военном деле не смыслили, зато сразу попадали в начальство – и оставшиеся на службе ветераны, прошедшие огонь и смертьные грозы сотен битв, вынуждены были подчиняться этим ничтожествам… Верхи – постаревшие, облезлые аристократы, ничего не хотели, да и не могли ни знать, ни понимать. Они лишь хранили в обозлённой памяти годы своих неприкаянных, бедственных эмигрантских скитаний, они досыта натерпелись страха, бессильных обид, приживальческих унижений… и вот наконец-то это всё сгинуло. Господи, что за счастье!.. Сила! Власть! Принесённая на штыках чужих армий, но власть. И над кем?! – над теми, кто когда-то выгнал их из родовых дворянских гнёзд, с насиженных мест, изо всей той прежней уютной, сытой, тёплой жизни… Теперь-то отольются кошке мышкины слёзы!..
И бывшие эмигранты вплоть до самого короля и его ближайшей родни усердно отливали эти слёзы: можно подумать, что бессмысленное упоение местью стало цветом, вкусом, смыслом, сутью их жизни! Король, впрочем, был человек довольно осмотрительный, старался слишком резких движений не делать. Но вот его придворные…
Всё это и вызвало к жизни знаменитую фразу: «ничего не забыли и ничему не научились». Так сказал о Бурбонах, конечно же, Талейран. Александр добавил, в сущности, то же самое: «и не исправились, и не исправимы».
В Вене шаткость отреставрированного трона осознавали куда лучше, чем в Париже. То есть, Людовик XVIII, может быть, и осознавал, но действенно влиять на ход событий не мог. Конгресс регулярно получал тревожную и правдивую информацию из Франции о росте пронаполеоновских настроений; но при этом с Эльбы приходили новости вроде бы успокоительные: «император» острова тих, как агнец, говорит, что немолод, устал от грандиозных бурь и ничего более не хочет, как жить в тишине и покое на богоспасаемом островке… К таким сообщениям относились несколько настороженно, но в общем-то не доверять им оснований не имелось. И лидеры конгресса продолжали считать, что ситуация непростая, конечно, но управляемая. Тем неожиданнее – как гром в безоблачный полдень! – ударила их весть с Эльбы.
Вот как пишет об этом Е. В. Тарле:
«Вечером 7 марта 1815 года в Вене в императорском дворце происходил бал, данный австрийским двором в честь собравшихся государей и представителей европейских держав. Вдруг в разгаре праздника гости заметили какое-то смятение около императора Франца: бледные, перепуганные царедворцы поспешно спускались с парадной лестницы; было такое впечатление, будто во дворце внезапно вспыхнул пожар. В одно мгновение ока все залы дворца облетела невероятная весть, заставившая собравшихся сейчас же в панике оставить бал: только что примчавшийся курьер привёз известие, что Наполеон покинул Эльбу и, безоружный, идёт прямой дорогой на Париж» [64, 321].
10
Это второе пришествие Наполеона на трон, длившееся чуть больше трёх месяцев, давно стало источником легенд и цитат. Сто дней, реакция парижской прессы от «корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан» до «Его Императорское Величество ожидается в своём верном Париже»; секретный трактат, забытый в кабинете сбежавшим королём; Ватерлоо, опоздание маршала Груши… Что верно, то верно: по степени невероятности этому событию сложно подобрать что-либо равное в обыденной истории. Сказать, что венские архонты были потрясены?.. Если потрясены, то не столько выходкой Бонапарта – от него в глубине души все опасались сюрпризов, сколько тем, что власть Бурбонов распалась с бредовой лёгкостью дурного сна, и всё вернулось на круги своя. Словно бы не было месяцев тяжелейшего труда, решения проблем, казавшихся неразрешимыми, приближения к светлому всеевропейскому будущему. Сколько усилий, переживаний, бессонных ночей! – и вот, наконец, замаячили, забрезжили надежды… когда вдруг Наполеон одним взмахом руки обрушил всё.
Нужно похвалить Венский конгресс за примерное хладнокровие: там не впали в мистический ужас перед сверхъестественным могуществом Наполеона. Уж Александр-то во всяком случае; он знал твёрдо: он сам на должной стороне, против которой идти бесполезно, и кто б там ни был, какой гений и сверхгений – ничего не выйдет. Сомневаться в этом могут только люди малодушные, пугливые и недалёкие, подобные придворным Франца. А Наполеон… да, конечно, он был другом фортуны, он мог хватать и держать свою судьбу мёртвой хваткой. Но – всё в прошлом. И этот всплеск – последний, отчаянная вспышка, за которой пустота. Даже несмотря на огромную народную поддержку, несмотря на нелепых и вздорных Бурбонов. Может, да, может показаться, что Наполеон – сила, он может напугать и даже прогнать слабых… Но нет, это всё не так: он призрак силы, он ничто. Его можно даже пожалеть: кем бы мог стать с его-то талантами!.. Однако жалеть бессмысленно, ибо он сам выбрал мирскую славу, Gloria mundi. А она, конечно, transit…
В обширной литературе, посвящённой «ста дням», нельзя не обратить внимание на два характернейших мотива. Первый: все эти сто дней к Наполеону цеплялись какие-то вроде бы мелкие, досадные неудачи, но они накапливались, накапливались… и завершились фатальным опозданием Груши. Если бы маршал привёл свои резервы часом раньше! Если бы!.. И тогда исход битвы при Ватерлоо был бы другим.
Да только в том и дело, в том-то всё и дело, что не могло быть никакого «если бы». Не могло! И, видимо, Наполеон своей феноменальной интуицией уловил это, уловил, что он более не хозяин своей судьбы. Отсюда и второй мотив: после поражения под Ватерлоо едва ли не весь Париж ходил ходуном, требуя реванша, крича, что неудача никого не испугала, что все готовы собраться, объединиться и сообща выступить на священную войну с врагом… а императора это как-то совсем не тронуло. Он стал вдруг безучастен ко всему, словно пружина, судорожно крутанувшаяся в нём на Эльбе, выбросившая последний залп, лопнула. И – всё. Наполеон бросил бороться. Он понял, что игра кончена. И сразу навсегда устал.
Понял ли он, отчего проиграл, а Александр победил? Сомнительно. Для такой уникальной одарённости, как у него, он был на удивление глух к «мирам горним», к тому, что исходит свыше… Вообще, складывается впечатление, что он, при немалых житейских передрягах и разочарованиях, был в целом доволен своей жизнью. Он всего достиг, всё испытал – по крайней мере, так считал сам. Да, впереди были усталость, грусть и одиночество; он никогда больше не увидел маленького сына, которого очень любил – наверное, это было второе по силе чувство в его жизни, после жажды власти. Но та ушла безвозвратно, и её не жаль – а любовь осталась, и Наполеон понял, что ей так и суждено остаться грустью, бессильной перед расстояниями и годами… Его жена, наверное, и слезинки не обронила по мужу: укатила к отцу в Вену и постаралась забыть прошлое, как ненужную, случайно прочитанную повесть. Прежняя жена, Жозефина, умерла в Париже год назад, в дни торжества союзников, как раз накануне подписания мирного договора; Наполеон узнал о том на Эльбе и, как говорят, несколько дней после известия был суров и мрачен [64, 317]. К нему, всё бросив, могли бы примчаться две женщины: его мать Летиция и графиня Мария Валевская – да только кто бы их пустил!..
Враги умолкли – слава Богу; Друзья ушли – счастливый путь. Осталась жизнь, но понемногу И с ней управлюсь как-нибудь.Наполеон, может, не был настроен так философически-возвышенно, как автор этих стихотворных строк Пётр Ершов, но и ему всё, что осталось: кое-как дожить дни свои… которых, вероятно, и не могло быть много.
Остров Святой Елены – некогда португальский, потом голландский, а потом английский островок в южной части Атлантического океана стал последним земным пристанищем бывшего императора. Его там окружали некоторые из бывших придворных, чьи преданность и обожание достигали псевдорелигиозной фанатичности, что ему, прежде падкому на тщеславие и чванство, теперь совсем не льстило. Скорее, напротив, надоедало. Одного из таких надоед, генерала Гурго, Наполеон постарался даже отправить обратно во Францию, так как тот замучил всех хуже горькой редьки. Другого приближённого, морского офицера Лас-Каза, записывавшего Бонапартовы мемуары, выдворил уже сам английский губернатор Лоу… В сущности, Наполеон остался совсем один, постепенно превращаясь в никому не нужного старика с несносным характером.
Странно! – позволим себе немного психологической фантазии – поневоле чудится, что он, может быть вовсе того не осознавая, стремился именно к одиночеству: оно было самым что ни на есть гармоничным соотношением между этим человеком и миром – только он, Наполеон Бонапарт, этого почему-то не угадал. Возможно, из него вышел бы великий математик вроде Эйлера или Гаусса, и к этому готовила его судьба, и намёки с её стороны преследовали его всю жизнь…
Почему такую большую роль играли в жизни Бонапарта острова?! Он родился на острове; на искусственном острове, на плоту, состоялось его знакомство с Александром, определившее дальнейший ход событий. Ещё один – большой, правда, но тоже остров, Англия – стал для императора идеей фикс, все его мысли, страсти, даже сны вращались вокруг этого окаянного места… Власть рухнула – и павшего монарха отправляют вновь на остров. А потом ещё на один! и теперь уже навсегда.
Что есть остров как не образ замкнутости и уединения? Кто знает, не предназначалось ли такое от рождения сыну корсиканского дворянина! Не должен ли он был в сосредоточенных учёных трудах осчастливить мир каким-то видом неевклидовой геометрии или оригинальной теорией механики, отличной от механики Галилея и Ньютона?.. Кто знает. Не сложилось так, сложилось иначе, и – дар не спрячешь! – судьба сыграла с Бонапартом в диковинную и суровую игру, провела по изгибам, высотам, восторгам одних толп и проклятиям других… и привела-таки туда, куда должна была: к уединению и тишине. Правда, тогда, когда это было уже и поздно и ненужно, как ей, так и ему. Мир узнал не великого мыслителя Бонапарта, но завоевателя и тирана.
При этом сам он лично вовсе не был злым, плохим типом. Не был воспалённым параноиком ложной идеи, подобно многим другим диктаторам, и в необъятной литературе о нём эмоциональный тон вполне симпатичный: заметно, что к нему его биографы не испытывают отвращения, отлично зная, какой шлейф Аида прошёлся по миру вслед за этим человеком. Почему так?! Почему Наполеону прощают то, что наверняка бы не простили никому другому?.. Видимо, нет здесь иного объяснения, кроме того, что он был гений. Судьба вложилась в него так, что этого «умом не понять, аршином общим не измерить» – а потому его путь и не мог быть обыкновенным – правда, он получился слишком уж крутым, этот путь; выходит, что и гении идут по жизни разными дорогами. Кто-то некогда сказал, что непременной чертой гения является наивность… Определение спорное, но отнюдь не пустопорожнее. Во всяком случае, про Наполеона это можно сказать точно: он, закалённый политик, хитрейший, умнейший, проницательнейший и беспощадный – до конца жизни остался в чём-то наивен и даже невинен, как дитя. Это не комплимент: дети часто бывают бессмысленно жестоки, именно в своей невинности, ибо не ведают, что творят. И это не значит, что такое зло, «наглость наивности», как выразился Достоевский, остаётся безнаказанным. Нет, конечно!..
Но это уже другая тема.
Итак, Наполеон. Что ж он такое?! Невероятный любимец фортуны и редкостный неудачник. Прагматик и маньяк. Умный, способный вызвать восхищение; обаятельный, в чём-то очень смешной и трогательный – и коварный, злопамятный и мстительный, и до странности равнодушный и чёрствый к бедствиям и страданиям людским…
Но как быть с тем, что гений и злодейство несовместны, и в чём же всё-таки разгадка Наполеоновой личности, этого диковинного клубка противоречий и головоломок?.. Да всё это, собственно, не такая уж теорема Ферма. Ответ если не на поверхности, то, во всяком случае очень уж глубоко копать не надо. Бонапарт, конечно, был гений – но не политический. Его невероятная одарённость предназначалась для чего-нибудь иного, скорее всего для науки, для точных наук. Но так сложилось, что тогда, в конце восемнадцатого века, человечество не нуждалось ни в неевклидовой геометрии, ни в неньютоновой физике, вполне обходясь и Евклидовой и Ньютоновой. А не то быть бы мсье Бонапарту (или синьору Буонапарте, кто знает) великим учёным, в жизни потешным чудаком-профессором с гневливым, раздражительным характером. Был бы он заносчив, считал всех дураками; студенты и соседи нарочно поддразнивали бы его, а он бы неистовствовал по-настоящему, бегал, в гневе подскакивая и потрясая кулаками, смеша окружающих… Но вышло иначе, и то, что в учёном выглядело бы смешным, во властелине оказалось страшным. И в сущности, поделом весь тот набор эпитетов, которым Наполеона осыпали люди, от него натерпевшиеся: и чудовище, и злодей, и изверг…
Для чего истории понадобилось тащить блистательного юношу сначала в войну, потом во власть, каков был сей урок для человечества? – всё это очень интересно, но, увы, уже за пределами данного повествования… Наполеон Бонапарт скончался 5 мая 1821 года по Григорианскому календарю на острове Святой Елены, там же был и похоронен.
В 1840 году, уже после иных потрясших Францию политических бурь и страстей, «июльский монарх» король Луи-Филипп распорядился перевезти останки императора в Париж – и они были перезахоронены в Доме инвалидов, святыне французской армии. Ещё несколько позже племянник Бонапарта Луи Наполеон, официально восстановил империю, а вместе с ней и государственный культ своего дяди – почти на двадцать лет.
Но и это, конечно, прошло…
10
Рассматривая взаимоотношения Александра и Наполеона, никак не отделаться от мысли, что русский император воспринимал французского не просто с уважением, но с никому не высказываемой симпатией, несмотря на то, что они, конечно, были совершенно разными людьми и несмотря на совершенную невозможность им обоим ужиться во всемирном бомонде. Тильзит и Эрфурт, возможно, могли бы стать рабочим балансом… могли, но не стали. Дальше дело пошло к закону исключённого третьего: либо Наполеон, либо Александр, а третьего не дано. Одна из самых скандальных историй периода «Ста дней», о которой отчасти было упомянуто: Наполеон с пышностью въехал во дворец Тюильри через сутки после того, как оттуда в невообразимой панике бежал Людовик XVIII вместе со своей придворной свитой; они побросали всё, в том числе и сверхсекретные документы, среди которых был тот самый меморандум тайного договора Франции, Англии и Австрии против России и Пруссии. Наполеон нашёл этот трактат и, разумеется, немедля отправил его русскому императору.
Наверное, Александр не так уж удивился. При этом видеть бумагу официальную, скрепленную подписями и печатями, ему было не просто неприятно – больно. Однако, он эту свою боль упрятал поглубже: дела не терпели эмоций. Как бы ни был царю симпатичен Наполеон и антипатичен Меттерних, государь прекрасно понимал, что с австрийским министром столковаться кое-как можно, а вот с коллегой-императором – никак, что ни предприми.
К марту 1815 года отношение Александра к Меттерниху сделалось равным «точке замерзания»: хуже не бывает. Чуть не дошло до дуэли! Как ни был император обходителен и любезен, австрийца он даже видеть не мог, и потому старался не появляться на тех официальных и великосветских мероприятиях, где уже присутствовал князь… Мятеж Бонапарта всё вдруг изменил. Импеатор, впрочем, и здесь нашёл способ уязвить нелёгкого союзника, что, по правде говоря, сделать было почти невозможно: князь был из тех людей, которым, как говорится, хоть плюй в глаза, всё Божья роса… Но когда Александр показал канцлеру экземпляр тайного договора, брошенного Людовиком и найденного Наполеоном – то даже этот бесстыдник лишился языка. Что было говорить?.. Да и Александру незачем было что-то там слушать. Он просто бросил злосчастную бумагу в камин и сказал, что прошлое осталось в прошлом. Настоящее важнее.
Но вот и настоящее стало прошлым. Наполеон повержен окончательно, и Венский конгресс быстро покатился к финишу. 28 мая (9 июня) стороны подписали Заключительный генеральный акт – политическое устройство Европы было определено. Оно оставалось сложным, государства по-прежнему имели различные ранги: империи, королевства, великие герцогства, герцогства… Часть королевств и княжеств входила в состав империй – так, например, та большая часть Варшавского герцогства, что отстоял за собой Александр, образовала Королевство Польское, королём которого стал числиться, естественно, Император Всероссийский (он же – Великий князь Финляндский). Было также создано и нечто надтерриториальное, военно-политическое: Германский Союз, включавший в себя некоторые германские государства и вольные города целиком, а некоторые – Австрию и Пруссию, как самые крупные – частично… В общем, это был шаг в сторону европейской интеграции, но не такой уж значительный. Значительный был сделан попозже, осенью того же 1815 года.
Как-то уж очень сухо по отношению к тому осеннему событию звучит это: европейская интеграция… Стремление к единству человечества, названное «Священный Союз», исходило из высоко сакрального мотива. Александр, новообращённо-вдохновлённый, с самого начала Венского конгресса стремился к построению жизни, осенённой Высшим смыслом – в которой слова Библии не формулы, всем знакомые, но вызубренные на уроках, как таблица умножения, и оттого лишь скользящие по поверхности души… а само состояние её. Ведь настоящее переживание евангельских истин – такое состояние, когда она, душа, словно бы дышит ими, как свежим воздухом, в сфере своего естественного обитания. Человек, для которого это так, не нуждается в юридических законах как таковых: для него расстояние от знания моральных истин до практической нравственности перестаёт существовать; такого разделения: знать – одно, а делать – другое, просто-напросто нет, есть единая христианская жизнь, в которой мысль и действие суть одно и то же… В идеале, конечно.
На Земле же такого как не бывало, так и нет (если не считать самих евангельских событий как таковых). Однако, Александр для того и создавал организацию под названием Священный Союз, чтобы когда-нибудь, да состоялось это. И уж, разумеется, он понимал, какой далёкий путь предстоит и ему и будущему Союзу. Но надо же с чего-то начинать!.. Тем паче, что и духовный наставник нашёлся; наставница, если уж быть точным.
Баронесса Варвара-Юлия Криднер [или Криденер, или Крюднер, или Крюденер – издержки транскрипции – В.Г.] была человеком необычным. Впрочем, до одного трагического происшествия, случившегося на её глазах в 1804 году, она вела расхоже-легкомысленную жизнь светской дамы, отличаясь от ей подобных разве что сочинением сентиментальных романов – один из них, «Валерия», имел немалый успех [51, 311]; конечно, и это выделяло её из ряда вон, но вcё же «её образование было очень небрежное», и в целом дни баронессы представляли собой самую типовую череду изящных аристократических промыслов: балы, замужество, интриги, амурные приключения, смерть мужа, пикантное вдовство… Правда, уже тогда в знакомствах и увлечениях фрау Криднер проглядывало нечто значительное, глубоко отличное от мишурной игривости «общества» – но покуда это было лишь потенцией, зародышем истинной духовной жизни, не более того. И кто знает, состоялся бы, развился бы этот зародыш, не зачах ли он в поблекшем с годами женском сердце, если бы не та самая трагедия…
Печальное событие, свидетелем и даже соучастником которого стала госпожа Криднер, было таково. Она достаточно фривольно переглядывалась с неким своим ухажёром (будучи вдовой): она в окошке, он на улице – улыбались, кланялись друг другу, всё прелестно и романтично. Как вдруг…
Что именно стряслось вдруг, мы вряд ли когда узнаем, да это и неважно. Вероятнее всего, сердечный приступ. Ловелас побледнел, пошатнулся – и рухнул наземь. Смерть [5, 213].
Вдова была потрясена. Раньше никогда ей не приходило в голову – а тут так грубо явлен был жестокий тезис, вступающий в неразрешимое противоречие с нашим естественным чувством драгоценности собственной жизни. Ценность жизни? Да вот она: ничтожество и бренность! Кто есть человек? Никто. Миг! – и нет его.
Но как же быть?! Смириться с тем, что ты никто, песчинка, миг в огромном, безразличном к тебе пространстве-времени?.. Смириться с этим баронесса не смогла. Она стала искать выход из пугающего парадокса. И нашла его в смиренномудрии «моравских братьев». Убедившись в том, что эта вера вернула смятенную душу на место, что грозивший было распасться, превратиться в хаос мир вновь выстроился в чёткую систему, где личность человеческая заняла ключевую позицию (только надо суметь эту позицию правильно выбрать и реализовать её!) – Криднер пустилась проповедовать обретённые истины среди сильных мира сего, что, благодаря немалым связям, сделать удалось. В частности, прониклась новыми откровениями прусская королева Луиза, натура трепетная, возвышенная и ранимая (то был 1806 год)… А в 1808-м «моравская сестра» познакомилась с другим знаменитым мистиком И. Г. Юнгом-Штиллингом, жившим в герцогстве Баденском. Ну, а отсюда прямой путь к императрице Елизавете Алексеевне. А от неё один шаг до самого императора Александра…
Мистика – такая сущность, которая всегда в моде. В описываемые годы популярны в данной области были Якоб Беме, автор несколько экзальтированный, но искренний и серьёзный, а также «…более второстепенные западные мистики теософического толка» [9,59] Юнг-Штиллинг и Эккартгаузен. Эти имена служили предметами для провинциального дворянства, что и не замедлило отразиться в тех же «Мёртвых душах»:
«Почтмейстер вдался более в философию и читал весьма прилежно, даже по ночам, Юнговы «Ночи» и «Ключ к таинствам натуры» Эккартсгаузена, из которых он делал весьма длинные выписки, но какого рода они были, это никому не было известно; впрочем, он был остряк, цветист в словах и любил, как сам выражался, уснастить речь»[19., т.5, 156].
Правда, этот путь баронессы оказался не кратким и не скорым. Понадобились много лет и духовная эволюция самого Александра, для того, чтобы цари и пророчица наконец-то встретились лицом к лицу. Это произошло в мае 1815 года – в самый разгар «Ста дней».
Исторические хроники донесли до нас удивительные обстоятельства знакомства.
13 мая Александр был на родине своей жены, в Баденском герцогстве, а именно в Гейдельберге, старинном университетском городе, полном неповторимого обаяния. Вечером, перед сном, прилёг с Библией в руках, стал читал, но получалось невнимательно – видимо, мысленно всё ещё гулял по очаровательному городку… Потом мысли как-то сами собой перекинулись на разговоры о необычной женщине – фрау Криднер, некогда предсказавшей крах Наполеона и победу его, Александра; об этой фрау и её предсказаниях он слышал от фрейлины своей супруги Роксаны Стурдза (из стариннейшего и знатнейшего молдавского рода)… А было бы, пожалуй, неплохо познакомиться с ней – подумал царь и улыбнулся.
Тут раздался стук в дверь. Вошёл генерал-адьютант Пётр Волконский, очень давний друг и конфидент Александра, с самых детских лет. В чём дело?.. Волконский выглядел несколько раздражённым. Вас, государь, настоятельно желает видеть какая-то дама, доложил он. Я объяснял ей, что Его Величество устал и отдыхает, но она ничего слушать не хочет, твердит, что непременно должна видеть императора… Кто же такая, как зовут?
И Волконский ответил, как зовут настойчивую просительницу: баронесса Криднер.
Вечернее небо над Гейдельбергом вздрогнуло. Не может быть?! – едва не вскрикнул Александр, сперва не поверив своим ушам. Однако, глазам пришлось поверить: император тут же велел Волконскому провести гостью сюда – и убедился: да, это она. Чудо! Чудо!.. [18, 137]
Сегодня мы со снисходительной улыбкой воспринимаем озарения и Эккартгаузена, и Юнга-Штиллинга, и Криднер («Криднерши» – с неудовольствием выражались ревнители ортодоксии). Действительно, многое у этих духовидцев не выдержало проверки временем, оказавшись попросту интеллектуально и этически слабоватым… Но уж в чём их никак не упрекнёшь – в искренности. Они могли заблуждаться, но не лукавили и не обманывали никого. И эти правдивость и открытость души, конечно, не мог не ощутить и не оценить Александр в беседе с баронессой. Эта женщина абсолютно безбоязненно заговорила с могущественнейшим монархом планеты о том, о чём никто бы никогда не посмел заговорить с ним… и тем самым совершила психологически весьма сильный ход.
Александр Павлович никогда не забывал об отце. Никогда! И откровенный, страстный, совсем не придворный разговор о человеческих грехах, бедах и искуплении, о самой сути жизни – всколыхнул раненую память государя, прохватил его до самой глубины души. Он решил, что вины прошлого всё ещё тяготеют над ним, что не одолена стена, отделяющая его от Неба – несмотря на все стремления и несомненные успехи, несмотря на верную дорогу, на которую выбрался он, император Александр… Что ж, выходит, и это лишь начало дороги? Да, похоже на то. На какова тогда дорога, Бог мой! – если пройдены годы, годы и годы, если были утраты, обретения, тяжелейшие испытания и победы над ними, и новые надежды – и всё это не более, чем начало… Наверняка, императору тяжело было принять столь суровые истины, но его вера была тверда, он ясно сознавал, что нашёл путь праведный – стало быть, годы, тяготы и одоления служили просто долгим предисловием к настоящему делу: христианскому восстановлению мира. И начинать тут надо с себя. Только оно! только это дело в совокупности со смирением душевным, победой над собственными земными страстями и может стать полным искуплением грехов.
Если взять во внимание всё то, что выпало Александру со дня его восшествия на трон, то к осени 1815 года он должен был быть очень усталым человеком. Только последние три года чего стоили!.. Но он христианин, он осознаёт свой монарший крест и готов смиренно и безропотно нести его дальше. Что и подтверждает делом: составляет проект документа, способного, по его мнению, охватить мир новой духовной реальностью. То есть, не новой, но восстановленной, возвращающей утраченное, которое было человечеству предоставлено, однако, не было использовано по недомыслию, несерьёзности, неготовности к восприятию таких простых и таких трудных истин…
Судя по всему, мир и сейчас не вполне готов к этому. Но всё-таки – четверть века бедствий должны были хоть как-то образумить неразумных (так кичившихся своим разумом!)… пусть даже не всех, пусть хотя бы некоторые поймут, что есть сущность человеческого мироздания.
И вот результат: «Трактат братского и христианского союза», подписанный российским, австрийским и прусским монархами 14 сентября 1815 года, в большой праздник Воздвижения Креста Господня. Текст на удивление невелик: преамбула и три статьи – всё легко уместится на двух нынешних стандартных листах. Видимо, Александр, составлявший проект (при этом консультируясь с Криднер), решил, что в таком деле пустословить нечего – и был абсолютно прав. Фразы трактата возвышенны и на наш современный взгляд обаятельно-старомодны:
Во имя
ПРЕСВЯТОЙ и НЕРАЗДЕЛИМОЙ
ТРОИЦЫ
Их величества, Император Австрийский, Король Прусский и Император Российский… объявляют торжественно, что предмет настоящего Акта открыть перед лицом Вселенной Их непоколебимую решимость, как в управлении вверенными Им Государствами, так и в Политических отношениях ко всем другим Правительствам руководствоваться не иными какими-либо правилами, как Заповедями сей Святой Веры, Заповедями любви, правды и мира, которые отнюдь не ограничиваясь приложением их единственно к частной жизни, долженствуют напротив того непосредственно управлять волею Царей и водительствовать всеми их делами, яко единое средство, утверждающее человеческие постановления и вознаграждающие их несовершенства [26, т.2, 3].
Содружество государств, обязующихся соблюдать истины Трактата, было названо Священным Союзом. Первооснователями его стали Россия, Австрия и Пруссия, несколько позже присоединилась Франция (официально Акт не был ещё опубликован, это произошло лишь 25 декабря, в Рождество)… ну, а потом практически все европейские государи, за исключением турецкого султана и папы Римского. Последний, очевидно, считал излишним вторично подписываться под тем, что и без того формально составляло содержание политики престола Святого Петра. С некоторыми оговорками принял акт английский принц-регент, впоследствии король Георг IV, именно: он сказал, что по британским законам не имеет права подписывать такого рода документы от имени государства, это прерогатива парламента; впрочем сам он лично, как христианин и монарх вполне присоединяется к Священному Союзу [32, т.5, 95].
Начало положено! Нравственность становится законом, простирает благодетельную сень над государствами, обитатели которых объявляются единоземцами и братьями, «Членами единого Народа Христианского» [26, т.2, 4]. Вроде бы есть понимание, есть стремление исправить ошибки прошлого… Ну, а раз так, то можно и домой. Три года странствий! Ведь не может быть, чтобы сей труд пропал даром. Десница провидения! – разве не её дружественную силу явственно познал государь, и нет причин считать, что она отступила от него. Обустройство Европы посредством колоссальных усилий сдвинулось с низшей точки, и заметный прогресс в этом направлении обнаружился; теперь пришло время заняться Россией.
Между прочим скажем, что за эти три года большой европейской политики Россия относительно привела в порядок свои азиатские дела. C 1804 года – ещё с доаустерлицких времён! – всё тянулась и тянулась война с Персией; в 1812 году она обострилась благодаря французской агентуре, спровоцировавшей персов лживыми слухами о разгроме русской армии Наполеоном и вообще о бессилии Российской империи… Эта пропаганда своё чёрное для шахского престола дело сделала: перед умственным взором шаха Фетх-али создалась фата-моргана в виде перспективы овладения всем Кавказом… И владыка соблазнился. Армия под командованием наследного принца Аббас-Мирзы вторглась на территорию вассального России Талышского ханства и захватила город Ленкорань (сейчас это Азербайджан).
Но решительно действовали наши генералы Ртищев и Котляревский. Они не дали войскам Аббас-Мирзы ни единого шанса – те были разгромлены наголову. Персидское правительство запросило мира… и получило его. А октябре 1813 года был заключён Гюлистанский мирный договор, утверждавший Дагестан и Северный Азербайджан под короной русского царя. Это был немалый успех!
Но всё-таки в те годы азиатский театр действий был окраиной. И за всё оставшееся время Александровского царствования там было тихо. Большая игра на этих неизведанных просторах развернётся позже…
А тогда, в 1815-м, она вращалась исключительно в Европе.
Александр покинул Париж 30 августа, в день тезоименитства. Уезжал абсолютным триумфатором: за минувший год он покорил ветреную, своенравную столицу мира – как великий артист избалованную публику. Он стал своим человеком в модных салонах, совершенно по-дружески общаясь там со «звёздами» интеллектуального мира; особенно охотно визитировал салон эмансипированной мадам Жермен де Сталь, писательницы и политиканши. По-дружески навещал и Жозефину, которая была уже очень слаба здоровьем: она и скончалась в мае 1814-го… Возможно, бывал у знаменитой предсказательницы Марии Ленорман… хотя насчёт этого достоверных сведений нет. По другим данным, Александр навестил ясновидящую в 1818 году [80, т. 34, 535].
Дорога домой стала уже привычной императору дорогой славы и восторгов: в Бельгии, Австрии, в Пруссии его воистину чествовали как царя царей, величайшего из великих. Он, разумеется, вежливо кланялся, улыбался; приятно, спору нет – в конце концов встречали его искренне, отчего же не ответить на чистосердечие столь же светлым душевным отзывом… Но этот Александр, которому скоро должно было стукнуть тридцать восемь лет, уже видел и знал в своей жизни слишком много, и печаль, спутница многого знания, уже поселилась в нём. Наверное, в пути он много думал о будущем. Но вряд ли оно поддавалось ему, оставаясь пока неуловимым для его взора – и он должно быть, понимал, что никто ему в этом помочь не сможет. Ни баронесса Криднер, ни даже монах Авель. Он должен суметь заглянуть в будущее сам…
Александр возвращался домой.
Глава 9. Возвращение
1
Привычка к славе и восторгам окружающих была не единственной, обретённой государем в победные годы. Победа далась чудовищным трудом – Александр, и без того вынужденный не лениться, втянулся в рутинную, непрекращающуюся изо дня в день работу, и дела, ожидавшие его дома, были естественным её продолжением. Поменялось поле действия – а труд, эта царская каторга, остался прежним. Будни, будни, будни… Тысячи вопросов, проблем, забот: военных, экономических, политических, духовных. И всё это решают кадры – как ни относись к автору сего афоризма, приходится признать, что в данном случае он был прав.
К концу 1815 года состав Кабинета министров значительно переменился. Традиционно в бюрократической системе Российской империи первым среди равных считался пост министра внутренних дел, но за время зарубежных вояжей государя он сам собою отошёл в тень, а главными сделались международные отношения; фактически ими руководил сам император, но официально в министрах некоторое время продолжал числиться Румянцев: об этом говорилось выше. Из неких политических, да и просто человеческих соображений, Александр считал нужным держать больного и пожилого канцлера на службе… однако, это, помимо того, что выглядело не вполне логичным, было и реально неудобным – тем более неприемлемым стало накануне Венского конгресса, мероприятия важнейшего и сложнейшего. Именно тогда де-юре и оформилось существующее статус-кво: 10 августа 1814-го министром иностранных дел был назначен Карл Нессельроде.
Карлу Васильевичу суждено было установить рекорд, держащийся и поныне, вот уже более полутора столетий: граф прослужил в министрах без нескольких месяцев сорок два года. Без малого полвека, трём императорам сумел отдать дворянский долг (последнему, правда, Александру II, отдавал совсем недолго, будучи уже вполне пожилым и болезненным человеком, практически повторив судьбу Румянцева… к тому же упустившим контроль над ситуацией – поражение в Крымской войне стало следствием удручающих провалов русской дипломатии)… Тогда же, в 1815-16 годах Карл Васильевич был на жизненном взлёте: тридцать пять лет – цветуще-зрелый возраст по тем временам. Правда, формально весь карьерный рост остался уже позади… но сама жизнь только начиналась! Министра ждал целый мир интриг, страстей, изощрённых дипломатических поединков, награды, высокие титулы… словом, много, много всего.
Министерство же дел внутренних по-прежнему возглавлял Осип Козодавлев; и предстояло ему делать это ещё до 1819 года – общий министерский стаж немалый. Козодавлев не такая уж заметная фигура в русской истории, но руководителем он был, вероятно, неплохим, энергично поощрял развитие промышленности: даже по сведениям, признаваемым неполными, число мануфактур в России с 2415 в 1812 году возросло до 3160 в 1814-м [32, т.5, 152], в действительности же их стало гораздо больше… Резона менять министра Александр не увидел.
А вот в военном министерстве изменения произошли. Генерал Горчаков вновь – третий раз в жизни, подумать только! – оказался подозреваем в растрате казённых сумм. Теперь основания нашлись более, чем серьёзные, ряд крупных военных чинов взяли под арест, да и без того царь был недоволен министром: на нём возлежала задача снабжения воюющей армии (провиант, обмундирование, боеприпасы и т. п.), и с этой задачей он справлялся плохо.
Происходило ли это оттого, что часть государственных ресурсов оседала в личных генеральских закромах, или же просто по нерадению?.. – вопрос, так и оставшийся вопросом, и теперь, спустя столетия, вряд ли есть смысл возобновлять его. С грехами генерал-лейтенанта есть кому разобраться и без нас.
Дело о пропажах в военном ведомстве так и не дошло до суда, но и закрыто не было: повисло в административном пространстве. Для Горчакова, впрочем, неторопливые следственные действия обременительными не являлись. Снятый с поста министра (а произошло это, кстати говоря, 12 декабря 1815 года, в день рождения императора), он почему-то очутился в членах Государственного Совета, потом уехал за границу поправлять здоровье… Потом и вовсе ушёл в отставку. Потом благополучно скончался. А дело осталось. Пережило оно и самого Александра I – закрылось в 1827 году.
Кресло министра после отставки Горчакова занял Пётр Коновницын, боевой генерал, герой Отечественной войны; вряд ли великий полководец, но человек смелый, честный, безупречный. Правда, Александр так расположил фигуры в министерстве, что должность начальника Генштаба (тогда говорили: Главного штаба) номинально почти сравнялась по значению с министерской; фактически же превзошла. А занял её Пётр Волконский – см. историю с Криднер.
Морским министром после отставки в самом конце 1811 года Чичагова надолго стал маркиз Иван Иванович Траверсе – человек, чья судьба достойна пера Стивенсона или Сабатини… Род Траверсе – одна из ветвей старинной французской фамилии Прево де Сансак, многие в этом роду были моряками, и мальчик Жан-Батист, которому, наверное, ни в каком сне не могло привидеться, что он станет когда-то Иваном Ивановичем и русским министром, родился в семье морского офицера, на краю света – острове Мартиника в Карибском море. И понятно, что никакой другой карьеры, кроме морской, он избрать не мог.
Карьера складывалась успешно. При Людовике XVI он успел стать капитаном боевого корабля, повоевать с англичанами за независимость США, получить французские и американские награды, стать лично известным королю и пользоваться его благорасположением… Но тут грянула революция. Преданный трону аристократ, маркиз не захотел служить Конвенту и тому подобным омерзительным заведениям, уехал в Швейцарию – где его и настигло предложение Екатерины II поступить на русскую службу. Моряк подумал и согласился. Так он стал Иваном Ивановичем, а спустя годы и министром.
Его приглашал обратно во Францию Наполеон, но для бывшего королевского офицера никакой другой власти на родине не существовало… А как министр военно-морских сил России, он вполне оказался на месте: энергично развивал флот, организовал множество исследовательских экспедиций («дальних вояжей», как тогда говорили); именно при Траверсе в 1821 году наши моряки под командой Беллинсгаузена и Лазарева открыли Антарктиду. Полуостров, находящийся на ледяном материке строго на юг от мыса Горн, самой южной точки Америки, конечно, был назван землёй Александра I.
Ходили слухи, что маркиз не безгрешен в вопросах снабжения флота… однако официально никаких претензий к министру не возникло. Крупных побед на свой счёт адмирал не записал, но это надо поставить в «вину» императору: Священный Союз всё же работал, мир на континенте поддерживался, и никаких крупных войн, ни сухопутных, ни морских тогда не было. Уже после смерти Александра – Траверсе всё оставался министром! – русский флот совместно с английским и французским нанёс серьёзное поражение турецко-египетской эскадре в Наваринской бухте. Ушёл в отставку маркиз спустя год, намного перекрыв должную выслугу лет: 74 года в те времена возраст почти преклонный. Во Францию так и не вернулся, обрусев окончательно: потомки его и по сей день обретаются на просторах СНГ…
Министерству юстиции при Александре почему-то везло на поэтов. Началось оно, как мы помним, с Державина, а в 1810 году надзирать за соблюдением законов был поставлен полный тёзка Траверсе Иван Иванович Дмитриев, известный литератор. В министрах он пробыл более четырёх лет, после чего в августе 1814 года удалился в отставку, предпочтя литературную карьеру служебной. Был к этому моменту Иван Иванович немолод – 54 года; но заменил его император не кем-то из новых, а напротив, зубром из зубров, Дмитрием Прокофьевичем Трощинским, придворным с незапамятных Екатерининских времён. Александр, очевидно, предпочёл видеть на этом посту Дмитрия Прокофьевича, чьи честность и бескорыстие были общеизвестны, как раз из-за этих его качеств; но, потомок запорожских казаков, Трощинский отличался независимым и своенравным характером, из-за чего не сложились его отношения с Аракчеевым, а потому и пребывание в министрах оказалось недолгим… Надо сказать, что Трощинский был неравнодушен к своим землякам-украинцам, везде и всегда старался помочь им, и многие из них искали его покровительства. Так – правда, уже в другие времена – нашли внимание к своему сыну супруги Гоголь; и кто знает, не будь этого внимания, быть может, мир и не узнал бы великого писателя Николая Гоголя [87].
Министр финансов Дмитрий Алексеевич Гурьев был ещё старше Трощинского. Он много лет прослужил в денежном ведомстве, и долго ходил в заместителях – сначала у Васильева, затем у пришедшего тому на смену Фёдора Голубцова. Последний, как известно, конфликтовал со Сперанским, цепко держа финансы в своих руках – но в 1810 году всесильный тогда госсекретарь выдавил-таки министра, а на его место заступил Гурьев.
За время правления Александра это министерство оказалось едва ли не самым продолжительным – 13 лет! но отзывы о Гурьеве, как о профессионале, признаться, не слишком-то лестны. Никаких особенных успехов он не добился, пополняя бюджет разве что повышением налогов да выпуском ассигнаций, из-за чего отчасти и пал Сперанский, а позже, в 1817 году – вспомним – правительство было принуждено изъять из обращения ассигнации на сумму 236 млн. руб., причём это дало лишь кратковременный эффект. Гурьева резко критиковал Мордвинов, зато поддерживал Аракчеев – но и сей кредит доверия исчерпался к 1823 году, когда в министерстве обнаружилось очень уж сильное расстройство в делах. И 72-летний чиновник покинул службу. Заменил его финансовый гений Егор Канкрин.
Министерство просвещения изо всех первично созданных оказалось самым стабильным: до 1815 года его возглавляли всего два человека: Завадовский и Разумовский. Правда, министерские дни последнего были уже недолги, и в августе 1816 года он уступил кресло Голицыну – ближайший друг царя наконец-то обрёл высший служебный статус. Спустя год ведомство стало называться Министерство духовных дел и народного просвещения («сугубое министерство»): так христианские умонастроения императора и министра подкрепились административно… Но о том отдельный разговор.
За прошедшие годы структура Комитета министров претерпела ряд изменений: о них отчасти уже упоминалось, а теперь стоит сказать системно. Одно министерство – коммерции – упразднилось, будучи влито в состав Министерства финансов; возникли три новых; вернее, одно министерство – полиции – и три главных управления:
1) духовных дел разных вероисповеданий (когда министерство Голицына в 1817 году преобразовалось, управление стало ведать лишь «иностранными вероисповеданиями»);
2) путей сообщения (сначала оно называлось Главное управление водяных и сухопутных сообщений, но вскоре переименовалось). Этим ведомством изначально заправлял царский шурин принц Ольденбургский, и, судя по отзывам, руководил он неплохо. Основал специальное учебное заведение – Институт корпуса инженеров… Но в ночь с 14 на 15 декабря 1812 года принц неожиданно скончался, так что для Екатерины Павловны радость от победы над Наполеоном оказалась омрачена такой вот личной трагедией. Управляющим был назначен Франц Деволант, выходец из Голландии.
И, наконец:
3) ревизии государственных счетов – нечто вроде финансовой полиции. Здесь руководил деятель с чудовищно непроизносимым именем – барон Балтазар Балтазарович фон Кампенгаузен, немец из немцев, педант из педантов, тугодумный и дисциплинированный, как ЭВМ первого поколения – вывести его из себя или дать взятку было делом абсолютно нереальным. Служил он медленно и верно, на должности государственного контролёра пробыл двенадцать лет; между прочим, в эти годы успел – недолго, правда, два летних месяца в 1823 году – совместить эту работу с постом министра внутренних дел.
Надо сказать, что начинал службу барон именно в этом ведомстве, и занимался там почему-то здравоохранением (мы уже говорили, что тогдашнее МВД в большей степени соответствовало своему названию, чем нынешнее – туда входили и медицина, и промышленность, словом, действительно все внутренние дела государства)… Естественно, что, будучи сверхдобросовестным и сверхответственным чиновником, Балтазар Балтазарович основательнейшим образом изучил доверенный ему фронт работ – и добился немалых успехов в организации больниц, аптек, а кроме того, приобрёл солидные медицинские познания. Наверное, мы не погрешим против истины, если назовём его «отцом-основателем» отечественной судебно-медицинской экспертизы – он успел организовать её в коротенький период своего министерства. Отметим – в этот же период барон лично помог раскрыть первый официально зафиксированный в нашей стране случай смерти от передозировки наркотиков.
Председателем Комитета министров, а заодно уж и Государственного Совета сделался не кто иной, как один из главных долгожителей административно-придворного мира, теперь уже князь (с 1814 года) Салтыков. Почему не блещущий талантами престарелый вельможа стал формально наивысшим лицом в империи (исключая, понятно, самого монарха)?.. У знаменитого исследователя той эпохи М. Богдановича [32, т.5, 285] можно прочесть: император так хотел утешить последние годы своего воспитателя (Салтыков скончался в 1816-м, в возрасте 80 лет). Стремление сердобольное, но отчего же за счёт государственной службы, да ещё в таком ранге?.. Разумеется, невозможно отрицать его громадного опыта, умения лавировать во дворце… но ведь не имел он такого влияния, какое теоретически предполагают две крупнейшие должности. Образовалась неприятная для системы управления «вилка» – когда позиции формального и неформального лидера расходятся… И это, увы, был не единственный симптом неблагополучия.
Очевидны две взаимосвязанные тенденции: средний возраст министров сильно вырос по сравнению с первыми годами царствования – Салтыков, Трощинский, Дмитриев, Гурьев, Вязьмитинов, Траверсе, Разумовский, Голицын… это всё или немолодые, мягко говоря, или просто пожилые люди. И второе, из этого вытекающее – на высших этажах власти Российской империи словно кружилась карусель, в которой одни и те же люди бесконечно перепрыгивали с одной лошадки на другую: Кочубей… Голицын… Вязьмитинов… Салтыков… Балашов… Лопухин… какая-то кадровая лента Мёбиуса.
Возможно, впрочем, что подобные претензии не вполне справедливо: менеджеры высшего класса товар штучный, и при том нельзя сказать, что новые люди на высших этажах иерархии Александровской России не появлялись вовсе; появлялись, разумеется. Но всё же неприятные симптомы налицо. Стало быть – где-то в невидимых постороннему глазу административных внутренностях имперского организма завелось какое-то нездоровье?.. Так ли это?
2
Конечно, совершенного здоровья в государстве не было и нет нигде, никогда во всей истории мировой цивилизации… Мысль не блещущая свежестью, и, очевидно, Александру известная давным-давно, едва ли не с Лагарповых времён. Но вот утешение в этом небольшое, а правду говоря, никакого, ибо имел он дело не с теоретическим положением, а с совершенно конкретной ситуацией.
Император привык к тяжёлой работе – мы это знаем. Он очень устал – знаем тоже, годы больших войн и большой политики дались ему тяжело, тяжелее некуда. Но он прекрасно понимал, что отдыхать некогда, что хозяйство, разорённое войной и запущенное в послевоенные годы, требует настойчивого, кропотливого внимания… Более того, Александр понимал, что отстояв на Венском конгрессе Польшу, он добавил себе новых забот: население Царства Польского, вчерашнего Варшавского герцогства, охотно поддерживавшее Наполеона, вряд ли за несколько лет пропитались симпатиями к Российской империи. Необходимо было расположить поляков в свою пользу – проблема архисложная и архиважная; но Александру показалось, что он нашёл верный путь её решения.
Прибыв в Варшаву 31 октября 1815 года, император пустился в тонкую дипломатию общения с местной элитой, будучи то надменным, то приветливым в зависимости от обстановки – но всегда спокойным и умеренным в словах. Умело он воздействовал на умы и «невербальными средствами», пребывая в польском генеральском мундире, украшенном лентой польского же ордена Белого Орла… Психологические маневры оказались успешными. Строгая величавость вида наверняка должным образом освежала перегретые головы, а то, что русский царь, не помня прошлых взаимных обид, справедлив и весьма милостив ко вновь обретённым подданным, быстро заметили все. Бывшие пленные, воевавшие на стороне Наполеона, были с миром отпущены по домам, а вернувшись, с несказанным удивлением обнаружили, что их имущество, взятое в казённую опеку, всё в целости и сохранности – и немедля было им возвращено.
Да, доверие польской элиты давалось Александру с трудом – но он делал дело, и оно на «мёртвой точке» не застыло. У многих в Варшаве родилась осторожная, пока ещё далеко не уверенная в себе мысль: кто знает, может, император Александр и вправду решил аккуратно, без встрясок довести Царство Польское до совершенной независимости?.. Во всяком случае, контакт с влиятельными местными лицами императору найти удалось – и ситуация в Царстве можно стало оценить как стабильную. Можно было даже и поздравить себя, что Александр, вероятно, и делал мысленно.
Было образовано правительство Царства, куда вошли люди, подобранные не по принципу лояльности, а по деловым качествам; возможно, даже с некоторым перекосом в сторону «антилояльности» – император явно показывал, что не злопамятен и для него «закон обратной силы не имеет»: что бы ни было прежде, отныне не имеет значения [32, т.5, 116]. Важно будущее!.. Ещё более демонстративным в этом плане было назначение на пост наместника Царства пожилого генерала Юзефа Зайончека, всю жизнь сражавшегося против России – в войсках сначала Речи Посполитой, потом Костюшко, потом Наполеона… В кампанию 1812 года генерал потерял ногу и был взят в плен. Александр высоко оценил моральные качества старого воина – тот был беспредельно храбр и честен – и назначил его своим наместником, перед тем возведя в княжеское достоинство [80, т.23, 145].
Это было оригинальное и смелое решение. Сделать бывшего врага другом – да, сильный ход! И удачный. Правда, не бывает в политике абсолютно сильных ходов: что одному здорово, другому нож острый. Назначая Зайончека, Александр думал более всего о политической целесообразности – всё прочее отошло для него на второй план, в том числе и старый друг Чарторыйский, не без оснований претендовавший на пост наместника… Решение императора стало для князя шоком. Его считали наиболее вероятным претендентом на пост наместника, и видимо, он уже выслушивал первые поздравления, немного жеманясь и говоря, что пока ещё ничего не решено, что надо подождать… но сам в глубине души предвкушал не чуждый ему вкус власти… а этот вкус поманил и растаял в промозглом воздухе поздней варшавской осени.
В очередной раз придётся посочувствовать пану Адаму, павшему жертвой политкорректности; но и Александра можно понять. Трудны монаршии дела! Он был так принуждён обидеть близкого себе человека, что тот в конце концов стал если не русофобом, то резко антиимперским оппозиционером. И для самого покойного монарха нашёл в своих мемуарах места для инсинуаций. Горька оказалась обида, горька и длинна – длиною в жизнь…
Но у Александра не было времени скорбеть по княжеским печалям. С варшавскими делами надо было поскорее заканчивать, ждали свои, петербургские – и уж, разумеется, император не мог не покинуть Польшу, не осчастливив её напоследок конституцией.
Конституция! – давняя, светлая мечта императора; он с огорчением сознавал, что не удастся ввести её в России, в ближайшие годы, во всяком случае. Ну, а раз так, стоит начать с Польши, пусть таков будет первый шаг, пусть небольшой… Конституция была, заметим, весьма либеральной, за основу государь взял французскую, но польская «…имела преимущество над нею в муниципальных и областных учреждениях, устроенных лучше, чем во Франции» [32, т.5, 116]. И уж, конечно, Александр был бы плохим политиком, если б прекраснодушно оставил Царство Польское на самодеятельное местное попечение. Да, конституция, да, либерализм, да, атрибуты государственности: традиционные, хотя и чуть изменённые флаг и герб Речи Посполитой, конституция, правительство… Но – особый имперский комиссар, государево око помимо наместника; но – русские гарнизоны по всей Польше, большая и грозная армия… Комиссаром стал Новосильцев (а для этого старинного друга место нашлось!), командующим же военными силами – Константин.
Итак, действенный политический баланс был в Польше соблюдён. И главное – конституция! Ничто другое, наверное, не вдохновляло Александра так, как то, что он начинает мало-помалу вводить, под промыслом Всевышнего, твёрдую законность во вверенной ему монархии. Законность и отмена крепостничества – те рабочие цели, к которым должен двигаться проводник этого промысла, русский император… Что он и делал. Наряду с польской конституцией Александр своим волевым решением устранил крепостное право в Остзейском крае (Прибалтике, иначе говоря).
Правды ради, надо сказать, что положение прибалтийских крестьян было много хуже, чем русских, у которых был какой-никакой, но всё же гарантированный надел земли. И Александр поступил справедливо, начав с Прибалтики. При этом думал он и собственно о России, о том, как постепенно, под сенью Священного Союза, обеспечившего всеевропейский мир, он будет проводить раскрепощение страны – осторожнейшим, аккуратнейшим, благополучнейшим образом, безо всяких потрясений и бунтов…
Император хорошо понимал, что крепостные отношения дворянства и крестьянства – достаточно устоявшаяся, прочная система, к которой привыкли и те и другие. Что касается дворянства, то здесь, разумеется, и привыкать нечего: структура имперской России была построена таким образом, что этот класс являлся главным опорным, несущим и движущим элементом всего государства. А помещичье земле– и душевладение – экономический базис дворянства. Лишать его этого базиса?.. Во всяком случае, официально, громогласно – нет, думая об этом, Александр неизменно убеждался, что такое нереально, невозможно. А неофициально, втихомолку процесс вообще-то давно уже идёт. Помещики ведь тоже люди разные; у добротных, рачительных, вдумчивых хозяев и мужик не скучает – если хочет работать, работает и богатеет…
«Милушкин, кирпичник! мог поставить печь в каком угодно доме. Максим Телятников, сапожник: что шилом кольнёт, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо, и хоть бы в рот хмельного. А Еремей Сорокоплёхин! да этот мужик один станет за всех, в Москве торговал, одного оброку приносил по пятисот рублей. Ведь вот какой народ! Это не то, что вам продаст какой-нибудь Плюшкин» [19, т.5, 102].
Так рекламирует Чичикову своих крестьян Собакевич – надёжный хозяин, и мужики у него крепкие, зажиточные… В разговоре, правда, имеются в виду покойники, «мёртвые души» – но сути это не меняет.
Однако – кроме Собакевичей имелись ещё и Плюшкины, и всякие иные столь же нерадивые. Эти довольно быстро попадали в затруднительное положение: поместье ведь сложный экономический механизм, требует разума, забот и прилежания… а коли не так, и ничего этого нет, то хозяйство слабеет, хиреет… и в конце концов остаётся один исход: заложить имение в казну.
И закладывали, и немало; а после войны пустились закладывать пуще, поскольку многим пришлось туго. Заложенные поместья – вместе с крестьянами, разумеется – не выкупаясь, из частных становились государственными, то есть между ними и царём не было уже никаких посредников в лице дворян; а царь, конечно, волен делать со своими людьми всё, что хочет. Воля же его ему самому давно известна и неизменна – освободить их.
Да, для того потребуется время. Время, о да!.. Так просто взять и объявить: «Вы свободны!..» – нельзя; это не то, чтобы невозможно, это бессмысленно и безрассудно. Что будут делать эти свободные люди? Обнищают, по миру пойдут?.. Может и такое случиться. Освобождать надо так, чтобы все были хозяевами, имели наделы земли, скот, инвентарь… сложная, трудная задача, и торопиться здесь не очень-то умно. И Священный Союз ещё не окреп… Всё должно делаться синхронно, равномерно – желательно так, чтобы никто и не заметил, что в их время, на их глазах свершается «геологический переворот».
И ещё один извилистый ход к освобождению крестьян наметился в эти годы; точнее в 1816 году.
Строго говоря, идея «военных поселений» и сами эти поселения возникли раньше, ещё в 1810 году. Тильзитский мир был экономике России чудовищно невыгоден, финансы трещали, а войны с Наполеоном было, видимо, не избежать, расходы на армию требовались немалые… Как быть? Всё новое суть хорошо забытое старое – универсальная мудрость, сработала она и на сей раз. Каста военизированных землепашцев, кои в мирное время возделывают свои угодья, а в военное дружно и профессионально берутся за оружие – изобретение незапамятных лет и царств. В России такие люди появились ещё в XVII веке, на диких тогда южных и восточных рубежах; в таковых постепенно превращались и казаки, изначально бывшие сухопутными пиратами, самовольной разбойной республикой… Словом, идею оригинальной не назвать – иное дело, что Александр вывел её в ранг «национального проекта». Причины создания этих крестьянско-солдатских лагерей были вроде бы вполне прозаическими: вооружённые силы великих держав во все времена требуют крупных затрат, а универсальный класс воинов-земледельцев, когда надо, производящих хлеб, когда надо, воюющих – мог обещать заметную экономию государственных финансов. Таким образом и появился в 1810-м и появилось первое поселение в посёлке Климовичи под Могилёвом – там был размещён запасный Елецкий полк [10, т.8, 479].
Мы не можем знать, имелся ли уже тогда у Александра морально-политический мотив: мыслил ли он военные поселения как школу будущей свободы?.. Вероятно, да, ибо крайнее неприятие крепостничества ему было свойственно всегда, этому его учил ещё Лагарп. Кстати, эксперимент с Елецким полком получился в экономическом отношении крайне неудачным – и никакого облегчения никому не принёс. Но Александр «послевоенный», озарённый светом Высшей истины – этот Александр, конечно, воспринимал позор рабства в своей стране совсем иначе. Как может жить и царствовать православный монарх, зная, что миллионы его подданных, его, по христианским понятиям, детей – унижены несвободой?! Даже если они этого не осознают, если привыкли к несвободе, сжились и стерпелись с ней – всё равно это личный грех царя, он тёмным камнем лежит на его сердце, точно так же, как… страшно вымолвить! грех смерти отца, о чём сын не забывал никогда.
Православный царь должен радоваться счастью людей как своему, а их несчастья – его несчастья, это император Александр понял твёрдо. Но знал он и то, что не должно быть резких перемен и потрясений, пусть из самых благих целей. Он, должно быть, отлично представлял себе, какая «кессонная болезнь» может случиться с обществом, внезапно выдернутым из одних условий в другие. Поэтому действовать придётся тихо, понемногу, малой поступью… так и никак иначе, даже если очень хочется поскорей.
Можно утверждать, что в 1816 году у императора сложился реальный, внятный план преобразований. Это не было порывом юношеской мечты, как некогда: прошли годы и унесли те прежние мечты. Теперь Александр смотрел на мир яснее и отчётливее. Он устал от пройденных лет – но не мог позволить себе поддаться усталости. Он должен был трудиться.
3
И с самых первых дней возвращения его труды натолкнулись на непонимание, подозрения и обиды. И глухое, скрытое противодействие.
Сказать правду, он и сам оплошал. Вроде бы не назовёшь императора легкомысленным человеком, но в данном случае он то ли не заметил очевидного, то ли посчитал, что это не столь уж существенно… Что? Да то, что его либеральные эксперименты в Польше не всеми поляками будут приняты, а многими русскими расценятся как оскорбление. Экспансивные, говорливые шляхтичи (не все, конечно, были подобными, но таких более чем хватало), знать не хотели ничего, никаких царских забот и милостей – они видели только Речь Посполитую, великую и вольную, желательно «от моря и до моря» – от Чёрного до Балтийского, и этот максимализм заслонял от них весь остальной мир. Да, определённое спокойствие в Польше Александру удалось установить, но он и сам сознавал, насколько это не надёжно…
А что касается российской элиты, то здесь нашлись инициаторы недовольств, пустили в жизнь непростые разговоры о том, что государь по загадочным причинам небывало милостив со вчерашними врагами – никто не забыл, что поляки (во всяком случае, обитатели Варшавского герцогства) были самыми горячими сторонниками Наполеона, а он называл кампанию 1812 года «второй польской войной». И что же? Им и конституция, и флаг, и герб… Да эти паны с их вечным гонором обласканы государем куда больше, чем любой из победителей! Почему так?! Отчего такая несправедливость?
Александр почти не потворствовал полякам. Если и потворствовал, то самую малость – ему надо было завоевать расположение варшавского света, и здесь, конечно, надо было немного покурить фимиам важным и заносчивым магнатам, привыкшим к куртуазному обхождению. Но вообще, император старался быть сдержанным, а иной раз бывал и холоден – никакого побратимства, никакого амикошонства. Но всегда был уважителен. Не допустил ни единого грубого, насмешливого или презрительного слова в адрес польских истории, культуры, характера – и в Варшаве это оценили.
Зато не оценили в Петербурге. То есть, оценили обратным образом. В корректности к бывшим противникам увидели пренебрежение к своим. Свет заволновался. Был ли в этом ядовитый умысел, или же вправду кто-то из победителей счёл себя оскорблённым в патриотических чувствах?.. Думается, было здесь и то, и другое. Во всяком случае, Александр «подставился». Наверное, надо было ему получше просчитать ходы. Правда, как тогда удержать Польшу в империи?.. Политика всё-таки очень сложная игра.
А относительно конституции – можно только повториться. Император видел в ней плацдарм для будущего всей России. Не универсальный, конечно, и может быть, даже не самый основной, но первый, что тоже дорогого стоит… Император в данном случае выступал не как политик, но как христианин.
И вот – каков отклик! Среди придворных, лиц высшего круга, людей достаточно просвещённых… Их недовольство сильно задело Александра – не того он ожидал. Неужто его приближённые не сумели уловить в его действиях нацеленности в будущее?.. А как же тогда строить это будущее?! Жизнь разбросала людей, с которыми когда-то начинал, теперь уже не войдёшь в ту реку – и какой смысл рассуждать, что было сделано верно, неверно, ошибочно, вынужденно… Строганов, Чарторыйский, Сперанский!.. Иных уж нет, а те далече. Кто следующий?
И здесь-таки случилась попытка ступить в ту же реку.
Ещё во времена Негласного Комитета начинающие реформисты пытались привлечь к сотрудничеству знаменитого тогда английского мыслителя Иеремию Бентама, для коего Россия не была чуждой страной – брат его во времена оные состоял на русской службе, вращался близ Потёмкина. Тогда, впрочем, сотрудничество как-то не состоялось, потом императору стало некогда… а после войны он вспомнил о несбывшемся и решил, что, пожалуй, было бы неплохо, если бы оно всё же сбылось.
Иеремия Бентам (1748–1832) – социальный философ, основным исследовательским интересом которого являлась проблема построения эффективного и справедливого общества. Задача, прямо скажем, трудноподъёмная, однако Бентам, с лёгкостью в мыслях необыкновенной – характернейшая, очевиднейшая черта модных мудрецов XVIII века! (а он, несомненно, был дитя этого столетия) – полагал, что уж ему-то эту задачу решить удастся: он претендовал на авторство «теории счастья», не больше и не меньше.
Говоря популярно, «Просвещение» – идеология, упрощающая человеческий мир, сводящая его к эмпирически воспринимаемой действительности и, соответственно, полагающая, что величайшим историческим бедствием человечества было блуждание в призраках религии, теологии и метафизики – то есть, в том, чего нет. Надо сосредоточить интересы и усилия на земной жизни – тогда проблемы общества, веками неразрешимые из-за неверной постановки задачи, разрешатся самым замечательным образом…
Стоит ли считать методологически слабой установку, превращающую и личность человека и общество в некую слишком уж условную схему?.. Очевидно, да. Это неоправданное упрощение «вместе с водой выплёскивает и ребёнка», лишая мысль чего-то очень существенного, без чего все дальнейшие рассуждения и действия становятся зодчеством на песке. Собственно, это есть то, что в логике называется нарушением закона достаточного основания: люди, подобные Бентаму, рассуждали о счастье, очень поверхностно сознавая, что это такое и ещё хуже представляя сложность, многомерность и трагизм человеческого бытия. Бентам, говоря о «наибольшем счастье наибольшего числа людей», наверняка имел в виду сытость, комфорт, уютное жилище, жену, детей… Возможно, даже, он имел в виду и творчество: вот человек хорошо поужинал, окружён домашним теплом, горят дрова в печке… тогда, должно быть, захочется и на скрипке поиграть, нарисовать натюрморт, а может, повозиться с какими-нибудь химическими опытами… Вот вам и Бентамово счастье – и немудрено, что достичь такого предполагалось лишь социально-юридическими методами: этого, считалось, довольно. Установить разумные законы, нацеленные на увеличение благосостояния всех граждан – а дальше дело пойдёт само собой, эти самые граждане будут каждый самостоятельно делать себя счастливыми.
Карл Маркс, не деликатничая попусту, зло отозвался о Бентаме так: «Ни в какую эпоху, ни в какой стране не было ещё философа… который с таким самодовольством вещал бы обыденнейшие банальности» [43, т.1, 623]. Сказано лихо, в присущей многим социалистам манере с размаху чернить оппонентов – но нечто правдивое здесь ухвачено очень метко. Те, кого в наши годы не слишком разборчиво записывают в «просветители», надо полагать, были не только разными людьми, но и мировоззрение их было их достаточно различным, они могли жёстко дебатировать между собой – а нам через двести лет они кажутся чем-то почти однородным… Всё так, и всё-таки «буржуазная глупость» Бентама – или, говоря помягче, «философия обывателя» действительно есть то общее, что характерно для Вольтеров, Гольбахов, Бентамов и многих других философов, плохих и разных. Они жили на плоскости, не ведая глубин и высот, ведомых Канту, Кьеркегору, Достоевскому, Владимиру Соловьёву…
Но, памятуя о справедливости, должно сказать, что подобного рода концепции – будучи метафизически и исторически беспомощными, могут быть вполне продуктивными в решении некоторых прикладных социальных проблем. Счастья не принесут, а помочь навести какой-никакой порядок в государстве – да, способны… Наверняка Александр понимал это, когда ещё в 1814 году возобновил переписку с Бентамом на предмет консультаций в упорядочении российского законодательства – и тот охотно откликнулся.
К кодексу законов (Гражданскому Уложению) некогда приступал ещё Сперанский, потом это было прервано его опалою, войнами и странствиями Александра – и вот вернулось. Но вернулось, по сути, на круги своя: всё пришлось начинать сначала.
Сперанский взял за основу Наполеонов кодекс – ему данное изделие казалось юридическим универсумом. Это было, видимо, и так и не так; так – потому, что содержало в себе базовые качества, делающие право тем, что оно есть (Кодекс Наполеона, в сущности, являет собой дальнейшее развитие действительно универсальных, испытанных временем принципов римского права – через кодексы Феодосия и Юстиниана); не так – потому, что было слишком абстрактным. Когда новый министр юстиции Трощинский, Комиссия составления законов и Государственный совет взялись за рассмотрение запоздалого проекта Сперанского, вердикт после немалых прений и толкований был удручающий: не годится.
Тут не сбросишь со счетов и неприязнь к Сперанскому, в 1815 году бывшую не менее живой, чем в 1812-м – однако, претензии послевоенных законоведов нельзя считать одной лишь мелкой прихотью. Сановники справедливо сочли «кодекс Сперанского» сырым, не готовым ко встрече с российскими реалиями, не учитывающим веками сложившихся обычаев и традиций… короче говоря, документ нуждался в серьёзной доработке.
Наверное, Александру было не очень приятно слышать и такое резюме. Но ничего не скажешь – в словах министров и советников резон был, император сам это понимал. Поэтому и министерство и комиссия снова принялись за работу, и вот тут-то Бентам, конечно, мог дать реальную, практическую пользу.
Однако, дело как-то сразу не пошло на лад. Возможно, англичанин возомнил себя, выражаясь по-голливудски, «приглашённой звездой» и начал выставлять свои условия, на которых он согласен работать. Условия эти были вроде бы вполне разумными, но… Запад есть Запад, Восток есть Восток. Работодатели и наёмный интеллектуал друг друга не поняли.
Так, Бентам потребовал, чтобы все законодательные проекты обсуждались гласно – публиковались бы в газетах и журналах, после чего всякий желающий мог бы высказаться по поводу опубликованного, в том числе и печатно тоже. Требование вроде бы самое невинное, однако…
Вообще, надо признать, что в годы Александрова царствования пресса развивалась весьма активно. Если в 1801 году в России выходило всего 10 периодических изданий (журналов и газет), то за десятилетие 1801–1810 таковых возникло ещё 77, а за 1811–1820 годы – 51 [41, т.4, 224]. Конечно, не все из них выжили, многие и создавались-то «от безделья или от желания пошуметь» [там же], но ведь само «желание пошуметь» говорит о литературно-публицистическом процессе, о том, что тот живой и даже бодрый. И обсуждение законодательных проектов было бы возможно.
Возможно – но вот нужно ли?!
При том, что подавляющая часть российского простонародья была неграмотна, потребителей прессы хватало – рост газетных и журнальных номиналов свидетельствует о том красноречиво. Общественную жизнь император Александр сумел пробудить…
«В это время все наши помещики, чиновники, купцы, сидельцы и всякий грамотный и даже неграмотный народ сделались по крайней мере на целые восемь лет заклятыми политиками. «Московские ведомости» и «Сын Отечества» зачитывались немилосердно и доходили к последнему чтецу в кусочках, не годных ни на какое употребление» [19, т.5, 206].
Кстати, нет гарантии, что подобное обсуждение законопроектов могло бы тогда состояться и в Британии, хотя институт прессы там был несравненно более развит, нежели в России – но кто знает, может быть, Бентам усмотрел в русской почве замечательный материал для практического воплощения «теории счастья», отчего и предъявил требования по максимуму… О дальнейшем можно лишь предполагать; самым же вероятным, пожалуй, является следующее: Александр, глядя на социальную проблематику совершенно иначе, решил, что из сотрудничества с юристом-моралистом вряд ли что выйдет – слишком далеки его теоремы от российских реалий – и применил бюрократический приём, известный, наверное, со времён царства Хаммурапи, но от того не менее надёжный. Именно: сплавил Бентама вниз по инстанциям, в Комиссию составления законов – а там что будет, то и будет.
Как знать, предвидел ли император, что идеи англичанина застрянут в вязком пространстве комиссии, или надеялся всё-таки, что какой-то компромисс будет найден… Случилось, однако, первое. Идеи натолкнулись на одного из столпов этой комиссии барона Розенкампфа.
Густав Андреевич Розенкампф, выпускник Лейпцигского университета, находился в русской службе с 1803 года. Считал себя очень учёным юристом, да по правде сказать, таковым и был, только учёность его вся была сухая, пыльная, архивная, без малейшей искры Божией – он обобщал, систематизировал, комментировал различные виды законодательства, излагал это в длиннейших и скучнейших сочинениях. Служил достаточно успешно, однако, обладая честолюбием не по таланту, обиженно полагал, что его знания достойны большего… В своё время не поладил со Сперанским и после его падения, если верить источникам [80, т.61, 191], не удержался от низости, распространил «в свете» пасквиль на бывшего госсекретаря, изображая того изменником и чуть ли не бунтовщиком.
На таком антропологическом феномене, как Розенкампф, «теория счастья» забуксовала. Видимо, барон понимал счастье как-то так, что Бентаму и в голову не могло подобное прийти… Словом, после ни к чему не приведших переговоров теоретик остался сам по себе, а комиссия сама по себе.
Она до крайности медленно и натужно возилась с приведением законодательства в порядок. Конца-краю глубокомысленным трудам не было видно… и в конце 1816 года Александр убедился, что надо бы составителей поторопить, иначе Бог весть сколько всё это будет длиться и неизвестно к чему приведёт. Император реформировал комиссию, значительно упростив её структуру и сократив состав – видимо, вспомнил мудрую пословицу про семерых нянек, у которых дитя без глазу… Правда, и здесь не обошлось без досадных потерь: одно «дитя» при этом пострадало: раньше при комиссии было организовано Училище правоведения, специализированный юридический ВУЗ; его почему-то упразднили. Снова такое заведение возникло лишь в 1835 году, став со временем знаменитым, престижнейшим и давшим нашей культуре славную когорту имён, обессмертивших себя отнюдь не только на ниве законотворчества…
4
Итак, вернулся царь Александр на родину, и побежали дни-будни. Что они сказали императору, чем его порадовали?.. Сказали многое, а вот радости в сумме сказанного оказалось, увы, небогато. Александр убедился в том, что подозревал и прежде: в непочатом крае дел, которые ему самому, с мощностью в одну человеческую силу, и вовек не переделать. Разумеется, роптать тут нечего: он христианин, он должен смиренно нести свой царский крест, и он будет его нести. Но – тяжко, Господи Боже мой, как тяжко!..
Кто поймёт его, царя, кто сможет проникнуться его мечтой о будущем? Министры? Об этом и говорть не приходится… Конечно, большинство высших чинов империи люди знающие, сведущие – но от духовных высот куда как далёкие. Кто-то знающ, но не очень расторопен, кто-то интриган, озабоченный карьерным ростом; попадаются и административные сухари вроде Кампенгаузена, с которым говорить можно разве что о химических формулах, да о бухгалтерских счетах… Да, среди них, и не только среди них есть, безусловно, люди честные, ревностно исполняющие обязанности, и их даже не так уж мало, но всё равно трагически, катастрофически не хватает для того, чтобы повернуть на должный курс такую гигантскую историческую массу, как Россия.
Язвительный Ростопчин, достигая сатирических лавров, надавал Александровым министрам множество едких характеристик; вот некоторые из них [18, 45].
Гурьев – «…в высшей степени пронырлив и честолюбив, всё относит к себе, завален делами и исполняет их в полусне; так же тяжёл на подъём, как и медлителен в работе, любитель поесть и охотник до новостей, легко доступен до прожектёров и готов всем пожертвовать для того, чтобы удержаться в милости и увеличить своё состояние».
Разумовский – «…человек с большими умственными способностями и познаниями, но эгоистичный и неописуемо вялый».
Траверсе – «…ничтожество без собственной воли и взглядов. Главной его заботой было обогащаться насчёт поставок. Морские офицеры его ненавидели, а жена его била».
Дмитриев – «…поэт и состоит в плену у своего воображения».
Горчаков – «…тратил всё своё время для того, чтобы добиваться милости двора и какой-нибудь награды».
Добавим от себя к характеристике «любитель поесть» про Гурьева: знаменитая «гурьевская каша», удивительное десертное блюдо, было гордостью домашней кухни министра финансов, хотя фактическим изобретателем этого кушанья считается крепостной повар Захар Кузьмин.
Конечно, здесь надо делать скидку на то, что Фёдор Васильевич был из тех, кто ради красного словца не пожалеет и отца, но в злой и меткой наблюдательности ему не откажешь. Если Александру довелось читать или слышать эти строки, он наверняка не мог не признать, что взбалмошный москвич в чём-то попал в точку… И это ведь лишь вершина, как-никак сливки социума! А что там дальше, ниже, глубже – в губернской, уездной, деревенской России? Александр её совсем не знал и понимал, что не знает; но догадывался – тут не надо быть мудрецом! – какие неправды, тяготы, страдания людские, какие невидимые миру слёзы там, в той глубине… Что должно испытывать при мысли о тысячах несчастных сердце христианина – да ещё того, на кого возложен долг попечения об этих людях, а он, их монарх, их защитник, почти ничего для них не может сделать?! Царь ведь сознавал это – и что незримое миру творилось теперь в его душе…
Приходится читать, что в это время, годы возвращения, император заметно изменился: стал строже, суше, сдержаннее. Возможно; однако, неужто это столь уж существенный феномен? Меняется мир, меняемся все мы, менялся Александр – у него, по сложившимся условиям, эти изменения были заметнее, чем у кого-либо: он всегда был на виду, а судьба обдавала и подхлёстывала его всемирной тяжестью – тут поневоле переменишься… Он был один с бабушкой, другой с отцом, он изгибался под пятой теперь уже императора Павла Петровича; и как же было остаться прежним в ночь с 11 на 12 марта 1801 года!.. Он стал другим после Аустерлица, и ещё каким-то иным после Тильзита, Эрфурта, после дружбы со Сперанским и разлуки с ним. И – наконец, новый Александр родился 8 сентября 1812 года, а ведь предстояли ещё годы, встречи, труды и утраты… И пройдя через них, он обрёл что-то новое, а что-то навсегда осталось позади.
А что-то давнее вернулось. Заметили, что император стал особенно придирчив к мелочам воинской службы: пуговицам, воротничкам, ремешкам, к строевому шагу; к тому, как всё это пришито, начищено, отглажено, отрепетировано… Можно подумать, что вдруг проснулась в нём давным-давно забытая гатчинская юность – свет терялся в догадках, тем паче, что Александр всегда отличался скрытностью, а сейчас придворным казалось, что их государь и вовсе ушёл в какую-то глухую, непроницаемую внутреннюю крепость, продолжая, впрочем, оставаться привычно учтивым и приветливым – но ведь царедворцы психологи чуткие, тонкие, они быстро подметили незнакомые прежде странности в поведении царя.
Александр и раньше был чрезвычайно аккуратен и чистоплотен, а с годами – вот именно в этом возрасте, к сорока годам – аккуратность его приобрела какой-то уж чересчур настойчивый характер. Внимание к ремешкам и пуговицам – лишь одно из подобных проявлений; а ещё Александр содержал в необыкновенной чистоте свой рабочий стол, протирал и перепротирал его замшевой тряпочкой, симметрично расставлял на нём письменные приборы… В общем-то все мы суть объекты психоанализа, и в каждом из нас адепты доктора Фрейда найдут солидный набор комплексов, растущих из самых первых дней жизни, о которых ничего не осталось в памяти. Наверняка и по упомянутым косвенным данным опытный аналитик сумел бы хоть отчасти разложить Императора Всероссийского по полочкам – наверняка сказал бы что-нибудь про анальную стадию, на которой зациклилась его психика… Всё это в достаточной степени верно. Но анализ непременно должен завершаться синтезом. В данном случае синтез есть то, что следует назвать «экологией личности»: система «личность-общество», шире – «личность-биогеоценоз». Причём – возьмём на себя вольность заявить, что такой синтез возможен и при ограниченном анализе, как, собственно, вообще в ситуации «чёрного ящика» (он же – «вещь в себе» по Канту). Мы почти не знаем того, что происходит внутри вещи в себе, но знаем, как она взаимодействует со средой, на основании чего можем делать достаточно здравые выводы об её системно-функциональных характеристиках. Потому – даже и без глубокого психологического анализа можно судить о каком-то душевном разладе Александра, о неготовности его к решению тех задач, которые он сам же и поставил перед собой.
При этом возникает резонный вопрос: как же откровение, озарившее Александра, как же Провидение, поведшее его по должному пути?.. Всё это так. И откровение и Провидение имели место в жизни государя – именно они помогли изгнать врагов из отечества, установить мир во всей Европе, заслуженно снискав ему титул Благословенного. Но свет правды Божией не даётся человеку раз и навсегда, его надо хранить и надо добиваться снова и снова, ежедневно, ежечасно – и так всю жизнь. А вот это, видимо, у царя не очень получилось.
Ошибки… Никоим образом не нужно воспринимать это как упрёк. Пусть это будет частным мнением автора: Александр, начиная преобразования, желая видеть свою страну счастливой, сам до конца так и не верил в это.
Он, может быть, и сам не догадывался, что не верил. Но увы! – не верил. Потому, что трудно ему было поверить в людей, своих подданных, и ближних и дальних. Он прошёл слишком суровую школу жизни, научившую его недоверию. Его отягощало прошлое… Это не было его виной. Но вот бедой, по-видимому, стало.
Он не поверил в то, что даже высшие сановники империи проникнутся тем светом Истины, что был ведом ему. Он не решился гласно обсуждать проекты грядущего, ибо страшился, что это вызовет ненужный и опасный разброд мыслей. Он властно пресёк инициативу части дворянства, вознамерившейся было добровольно взяться за освобождение крестьян [5, 228]. Вовсе не потому, что он хотел всё сделать только сам, персонально, и стяжать лавры освободителя – нет, это было бы слишком мелко для него. Он действительно, реально полагал, что это надо делать в тайне, осторожно, скрытно, только самому; разве что ещё Аракчеева посвятить в это – и действительно посвятил… Александру казалось, что он вроде одинокого сапёра на минном поле. Одно неверное движение – и взрыв.
У него были основания думать так. Но то были чисто разумные, рациональные соображения, результаты умозаключений. А свет Истины, тот самый, что когда-то воссиял помимо всякой логики, а может быть, и вопреки ей – этот свет почему-то не блеснул. Александр не решился открыться своей стране, не поверил ей. В неё… И 1816 год стал, видимо, преддверием не меньшего перелома в единой их судьбе, монарха и страны, чем тот, что был в 1812-м. Только перелом этот был невидим и совсем другой.
5
Император стал строже и ещё больше закрыл себя для окружающих на внутренние замки, которые как-то сами собой преобразовались во внешние. Он стал труднодоступен, все доклады ему по государственным делам постепенно сводились к одной-единственной инстанции, через которую государь сообщался со служебным миром…
Инстанцией стал граф Аракчеев.
Нет, Александр не стал совсем уж затворником, но Аракчеев, стушевавшийся было во время войны (у него, как ни странно, обнаружилась «слабость нервов») и зарубежных вояжей государя, теперь, в новые годы вновь стал мало-помалу заслонять для императора весь остальной административный мир.
Всё же граф обладал уникальными менеджерскими качествами. На него роптали, злились, пускали всякие ядовитые прозвища («Огорчеев,» – припечатал фаворита неистощимый остряк Ермолов; девиз же, прилагающийся к графскому титулу, данному ещё Павлом I: «Без лести предан» переделывали в «Бес, лести предан»), наверняка разводили сложные комбинации интриг – а суровый служитель был непоколебим. И укротил-таки строптивых царедворцев, надел на них узду: те часами топтались в его приёмной, ожидая вызовов и распоряжений принципала…
«Приёмная Аракчеева с раннего утра наполнялась государственными сановниками, которые напрасно заставляли дежурного адъютанта доложить об их прибытии графу. Аракчеев обыкновенно сидел за письменным столом, среди груды бумаг, и нередко на двукратные доклады адъютанта не отвечал ни одного слова; наконец, оторвавшись от бумаг, громко звонил в колокольчик и гордо приказывал адъютанту: «позвать такого-то!». На аудиенции граф держал себя со всеми без исключения грубо и дерзко, и чем более лицо было достойно уважения и любимо государем, тем высокомернее было с ним обращение Аракчеева» [18, 140].
Александр и раньше недолюбливал заниматься мелочами, хотя и приходилось – а сейчас он ощутил, что можно все эти бесчисленные и бесконечные заботы переадресовать Аракчееву, который будет держать тяги государственного механизма в жёстком тонусе; самому же отдаться высшим устремлениям, сделать свет благодати непреходящим. Несомненно, Александр полагал эту мистическую связь Бога и самодержца самым важным, самым необходимым условием дальнейшего – тогда благодать прольётся через монарха на всю страну… И он сугубо и трегубо продолжал сокровенные духовные эксперименты.
Часто приходится читать недоуменные комментарии: как так могло случиться, что Александр соединил свою судьбу и память о себе с таким, казалось бы, предельно чуждым ему по духу человеком, как Аракчеев? Добрый, душевный, исключительно обаятельный в общении царь – и грубый, сумрачный, лишённый малейшего проблеска шарма временщик?.. Это действительно может показаться на первый взгляд странным, однако следует всё же смотреть не первым взглядом, но философским – то есть, не удивляясь, ибо на этом свете найдётся место всему. Крайности сходятся; и даже если б Александр с Аракчеевым были крайностями… а пусть бы и не были – им, наверное, так или иначе должно было сойтись. Никто лучше графа не умел держать твёрдой рукой трудную русскую жизнь, особенно же петербургский высший свет, и уж, конечно, никакой другой каменной стены, столь надёжно оберегающей его от всяких лишних беспокойств, император не нашёл бы. Даже Сперанский не сумел бы сделать этого – всё же он был человеком совсем иного административного склада.
Кстати, о Сперанском. Он четыре с половиной года так и пребывал в непонятно каком статусе. В Перми, где он оказался, его сначала сочли как бы преступником – сам государь выслал! – и шарахались от него, как от чумного. Добрались до Урала и Розенкампфовы измышления, в результате чего жизнь опального фаворита сделалась невыносимой… Когда стало, по-видимому, совсем уж невмоготу, он пожаловался царю; тот написал губернатору отношение, где указал, что тайный советник Сперанский вовсе никакой не ссыльный, не злоумышленник – а так просто, временно проживает в Перми. Местное начальство вряд ли что поняло из такой депеши, но ужаснулось, и положение тайного советника вдруг переменилось. Теперь к нему и отправленному вместе с ним его ближайшему сотруднику Михаилу Магницкому все ринулись, как наследники к богатым дядюшкам, наперебой приглашали в гости… Сперанский приободрился, продолжил атаковать царскую канцелярию письмами; император сам прямо не ответил, однако, распорядился перевести бывшего госсекретаря на место жительства, в имение Великополье Новгородской губернии. Говоря современным юридическим языком – поселение Сперанскому заменили на подписку о невыезде.
Это была, конечно, милость, но не такого в глубине души ожидал сановник, привыкший владеть событиями. В деревне он маялся, не находя себе применения: тесно ему там было, что уж говорить… Опытный придворный, он сумел разузнать петербургскую обстановку, убедился, что сейчас там всё делается через Аракчеева – и обратился к нему.
Прежде они не очень ладили, но теперь оказалось, что это не носило принципиального характера. Просто оба ревновали друг друга ко власти – особенно, конечно, Аракчеев, так как Сперанский, вероятно, считал себя незаменимым и на прочих мало обращал внимания… Теперь же всё переменилось, Аракчееву никого ревновать нужды не было, он отнёсся к просьбам Сперанского вполне сочувственно и походатайствовал за того перед императором. Александр не возражал; впрочем, понимал при этом, что возвращать Михаила Михайловича в столицу рано, это так всколыхнёт светское общество, что Бог весть какие последствия могут иметь место… Потому был избран компромиссный вариант: Сперанский отправился губернатором в Пензу. А Магницкий – вице-губернатором в Воронеж.
Надо сказать, что император не просто заслонялся Аракчеевым от докучных повседневных хлопот. Посредством графа он, помимо прочего вразумлял трудновоспитуемых и проштрафившихся – кстати сказать, и Карамзина, на которого сильно обиделся ещё в 1811 году. Тогда историограф, покровительствуемый Екатериной Павловной, встретился с государем, прибывшим к сестре в Тверь, в её резиденцию. Там Карамзин прочёл царю доклад: «Записка о древней и новой России в её политическом и гражданском отношении» [39], где позволил себе конструктивную критику в адрес высочайших деяний… Александр выслушал, всё понял; приходится встречать утверждения, что именно эта записка сыграла решающую роль в переломе отношения императора к Сперанскому: уж если Карамзин выступает в качестве оппозиционера! изящно, деликатно, но всё-таки… Однако, после этого Александр тонко дал прочувствовать учёному своё неудовольствие – и они расстались на пять лет. В 1816-м для того, чтобы придворному историографу пробиться на приём к императору, потребовалось пройти через мягкую, но несомненную выволочку – Карамзин не попал к Александру прежде, чем нанёс визит вежливости Аракчееву. И через два дня оказался в кабинете государя – где был принят с необычайной сердечностью, а до того даже Екатерина Павловна не могла эту проблему решить [5, 236]…
Так как же было Александру не ценить Аракчеева, явившегося несравненным фактором стабильности! И обеспечившим возможность императору заняться духовным творчеством… В этой утончённой сфере на первую позицию самого близкого к царю человека вышел князь Александр Николаевич Голицын.
6
Почему именно он?.. Тому множество достаточно банальных причин, однако же, почему не кто-то из семьи? Не Марья Антоновна?.. Не личный духовник государя, глава придворного священства Павел Криницкий?.. Вообще, надо сказать, что о. Павел (равно как и крестивший младенца Александра о. Иоанн Памфилов!) не оставил какого-либо значительного следа в жизни императора Александра – хотя кто должен быть человеку ближе его духовного отца! Но вот, как-то так получилось, и это «как-то так», видимо, не очень хорошо. А может быть, просто не афишировали свои отношения царь и священник… Но Александр считал важным вести проникновенные разговоры с другими людьми – значит, чего-то не хватало ему, не полон был ландшафт его внутреннего мира. Это, пожалуй, дело естественное: у кого он полон? – вопрос риторический; но в Александре томление духа с годами перешло в усталость, а вот это уже признак тревожный.
Однако, не будем забегать вперёд. Что бы там ни было, князь Голицын сделался первым другом императора. Князь, очевидно, был натура живая, чуткая, тонкая; в юности мастер озорных выдумок и розыгрышей…
Бытует исторический анекдот: однажды молодой камер-паж Голицын побился об заклад с приятелями – такими же повесами – что за обедом (камер-пажи по дворцовому этикету стояли за спинами обедающих) дёрнет за косу парика императора Павла Петровича. И правда – все увидели, как Голицын изловчился, протянул руку и легонько дёрнул за косу, а когда удивлённый император обернулся, что-то шепнул самодержцу на ухо. Тот улыбнулся и кивнул.
Ну, а потом изобретательный шутник признался проигравшим пари друзьям, что шепнул царю: мол, коса сбилась в сторону, я поправил… «А, спасибо, дружок!» – ответил Павел Петрович. [44, т.3, 95].
С годами шаловливая живость характера преобразовалась в духовную жажду, источником утоления которой стала религия. Немало поспособствовал этому известный тогда мистик Родион Кошелев… Князь сделался искренне верующим человеком – и это даже обрело солидные служебные формы. В 1803 году Голицын стал обер-прокурором Синода, то есть высшим государственным чиновником, надзирающим за деятельностью церкви. С царствующим другом ему случалось говаривать по душам задолго до того, как Александр пережил то сокровенное – и задушевные беседы, конечно, постепенно подготавливали императора, рыхлили почву его будущего обращения…
Позже сам Голицын вспоминал, как вдвоём они с государем ехали в открытой коляске; был чудесный весенний день: синее небо, нежная юная листва, тёплый ветерок… Александр умилился, долго созерцал прелестный ландшафт, а затем вдохновенно молвил: «Послушай, князь… от чего это делается, что ясность небесная, тихое колебание вод, освежение, доставляемое нам зеленью дерев, располагают нас к каким-то сладостным чаяниям и влечениям. Вопреки моего разума… я невольно ощущаю в себе это влечение поддаться и водворить в себе освежительные принципы религии».
На это обер-прокурор отвечал строго:
«Напрасно, Государь… вы некоторое спокойствие сердца, некоторую мирность духа принимаете за проявление необходимости поддаваться чему-либо. Это просто пришлое чувствование…»[5, 174]
Методологически, так сказать, Голицын совершенно прав: от умиротворённости перед красотою мира, рождающей неясно-волнительную мысль о Высшем, до настоящей веры – как от графита до алмаза, при том, что и то и другое являют собой один химический элемент. Но вот практически… Практически сам князь так и не дошёл до такой веры, ясной и спокойной. Шёл к ней, всей душой хотел дойти… но не дошёл.
Поиск истины – прекрасно! тезис, не поддающийся полемике. Однако, всё же должен он завершиться самой истиной, а уж если так и обречён оставаться поиском… Князь Александр Николаевич мечтал о всемирном, внеинституциональном христианстве, свободном от исторических шор – и это опять-таки абстрактно верно; абстрактно потому, что являет собой схему, а не полноту образа. Те самые социальные, исторические институции, в которые замыкается дух, движущийся по времени, возникают ведь не только от недомыслия, слабостей человеческих, хотя и от этого тоже… Вернее будет сказать, что в нашем бедном, полупризрачном мире, ослабленном вирусом греха, люди, очевидно, способны удержать дух, лишь охватив, окружив его какой-то общественной оболочкой, будь то конфессия, церковь или государство. Впрочем – никто не запрещает человеку искать истину в тишине уединения, но то особый подвиг, мало кому доступный. Церковь же как особый род социума, какой бы грубоватой она ни показалась бы какому-нибудь утончённому мистику, вовсе не есть политическая или в подобном роде хитроумная выдумка. Церковь, будучи ограниченной и преходящей формацией, так или иначе помогает сберечь – по-разному в разных частях света – то главное, что делает нас всех людьми…
Голицын почему-то не оценил того, как перегородки меж конфессиями пусть вынужденно, но несут позитивную охранительную функцию. Он усмотрел в них не более, чем досадные человеческие слабости и промахи – что, безусловно, имело (и имеет) место; но, однако же, нельзя видеть в сложившихся социальных формах только упадок, органически присущий нашему миру. Они оттого и сложившиеся, устоявшиеся, что в оптимальной степени отвечают земным условиям, этой или той эпохе или стране. Если угодно – церковь суть коллективное надсознательное народа, меняющегося во времени вместе с тем, как меняется всё, что отчуждено от вечности…
Давние близкие друзья – император Александр и князь Александр пустились в необъятные просторы духовного познания. Они искали правды у сект и отдельных людей, заинтересовались квакерами – христианской общиной, в XVII веке возникшей в Англии, но впоследствии большей частью перебравшейся в Америку…
Вообще-то эти люди называли себя «Общество друзей» – Society of friends [70, т.1, 720], а квакерами (quakers), то есть трясунами, их прозвали недоброжелатели за культивируемый «друзьями» мистический экстаз. Однако, полунасмешливое это прозвище прижилось, да и сами они ничуть не обижались.
Квакеры учат, что в состоянии экстаза они достигают «внутреннего света», непосредственно сообщаясь при этом с Богом. Нетрудно заметить, что это отчасти напоминает православный исихазм с его Фаворским светом – хотя квакеры, конечно, далеки от монашества и, соответственно, от афонских мистических технологий. Пути разные – но цели очень схожи… И социальная доктрина квакеров чрезвычайно миролюбива. Следует признать, что слово у них с делом не расходится: они на редкость кроткие, безобидные люди; и это, однако, не мешает им вести активную, напористую миссионерскую деятельность.
Понятно, что Александр с Голицыным не могли пройти мимо такого феномена: заинтересовались, завязали контакт – ещё в 1814 году, во время визита императора в Англию; квакеры охотно откликнулись, их эмиссары прибыли в Россию и были удостоены высочайшей милости; по некоторым данным, Александр участвовал в совместных с ними молениях [32, т.5, 429]. Будучи людьми любознательными, квакеры живо заинтересовались русскими сектантами – скопцами, хлыстами и другими… наибольшей симпатией прониклись к молоканам, тоже на редкость смирным искателям благодати Божией.
Явилось нечто похожее и доморощенно, на петербургской почве. Аристократическая дама Екатерина Татаринова, урождённая баронесса фон Буксгевден, вдруг ощутила в себе пророческий дар, также достигаемый в процессе напряжённого радения [70, т.3, 9] – и принялась самоотверженно служить персонально обретённому Богу. Пророчества г-жи Татариновой доподлинно неизвестны; как именно ей удалось заглянуть в будущее – дело туманное, свидетельские же показания доверия не вызывают… Однако, отлично известно, что сей религиозный труд вызвал немалое сочувствие в обществе, в кружок баронессы притекали люди с самых разных социальных сторон. Аристократы, военные, художники – например, знаменитый Владимир Боровиковский, простолюдины, чиновники разных рангов – полная демократия… Особым почтением, кроме самой Татариновой, пользовался некто Никита Иванович Фёдоров, для своих просто Никитушка – бывший музыкант военного оркестра (бил там в барабан). Он также считался пророком, к тому же юродивым, его выкрики в состоянии восторженного экстаза воспринимались с напряжённым вниманием, подвергались глубокомысленному анализу… Собственно, практиковали такое многие: «…вдохновенные до исступления, кому вздумалось, иногда мужик или простая девка, и болтали всякий вздор, а прочие слушали их внимательно, стараясь уловить какой-либо смысл в этой импровизации. В заключение беседы вся братия, едва передвигая ноги, спешила к трапезе, которую нередко посещал сам министр духовных дел» [32, т.5, 338] – но Никитушка в этом деле был всё-таки чемпионом.
Голицын действительно к группе Татариновой отнёсся хлопотливо и заботливо, даже помог получить помещение для собраний не где-нибудь, а в Зимнем дворце! – шутка сказать. Это, разумеется, было бы невозможным без позволения царя – Александр покровительствовал мистикам всяческих толков, надеясь, вероятно, почерпнуть крупицы истины из различных источников. Опять попал в зону высочайшей благосклонности Лабзин, с годами пришедший к единству веры и разума в духе Фомы Аквинского: «Церковь Христова беспредельна… что разум понимает неясно, то утверждает вера» [30, 118]. Он возобновил издававшийся ранее (в 1806 году) журнал «Сионский вестник». А 12 декабря 1816 года, в день рождения государя, Лабзин удостоился ордена св. Владимира 2-й степени.
Позже, правда – в 1822 году – мистик со стажем угодил в опалу. Описания этого трагикомического случая в разных источниках несколько расходятся – по мелочам, впрочем; суть же новеллы слишком очевидна. Сошлёмся на М. И. Богдановича – в его «Истории царствования императора Александра I» изложено следующее.
Лабзин со временем почему-то стал вице-президентом Академии художеств. В данном качестве он присутствовал на заседании этой почтенной организации, когда её президент граф Алексей Оленин вдруг предложил избрать в члены трёх вельмож: Аракчеева, Гурьева и Кочубея. Как отреагировали на это предложение прочие академики – неведомо, а вот Лабзин воспринял оригинальное предложение остро, повышенным тоном интересуясь: а какими, собственно, достижениями в области изящных искусств отметились сии высокопоставленные лица?.. Тут академики, надо полагать, на всякий случай онемели, а президент Оленин сурово заметил, что Гурьев, например, близок к государю.
Лабзин немедля подхватил эту логику – а почему бы в таком случае не избрать академиком царского кучера Илью Байкова? Тот находится ещё ближе к государю, к тому же, как известно, государь недавно соизволил зайти к Илье в гости в знак особого расположения…
Шутка по тем временам неприличная – и уж, конечно, доброхоты мигом донесли её до Александра. Тот тоже решил, что Лабзин сострил неудачно и дал понять, что неплохо было бы извиниться перед Гурьевым.
Однако, христианского философа вдруг обуял бес гордости; а может быть, он и вправду настолько всерьёз лелеял свои принципы?.. – так или иначе, но извиниться он отказался, в результате чего убыл на постоянное место жительства в город Сенгилей Симбирской губернии.
Но то было много позже…
Тогда же, в 1816-17 годах, высшее общество только-только уловило настроения императора – и мистицизм сразу завертелся в вихре светской моды. Воспрянуло масонство, в нём возникли новые течения, что вызвало неудовольствие и ворчание со стороны ветеранов невидимого фронта, крайне ревниво отнёсшихся к напористой, нетерпеливой молодёжи [50, 346]. Не осталась в стороне от актуальной тематики и церковная иерархия: там интерконфессиональный мистицизм императора и Голицына приветствовать не могли в принципе, но вслух о том заявить не решались; только молодой монах Фотий, преподаватель Закона Божия в кадетском корпусе, «возвысил вопль свой, яко трубу», как сам описал этот случай – он вообще изъяснялся с причудливой образностью… К чему всё это привело: и вопль Фотия, и масонство нового поколения, и туманные искания самого Александра – будет показано позже. Сейчас же необходимо проследить ещё одну линию исканий.
7
Царская доля – войны, конгрессы, дипломатия – сделала из Александра странника. Особенно те решающие, перешедшие во вселенскую победу годы… Он привык жить в дороге. Но все эти странствия, и вынужденные и приятные, протекали на чужбине: император повидал множество стран, городов и людей – и наверняка не без горечи думал о том, что своей родной страны он, в сущности, не знает. Петербург с окрестностями, Москва, да немного Вильно, которое, что уж там говорить, не совсем Россия – вот практически все маршруты Отечества, воочию знакомые его главе… А когда он, глава, взялся за послевоенное обновление государства и с ещё большей горечью обнаружил бесконечные неустройства и несносную человеческую бессмыслицу, то, конечно, не мог не подумать: а что же творится там, в глубине… И он, человек духовно пробуждённый, ищущий и совестливый, решил отправиться по нехоженым, неведомым ему дорогам своей страны.
Да и, правду сказать, в этих поездках: просторы, горизонты, свежий ветер в лицо!.. – он, наверное, просто отдыхал от придворной петербургской атмосферы, в которой ему и раньше-то было душно, а теперь стало, очевидно, ещё тяжелее.
В первое обширное путешествие по Руси император отправился в самом конце лета 1816-го (впоследствии это стало традицией – выезжать в вояж так, чтобы в день тезоименитства, 30 августа, оказываться в Москве или близ неё). Разумеется, не обошлось без Москвы и в тот, первый выезд – Александр ещё не был в старой столице после войны, а точнее, со дня того самого массового июльского ликования. И на сей раз – история сохранила множество свидетельств – царя встретили с тем же верноподданным восторгом, возгласами радости, любви, даже поцелуями… почти идиллия. Император сказал немало добрых, прочувствованных слов в адрес и Москвы и москвичей, восстановивших удручённый былыми бедствиями город; особенная благодарность прозвучала генерал-губернатору Тормасову, бывшему командующему 3-й армией. 30 августа, ровно через два года после того, как генерал возглавил «белокаменную», он был возведён государем в графское достоинство [6, 10].
Один высокопоставленный чиновник во время московского визита государя удостоился высокого отличия; другой, ещё более высокопоставленный, но в прошлом – неожиданно для многих монаршей волей был возвращён из небытия: именно тогда же, 30 августа, был объявлен высочайший указ, которым тайный советник Михаил Михайлович Сперанский назначался губернатором Пензенской губернии.
Это было как гром среди ясного неба – и вызвало немалый переполох. Нашлись такие, кто сравнил второе явление Михайлы Михайловича с бегством Наполеона с Эльбы [5, 239]… Впрочем, понервничав, ревнители вскоре поуспокоились, видимо, на свежую голову рассудив, что Пенза не Петербург, и пугаться нечего. А Александр, наверное, мог поздравить себя с проницательностью: он слишком хорошо помнил весну 1812 года! если уж задумал вернуть бывшего фаворита, то здесь и Аракчеевского заступничества может не хватить; делать это надо крайне умеренно, аккуратно, обходными путями… Так и сделал, и оказался прав.
Из Москвы Александр отправился в Тулу, новый для себя город. Там, в день тезоименитства, 31 августа, он объявил об отмене в текущем году рекрутского набора в армию.
Рекрутская повинность, введённая Петром I в 1705 году, просуществовала в России до 1874 года, когда была заменена на всеобщую воинскую обязанность. Схема набора, многократно меняясь, оставалась сложной; Александр постарался навести в этом деле порядок. Ещё в 1810 году им был утверждён Рекрутский устав, определяющий правила набора в зависимости от количества взрослых мужчин в семье. При этом, разумеется, повинности не подлежали дворянство и духовенство [59, т.11, 1004].
За время царствования Александра набор им отменялся дважды, причём два года подряд: 1816-17-й. Затем возобновился…
Из Тулы император продолжил путь на юг. Побывал в Чернигове, а оттуда направился в Киев.
С недавних пор Александр полюбил бывать в монастырях – в их возвышенно-мистической атмосфере он, несомненно, улавливал то, к чему так стремился в последние годы, искал и всё никак не мог найти… И вот поиск завёл его в Киево-Печерскую лавру, к известному монаху, слепому схимнику Вассиану, беседа с которым (заметим: 8 сентября, ровно через четыре года после той самой ночи!..) сама собою перетекла в исповедь – не царь разговаривал с одним из подданных, а христианин открывал душу духовному отцу. Насколько открыл? Сумел ли найти в себе мужество – подвергнуть свету исповеди самые дальние, самые тёмные углы и закоулки души, куда и сам страшился заглянуть?..
Не знаем.
Конечно, из Киева в дальнейший путь, теперь уже на запад, в Гродно, а потом в Варшаву, путник ехал просветлённый и утешенный – в том сомневаться нечего. Но вот надолго ли!.. Что говорили ему предчувствия? Незачем сомневаться в том, что император Александр хотел заглянуть в будущее. И что же?..
Да ничего. Вот – по осенним равнинам катит коляска с кучером Ильёй на облучке, следом скачет свита. В коляске – немолодой уже, погрузневший, поседевший, с большой залысиной со лба, но всё ещё стройный рослый белокурый человек в строгом генеральском мундире. Он близоруко смотрит вдаль, с грустью замечает признаки осени: сжатые поля, первые облетающие листья – в лесах уже просветы не по-летнему, и небо тоже не по-летнему далёкое и синее…
Конечно, это домыслы. Хотя – что тут не так? Всё так: вот осень, небо, горизонт. Через тридевять земель своих владений мчится император Александр, пыль клубится над дорогой… День за днём – всё бежит, всё меняется, и так неуловимо – вроде бы и оглянуться не успел, а жизнь уже не та. Ушёл из жизни князь Салтыков, человек, которого Александр привык видеть рядом с собой столько, сколько помнил себя; уехала навсегда на родину матери, став принцессой Вюртембергской, любимая сестра Екатерина. Выросло младшее поколение сестёр и братьев: вышла замуж за голландского принца Анна Павловна, подошла очередь свадеб Николая и Михаила – старший брат за делами и не заметил, как они из подростков стали юношами… За годы большой политики Александр изо всех европейских монархов ближе всего сошёлся с Фридрихом-Вильгельмом: так уж получилось, что часто вдвоём делили они пути-дороги, успехи и горести. Всякое было на этих путях – лукавство, обиды, даже формально воевали друг с другом… Но война эта была скорее каким-то нелепым недоразумением, а помнили оба и клятву над гробом Фридриха Великого и прекрасную королеву Луизу, и совместные поражения, и победы, и, наконец, совместный триумфальный въезд в Париж – разве такое забудешь!.. И потому совершенно естественно, что монархи наконец-то породнились: брат Александра Николай и дочь Фридриха-Вильгельма Шарлотта (или Каролина, а в православии Александра Фёдоровна) в июне 1817 года стали мужем и женой.
Да, жизнь менялась. Вот уже и сорок – переломный возраст. Чувствовал это Император Всероссийский? Перелом в жизни, перелом в судьбе всего царствования, всей Александровской эпохи?.. Да был ли он вообще, перелом этот?!
8
Ещё 25 декабря 1812 года, в праздник Рождества – когда официально завершилась Отечественная война (соответствующий манифест был высочайше утверждён), родился и другой императорский указ: о возведении в Москве в память победы храма Христа Спасителя, ибо не кто иной, как сам Спаситель, Логос, второе лицо Святой Троицы простёр покров защиты над русскою землёй и спас её от врагов.
Должно заметить, что автором идеи явился генерал П. А. Кикин, он поведал о ней Шишкову [5, 193], а уж от того дошло до Александра и было с чувством подхвачено. Храму Христа Спасителя быть! – так решил монарх и повелел объявить конкурс на лучший проект будущего храма.
Александр Лаврентьевич Витберг был обрусевшим шведом, сыном солидного буржуа из Стокгольма, при Екатерине II прибывшего в Россию расширять бизнес. При рождении, впрочем, сын предпринимателя был наречён Карлом, а одноимённым императору сделался позже, добровольно перекрестившись в православие – видимо, утончённому, художественно одарённому юноше лютеранство показалось тесным и скучным… Не миновал он и масонства: обычный ход мыслящего и ищущего человека той поры. Творческий же дар привёл молодого мечтателя в Академию Художеств, которую он окончил в 1809 году со всеми возможными медалями и отличиями; большую золотую медаль получил за выпускную работу в строго классическом стиле – картину «Андромаха, оплакивающая Гектора». Талант и трудолюбие сделали Александра Лаврентьевича одним из лидеров русского искусства, и потому немудрено, что в 1813 году он получил крупный заказ на серию портретов героев Отечественной войны, став почти придворным художником; во всяком случае, приобрёл доступ в высшие сферы. Именно – к Голицыну.
Будучи оба мистически настроены, художник и вельможа, что называется, нашли друг друга и много толковали о всяком… В этих беседах и зародилась мысль принять участие в конкурсе, хотя Витберг был чистым живописцем и до того архитектурным творчеством не занимался. Но идея величественного храма так захватила художника, что он с увлечением взялся за новое дело, быстро изучил его – благо, базовое образование имеется – составил проект и представил на конкурс…
И выиграл!
Государь всей душой принял проект Витберга – наверное, тот облёк в форму то, что у самого Александра Павловича неясно клубилось в душе… А тут увидел чертежи и сразу понял: вот оно! то, что надо.
Храм Витберга должен был стать необычайно огромным: предполагаемая высота примерно 240 метров. Это и по нынешним-то временам размер более чем солидный, а по тогдашним… здание обещало стать величайшим в мире материальным творением рук человеческих. Однако, не размерами, вернее, не только размерами проект пленил Александра. Император глубоко воспринял символику сооружения, три яруса которого олицетворяли три этапа земной жизни Спасителя. Нижний – в плане представляющий собой паралеллограмм, создавался во имя Рождества Христова; средний, в форме креста – во имя Преображения Господня; верхний – круглая колоннада – во имя Воскресения. И архитектор и царь, должно быть, очень живо представляли в своём воображении, какое мистическое воздействие будет оказывать храм на побывавших в нём, какими духовно преображёнными, отринувшими греховные и пустые помыслы, будут выходить оттуда люди…
Проект Витберга был безоговорочно утверждён. И тогда естественным образом возник следующий вопрос: где строить? Понятно, что при такой высоте купол собора царил бы над Москвой в любом случае, в каком месте ни построй; однако, возобладало желание сделать взлёт купола максимальным.
Москва – город довольно плоский, перепад высот здесь сравнительно невелик. Самое высокое место – Воробьёвы горы, само название которых невольно несёт в себе некоторую контрадикцию с усмешкой: мол, такие горы только воробью впору считать горами… Но уж какие есть, других всё равно не будет. И несмотря на осторожные разговоры о том, что песчаные холмы на правом берегу Москва-реки могут не выдержать возводимого чуда, строить решили всё-таки здесь.
12 октября 1817 года – в пятую годовщину ухода французов из Москвы состоялась закладка фундамента в присутствии государя. Явилось роскошное общество, была отслужена литургия, затем состоялся крестный ход. Архиепископ Августин произнёс речь; все величали Александра Благословенного, а он сам наверняка думал о том, что это станет символом его царствования, что спустя годы, много, много лет, люди других эпох, задрав головы и жмурясь от золотого блеска куполов, будут помнить, что Спаситель мира некогда спас и Россию. И может быть, кто-нибудь вспомнит и о том, что благодарный хранитель Земли Русской, император Александр I воздвиг в память о чуде спасения этот храм…
О ненадёжности грунта на Воробьёвых горах не забывали – потому к строительству подошли чрезвычайно тщательно, и размах его обозначился нешуточный с самого начала. Средств не жалели.
Витберг, как истинно творческая личность, был человек, живший вдохновением, мысль его обитала в сферах горних, а вникать в земные проблемы гнушалась: для того есть помощники, исполнители, подрядчики и рабочие… Он же, творец, питался идеей храма, как Аполлон амброзией.
Всё это замечательно для свободного художника, а вот когда человек с таким душевным устройством назначается начальником строительства, где необходимо нести материальную и финансовую ответственность… это практически всегда обещает немалые сложности. К тому же у Александра Лаврентьевича, видимо, случилось головокружение от успехов: душевное единство с монархом и его доверие он воспринял как знак Провидения и возгордился; при том был нетерпелив и упрям, слушать никого не желал, держал себя задиристо и дерзко. Ясно, что при таких манерах он мигом нажил себе в высшем обществе изрядный массив недоброжелателей. А уж что-что, а интриги плести в свете умели… И скоро архитектор весь оброс вздорными и нелепыми слухами и сплетнями. Доходило, разумеется, и до самого царя; правда, Александр знал цену таким источникам и не очень обращал внимания на них. Но вот уж на что никак нельзя было не обратить внимания, так это на хищения и злоупотребления, буйно и пышно расплодившиеся на строительстве. Сам Витберг был человеком абсолютно честным, ни копейки казённой не потратил зря, но вот в финансово-хозяйственную часть не вникал – умственный взор его, устремлённый в трансцендентную высь, жуликов-подрядчиков и жуликов-чиновников просто не замечал. А они почуяли раздолье – и пустились во все тяжкие, воруя немилосердно… Вдобавок ко всем невзгодам подтвердились наихудшие технические опасения: выяснилось, что под таким громадным зданием непрочный берег всё-таки просядет.
Дело встало. По опустевшей стройплощадке ветер летом гонял пыль, осенью – облетевшие листья, зимой по ней мели метели… Вот, собственно, и всё.
Можно ли историю этого строительства считать символической?.. Вопрос, на который каждый волен отвечать по-своему.
А Витберга, увы, злая судьба не оставила в покое. Злоключения возвышенной души, увязшей в липкости житейских дрязг, только начинались. Но то, что было с архитектором потом – уже другое время и другая история.
Глава 10. Что есть истина?
1
Во время первого послевоенного визита в Москву, перед тем как отправиться в Тулу, Александр, милостиво откликаясь на верноподданный энтузиазм жителей, пообещал, что в следующий раз он приедет в старую столицу надолго – и слово сдержал: приехал в октябре 1817-го и гостевал без малого полгода, до февраля. Закладывалась ли в то заранее патриотическая символика, или само вышло так?.. – как бы ни было, это посещение отметилось чёткими пограничными вехами: приезд – открытие строительства на Воробьёвых горах; отъезд – открытие памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади… Здесь можно, конечно, пуститься в ходульную каббалистику, усматривая в действиях Александра глубинные смыслы, но, пожалуй, делать это незачем. Торжественно открыли памятник, день был метельный, вьюжный, настоящий февральский московский день… Есть нечто запоминающееся, нечто мощное, волнующее, тревожное в буйстве зимней стихии – и, должно быть, Александр запомнил день открытия памятника надолго.
В Москве император напряжённо готовился к очень важному для себя событию: первой сессии польского сейма (парламента). Как Царь польский, Александр, конечно, обязан был присутствовать на первом торжественном заседании – это полагалось сделать ему по статусу; однако, он не собирался просто отбывать номер. Напротив: он должен был открыть сейм речью первого лица власти, и вот эту самую-то речь и планировал сделать программной, высказать своё мировоззренческое кредо. Бесспорно, он рассчитывал на мощный резонанс – к «Агамемнону», Царю царей внимание приковано всегда, речь в сейме стала бы слышна по всей Европе – и потому император готовил её тщательнейшим образом (о некоторых драматически-курьёзных особенностях этой подготовки ещё будет упомянуто!..), выверяя каждое слово. Помогал ему Каподистрия, при этом не робел отстаивать собственное мнение; Александр, конечно, прислушивался к умному советнику, но в том, что считал принципиальным, деликатно настоял на своём. Трудная работа продолжалась и в самой Варшаве, куда император прибыл в начале марта 1818-го, окончательный вариант родился (на французском языке) накануне открытия сейма, едва ли не в крайний день. Он, этот вариант, и был озвучен 15 марта на торжественном пленарном заседании, знаменовавшем возрождение польской государственности, польского парламентаризма и – как надеялся Александр, начало русского, точнее всероссийского… Говорилась речь, естественно, тоже по-французски, а на русский перевёл князь Пётр Вяземский. Этот перевод известен исторической науке по сей день.
«Представители Царства Польского!.. Докажите вашим современникам, что свободные учреждения, коих священные начала покушаются смешивать с разрушительным учением, враждебным общественному устройству, не мечта опасная; но что, напротив того, такие учреждения, приведённые в исполнение с чистым сердцем, к достижению полезной и спасительной для человечества цели, совершенно согласуются с общественным порядком и утверждают истинное благосостояние народов… Наконец, да будет с вами неразлучно чувство братской любви, нам всем заповеданное божественным законодавцем…
Воздадим благодарение Тому, кто Единый просвещает царей, связует братскими узами и ниспосылает на них свыше дары любви и мира.
Воззовём к Нему; да благословит и упрочит Он наше дело!» [32, т.5, 374]
Это – квинтэссенция речи; вероятно, это и есть то, ради чего она произносилась. Если так, император Александр достоин восхищения, не меньше и не больше: в этих словах он с силой умной и страстной убеждённости попытался опровергнуть косный и опасный стереотип, к тому времени вполне осевший и утвердившийся во многих европейских умах, считавших себя передовыми. А именно: христианство эти умы отождествляли с навсегда уходящим прошлым, тёмными суевериями, деспотизмом, несвободой мысли, социальным закабалением… словом, со всеми худшими чертами Средневековья. И наоборот – окрылённый, ясный разум, счастливое свободное человечество рисовались безо всякого религиозного присутствия. Говоря обобщённо, мысль прогрессистов полностью противопоставляла христианство и свободу. Одно исключает другое: либо христианство и рабство, либо свобода и атеизм («афеизм» – говорили тогда). Разумеется, до таких Геркулесовых столбов добирались не все, имели место различные и множественные промежуточные стадии, более осторожные и оглядчивые… однако, тенденция была совершенно явственной.
А как же – не должен остаться без внимания вопрос – а как же страшный опыт Французской революции, показавший, в какое невыразимо страшное зрелище обращается «освобождённый» человек?.. Выше говорилось, какое объяснение перегибам революции нашли потомки «просветителей». Такое же незатейлвое, что и они сами: это, заявили они, пережитки прошлого. Пережитки! – тьма, выплеснувшаяся из сознания тёмных людей, не готовых к свободе.
Понятно, что этим можно объяснить всё. Люди, всю жизнь прожившие при деспотии, свободу восприняли безобразно потому, что по-другому просто не могли. Значит, свободу нужно внедрять не столь резко, это была ошибка; постепенно, по шагам… А иные из новых освободителей и во французском опыте не увидели ничего плохого, жалея лишь, что тогдашний Конвент не довёл дело до конца, то есть отправил на гильотину не всех.
Разумеется, так тоже рассуждали не все. Однако антиномия христианства и свободы, идея из прошлого, упорно проникала в будущее. Вот против неё и восстал Александр. Ему, обретшему Истину, всё было ясно раз и навсегда: истинная свобода возможна только во Христе; но огорчало, что этого никак не поймут другие. Что призраки и химеры недавнего прошлого – казалось бы, безжалостно опрокинутые новейшей историей, наглядно продемонстрировавшей их страшную природу, и оттого должные рассыпаться в прах – оказывается, удивительно живучи… И варшавская речь стала молитвой о сокрушении призраков, а вместе с тем и молитвой о восстановлении настоящего христианства из исторических его завалов. Ибо что ни говори, а многие, называвшие себя христианами, сильно приложили руку к тому, что религия и свобода стали восприниматься как антонимы.
Свобода, равенство и братство – лозунг революции. Прекрасные слова! Напрасно многие и поныне иронизируют, утверждая, что эта триада суть примерно то же, что лебедь, рак и щука: дескать, если есть свобода, то невозможно равенство, а если вводить равенство, то надо позабыть о свободе, а о братстве и вовсе речи нет… Подобные силлогизмы, впрочем, не одно только софистическое остроумие – все видели, во что превратилась политика под этим девизом. Но отчего?! Отчего так получилось? – риторически вопрошал император Александр – и отвечал себе и всему миру: оттого, что прекрасный призыв был поднят над пустотой безбожия, и в принципе не мог быть достигнут. Безбожие (пусть даже полурелигиозность) – среда, в которой реакции духовного синтеза либо невозможны, либо ослаблены; вот оттого-то и выходит всё незавершённым, всё в полураспаде: или свобода без равенства, или равенство без свободы… Но пространство веры может чудесным образом всё это изменить – в нём и свобода, и равенство, и братство станут едины, нимало не мешая и не противореча друг другу и самой вере.
С таким программным концептом Александр вступил в большой европейский сезон 1818 года, венцом коего должен был стать конгресс Священного Союза – там, на конгрессе и выяснится, состоялся ли Союз как прообраз будущего вселенского единства, именно такого, каким оно рисовалось русскому императору… А пока, до конгресса, царь осторожен, даже чересчур осторожен. Он чувствует, что его идеи проникают в общество, вызывают там живой энергичный энтузиазм. Формируется класс-не класс, но прослойка элиты, солидарная с императором относительно социальных целей. Как правило, это люди образованные и мыслящие, с творческой жилкой: герой Отечественной войны генерал Милорадович, командующий русскими оккупационными войсками во Франции граф Михаил Воронцов (сын посла в Лондоне и племянник министра), генерал Михаил Орлов, сын младшего из знаменитых братьев, Фёдора Орлова; братья Николай и Александр Тургеневы; причём блестящий молодой интеллектуал, экономист Николай Тургенев, уже написал к этому времени солидный научный труд «Опыт теории налогов». Такими были и лицейские профессора Иван Кайданов и Александр Куницын (любимый педагог Пушкина)… Так что царь творил не в социальной пустоте, его мысль готовы были подхватить пусть не очень многие, но толковые дельные люди, наверняка бы сумевшие составить мозговой центр не хуже, а то и получше Негласного комитета. И сам Александр, конечно, не мог этого не видеть, не понимать. Конечно, не мог! Но…
Но он наложил запрет на статью Куницына в «Сыне отечества», увидев в ней рискованную остроту мыслей. Он ополчился на выступление губернатора Малороссии Волконского-Репнина – тот высказался вслух о необходимости постепенной отмены крепостничества. Он счёл сумасшедшим некогда знакомого ему отставного офицера Бока, предложившего свой личный конституционный проект… Правда, в этом последнем случае основания для диагноза присутствовали более чем весомо.
Лифляндский дворянин Тимотеус фон Бок начал службу в ранние Александровские годы, и царь его отличал, давал некоторые ответственные поручения. Воодушевлённый доверием, лифляндец возомнил себя государственным умом: принялся сочинять всяческие записки и доклады, которые отсылал прямо в царскую канцелярию; там, ознакомившись с этими опусами, насторожились – почувствовали, вероятно, что-то неладное, и поскорее отправили добровольного советчика в отставку.
Он вернулся в Лифляндию, поселился в своём поместье, жил тихо-мирно, а когда император негласно отменил в Прибалтике крепостное право, воспрянул и вспомнил старое. Составил конституционный проект из 52 пунктов и отправил государю.
Что такого могло содержаться в этом проекте?! Ведь Александр старался быть с людьми как можно мягче (он мог вспылить, но тут же отходил и просил прощения за несдержанность); но фон Бока после этого его выброса творческой активности повезли на принудительное лечение в Шлиссельбургскую крепость: других психиатрических учреждений тогда в России, увы, не было…
При этом полным ходом продолжалось строительство военных поселений; при этом – недаром упомянут Негласный комитет! – Александр вызвал к себе Новосильцева и поручил ему составить проект конституции (Государственной Уставной грамоты Российской империи). Что же это? Как понять странную двойственность императора?..
Понять просто, ибо по внимательном рассмотрении странности никакой нет. Император всё никак не мог поверить в то, что общество, страна готовы к переменам. И дело не только в отчаянном сопротивлении крепостников, которое Александр, конечно же, предвидел. Предвидел он другое – или, сказать точнее, опасался своего предвидения; хотел бы, чтобы оно не сбылось, но в глубине души – куда ему, наверное, не очень-то хотелось заглядывать – побаивался…
Того, что эта самая «болезнь века» никуда не делась, и от варшавской речи призраки не рассеялись. По-прежнему – Александр чувствовал, что по-прежнему мир насыщен миазмами опасных заблуждений, ложной свободой совокупно с безверием, насилием, агрессией; и жутко было думать, что даровав гражданские права, он, император Александр, лишь плеснёт горючего в тлеющий злой костёр, который вдруг полыхнёт до небес…
Священный Союз! Вот что должно обеспечить – не сразу, не по мановению волшебной палочки, но должно – ту самую среду, где синтез веры и свободы станет естественной социальной реакцией. Поэтому император придерживал ретивых, занимался повседневными делами, опять путешествовал по стране, на сей раз большей частью по югу: Бессарабия, Одесса, Крым… и с нетерпением ждал осеннего конгресса. Там, надеялся он, многое станет ясным.
2
Вестфальский город Ахен (иногда пишут: Аахен) – самый западный населённый пункт Германии, на стыке трёх границ: с Бельгией и Голландией. Долина Рейна, перекрёсток племён и народов… Сегодня небольшой городок почти незаметен на фоне соседних Кёльна, Дуйсбурга, Дюссельдорфа, но когда-то… О, когда-то! История Ахена – история Европы.
Ещё Бог знает в какие времена добравшиеся сюда римляне обнаружили здесь источники целебных минеральных вод. Люди практические, они быстро организовали лечебницы, укрепляли здесь своё здоровье… Затем наступившие тёмные века накрыли весь западноевропейский мир мраком, и проступил из него город Ахен лишь в самом конце VIII столетия, вместе с Карлом Великим, собственно и вытащившим этот мир из оскудения. Именно в Ахене Карл утвердил свою резиденцию – город стал своего рода рабочей столицей императора. Далее, правда, у Священной Римской империи были другие столицы – но короновались императоры непременно здесь; здесь же было одно из мест заседания имперского сейма. Так что город был на виду, процветал, и длилось это цветение вплоть до Реформации и религиозных войн [10, т.5, 564].
Тот страшный век прошёлся по Европе смертной метлой, и после него в мире что-то изменилось навсегда. Явилось новое, прежде невиданное и неслыханное, что-то сгинуло без следа, что-то пропало, но возродилось, а что-то не пропало, но ушло в тень нового, молодого, амбициозного и агрессивного… Такое случилось и с Ахеном. Он стал заштатным городом, живущим памятью о прошлом, городом-памятником.
Видимо, в знак былых имперских заслуг первый конгресс Священного Союза решено было провести здесь.
В самом конце сентября государи и министры съехались в Ахен. Англию представлял Каслри, Россию, Австрию и Пруссию – монархи (министры, разумеется, тоже были здесь). С момента провозглашения Союза прошло три года. Каков результат проделанной работы?..
Вопрос вроде бы простой – но вот ответ трудный. Как оценить эти три года? С одной стороны – да, несомненно, Европа успокоилась. Но, во-первых, кто знает, может это лишь сравнительное ощущение – после Наполеона, вероятно, и герцог Альба показался бы столпом стабильности, и три года все только и делали, что мало-помалу отходили от пережитых потрясений. А во-вторых, что-то не наблюдалось за эти три года настоящего, активного возврата к христианским ценностям – суть того, чего ради и образовывался Союз. Конечно! – и наверное, Александр не раз старался убедить себя в этом – можно делать ссылку на первоначальный этап, когда в сердцах и умах свершается незаметная работа, исподволь накапливается то самое количество, что непременно должно перейти в качество…
На конгрессе Александр надеялся увидеть это новое качество.
Но с самого начала выявились разноречия между его возвышенным настроем и приземлённым разумением Меттерниха и Каслри. Они во всех вдохновенных порывах русского императора видели с подозрением только одно: усилить влияние России, и без того огромное. Поэтому они затевали привычные им подковёрные игры, привычно строя и раскачивая комбинации, они были в своей стихии, озабоченные, зашоренные ею, все в водовороте дел, и где ж им было остановиться, оглянуться, посмотреть в небо – и увидеть неведомые прежде измерения мира… Иначе говоря, там где Александр хотел религиозной цельности, его партнёры видели одну лишь политику. Нет, нельзя сказать наверное, что и Меттерних, и Каслри, и многие другие религиозно были абсолютно индифферентными людьми. Они даже вполне могли считать себя верующими людьми – и даже без притворства, которого, надо думать, тоже хватало; но без него, наедине с собой, честно глядя в свою душу – да, они горячо и искренне восклицали: верую, Господи и уповаю на волю Твою!.. – и, возможно, даже со слезами били себя в грудь.
И всё таки – чего они, видно, не замечали, воспринимая как нечто само собой разумеющееся – единства у них не было. Религия не сочеталась с политикой: первая сама по себе, вторая сама. Им, людям грубого склада, это, видно, вовсе не мешало, они так жили всегда и собирались жить дальше.
Но их соратник по нелёгкому поприщу, император Александр, так жить уже не мог. Он знал, что это раздвоение нехорошо вообще, а может стать роковым. Что политика должна стать прямым действием веры, причём во всемирном, всехристианском масштабе… Собственно, здесь повторяться незачем, это всё изложено в «Трактате братского и христианского союза», и под этим подписались, этим обязались руководствоваться все. Прошло три года. И что же?..
И Александр вынужден был с горечью сознаться, что он остался непонятым. Ему не противоречили, нет; но разговор русского царя с Меттернихом всякий раз превращался в фантасмагорию без начала и конца, когда оба собеседника кругами ходят вокруг одного и того же, об одном и том же толкуют, вроде бы соглашаются… но понимают, что чего-то не понимают. Однако, соглашаться всё-таки приходиться, хотя бы по видимости: оба они глубоко осознают, что их разноголосица – пугающая трещина, которой стоит только чуть расшириться, как в неё немедля начнут вливаться эманации ненависти, неизбежное порождение той самой свободы без Бога, при которой «всё дозволено».
Политика сильна верой! – призывал Александр. Здесь не может быть двойных истин. Евангельская заповедь! – вот истина, одна-единая, на все времена, каждому человеку и для всякой ситуации. В том числе и для нас, политических руководителей: всё, что нам необходимо – подать всем пример настоящего, бескорыстного добра, стремясь делать это так, как делал в земной жизни Христос. Когда мы, правители, начнём жить по совести, по заповедям, то люди, наши подданные, сразу увидят это, и сразу откликнутся, сами станут проводниками добра, и весь человеческий мир вскоре преобразится… ну, не вскоре, пожалуй, это было бы слишком; однако начнёт несомненное движение к преображению, к жизни, в которой нет места злу, насилию, несправедливости… Надо лишь, чтобы это понимали и так делали все монархи и правительства Священного Союза, все вместе! Тогда преображение охватит весь мир – цельное действие даст цельный результат.
Понимаю! Вполне понимаю Вас, Ваше Величество! – спешил откликнуться Меттерних. – Очень надеюсь, что именно так всё и будет. Но… в данный момент это нереально: надо бы немного подождать, точнее, завершить насущные дела… Мир едва начал приходить в себя, он всё ещё не остыл от революции, Бонапарта, всё ещё неспокойно в мире. И сейчас в первую очередь надо покончить с этим беспокойством. Смутьянов надо изолировать, обезоружить. Просветить их примером христианской чистоты?.. Хорошо бы, да они этого не поймут и не оценят. Видимо, придётся ненадолго отложить эту прекрасную мысль о единстве нравственности и политики, о светлом единстве человечества. Пока к этому единству мы принуждены идти путём льва и лисицы, силы и хитрости, по заповедям мудрого и глубоко понимавшего человеческую душу Макиавелли… И кстати, чем быстрее мы это сделаем, чем быстрее одолеем этот неприятный отрезок пути, тем скорее сможем приступить к настоящему объединению мира на религиозных и нравственных началах.
Александр, наверное, чувствовал, что он не может убедить австрийского канцлера. Истина, светлая, ясная и совершенно понятная царю наедине с собой, в беседах с Меттернихом как-то лишалась этой привычной ясной убедительности, складывалась не в те слова, становилась неуклюжей и шаткой… А тот, напротив, обладал гигантским даром убеждения. Тревожная картина современной Европы, красочно обрисованная им, заставляла Александра призадуматься. Он ведь и без этого знал многое из того, что можно назвать «беспокойством» – и в Европе, и в своей стране; знал, и сам беспокоился, а Меттерних умел психологически попасть в цель… Да ведь со своей позиции, политического здравого смысла, он был, безусловно, прав.
Послевоенная Европа действительно опасно пошевеливалась где-то в социальной глубине. Не в самом низу, конечно, не в густых пластах простонародья, а среди сравнительно небольшого слоя людей, большей частию молодых, ухвативших с миру по нитке какие-то клочки образования: интеллигенции и полуинтеллигенции. Правда, были среди них люди и в самом деле умные, и по-настоящему образованные, у таких духовное детство кончалось быстро; а некоторые так и не успели повзрослеть, закончив молодую жизнь на эшафоте или в бою… но оставались и те, в ком искренность и благородство дружно уживались с умственным ребячеством не по возрасту. А честность, пылкость и глупость – социально весьма взрывоопасная смесь…
3
С формально-политической точки зрения Ахенский конгресс может считаться успехом Александра. Основной дипломатической проблемой на этом рауте стала французская: Наполеон заточён на острове Святой Елены надёжно, режим Реставрации вроде бы стабилизировался, и Франция, номинально признаваемая четырьмя великими державами своей и равной, теперь могла стать таковой по факту и по делу… Должно сказать, что Александр и прежде немало прилагал усилий к этому, так что Ахенский конгресс явился, в сущности, завершающим аккордом этих усилий. Вскоре после окончательного водворения Людовика XVIII на французский трон императору удалось пролоббировать назначение на пост премьер-министра Франции своего конфидента – герцога Ришелье [59, т.12, 95]…
Герцог Ришелье, Арман Эмманюэль дю Плесси, прямой потомок знаменитого кардинала, в годы революции, подобно Траверсе, уехал в Россию, поступил на службу и быстро зарекомендовал себя отличным администратором. В 1803 году Александр доверил ему важнейшее поручение – освоение северо-западного Причерноморья, в те времена пустынного полудикого края. Герцог поработал дельно: край начал заселяться, расцветать, а городишко Одесса с девятью тысячами жителей быстро стал превращаться в настоящую столицу Новой России – так назвали эти места… Памятник герцогу («бронзовый дюк») и поныне один из главных символов Одессы.
В 1815-м Ришелье вернулся на родину, где не был почти четверть века. В должности главы правительства он не то, чтобы стал российским «агентом влияния»… а впрочем, почему бы и нет? Премьер чувствовал себя французом, сознающим необходимость дружеских отношений с Россией – и действовал соответственно. Поэтому на конгрессе Александр счёл возможным настаивать на выводе из Франции оккупационного контингента, настоял – и в итоге выиграл, укрепив к себе доверие короля, не говоря уж о правительстве. Русские войска, которыми командовал граф-либерал М. С. Воронцов, вернулись домой.
Русско-французские связи укрепились, похорошели, к некоторой суетливой заботе Меттерниха и Каслри – те бдительно следили за балансом, а Россия утвердилась в большей степени, чем им этого хотелось, и они усиленно стали ломать головы над тем, что им теперь предпринять в качестве противовеса…
Разумеется, не этого Александр ждал от конгресса.
Он возлагал надежду на то, что Союз воистину станет Священным – а он стал вполне земным. Пока, во всяком случае: вышел просто союз царей, старающихся удержать, утихомирить, может быть, даже как-то ублаготворить свои народы; дело, наверное, неплохое, но ведь не преображение мира сего, не начало светлой эры!.. И соответственно – вовсе не единение, не слияние нравственности и государства, столь чаемое императором… Стало быть, вновь оно откладывается на неопределённый срок.
Практически это означало зависание во времени всех Александровых надежд. Перемены в стране могли стать действенны под защитным небосводом Священного Союза – а без него они обречены топтаться на месте, то есть обращаться в ничто. Полумеры, полу-реформы и полу-стремления в принципе не способны работать долго: они либо должны превратиться в меры и стремления полные, без изъянов, либо сойдут на нет. Библейское общество, перевод Библии на живой русский язык, Ланкастерские школы (система взаимного обучения по методу английского педагога Джозефа Ланкастера; четверо русских студентов отправились в Европу для изучения данного опыта), расширение сети средних и высших учебных заведений – всё это хорошо… Военные поселения? Да, Александр тогда считал, что и это хорошо. Итак, всё это хорошо, но без главного, без вселенского человеколюбия, воплощённого в государстве, должном стать воистину христианским, всё это обречено на застой.
Ахенский конгресс, помимо прочего, рассматривал вопрос о работорговле, объектом которой являлись африканцы, вывозимые в Америку, и Северную, и Южную. Конгресс декларативно объявил о невозможности христианским державам заниматься такими гнусностями – и вроде бы с этим согласились все, кроме Португалии [32, т. 5, 396]… но решение вопроса постепенно как-то увязло в мелочах: кто-то соглашался принять участие в крейсерских рейдах союзных флотов вдоль западноафриканского побережья, кто-то не соглашался; кто-то не возражал, чтобы суда под их флагом подвергались досмотру, кто-то возражал… Слишком болезненно отнеслись к этой идее французы; особенно же уязвило их то, что они будут подвергаться досмотру англичанами – многое могла вынести французская душа, но только не это.
В результате вопрос – действительно серьёзный в нравственном смысле вопрос – тоже завис на неизвестное время. «Тоже» – равно как зависли и Александровы благие замыслы об исцелении Отечества от застарелых хворей… Невозможно представить, чтобы ревностно защищая негров, по чьему-то грубому произволу лишённых даже звания, даже имени человеческого, император не думал о своих закрепощённых соотечественниках, и чтобы сердце его при этом не трепетало от боли и стыда! Разумеется, положение русских крестьян не сравнить с тем ужасом, коему подвергались несчастные, превращаемые в рабочий скот, безжалостно продаваемые на смерть своими дикими царьками-язычниками… но ведь и русские крестьяне запросто продавались дворянами, хотя формы этой продажи Александр пытался смягчить как только мог. Православные люди торгуют православными людьми! – если вдуматься, это такая дикость, о которой и говорить-то немыслимо, это просто нонсенс, бездарный оксюморон… А в обыденной жизни именно так и есть – торгуют, и в церковь ходят, исповедуются, причащаются, и никакой бредовости в своей жизни не видят. Так жили их отцы, деды – и им самим кажется, что так было всегда, от начала веков, и что на этом стояло и стоять будет царство русское. И протвопоставить нечего, контраргументов никаких: всё это происходит под его, Александра, державой, в стране, где он защитник всех и каждого. Как он защищает их?..
И вот опять ничего, опять ожидание… Хитроумный Меттерних обводил царя, незаметно превращая духовный союз в военно-политическую организацию, что-то вроде НАТО той эпохи – и царь-то видел, сознавал это, а изменить не мог. Он не был бездельным фантазёром, но всё больше пробивалась в нём неприятная мысль: а уж по силам ли он взялся решать задачу? А отступать теперь и поздно и стыдно. Что делать? Что делать, что делать! – вот уж воистину вопрос вопросов, и Александр задавал и задавал его себе, этот вопрос без ответа, мучивший его больше, чем любой из вопросов конгресса.
Проблему французскую вроде бы разрешили благополучно; вопрос с неграми-невольниками застрял в перепутьях неувязок и бесплодных согласований… Что там ещё было? Всякие более или менее мелкие рабочие заботы. В феврале скончался старик Карл XIII, шведский король, корону наконец-то официально принял Бернадот, теперь уже Карл XIV Юхан. Конгрессу пришлось решать задачу выделения денежных средств королеве, вдове покойного [пасынок снял, что ли, мачеху с довольствия?.. – В.Г.]. Решили положительно – деньги были выделены. Потом курфюрст Гессенский, властитель мелкий и лукавый, предъявил царственному сонму своё желание именоваться королём; властители могучие, подумавши, отказали, и весьма разумно: дабы не создавать соблазнительного прецедента… Лично для Александра небезразличной, вероятно, была история с Мальтийским орденом; после смерти отца он поспешил отказаться от титула магистра, оставшись, правда, «протектором». Шестнадцать лет это его практически ни к чему не обязывало, но в 1817-м скончался очередной Великий магистр, после чего Высочайшим указом было объявлено, что в Российской империи орден «более не существует» [80, т.36, 503]. На конгрессе наместник магистра обратился было к императору, но получил через Каподистрию мягкий, аккуратный отказ.
Тоже странно. Почему Александр Павлович, так лелеявший мысль о христианском единстве, отверг христианский же рыцарский орден? По той же причине, по какой три года назад (в самом конце 1815-го) отверг иезуитов?..
Выше упоминалось о том, что в начале царствования Александр относился к иезуитам вполне приветливо, и университет в Вильно возник на месте бывшей их коллегии… Потом тысячи забот отвлекли царя от дельцов «ордена Иисуса», а они в благодатной тени этого забвения своё дело делали. За годы царской лояльности они вели пронырливую, дерзкую, иной раз откровенно мошенническую – а в итоге, надо признать, успешную пропаганду, в которой, конечно, и намёка не было на воссоединение церквей… Когда Александр спохватился, православное духовенство уже сильно роптало (Фотий «вопиял» и об этом тоже), многие петербургские аристократы, а также обитатели западных российских областей перешли в католицизм.
Пришлось принимать запоздалые крутые меры. Были официально запрещены переход православных в католичество и миссионерская деятельность иезуитской братии.
Поэтому – кто знает, может быть, император вообще затаил недоверие к «папистам» как таковым, и вежливо-прохладное отторжение им мальтийцев – оттуда же? Может быть. Но тогда как же «братский и христианский союз»? И чем такие расчёты отличаются от Меттерниховых?.. Грустно думать об этом.
Приходится, однако ж, встречать мнение о якобы католических симпатиях Александра к концу жизни [48], и справедливости ради это надо бы упомянуть… но доверия подобные сведения не внушают.
Впрочем, пока оставим грустное! Всё-таки столь большое событие – съезд мировой элиты – дело пышное, нарядное и праздничное. На два месяца Ахен стал столицей планеты, что совершенно естественным образом привлекло множество любопытных, авантюристов, да и просто праздных гостей, желавших белый свет посмотреть и себя показать. А уж на эту публику слетелись тогдашние шоумены, которые были ничуть не менее оборотистыми, чем нынешние… Они мигом организовали для зевак новомодные диковинные зрелища: полёты женщин на воздушных шарах и боксёрские бои.
Здесь историческая наука проявила изрядную добросовестность – сохранила имена «звёзд». Воздушными путешествиями удивляли гостей Ахена «госпожа Рейхард и девица Гарнерен», как деликатно сказано у Богдановича [32, т.5, 391]; причём госпожа – видимо, более опытный пилот – слетала успешно, а вот девица, чьим промоушеном хотя и распоряжался весьма энергично её собственный папенька, не справилась с управлением и вывалилась из гондолы с небольшой высоты. Убиться, слава Богу, не убилась, но оземь ударилась крепко… Зрителям же только осталось глазеть, как пустой шар улетает куда-то на юго-восток. Нашёлся он ни много ни мало в окрестностях Штутгарта – а это, шутка сказать, больше трёхсот километров!
Боксёры – англичане Купер, Картер и Грегсон – тоже принесли кому-то немалый барыш: сперва мастерски бились друг с другом, вызывая восторг зрителей, потом провели «мастер-классы» с желающими: таковых нашлось предостаточно…
И улыбнёмся напоследок ещё раз: среди обретавшихся во время конгресса в Ахене оказался некий француз Фортюнид, который подал прошение императору Александру на предмет собственного трудоустройства придворным шутом – дабы открыто и безбоязненно говорить царю в глаза всю правду… Нечего и говорить, что царь от такого внезапного предложения постарался уклониться.
Несуразная выходка Фортюнида оживила, должно быть, конгресс. Высокие мужи посмеялись, поострили… Впрочем, вряд ли это развлекло Александра: слишком уж много к этому времени у него должно было набраться беспокойных и тревожных мыслей.
И самая тревожная и удручающая из них – та, что Меттерних оказался прав… Прав в своей крайней приземлённости и бесповоротном отсутствии какой бы то ни было философии в мыслях. Австрийский канцлер католические церкви, конечно, посещал, но молился там наверняка лишь о своей полу-империи: юрисдикция Меттернихова бога ограничивалась владениями Франца I… Возможно, этот кондовый склад души и позволял министру мыслить сильно и здраво, чётко распознавать неладное и угрожающее там, где одухотворённые мистики, видя будущее, забывали о настоящем.
Александр к настоящему был чуток – положение обязывало. И он не мог не видеть, как его «прекрасные порывы» почти не встречают откликов. А сумрак и враждебность мира, в том числе и в его собственной империи… о, да, конечно, он ощущал это! Меттерних, в сущности, лишь грубо выволок на поверхность то, о чём Александру не хотелось думать, несмотря на тоскливое осознание того, что думать всё-таки придётся.
4
Под самый конец конгресса прошла было вдруг тревожная информация о том, что затаившиеся бонапартисты замыслили дерзкую операцию: похитить императора Александра и силой заставить его провозгласить акт об освобождении Наполеона и возведении на престол Наполеона II, внука «дедушки Франца», к тому времени немного подросшего – при регентстве Марии-Луизы. Идея вроде бы нелепая и авантюрная, но как ни странно, вполне реальная: спецслужбы сработали грамотно, такой заговор действительно существовал… Правда, то был воистину «заговор обречённых», несуразность его была всем здравомыслящим людям очевидна. Но далеко не таким пустяком явились умственные коловращения, будоражившие Европу, особенно молодёжь и особенно германскую – здесь продолжалось то, что так беспокоило Александра, в чём состоял пафос его варшавской речи: молодые люди пламенно воспринимали и воспевали свободу, плохо понимая её, мысля сумбурно и неряшливо, и уж, конечно, ничуть не поверяя этот свой душевный сумбур неведомой им Абсолютной истиной.
Тугенбунд – когда-то возникший как культурно-патриотическое общество, объединявшее всех немцев в протесте и борьбе против французской агрессии, теперь, после окончания войны, самым естественным путём пришёл к идее окончательного немецкого единства. Что верно, то верно – где логика в том, что люди одной культуры, говорящие на одном языке (или почти на одном – вариативность диалектов в немецком языке очень сильна; во всяком случае, гораздо заметнее, чем в русском) – живут во множестве разных государств, формально являясь иностранцами друг по отношению к другу? Что мешает им стать соотечественниками безо всяких оговорок?!..
Мешала прежде всего Австрия, а в ней прежде всего Меттерних, лучше всех сознававший, что единая Германия – это конец австрийской гегемонии в Центральной Европе. Право же, можно восхититься политической дальновидностью канцлера: не мыслитель, но в будущее, когда ему нужно было, мог заглянуть не хуже самого изощрённого метафизика! Прошли годы, и так именно и случилось, хотя – опять же благодаря именно Меттерниху, целых сто лет после Наполеоновских войн Австрия продолжала числиться в великих державах…
Он, конечно, забеспокоился, мгновенно поняв, какие неприятные и для его страны и для всей тогдашней объединённой Европы последствия может иметь молодёжный энтузиазм в рамках Тугенбунда, даже несмотря на все аморфность, рыхлость и беззубость этого союза [50, 387]. Кроме того, всплеск беспорядочных неуправляемых эмоций вызвало ещё одно событие: трёхсотлетие Реформации, традиционно отсчитываемое с 31 октября (День всех святых) 1517 года – когда Мартин Лютер вывесил свои знаменитые 95 тезисов на воротах церкви в Виттенберге. Там, в этом саксонском городке собралась осенью 1817 года задорная ватага студентов, празднуя то, что они тоже считали «свободой», правда, устаревшей, но всё-таки… Когда-то, думали они, для того времени, была свобода такая, теперь она другая, а воплощение её – вот они, юность планеты, которая ясно, весело и бесстрашно глядя в лик грядущего, видит в нём безграничные вёсны и рассветы… точно так же, как видит их юность всех поколений.
У немецких парней потихоньку взрослеющего XIX века задор обратился в бестолково-политическую суматоху. В Виттенберге студенты шумели, галдели, и эти бессистемные метания, наконец, вылились в ребяческом протесте против немецкой раздробленности, а стало быть, и против Священного Союза, по крайней мере, в том его воплощении, какое сложилось усилиями в первую очередь Меттерниха. Гуляки торжественно – как некогда Лютер папскую буллу – сожгли несколько символов австрийской и прусской власти.
Меттерних так и ухватился за эту историю, постарался раздуть её, демонстрируя, какие опасные призраки бродят по Европе. Пугать он умел профессионально: коллеги по Союзу заволновались… Сумятицу усугубил русский дипломат и самодеятельный политолог Александр Стурдза (брат Роксаны) – много путешествуя по германским городам и весям, наблюдая происходящее, он всерьёз обеспокоился умонастроениями в разных слоях общества, грозившими, по его мнению, едва-едва обретённому миру. Он подошёл к проблеме действительно по-научному, попытавшись выявить основные причины германской социальной шаткости, и усмотрел их в чрезмерном классовом расслоении, упадке религии, которая вместо источника Истины сделалась «орудием страстей и заблуждений» [32, т.5, 415] и, наконец, интеллектуальном ничтожестве университетов, из учебных заведений превратившихся в вертепы. Эти соображения дипломат изложил в полемической форме, представил императору; тот прочёл, кое-какие резкости смягчил, но в целом одобрил – очевидно, счёл добротным памфлетом – и разрешил печатать в виде брошюры.
Оставя в стороне вопрос, насколько справедливы заключения Стурдзы, скажем, что брошюра произвела обратный эффект, возможности которого как-то никто не предусмотрел. Одни обиделись, другие возмутились, третьи и обиделись и возмутились враз… словом, вместо ожидаемого удачного хода получилось нечто невразумительное. Пара студентов, видимо, не снеся оскорблений, нанесённых их alma mater, вызвали злосчастного публициста на дуэль – тот, чувствуя, что дело оборачивается слишком крупно, счёл за лучшее ретироваться и с чужим паспортом скрылся в неизвестном направлении. Александр сам сообразил, что с данной публикацией он промахнулся, но было уже поздно.
Помимо Стурдзы, ещё один сочинитель вызвал обширное раздражение патриотической немецкой интеллигенции, а более всего студенчества: прусский писатель Август Коцебу (дальний потомок славянского племени кашубов; кстати говоря, как и генерал Йорк – но у Коцебу это явно видно даже по фамилии…). Не обладая значительным литературным дарованием, он был, однако, резким противником всего, условно говоря, «вольтериански-просветительского», видимо, эстетическим чутьём ощущая плоскость и пошлость этой идеологии. К ней он относил и беспорядочное воодушевление молодёжи – принялся всячески его язвить, высмеивать, благо, оно своей наивностью предоставляло к тому бесконечные возможности. У Коцебу присутствовали явные юмористические способности, он умел выставить противников в смешном и позорном виде, что делал охотно и эффектно, имея немалый успех – одни хохотали, другие бессильно скрежетали зубами… Злоба копилась. К тому же писатель зачем-то решил поучаствовать в шпионских хитросплетениях: считая Александра гарантом спокойствия и стабильности в Старом Свете, он добровольно сделался политическим осведомителем императора, тайным советником не по чину, но по существу… Нет, однако, ничего тайного, что не стало бы явным – и об особых отношениях Коцебу с императором вскоре заговорили как о несомненном факте.
Кончилось всё это для писателя плохо: порывистая молодёжь стала считать его чуть ли не главным вредителем; во всяком случае, символом всего того, что ей, молодёжи, представлялось архаичным, ретроградным… попросту ненавистным. А высмеивая вздор «прогрессистов», Коцебу метко попадал в цель и в принципе, и, так сказать, по персоналиям: движение прямо-таки притягивало к себе экзальтированных чудаков, причём как безобидных, так и социально опасных. Одним из таких был некто Карл Занд, студент, исступлённый философским безумием; вполне возможно, за его спиной скрывался некто более зловещий, а мало что соображающий юноша стал просто орудием в руках интриганов… Со временем он стал представлять себя Святым Георгием, должным поразить «змия», то есть Коцебу – что и совершил в марте 1819 года несколькими ударами ножа. Затем этим же ножом нанёс удары и себе, но был спасён – только для того, чтобы после долгого лечения, следствия и суда быть повешенным.
Примерно в это же время было совершено нападение на министра герцогства Нассау Иббеля – но провалилось, министр остался жив.
Являлись ли покушения на Коцебу и Иббеля звеньями одной цепи?.. Если даже и нет, то эту цепь стоило выдумать – и уж, конечно, Меттерних такой шанс не упустил.
Убийство Коцебу стало последней каплей, но ещё до того чаша полнилась постепенно и с разных сторон: не только немецкие страны потаённо бурлили, не гладко для Союза шли дела в Италии, Испании… Цельной Италии, так же, как и Германии, тогда не существовало, часть собственно итальянских земель (северных и северо-восточных) Венским конгрессом была определена Австрии, центральная часть находилась под властью папы Римского, всё того же Пия VII, который некогда короновал Наполеона, а потом натерпелся бедствий от него. Венский конгресс поспешил компенсировать прежние тяготы и лишения понтифика, восстановил в правах светского государя… И, наконец, юг и северо-запад Италии дробились более или менее мелкими королевствами и герцогствами.
Ещё под Наполеоновским владычеством итальянцы начали собираться в тайную организацию, получившую название Carboneria, а её члены, соответственно, карбонарии – то есть, угольщики. Прошло какое-то время, Наполеон и его власть стали воспоминанием, а карбонарии остались; это сообщество было ещё невразумительнее, чем Тугенбунд, и с ещё более туманными идеями – собственно говоря, карбонариями называли весьма разных людей, общими у которых были разве что таинственность и неопределённое желание продемонстрировать миру нечто своё, зачастую и самим себе не очень ясное; но ведь и того может быть довольно, чтобы будоражить свет…
Испанию (и в меньшей степени Португалию) донимали иные заботы: у этих стран отбивались от рук американские колонии. Началось-то это раньше, году в 1810-м, когда на Пиренеях вовсю бушевала война – заокеанская креольская знать решила, что метрополии сейчас не до того, что творится за океаном, и пришло самое время для парада суверенитетов… Вообще, борьба латиноамериканской элиты с «родиной-матерью», Испанией то есть – особый и сложный социокультурный феномен, и нужно крайне осмотрительно судить-рядить о том, кто там прав, кто виноват. Скажем лишь, что в 1810-14 годах метрополии удалось оппозицию в колониях приглушить, но в 1817-м та проявила себя с новой силой.
Со стороны Священного Союза это, разумеется, требовало осуждения, а возможно, даже и энергичного вмешательства. Но опять же: сказалась неоднозначность интересов… На практике посылать военные экспедиции за тридевять морей в те времена, когда и дома неспокойно – мероприятие, справедливо вызывающее сомнения. Покуда Союз сомневался, сделалось уже поздно… А кроме того, Англии, скажем, независимость южноамериканских территорий была чрезвычайно выгодна: и неужто англичане стали бы ради Священного Союза жертвовать своими меркантильными интересами?..
И что после всего этого должен был думать Меттерних?! Да только то, что царь пусть себе мечтает, если хочет, о каком-то всемирном фаланстере в духе наивного француза Фурье – а оберегать человечество от бедовых заблуждений и войн придётся, по-видимому, всё-таки ему, Меттерниху… Да, нелегко. Не удивительно, если австрийский канцлер в глубине души равнял себя с атлантом, пытающимся удержать небо на плечах, и мыслил о себе скромно и гордо, как о столпе земном.
Повторим для вящей убедительности: Александр не был строителем иллюзий и утопий. Его мечты вдохновлялись цельностью, нравственным совершенством, а не каким-то там паллиативом. Меттерниху, наверное, просто не дано было такое представить, он смотрел не ввысь, не видя в том практической пользы, а перед собой и под ноги – так сильно давил на него всемирный свод. Но не ведая будущего храма чистой веры, он лучше, чем кто бы то ни было видел, что нынешнее здание – не храм, конечно, да ведь другого нет! – где-то угрожающе тлеет: причём одновременно в разных местах… И он на самом деле, как умел, старался эти очаги возгорания погасить.
Да, выходка Занда стала последним граном в критической массе тревог, волнений, ожиданий худшего. И худшее пришло! И надо срочно что-то делать, чтоб оно не стало ещё хуже.
Что делать – Меттерних знал. Он был человек от земли, практик, мысль его не дивила белый свет изяществом, а потому ничего оригинального на свет не произвела; да этого, положим, и не надо было. Меттерних убедил императора Франца созвать конференцию Германского союза – с целью выработать и утвердить меры стабилизации в немецком мире: по тем временам, по сути, во всей Центральной и Восточной Европе. Франц согласился. Сам же князь взялся за организацию совещания – после солидной подготовительной работы оно открылось в Карлсбаде (Карловы Вары) в августе 1819-го.
Эта конференция явилась как бы «малым съездом» Священного Союза, и запротоколировала она именно то, чего опасался и во что не хотел верить Александр: Союз всё более превращался в организацию контроля и давления. Религия и нравственность не становились правом и политикой, между тем и другим продолжал существовать трагический разрыв…
И что печальнее всего – Александр предчувствовал, что так и будет впредь. Четыре года – вот уже четыре года! – как создан Союз, а тех результатов, что ожидал император, так и нет. А вот время идёт. Да и не просто идёт, а бежит, уходит, ускользает безнадежно, то, что надо б сделать для России несколько лет назад, всё не сделано… Слухи о вот-вот предстоящем освобождении крестьян сильно муссировались во всей стране летом 1818 года – и кончились ничем, следовательно – недоумением и разочарованием. А это ведь не просто неудача, это системный подрыв всей Александровой концепции. Неоправданные надежды в данном случае вещь весьма негативная: если начал что-то очень серьёзное, очень значительное, начал и не довёл до конца – то это чрезвычайно неприятная ситуация, лучше было б вовсе не начинать. А у царя получилось именно так. Начал, раззадорил, вселил надежды… А что хуже всего, просто хуже некуда – то, что эти раззадоренные и обманутые им люди совершенно ясно поймут, что император Александр слаб духом: начал дело, не справился с ним и опустил руки, всё бросил. И очень трудно будет объяснить им это всё, куда труднее, чем себе… А хотя что здесь лукавить! – не трудно, нет. Невозможно.
5
Когда император впервые узнал о существовании в России тайных обществ? И когда появились эти общества?.. Вопрос не простой, вернее, достаточно, так сказать, шаткий, ибо сложно определить, что считать таковыми. Традиционно принято считать: начало тех организаций, чьим апофеозом стало 14 декабря 1825 года (мятеж на Сенатской площади), а концом – 13 июля 1826-го (виселица в Петропавловской крепости), датируется первыми послевоенными годами, 1815-17-м… В этом есть резон – хотя бы потому, что основной персональный состав декабристов явил собою выходцев из той самой послевоенной «шинели», точнее, шинелей: нескольких в разной степени политизированных союзов, в которые сбилось молодое (а иногда не очень) аристократическое (иногда тоже не очень) офицерство, среди которого затерялись немногие штатские.
Но все эти светские компании: артель офицеров Семёновского полка, Союз спасения [50, 381], Орден русских рыцарей [20, 25], стилистически, так сказать, ничем не отличались от масонских лож, представляя новое, более «продвинутое» и независимое поколение их – чем, разумеется, прежнее поколение было задето и раздражено. Старики мнили себя авторитетами и олимпийцами – и вдруг проглядели, как ничтоже сумняшеся какие-то желторотые взялись орудовать сами, не подчиняясь и не выказывая никакого благоговения таинственным старцам… Досадно, разумеется.
Молодые недоучки всех стран и эпох, наверное, примерно одинаковы. Не блеснули сверхновыми звёздами и русские прапорщики да корнеты (случались, впрочем, среди них и штаб-офицеры и даже генералы) – они и в самом деле не кланялись праотцам-масонам, но по форме воспроизвели такой же «андеграунд», с теми же ритуалами, клятвами, посвящениями в разные степени… Естественный вопрос: зачем надо было плодить сущности? Чего не хватало во множестве уже имеющихся лож?..
Значит, чего-то не хватало. Может быть, они тогда не вполне осознавали, чего – но это «что-то» и превратило потом подростковые игрища в жёсткое, жестокое, а в конце концов и бесчестное политиканство: вспомним историю с «Константином и Конституцией»… Так что же это было? Что сделало романтиков фанатиками?!
Следует оговориться: любое историческое явление есть продукт сложный, многомерный, а всякие размашистые обобщения – непродуктивны и несправедливы. В «декабризме» оказались замешаны разные люди, иной раз, может быть, настолько разные, и по мировоззрению, и по движущим мотивам – что у них ничего и общего не было, кроме принадлежности к нескольким (тоже довольно разным!) организациям. И было бы очень неверно говорить о поголовном превращении мечтателей в убийц – при том, что во все века на нашей планете живут и дышат одним со всеми воздухом мечтатели-убийцы. Всё это так, и с обобщениями надо быть осторожнее – и всё-таки тенденция есть тенденция, ход времени… Время меняет мир, людей – итоги этих изменений очень разные, и есть люди, которым дано прикоснуться к вечности, а есть и те, кто сумел стать с ней на «ты». Но это всё-таки удел немногих! к сожалению… Большинство влекомо временем, а время девятнадцатого века работало с недремлющими, растревоженными, но неглубокими умами совершенно очевидным образом: год за годом вымывая из них прельщение мистическими тайнами и оставляя суровый, холодный неуют воли к власти.
Это по-своему увидел Лев Толстой: у него Пьер Безухов в 1806 году вступает в масонскую ложу, восторженно и вдохновенно принимая весь обряд посвящения с полутьмой, горящими свечами, обнажёнными шпагами и прочей чепухой [65, т.1, 330] – а в году 1820-м он же, Пьер, говорит так:
«– Положение в Петербурге вот какое: государь ни во что не входит. Он весь предан этому мистицизму (мистицизма Пьер никому не прощал теперь). Он ищет только спокойствия, и спокойствие ему могут дать только те люди… которые рубят и душат всё сплеча: Магницкий, Аракчеев… мучат народ, просвещение душат. Что молодо, честно, то губят! Все видят, что это не может так идти. Всё слишком натянуто и непременно лопнет…» [65, т.4, 512].
И далее разговор заходит о тайных обществах.
Так увидел это Толстой. А так – Бердяев: «Более мягкий тип «идеалиста» 40-х годов заменяется более жёстким типом «реалиста» 60-х годов. Так впоследствии более мягкий тип народника заменяется у нас более жёстким типом марксиста, более мягкий тип меньшевика более жёстким типом большевика»[9, 138].
Здесь сказано о другой эпохе, но вектор тот же: время идёт, идёт, ускоряет ход, бежит, мчится, неудержимо неся человечество в XX век…
Что есть всемирная история? Плод свободной воли человека – то есть, результат векторного сложения множества индивидуальных воль; или же она поток времени, несущий людские поколения куда-то к одной ей ведомой цели, и наши желания, стремления и действия здесь вовсе ни при чём?.. Когда смотришь на ход времён, то впечатления неоднозначные и немало в них диковинного; а это значит, истина где-то посередине – но она ни в коем случае не среднее арифметическое: история не подвластна арифметике, ниже алгебре. Она и человеческая жизнь слиты в сложное многомерное целое – и как взаимодействуют личность и время, в терминах причинно-следственной связи говорить, очевидно, не приходится. Мы и не знаем этого, видя только поверхность. Так вот: поверхность девятнадцатого века год от года, десятилетие за десятилетием становилась всё тревожнее, она рябила всё быстрее, всё острее, привлекательнее и опаснее – и всё труднее становилось уловить, понять её как целое, она разбегалась, и человеческого взора уже не хватало…
Трудно отделаться от впечатления, что это, не сознавая того, но тонким художественным чутьём ухватили в своё время импрессионисты, феномен в искусстве прежде невиданный: в их картинах цельный мир распадается, топорщится мазками, брызжет красками… Малообразованные и не очень умные художники, не догадываясь, угадали, а некоторые – немногие! – мыслители, те, кто были по-настоящему умны и проницательны, сумели разглядеть за этой рябью, за цветной суматохой нечто огромное и зловещее, грядущее в наш мир из тёмных глубин.
В начале позапрошлого столетия до всего этого было ещё далеко. Но дорога уже вела туда, уже змеилась и рябила тревожными предзнаменованиями… Юноши, создававшие Союз Спасения (иначе: «Союз истинных и верных сынов Отечества») наверняка и думать не думали, как время мира владеет и движет их мыслями, как оно невидимо проникает в слабенькие электрические импульсы, бегущие в мозгу к речевым центрам, а от них по нервным нитям к языку и к пальцам, держащим перо или саблю. Юноши думали – что это они сами, что они всё знают, всё могут… ну, а далее прямой путь от довольно безобидных выходок (здесь не только Союз Спасения имеется в виду) до мыслей о перевороте, а потом о цареубийстве.
Сначала сыны Отечества, ободрённые слухами о готовящихся великих переменах, были настроены вполне лояльно к правительству [50, 379] – правда, правительство (читай: Александр I) всё секретило сугубо и трегубо; но молодёжь к этому относилась с пониманием, ибо сама играла в секреты – а слухи свидетельствовали о том, что император готовится всерьёз. Здесь нет насмешки, в этих словах: молодые люди, играя, доигрались до того, что история овладела ими так, что им потом не суждено было вырваться из неё, даже если кому-то этого и хотелось; юность незаметно кончилась, а пришедшая взрослая жизнь подчинила вчерашних юношей суровым законам, в которых не нашлось места милосердию.
Это на самом деле загадочно, уму непостижимо в самом прямом смысле, безо всяких метафор – уму, как таковому, вооружённому лишь наблюдением и логикой: как созидается поток истории, кем?.. Загадочно, хотя не удивительно – ибо непостижимо наше «Я» в цельности отношений с пространством и временем [38, 254].
Вот и мы смотрим из нашего нового века на поверхность прошлого. И нам видно, как мало-помалу ожидания юных подпольщиков затягивались, не сбываясь… Нарастало разочарование. Царь помалкивал, слухи плодились; что в них была правда, что нет – никто не знал, домысливали от себя, усугубляя разногласия. Так несколько лет и ушли на недомолвки и какие-то Эзоповы иносказания… и эти годы оказались роковыми. Если в 1816 году император и тайные общества нового поколения были почти союзниками, правда, сами того не зная – то в 1819-м они уже были по разные стороны. Впрочем, противостояние было односторонним: ожесточились только тайновидцы, Александр ещё и понятия не имел, что против него замышляется нечто зловещее.
Хотя утверждать это столь уж категорично отнюдь не приходится… Многие из членов обществ были придворными, даже близкими царю людьми, которых он хорошо знал. Тот же Михаил Орлов проделал рядом с императором всю заграничную кампанию 1813-14 годов, стал одним из самых приближённых; именно он составил текст капитуляции Парижа. Знаком был Александру князь Сергей Волконский, дальний родственник Петра Волконского. И как же было Александру не знать графа Дмитриева-Мамонова, соратника Орлова по «Ордену русских рыцарей»!..
Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов, сын одного из бесславных Екатерининских фаворитов, был человек необычный, с некоторыми дарованиями… и совершенно неуправляемый – то есть не мог управлять сам собой. Он сочинял фантастические проекты объединения славянских стран… в общем всё это находится за пределами серьёзного анализа. В обыденной жизни отличался дикими вспышками бешенства (при огромной физической силе, заметим), и в одну из таких вспышек чуть не убил своего слугу. Повод, правда, был не пустячный – заподозрил в лакее правительственного шпиона, подосланного выведать его, графские тайны… Дело замять не удалось, дошло до Александра. Тот рассердился – был крайне нетерпим к самодурским выходкам, особенно по отношению к людям беззащитным (хотя и сам, скажем истину, бывал вспыльчив)… Возник вопрос о психической адекватности Мамонова – как следствие возникла и медкомиссия. Она заключила: да, кое-какие проблемы имеют место. Не сумасшедший, конечно, но признаки психопатии налицо. И за графом был установлен медицинский надзор.
Члены комиссии были, очевидно, людьми добросовестными – во всяком случае, дальнейшая судьба «рыцаря» подтвердила их выводы. Много лет спустя, в сильно изменившемся мире пожилой граф Дмитриев-Мамонов покончил с собой чудовищно-вычурным способом: самосожжением. Будучи в ночной сорочке, облил себя одеколоном и поджёг. И через несколько дней скончался от ожогов… Видимо, с годами психопатия развилась в нечто более массовидное [20, 26].
И другие члены союзов были Александру знакомы. Вот – Никита и Александр Муравьёвы, сыновья его учителя словесности. Наверняка не раз встречал он их двоюродных братьев, Сергея и Матвея Муравьёвых-Апостолов, детей крупного дипломата, тайного советника, которым в своё время немало покровительствовала Екатерина Павловна… Но насколько император знал или догадывался, что эти люди одного с ним мира – его скрытые враги? Что дело зашло уже так далеко, и в потаённых сторонах высшего общества угрожающими темпами развивается смертоносный вирус?.. Много позже император Николай I предполагал, что уже в начале 1818 года (ещё до варшавской речи!) его старший брат имел сведения не просто о каких-то тайных эволюциях в части «общества», а о совершенно конкретных и до свирепости радикальных планах [78, 113]. Это всего лишь предположение, не более – очень возможно, что Александр постиг горькую истину позже, но созревала она не день, не два, а годы, и он чувствовал неладное, затем чувство стало перерастать в подозрительность по существу и не по существу, и наконец – в полностью достоверную информацию.
В этом переплетении событий особенно важно выделить два принципиальных и взаимосвязанных момента. Первое: Александр вынужден был убедиться в том, в чём он так долго убеждаться не хотел и чему внутренне сопротивлялся. А именно – цивилизованный мир так и не становился христианским содружеством. Что-то не так оказалось, в этом мире, что-то глубоко не так, гораздо глубже, чем прежде казалось императору… Вряд ли Александр понял первопричину этой беды, но он, очевидно, стал осознавать её масштабы: да, они огромны и ужасны.
Нечто таится в будущем – его, конечно, не увидеть, не разглядеть сквозь толщу лет… но его тени, его дальние призраки – вот они, здесь, в непрочных умах молодых; и как странно, что тени будущего столь похожи на химеры прошлого! Счастье насилием, кровь по совести, смерть сотен ради жизни миллионов – ведь это всё уже было, отравило зловонным ядом и мир в целом и самоё себя, распалось в прах… но ничему не научило. Так что же, значит, так и будет дальше, прах прошлого восстанет в новые чудищах?.. И значит, он, император Александр, ничего не сделал! Начал и не справился, и не закончил. А раз так – то лучше бы и не начинал.
Раз так, то Меттерних, который действительно не начинал, который, наверно, и представления не имеет о силах, блуждающих по метафизическим пространствам истории, больше полезен своему времени. Он действует – и ограды и заборы, наспех сколачиваемые им, надёжнее и твёрже перед грозовым будущим, нежели молитвы, вдохновения и видения нравственного мыслителя Александра… Так не должно быть? Да. Но так есть! Почему?!
То, что императора мучил этот вопрос, несомненно. Как он отвечал? – по скрытности его, не ведаем; не знаем и того, зачем Александр сочинил странный детектив с престолонаследием, едва не стоивший стране ещё одного смутного времени… Но вот однако, и второй ключевой мотив, невесело зазвучавший для Александра в предзакатные годы и закономерно пробуждённый первым: чувствуя, что всё непосильнее делается тяжесть мира на его царских плечах, он вернулся к мысли снять эту тяжесть – проще говоря, добровольно оставить трон.
Конечно, эта мысль теперь была совсем не та, что в юности. Тогда – баловство: домик, берег Рейна… Сейчас многоопытный, прошедший огни, воды и медные трубы правитель знал, что от себя не убежишь. Пройденное изменило его: увиденное, понятое и пережитое будет с бывшим царём всегда – так что бывших царей, видимо, просто не бывает.
Поэтому Александр, несмотря на нарастающее разочарование, руководить продолжал. Делал он это устало, через силу, система государственного управления тормозилась, дряхлела, император не желал (или не мог?.. – придворную толщу одолеть тоже не так-то легко) привести неформальное лидерство в соответствие с формальным. Вторым человеком в стране числился Лопухин, после смерти Салтыкова занявший оба высших поста: председателя Госсовета и Кабинета министров; но ясно, что степень его влияния была несравнима с возможностями Аракчеева и Голицына, начальника военных поселений и министра духовных дел, на должностной лестнице стоявших пониже Лопухина… Правда, Аракчеев был ещё и начальником личной канцелярии императора, учреждения, приобретшего значительный вес в бюрократической жизни – аналога нынешней администрации президента. Но это, похоже, был обходной маневр Александра: Аракчеева в высшем обществе терпеть не могли, хотя и побаивались, конечно; и назначение его на формально высший пост могло бы обернуться некими неприятными последствиями, царь это сознавал… Трудна и запутанна придворная жизнь! Скоро и двум особо приближённым лицам стало близ государя тесно, завязалась интрига, в которую с превеликой охотой включились множество добровольных активистов. Александр какое-то время пытался умиротворить своих фаворитов, но в итоге ему это так и не удалось. Конфликт только углублялся, обретал совсем уж Гомерические размеры… Но это всё случится несколько позже.
6
Что ни говори, как ни относись к Алексею Андреевичу Аракчееву, невозможно усомниться в том, что он был исключительно сильный и эффективный администратор. Он никогда не брался за несбыточные прожекты, а уж если за что брался, даже если то были дела запущенные и тяжкие – например, восстановление губерний, разорённых Наполеоновским нашествием – делал это с полной отдачей [24, 156]. Разумеется, Аракчееву и никому другому Александр мог поручить такой первостепенный государственный проект, как организация военных поселений.
Понимая нереальность разовой и официальной отмены крепостного права, Александр повёл с этим ненавидимым им институтом затяжную осадную войну – несколько странную и труднообъяснимую с посторонней точки зрения; но у царя были, очевидно, свои резоны. И в этом чересчур сложном, непрямом маневре против рабства император возлагал на военные поселения очень большие надежды.
Исходная мысль Александра (пусть не оригинальная, но разумно приспособленная к конкретным условиям) вполне благородна и вроде бы построена на прочной логике. Действительно: тяжела жизнь крестьянина и ещё тяжелее жизнь такого же крестьянского парня, рекрутским набором превращённого в солдата. Первый проводит всю жизнь в ломовом труде, часто не может выбиться из нужды, сколько бы ни старался, нередко бывает притесняем и унижаем барином… Второй – если, конечно, останется в живых! – выходит со службы израненным, разбитым человеком, хотя свободным и с пенсией – но что ему, одинокому, пожилому, давным-давно оторвавшемуся от своих крестьянских корней, делать с этими свободой и пенсией?! Отставные солдаты были изрядной социальной проблемой: многие пускались в бродяжничество, в пьянство, в бандитизм, попадали в тюрьмы… Военные же поселения, по мнению царя, должны были решить обе проблемы разом. Поселенец делался частным собственником (и немалым!): получал дом, надел земли, скот, инвентарь, становился на жалованье, освобождался от налогов. Тем самым приводилась в порядок его экономическая база; обеспеченный таким образом гражданин обязан был за это служить солдатом-профессионалом. Иначе говоря, Александр и Аракчеев вводили то, что в наши дни называется контрактной армией. Военный поселенец был тот же самый солдат-контрактник, с той, правда, разницей, что он не мог добровольно уйти со службы. Впрочем, авторы проекта полагали, видимо, что не найдётся ни одного сумасшедшего, который бы отказался от таких благ! Ведь поселенец, который, проведя день на службе, вечером возвращался домой, к фактически подаренному государством хозяйству, по выходе в отставку так и оставался свободным владельцем этого хозяйства, хотя и не совсем полноправным: не имел права его продать. Тем не менее, совокупность социальных условий, предоставляемых поселенцам, теоретически, конечно, была несравненно благодетельнее судьбы рядового простолюдина той эпохи.
Доверяя свой высокий замысел Аракчееву, Александр, конечно, в первую очередь рассчитывал на его менеджерские качества – на то, что граф сам лично будет вникать во всё, не упустит ни единой мелочи, учтёт неудачи 1810 года с Елецким полком и заставит механизм нового, неизведанного дела работать как часы… В результате же случилось и так, и не так. Да, Алексей Андреевич подошёл к заданию как всегда – со всей ответственностью и скрупулёзностью. И машина пошла в ход.
Прежде всего Аракчеев потребовал, чтобы корпус военных поселений был выведен за рамки обычной юрисдикции, и гражданской, и военной. Александр с этим согласился. На территории военных поселений (изначально – в Новгородской губернии, близ Аракчеевского имения Грузино, графской резиденции, чьё название сделалось так же неотъемлемо от имени владельца, как название Ясная Поляна неотъемлемо от имени другого графа – Льва Толстого) не распространялась власть губернатора, и военному министерству они не подчинялись. По сути, царь и его ближайший сподвижник создавали новую опричнину – если, конечно, отвлечься от того эмоционального негатива, которым обросло это слово. Иван Грозный некогда создавал своё особое государство в государстве, личное владение «опричь» всей остальной земли, «земщины», для упрощения и ускорения административных процедур – точно так же поступили через двести пятьдесят лет Александр с Аракчеевым; но уж, конечно, без той экстремальной экзотики, какой славился Иоанн Васильевич.
В поселениях, руководимых дотошным графом, возводились аккуратные красивые домики, строжайше соблюдалась чистота, организовывались больницы и школы… Солдатские дети ещё с Петровских времён обучались в так называемых «гарнизонных школах», впоследствии переименованных в «военно-сиротские отделения» – а уже при Александре, в 1805 году они стали называться «школы кантонистов». Их причислили к ведомству военных поселений, и весьма разумно; можно не сомневаться, что Аракчеев приложил максимум усилий к тому, чтобы в этих школах царила строгая дисциплина и преподавание велось на должном уровне. Так и было, и сохранилось в последующие эпохи: бывшие кантонисты составляли костяк унтер-офицерского корпуса русской армии, но не так уж мало становилось их офицерами, а иные выходили и в генералы…
У Куприна в «Поединке» полковник рассказывает молодым офицерам об одном из таких служак, своём бывшем начальнике:
«– Когда я был ещё прапорщиком… у нас был командир бригады, генерал Фофанов. Такой милый старикашка, боевой офицер, но чуть ли не из кантонистов… Так этот генерал, когда у него собирались гости, всегда уходил спать аккуратно в одиннадцать. Бывало, обратится к гостям и скажет: «Ну, гошпода, ешьте, пейте, вешелитесь [генерал шепелявил – В. Г.], а я иду в объятия Нептуна». Ему говорят: «Морфея, Ваше превосходительство?» – «Э, вшё равно: иж одной минералогии…» [40, т.4, 78].
Больницы блистали чистотой – Аракчеев требовал неукоснительного исполнения регламента. Впрочем, порядком и опрятностью в военных поселениях поражало всё, и уж, конечно, разительно отличалось от обычной деревни. Александр не ошибся: Аракчеев действительно вникал во всё, сам высчитывал необходимое количество денег, оборудования, материалов, медикаментов, следил за бытом поселенцев, за качеством питания, лечения, обучения, указывал, как должны быть расставлены койки в больнице, какой всё должно быть высоты, длины, ширины… Столь же строго взыскивал Алексей Андреевич и с подчинённых: чтоб и они следили за вверенной им частью, не упуская из виду ничего. Это он умел! равно как и подбирать кадры, на которые мог положиться. Пример: Пётр Клейнмихель, в 1819 году назначенный начальником штаба военных поселений, в царствование Николая I сделавшийся одним из наиболее приближенных к императору лиц… но, видимо, переоценивший себя, и в конце карьеры попавший в опалу за неумеренное мздоимство.
Чего можно было ожидать от воспитуемых Аракчеевым служащих нового ведомства? Наши недостатки суть продолжение наших достоинств – закономерность, подмеченная не на голом месте. В одной из русских летописей XII века сказано, как некое хорошее начальственное начинание сошло на нет из-за того, что подчинённые исполняли его с «тяжким, звероподобным рвением»…
При том, что душа графа Аракчеева вряд ли овевалась тихой благостью (вдобавок ко многим своим нелёгким качествам, да к тому ж при безобразной наружности он был ещё и эротоман, что даёт информацию к размышлениям в жанре глубинной психологии…) – так вот, при всём этом он взялся за дело военных поселений со всей мерой доброжелательности, на какую был способен. Воля государя для Алексея Андреевича являлась законом, высшей ценностью, отождествляясь, очевидно, с Божественной волей; раз государю Александру Павловичу хочется, чтобы поселенцы были счастливы, значит он, граф Аракчеев, будет стараться, чтобы так и было, и всех своих подчинённых заставит стараться.
Но вот тут-то, очевидно, и вступило в силу «тяжкое рвение» и неизбежный бюрократический эффект «испорченного телефона». Что понимал под счастьем подданных император Александр, примерно ясно: любовь, покой, гармония души, умилённое созерцание природных ландшафтов… Всё это, по его мнению, военные поселения должны были их обитателям предоставить, что он и постарался объяснить Аракчееву. Тот как сумел, так и понял: гармония – стало быть, все домики должны быть одинаковы, свежепокрашены и прибраны, стёкла в них целы, дворы и улицы выметены, в школах учат, в больницах лечат, на кухне щи кипят, каша варится… Как он растолковывал своё понимание подчинённым, и как осмысливали они – сие есть «вещь в себе», но результаты на выходе известны. И они, эти результаты, порядочно отличались от исходных замыслов императора. В нижних инстанциях сердечность Александра и пунктуальность Аракчеева обернулись тем, что у поселенцев просто-напросто не осталось свободного времени.
Их заставляли красить и перекрашивать, полоть траву во дворах, мести улицы, ремонтировать постройки и инвентарь – и всё во внеслужебное время; военное дело оставалось основным занятием этих оседлых воинов. Больницы сверкали показной чистотой, но больным запрещали ходить по надраенным полам, а новенькие инструменты неиспользованными лежали на полочках на случай внезапного приезда начальства… Хорошенькие типовые домики строились наспех, были сырыми и холодными – их обладатели слёзно тосковали по своим милым, грязным, тесным, кривым, тёплым и уютным избам [32, т.5, 366].
Личный состав поселений комплектовался, так сказать, на встречных курсах: из солдат и из крестьян. Первые возвращались к позабытому деревенскому труду, вторые сталкивались с вовсе незнакомым им военным делом. Если для первых поселение после полковой жизни могло показаться поначалу нежданным-негаданным благом, то у вторых от дисциплины, неукоснительной регламентации и бесконечных начальственных указаний, часто противоречивших друг другу, головы шли кругом. Прибавьте сюда требование брить бороды, делать прививки от оспы; вдовцам и холостым – обязательно жениться… и станет ясно, что прежнее деревенское житьё для поселенцев из крестьян быстро стало воспоминанием об утраченном рае.
Между прочим, ещё только подступая к этому новшеству, в 1816 году Александр запросил мнение Барклая – и получил вполне отрицательный ответ [24, 168]. Это императора, должно быть, покоробило, но он приписал такой отзыв неудаче с Елецким полком; потом, однако, когда программа пошла полным ходом, зазвучали ещё и ещё возражения… а их Александр воспринял как категорическое и злостное противодействие всякой попытке преодолеть крепостничество, впал в раздражение и в запальчивости обронил фразу, которую с превеликим удовольствием цитировали советские историки, иллюстрируя людоедский оскал «царского режима».
Редакции данной фразы в разных источниках несколько расходятся, поэтому здесь дословно воспроизводятся строки сугубо официального издания – Большой Советской энциклопедии: «Военные поселения будут, – говорил Александр I, – хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до Чудова» [10, т.8, 480].
Чудово – местность близ Грузино, именно здесь, рядом со своей «столицей» Аракчеев организовал первые (не считая Елецкого полка) поселения. Решение очень продуманное: выбор местности объяснялся не только близостью к вотчине, но ещё и тем, что здесь жили старообрядцы – люди сами по себе трудолюбивые и дисциплинированные; по мнению графа, они-то и были наилучшим материалом для будущего класса солдат-крестьян. И этот расчёт оказался верен. Аракчеев чрезвычайно аккуратно подошёл к проблеме изменения статуса местных жителей. Он не сразу ввёл военную форму и не настаивал на бритье бород, чем постепенно завоевал доверие ревнителей старины – и преобразование их в военных поселенцев прошло мирно и довольно гладко…
Чего не скажешь о других подразделениях. Если с новгородскими староверами всё сложилось сравнительно благополучно, то второй этап формирования поселений, развёрнутый на юге, натолкнулся на препоны, которых император, движимый «подвигом милосердия», вероятно, даже предвидеть не мог.
На территории современной Украины было запланировано устройство трёх военно-поселенческих территорий, причём одна из них, расположенная в междуречье Днепра и Южного Буга, в треугольнике Умань – Херсон – Кременчуг была очень крупной. Базой её стало Бугское казачье войско, к нему добавили ещё солдат, и в результате сформировали три дивизии: 2-ю и 3-ю Кирасирские и Бугскую уланскую. Всё опять же было строго продумано, рассчитано и подготовлено – однако запорожцы, для которых предания Сечи были совсем свежи, восприняли нововведения, как покушение на свою вольность. Тут же нашлись подстрекатели, нарочно пустились бередить поселенцев глупыми слухами, начались волнения… дело обернулось как-то на редкость неприятно.
Александр был уязвлён в лучших чувствах. Разумеется, Аракчеев сумел навести порядок и здесь – но сам инцидент… Император не мог не призадуматься: а такое уж ли счастье он готовит подданным? И как знать, не явилась ли ему уже тогда мысль о предполагаемой инспирации недовольств некоей невидимой и беспощадной «третьей силой», о которой давно уже твердил Меттерних?.. Трудно, да, испытывать к нему тёплые чувства, но отказывать этому человеку в уме, а тем более в чутье – это больше, чем преступление, как говаривал Наполеон; это ошибка. Александр на таких ошибках обжигался предостаточно и теперь их себе не позволял.
Наверное, он не подал виду. Как обычно, никто не догадался, что у него в душе. А там оставалось всё меньше и меньше поводов для радости, всё темнее и глуше… Неужто и с поселениями что-то выходит не так? Что-то не додумали до конца, не учли, не поняли… А может быть, что-то вообще не так в этом мире, совсем не так – раз откровение не стало правилом, просияло и погасло; если светлые помыслы под этим странным, непонятным солнцем темнеют, ссыхаются, портятся, точно у них проходит срок годности? Если он, император Александр хочет быть светочем, а всякий раз оказывается царём Мидасом наоборот – к чему ни прикоснись, всё рассыпается в труху…
Летом 1819 года вспыхнул бунт ещё в одном военном поселении, тоже на Украине, только восточнее, на так называемой Слободской Украине, в городке Чугуеве близ Харькова – тамошнее поселение называлось 2-й Уланской дивизией.
Повод к возмущению был вроде бы совсем пустячный: какая-то несправедливость при распределении нарядов на работу (сенокос). Кого-то попытались заставить косить вне очереди или нечто вроде того… Но ясно, что любой повод задним числом оказывается последней каплей, переводящая количество в качество. Вот и в данном случае приказ о сенокосе угодил в долго-долго зревший нарыв, и тот лопнул.
Дисциплина, придирки, неразбериха в указаниях, да и просто нежелание жить по регламенту, принудительное счастье – всё точно по антирецепту «человека из подполья». Дайте нам «по собственной глупой воле пожить»!.. Может, поселенцы прямо так, словами Достоевского не думали, но ощущать-то они это ощущали, и непонимание, досады и обиды копились, копились, и вот – выплеснулись в неистовый, отчаянный, нелепый бунт.
Командир 2-й Уланской дивизии (он же начальник поселения) генерал-лейтенант Лисаневич справиться с мятежниками не сумел. Не помог и харьковский губернатор Муратов. Ситуация выходила из-под контроля… и тут, конечно, должно было состояться явление штатного deus ex machinа – графа Аракчеева.
То, чего не удавалось сделать генерал-лейтенанту и губернатору, с приездом начальника поселений водворилось сразу, точно под одним только действием его тяжёлого взора. Беспорядки прекратились. Аракчеев начал следствие.
«Жестокости Аракчеева не всем русским могли быть понятны: его бессердие было чисто немецкое. Он любил ломать бессильные препятствия, неволить человеческую натуру и всё подводить под один уровень» [16, т.1, 444] – так аттестовал графа Филипп Вигель, немалого ранга чиновник, более известный как мемуарист – его «Записки» являются широко известным, хотя и крайне своеобразным источником…
Вигель – автор пристрастный, злой на язык, при этом неплохой стилист; «Записки» читаются захватывающе, правда, удивляя желчью характеристик, даваемых автором не одному Аракчееву, но множеству сильных мира сего: Кочубею, Воронцову, Сперанскому… иной раз кажется, что рукою сочинителя водила зависть к более успешным людям. Кроме того, известно, что Вигель был нетрадиционно ориентирован в сексуальной сфере, а это также, очевидно, создаёт особый авторский флёр…
Однако, что касается Аракчеева, то подобная позиция для светского общества характерна: там Аракчеева ненавидели как выскочку, примерно так же, как Сперанского; с тою, однако, разницей, что Алексея Андреевича свалить было невозможно. Тот платил аристократам похожей монетой, мы знаем. Было ли в этом взаимном ожесточении нечто искреннее и справедливое?.. Вероятно, да, было. Аракчеев властною рукой смирял светскую вольницу, не давая ей распускаться, придворные в отместку выискивали самые неприглядные стороны в характере временщика, утрировали их, создавая образ «людоеда», «змия», «гадины»… Но! – вот ещё значительное «но» – в злой карикатуре, несомненно, содержалось, что-то верное, что-то точно схваченное. Конечно, Алексей Андреевич не был безусловно-патологическим типом, маньяком-убийцей, однако, палачом он, видимо, был. Возможно, в том имелась принципиальная убеждённость: граф твёрдо полагал, что лишь такая мрачная суровость способна скрепить огромную, трудноуправляемую страну, и он, верный государев слуга, не вкладывает в свою строгость ничего личного… Но это, собственно, и есть убеждённость тюремщика. Нет причин говорить плохо про эту профессию – нужда в ней есть, значит, претензий нет; значит, есть и будут люди, убеждённые в важности этого ремесла, и упрекнуть их не в чем. Нет, здесь другое: Аракчеев, наверное, мог честно думать, что он только бич и меч государев… однако, «учили всех, а первым учеником почему-то оказался именно ты» – суровых начальников много, но Аракчеев суровей всех. Не у кого-то, а у него в имении люди доходят до убийства; не после чьего-то, а после его разбирательства остаются десятки умерщвлённых и искалеченных; и депутация военных поселян хочет прорваться к царю с просьбой защитить «крещёный народ» не от кого-нибудь, а от Аракчеева [44, т.3, 272]…
Впрочем, темна вода во облацех. Возможно, педантичный и старательный граф просто-напросто владел ситуацией – именно так, как этого требовала эпоха, и ничего больше… Ведь времена Александра по сравнению с недавним прошлым воспринимались как эра милосердия [49, т.5, 280], а владеть ситуацией можно было, единственно не давая спуску смутьянам и держа в примерном смирении и страхе остальных – то есть ровно так, как действовал Аракчеев в Чугуеве, велев прогнать зачинщиков сквозь строй из тысячи человек по двенадцать раз. Двенадцать тысяч палочных ударов каждому – и беспорядков в помине нет, а до того ни командир дивизии, ни губернатор с ними справиться не могли… Закон суров, но это закон – а граф Аракчеев служитель закона, только и всего. Он не хотел смерти бунтовщиков: некоторые из них скончались после наказания не по его злобной прихоти, но по установленным правилам. Сам же он, докладывая государю о проделанной работе, в частности, о смерти нескольких преступников, «самых злых», сообщил, что он от этого «начинает уставать» [32, т.5, прилож., 90]… А государь поспешил откликнуться на это донесение письмом, в котором также говорил о трудной справедливости закона, и о том, что вынужденная строгость Алексея Андреевича, должно быть, дорого стоила его «чувствительному сердцу».
На первый взгляд, эти строки Александра могут показаться каким-то отталкивающим лицемерием – тем самым качеством, в котором его слишком часто упрекали. Что правда, то правда: лицедействовать император умел; но в данном случае, вероятно, психологический лабиринт поизвилистее. Александр мог отчасти спроецировать на графа свои собственные чувства: конечно, он воспринял известие о смерти мятежников тяжело. Да, телесные наказания были в ходу сплошь и рядом, но они формально не были смертельными…
Формально за время Александрова царствования в России вообще не состоялось ни одной смертной казни; последняя до его восшествия на трон имела место в Москве в 1775 году – были обезглавлены Пугачёв и четверо его сподвижников: Перфильев, Подуров, Торнов и Шигаев; а следующая – уже в 1826-м – декабристы, и тоже пятеро: Пестель, Рылеев, Сергей Муравьёв-Апостол, Бестужев-Рюмин, Каховский. Только эти были повешены в Петербурге…
Да, официально смертной казни не было, но там, в Чугуеве… Александр был подавлен – и от этого ему могло казаться, что так же подавлен Аракчеев. А кроме того, сам граф ведь отнюдь не был таким уж беспросветно одномерным субъектом. Да, подчинённым он мог показаться чем-то вроде механического андроида – и это было, в сущности, впечатление не ложное, ибо Алексей Андреевич считал данную модель руководящего поведения оптимальной. С надменными чванливыми придворными он вёл себя несколько иначе: более жёстко и грубо, так, чтобы эти важные субъекты превращались в униженно лебезящие существа – также, очевидно, воспринимая это как необходимый дидактический приём. И, наконец, в общении с императором он был ещё иным, каким и должен быть верный, бесконечно преданный друг: прямодушным, приветливым, открытым человеком, с которым так уютно, можно попить чайку, отдохнуть душой, поболтав о чём-нибудь незначащем, каких-то милых пустяках, лучше всего о мелочах военной службы: тех самых пуговицах, обшлагах, эмблемах, о строевом шаге, парадах, шеренгах и плутонгах… И как же тут не посочувствовать «чувствительному сердцу», возложившему на себя бремя жёстких решений, необходимых в государственных делах, самой прочной опоре, самому надёжному прикрытию императора!
Спустя некоторое время Александр сам проехался по южным поселениям, убедился, что порядок там водворён, увидел красивые домики, чистые улицы и дворики, крепких, хорошо одетых поселян… И умиротворение сошло в его многотрудную душу?.. Хотелось бы сказать так, да увы, не скажешь. Неоткуда взяться умиротворению в душе императора Александра. Где христианское братство человечества? Одни бунтуют с дрекольем, другие хлещут кнутом и прутьями – кровь, смерть, страдания… Дурной, заколдованный круг! – и он сам, Александр, мечется в этом кругу, не в силах разорвать его, как в скверном сне. «Жизнь есть сон,» – сказал некогда испанский писатель Кальдерон. Может, это и вправду сон?! А как вырваться изо сна? Заснуть – во сне! – и не проснуться…
7
В эти годы, 1816–1819, император, должно быть, с особенной печалью ощутил безличный, безразличный, равнодушный ход времени. Возможно, для него оно ускорилось, побежало, зашумело неясно, как шумят по ночам листья под ветром… Оно стало одного за другим уносить людей, которых Александр знал много лет, составлявших привычный фон его жизни. Что-то стало непоправимо меняться в ней.
В мае 1816-го умер Салтыков, в июле – Державин…
Старик Державин нас заметил И, в гроб сходя, благословил.Знаменитый «публичный экзамен» в Лицее состоялся в январе 1815 года – Пушкин, пожалуй, немного поторопился. До «гроба» старику оставалось ещё более полутора лет. Императору мэтр никогда не был близок, и в правительстве они не очень ладили, и вообще Державин человек из прошлого, реликт эпохи, давно минувшей… Но его смерть в очередной раз напомнила о бренности земного. И – как знать? – может быть, о вечности небесного: действительный тайный советник Державин сошёл в могилу, а поэт Державин жив и поныне…
Ну, а потом пошла череда людей уже Александровской эпохи.
Генерал Вязьмитинов тоже, конечно, был немолод – всего-то на шесть лет моложе Державина. Но он достиг высших чинов по воцарении Александра и полтора десятка лет служил близ самого престола. Бывало всякое: и ошибки, и высочайшее недовольство, и опала – унизительная отставка без права ношения мундира; и возвращение царской милости… Да, ошибался, промахивался, не со всем справлялся, но служил верно. Да, не гений, не ловец звёзд на небе – но служил верно! И никто из мемуаристов, самых едких, самых нелицеприятных – никто не сказал о Сергее Кузьмиче Вязьмитинове ни одного худого слова…
И вот он умер.
А летом того же 1817 года скончался Павел Строганов. Неисправимый странник и путаник, он и окончил свои дни в далёком странствии – морском, на борту фрегата «Святой Патрикий», плывшего из Копенгагена в Лиссабон. Он уже три года как был в отставке, потерял всякое влияние при дворе, пути их с Александром разошлись. Но ведь когда-то был один путь! Были молодость, дружба, мечты… Да, всё прошло, теперь память об этом – такая дальняя окраина; но ведь она не позабудется никогда. Первая потеря Негласного комитета, ещё одна грустная веха на уходящей неведомо куда дороге…
Ровно через год почил Александр Куракин. Возраст, болезни, последствия шока и травм, пережитых на пожаре в австрийском посольстве… Последние времена князь провёл в идиллическом Веймаре, на родине Гёте, там и окончил свою земную страду.
В том же 1818 году русскую службу оставляет Беннигсен и уезжает навсегда в свой фатерланд; умирает Барклай; спустя год скончался Тормасов – вот и полководцы Александра, победители Наполеона, покидают Россию и сей мир… Находясь на министерском посту, в июле 1819-го скончался Козодавлев; в течение нескольких месяцев обязанности министра внутренних дел исполнял Голицын, а затем в это кресло – спустя двенадцать лет! – вернулся Кочубей. Сановная карусель продолжала вертеться.
Но самое тяжёлое несчастье настигло Александра в первые дни этого вообще невесёлого для него 1819 года. Совершенно скоропостижно 9 января (по Григорианскому календарю; а по Юлианскому – 27 декабря 1818-го) ушла из жизни сестра Екатерина, одно из самых дорогих ему существ на Земле…
Екатерина Павловна вторично вышла замуж за принца Вюртембергского Вильгельма, наследника этого небольшого, но всё же королевского престола… и своего двоюродного брата.
Отец Вильгельма, король Вюртембергский Фридрих I был родной младший брат императрицы Марии Фёдоровны – причём королём он стал со щедрой руки Наполеона в 1806 году, а до того числился в великих герцогах.
Свадьба Вильгельма Вюртембергского и Екатерины Павловны состоялась в январе 1816-го, а ровно через девять месяцев, в октябре 1816-го принцесса готовилась подарить супругу дитя. И надо же было случиться тому, что в этот самый момент король опасно заболел! Екатерина, будучи на сносях, денно и нощно ухаживала за тестем (и дядюшкой), что увы не помогло: после безуспешного лечения король почил, а принцесса, вся измученная и разбитая, через несколько часов благополучно разрешилась дочерью… Так что события обрушились на молодую чету все вдруг: в один день супруги похоронили отца, стали родителями и взошли на престол. Вильгельм был провозглашён королём, а Екатерина – королевой Вюртембергской.
Быть монархом (или монархиней) в маленьком царстве – дело специфическое, в коем есть свои плюсы и минусы. Здесь гораздо проще по сравнению с большим государством быть хорошим правителем в спокойные времена и гораздо труднее в бурные. Екатерине Павловне в этом смысле выпало такое вот неоднозначное везение: как королеве ей достались годы относительного затишья после Наполеоновских войн и до начала новых явных волнений – поэтому память о ней у вюртембержцев сохранилась самая добрая.
Только вот было этих счастливых годков – всего-то навсего два с маленьким хвостиком…
Екатерина Павловна заболела в декабре 1818-го: банально простудилась. Но – фамильная черта этой генерации Романовых, что ли?… – слабоватый иммунитет; простуда быстро перешла в болезнь с неблагообразным названием «рожа»: инфекционное воспаление кожи и лимфатических узлов, чаще всего поражающее голову и лицо. У королевы, к сожалению, так и случилось. Она сгорела в две недели.
В наши дни такой болезни практически не бывает: эта самая «рожа» профилактируется антисептикой, а если что-то вдруг возникнет, то антибиотики и ультрафиолет лечат в два счёта. Правда, с годами человечество отыскивает в открытом ящике Пандоры новые болезни, о которых раньше и не слыхивали…
После 11 марта 1801 года это была первая смерть, столь оплаканная Александром. И так же, как восемнадцать лет назад, это не избавляло от тяжкой необходимости жить и царствовать… И что тогда, что сейчас – вернее сказать, именно в эти годы – возраст Александра обозначался одними и теми же цифрами, только в разном порядке. Тогда ему было 24 года, сейчас – 42.
Разумеется, император как человек верующий считал себя несуеверным и псевдомистической чепухе значения не придавал. А вот мистицизм настоящий был в самом разгаре, и князь Голицын ревностно внедрял своё восприятие мира и Творца в массы, считая это личным христианским и служебным долгом.
8
От создания совмещённого министерства духовных дел и народного просвещения ожидали действительного, а не фальшивого просветления страны. Голицын, верно, был человек жаждущий и взыскующий истины… но, откровенно говоря, этот его поиск чем-то походил на ловлю чёрной кошки в тёмной комнате (выражение, почему-то безосновательно приписываемое Конфуцию). Князь, впрочем, и сам не мог не видеть сумерки своих исканий, как не мог, вероятно, не чувствовать недостаток философского и богословского образования. И понимая это, ощущая шаткость мировоззренческой базы, которую он отчаянно пытался сделать христианской, министр духовных дел предпринял психологически более всего объяснимое – он стал стремиться к явной демонстрации своего христианства; что не стоит, однако, считать чем-то уж вовсе показным. Скорее, Голицын полагал таковым скорейший путь обретения веры: общайся с верующими, слушай наставления обретших веру, выполняй обряды, будь при этом искренне набожным… вот и явится откровение, указующее путь. А уж за тем явится и сама вера – прорыв в трансцендентность, состояние души, превращающее четырёхмерное пространство-время эмпирического мира в беспредельную многомерность мира светлого и воистину прекрасного…
Истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдёт; и ничего не будет невозможного для вас [Матф., 17:20]
Проблема соотношения веры и разума – давняя, усеянная множеством сломанных философских копий – жива и бодрствует поныне. Больше скажем: в пределах исторически сложившегося на сей день человечества данный вопрос вряд ли разрешим. Воздерживаясь от ответа на вопрос, кто на этом проблемном поле прав, отметим, что восприятие веры как прорыва в сверхпространство, откуда становится видно недоступное разуму, является наиболее солидной и достойной позицией в данной полемике. Есть основания полагать, что схожий образ мыслей, или, скорее, ощущений и предчувствий имел духовный министр. Вера – взлёт ввысь, раздвигающий горизонты, невидимое делающий видимым, сумрачное – светлым… Но вот чего, имея такую исходную точку зрения, следует остерегаться – принимать за веру свои незавершённые стремления, домыслы и игру воображения, каким бы искренне благим оно не было. И уж тем более – того, что всё это, ошибочно именуемое «верой», способно заменить рациональное мышление, науки, философию… иначе говоря, всё, именуемое «разумом». Покуда настоящей веры нет, покуда не достигнута она, разум является подспорьем, позволяющим нам как-то жить в этом мире – не лучшим, очевидно, образом, но всё-таки лучше, чем никак. Можно признать буйную правоту Лютера в том, что он, разум, способен быть «блудницей дьявола», но неверно соглашаться с тем, что он только таков и есть. Он инструмент, и как его использовать, так и выйдет. Как всякий другой инструмент, как топор, например. Топор – это хорошо или плохо? В руках у плотника – хорошо, у Родиона Раскольникова – плохо…
Топор может стать ужасной вещью, однако ясно: в нашем мире он всё-таки вещь нужная. Имеются все основания полагать, что разум в нашем мире вещь ещё более нужная… А вот князь Голицын, судя по всему, решил иначе. И логика подвела его за неуважительное отношение к ней.
Силлогизм:
Вера выше разума;
Я обладаю верой;
Следовательно, я знаю, что делать в области разума…
будучи неустойчив во второй посылке, оказался ошибочен и в выводе. Вывод Голицына (решившего, что он знает, что делать в области разума!) был таков: учебные программы в образовательных учреждениях, особенно в университетах, надо привести в соответствие со Священным писанием; а исполнение сего поручить Библейскому обществу.
Так и сделали. Система общества была достаточно мощной и разветвлённой, она заработала бодро, с напором, явились активисты, привнесшие в работу незабвенное «тяжкое рвение»… и начались административные фантасмагории.
Крайний мистицизм, равно как и всякая крайность, есть феномен однобокий, а потому и ущербный. Не приходится спорить с тем, что в сложившихся условиях бытия в наших подходах к познанию мира (и внешнего и внутреннего) оказывается необходимой гносеологическая мультиплетность, то есть, использование различных, иной раз, возможно, противоречащих друг другу методов. Интуиция, логика, воображение, простое наблюдение… всё это случается востребованным в освоении человеком мира, и только всё вместе и создаёт цельную картину. Это громоздко, да; и некто утончённый может поморщиться: так-де быть не должно. Не должно, спору нет. Но не должно было так быть ещё в том мире, не должна была праматерь Ева слушаться змея и брать плод с древа… Долгая, словом, история, результатом же на сей день является вынужденная пестрота познавательных приёмов, при которой перекос в ту или иную сторону чреват безнадежным искажением всего. Полагаясь на мистическую интуицию как универсальное средство, но недостаточно владея этой самой интуицией, субъект теряет нить точно так же, как и тот, кто полагает возможным достичь абсолютного знания одним только рациональным мышлением. «…Обособляющийся от конкретной действительности и рационального познания мистицизм ведёт к акосмизму, ибо мистик замещает всякие объективные универсальные критерии для познания сущего субъективными показаниями своей веры и прихотью своей фантазии» [80, т.66, 921]. Такому мистику, как Серафим Саровский, наука и философия, вероятно, и не требовались: в его достигнутой затворническим подвигом вере не было места суевериям и прихотям, чего, увы, не скажешь о Голицыне и ближних к нему деятелях. Некоторые из них уже успели принять своё рвение за высшую правду – и пустились обустраивать окружающий их мир в соответствии с этим неадекватным пониманием.
На данном поприще особенно прославили себя двое: обитатель предыдущих страниц Михаил Магницкий и некий Дмитрий Рунич; они наводили «христианский» порядок соответственно в Казанском и Петербургском университетах; последний только что успел возникнуть в 1819 году, на базе Педагогического института – как на него обрушился Рунич.
И о нём и о Магницком по большинству комментариев может сложиться впечатление точно как о каких-то темнейших дикарях; а между тем оба чиновника были вполне образованными и неглупыми людьми, и уж вряд ли бы Сперанский стал терпеть близ себя умственное убожество. Однако, приходится с прискорбием констатировать непреложный факт: эти образованные люди сами заработали такие отзывы тем, что они вытворяли в подведомственных им университетах. Отчасти мотивы действий могли быть сугубо земными: Магницкий, в ссылке досыта натерпевшийся горестей и наконец-то дождавшийся того, что гнев сменён на милость, наверное, больше всего на свете боялся вновь попасть в опалу и потому усердствовал сверх сил и разума…
При этом некоторые исследования упоминают о Магницком как о затаившемся атеисте [50, 457] – стало быть, всё его усердие было одним только циничным и неистовым угодничеством. Возможно, что и так…
Тем не менее основной в этой кампании всё же была идейная направленность – все науки должны исходить из религиозного миропонимания. Этот тезис сам по себе мог быть вполне здравым, причём и в исполнении членов Библейского общества, высказывавших вполне просветлённые мысли. Чем не здраво требование к медикам руководствоваться в исследовательской и лечебной деятельности правилами христианской нравственности? А разве изумительная гармония математики не есть подтверждение единого начала мира?! Всё так… но вот, даже при столь внятной исходной позиции возможно столь плачевное завершение, как в случае Голицынского духовно-административного эксперимента. Причуды ревнителей приобрели уж совсем неистовый характер: Магницкий, например, предлагал уничтожить в Казанском университете анатомический театр и различные препараты, например, уродцев в банках со спиртом – так как всё это оскорбляет образ человеческий, являющийся отражением образа Божие… Понятно возмущение учёных: «тяжкое рвение» чиновников общественно опасно в принципе, а в тонких материях – в науке, искусстве – вдвойне, втройне… К Александру полетели жалобы, на которые он не мог не обратить внимания: в частности, обратился к императору крупный учёный, профессор Дерптского университета Паррот, прося ограничить чей-то «административный восторг».
Император был немало огорчён: и здесь светлое начало выродилось в неожиданное безобразие! Но то была одна лишь сторона огорчений его. Другую преподнесло духовенство, также не принявшее Голицынских нововведений – разумеется, по совсем иным основаниям; но социальные последствия для Александра как для правителя оказались совершенно те же: разброд, сумятица, борьба придворных группировок. И вся эта беда – вместо чаемого просветления, вместо созидания единого и нерушимого духовного пространства… Действительно впору отчаяться: неужто же ничего нельзя в этом мире сделать лучше?! Как было пять, и десять, и пятнадцать лет назад, так и будет тянуться в дурной бесконечности!..
Неудовольствие духовенства носило характер многоликий. Была здесь политика – безусловно, вершины церковной иерархии по факту, так сказать, являются политической подсистемой, независимо от того, хорошо ли это, плохо ли… Иерархи не выказали радости от того, что государь водрузил над ними Голицына, но дело было не только в персоне князя; дело более в самой системе: структура государственно-церковных отношений в период его министерства действительно усложнилась до чрезвычайной громоздкости. Синод ведь никто не отменил, он остался, а над ним надстроилось уже само министерство – приём, оправдавший себя в 1802 году, повторившись в 1817-м, привёл лишь к бесплодному умножению сущностей, не внеся эффективности в отношения светской власти и церкви, подмятой под государство Петром I. Конечно – как бы ни было об этом горько говорить, но придётся – в своё время священнослужитили проявили достойные лучшего применения смирение и податливость, позволив свирепому царю надеть на них государево ярмо… Но прошло сто лет, духовное сословие вроде бы привыкло к подчинённому положению, устроилось, обжилось в нём. В эпоху «бабьего царства» священство никто особо не донимал, хотя и не помогал ему, оно как-то само по себе прозябало, бедовало и выживало; Павел Петрович, может, и готов был устроить что-нибудь удивительное, да не успел; а вот Александр Павлович, пустившись в странствования по неведомым просторам духовного мира, озаботил многих. Внецерковное, «внутреннее» христианство императора, а за ним и Голицынского министерства, вся эта круговерть из «Криднерши», квакеров, скопцов, хлыстов, Татариновских радений!.. конечно, высокопоставленное духовенство заволновалось.
Мы говорим здесь о духовенстве высокопоставленном – ибо для массы рядовых священнослужителей: уездных, сельских – вряд ли что-либо сместилось в жизни. Петербургские и московские инновации до них просто не дошли.
Одним из таких волнений стал затеянный Александром при посредстве всё того же Библейского общества перевод Библии с церковнославянского на русский язык… На сегодняшний беглый взгляд довольно трудно понять суть коллизии, которая будто бы совершенно банальна: перевели, и на здоровье. По тем же временам это равнялось едва ли не потрясению основ – примерно так же, как за полтора столетия до того исправление священных книг патриархом Никоном.
На самом деле: для воцерковленного сознания сакральность текста определяется его устоявшейся, освящённой всей церковной историей целостностью. Всякое изменение нарушает единство, а следовательно, и ту защитную ауру, которой религия облекает верующего; собственно, при этом теряется сам метафизический смысл религии в исходном смысле слова [коммуникация человеческой души с высшим миром – В.Г.]. Так – возможно, не в этих терминах, но так по сути мыслили противники перевода, например, митрополит Серафим (Глаголевский), взошедший на Санкт-Петербургскую кафедру в 1821 году. И эту позицию не упрекнёшь в отсутствии аргументов… Но есть солидные резоны и в точке зрения противоположной, представляемой и самим Библейским обществом и немалым числом духовных лиц. Время неумолимо; мир меняется, ставит людей перед неведомыми прежде реальностями, хотим мы того или нет… Не пошатнётся ли человеческая вера в мире, год от года наполняемом вещами, у которых нет названия на церковнославянском? Не превращаются ли непонятные людям служения в какую-то отвлечённую магию? И как мыслить о Боге на одном языке, а по жизни ориентироваться на другом?.. Хотя, наверное, можно и так, но всё же лучше, чтобы был один язык для всего – чтобы веру и жизнь не развело, не растащило силой в стороны…
Видимо, этого – опасного расхождения церковной и повседневной жизни более всего и опасались сторонники перевода Писания на русский: протоиерей Герасим Павский, архиепископ Филарет (Дроздов), будущий митрополит Московский. Такие люди… сравнение может показаться экспансивным, но не побоимся привести его – такие люди, подобно импрессионистам, только задолго до них и на совершенно другом уровне бытия улавливали какое-то, возможно, им самим до конца неясное неблагополучие в событиях, идеях, словах… днях, вечерах, закатах и рассветах окружающего их мира. Тревога, предчувствия, попытки увидеть будущее – куда влекут людей годы, если неприметно, день за днём растёт разлад между религией и мировоззрением?.. Бог становится не нужен человеку, тому начинает казаться, что он может жить, быть и процветать сам, силой разума, воплощаемой в техническом прогрессе и социальной инженерии… словом, нам, обитателям двадцать первого века, знакомая и печальная история. Крайний рационализм столь же однобок и жалок, как и крайний мистицизм, хотя и выглядит совсем не похоже. Но европейский девятнадцатый век, прельщённый огромными – действительно огромными! – возможностями, предлагаемыми наукой, принял их за абсолютные… и ничему не научил его век восемнадцатый, казалось бы, уже обжегшийся на этом опасном обмане. И годы, годы!.. Не сразу, но из года в год, из поколения в поколение «прогресс» вымывал из мира то, что даётся одной только религиозной нравственностью. И ведь не по злому умыслу! хотя и по нему тоже, было и такое – но большинство людей вовсе не хотело отворачиваться ни от нравственности, ни от самой религии. Просто меняющаяся, ускоряющаяся, прогрессирующая жизнь съедала всё больше и больше человеческого времени, и всё меньше и меньше оставалось в нём места для того, чтобы прикоснуться к вечности. Настоящая религиозность заменялась мистически-магическим суемудрием… а потом распадалась в бегущем, мечущемся мире и она.
Вот этого и страшился, это предвидел митрополит Филарет – и, вероятно, гораздо острее, чем император Александр; впрочем, владыка дожил до тех лет (почил в 1867-м), когда ему довелось увидеть, как начали пугающе воплощаться его предчувствия – в идиотской чуши «мыслителей» вроде Бюхнера и Фохта, в моральном одичании русских нигилистов, в неостановимом нарастании религиозного безличия у людей вовсе не злых, не агрессивных… Этому он пытался противостоять как мог, и именно потому стремился сделать Библию доступной современному смыслу – чтобы сохранять и раздвигать пространство веры в мире, исподволь теснящем это пространство. Собственно, то же самое, в свою эпоху и своими методами пытался сделать Александр… и, приходится признать, что не очень это получилось, ни у одного, ни у другого.
Тогда, на переходе к 20-м годам XIX века, нарастающий клубок проблем – зародыш будущих мировых и российских катастроф – заявил о своём нехорошем существовании императору Александру тем, что на шахматном языке называется цугцванг: ситуацией, при которой любое действие или бездействие ведёт к ухудшению. За что ни возьмись, что ни попытайся сделать – выходит только хуже. О конституции лучше уж не вспоминать: проект Новосильцева так же лёг под сукно, как все прочие. И крепостному праву конца-краю не видать, и военные поселения не стали школой свободы, что-то из них выросло совсем не то, что хотелось, о чём мечталось… И из духовного просвещения тоже. Даже ещё печальнее и безобразнее: в итоге оказались недовольными и учёные и иерархи, началась придворная борьба, в которую соперники втягивали в качестве боевых слонов разных удивительных персонажей… Прошло не так уж много времени, и оба фаворита государевы, Аракчеев и Голицын, превратились в непримиримых врагов.
Разве этого хотел Александр?! Разве мог он представить, что всё обернётся так гадко: и смешно, и страшно, и глупо! И что теперь делать дальше?..
9
«Вечный» русский вопрос задавал себе не один Александр. О том же спрашивали себя члены «тайных обществ», люди, недовольные политикой правительства и полагавшие, что уж они-то, окажись они сами правительством, всё сделают именно так, как надо Отечеству. Вот они и взялись решать – что надо делать.
Несколько лет ушло на пустопорожние разговоры и масонские перформансы. Впрочем, это не было таким уж совсем беспутным времяпровождением: в процессе обсуждений и дебатов обозначались, утверждались и проецировались в будущее различные позиции, впоследствии поведшие этих людей по разным дорогам и приведшие к разным жизненным финалам: кому петля, кому кандалы, кому чужбина, кому торжественные похороны при всех регалиях… И уже в Союзе Спасения наметились расхождения: его члены со временем разделились на умеренных и радикальных. Одним из самых крайних стал гвардейский (впоследствии армейский, но это не было понижением, наоборот, был, как говорится, «брошен на усиление») офицер Павел Пестель – человек, в котором, наверное, всего рельефнее выявились парадоксы, перепады, печальные нелепости «декабризма». Русский бунтарь с немецкой фамилией…
Дальний пращур Пестеля выехал в Россию из Саксонии при Петре I – за карьерой, подобно множеству иностранцев той эпохи. Карьера удалась: он стал московским почт-директором; и потомки сакса пошли по этой же почтовой части. Отец Павла, Иван Борисович, при Павле I стал начальником всего почтового сообщения России (за исключением разве что известного нам «ящика» Павла Петровича…). Александр поначалу тоже доверял чиновнику и в 1806 году возвысил до генерал-губернатора Сибири. Но вот тут-то и начались чудеса.
Явившись на место и ознакомившись с обстоятельствами, Иван Борисович нашёл их запущенными до предела, едва ли не катастрофическими и отправил такой мрачный отчёт о состоянии дел, что был потребован обратно в Петербург для более подробных разъяснений. Генерал-губернатор, конечно, прибыл… да и застрял в столице – всё разъяснял и разъяснял. Так, видимо, и не разъяснил, хотя длилось это двенадцать (двенадцать!!!) лет, и все эти двенадцать лет И. Б. Пестель продолжал оставаться наместником Сибири, живя в Петербурге, а делами на месте заправлял иркутский губернатор Николай Трескин – субъект, экстравагантный до крайности.
К административной фантастике на Руси привыкли издавна, потому сложившееся положение никого не удивляло, а у Александра и его первых сановников было в эти годы столько сверхзадач планетарного масштаба, что им было не до Пестеля-старшего и не до Сибири. Когда же царские руки, наконец, до этого дошли, то генерал-губернатором, после трёхлетнего пребывания в Пензе, был назначен Сперанский – очевидно, император решил, что никому, кроме него не под силу будет исправить положение после менеджерских деяний Пестеля и Трескина…
Павел был старшим сыном Ивана Борисовича. Получил хорошее образование: учился в Германии, затем в Пажеском корпусе. Уже тогда, в весьма раннем возрасте проявились в нём умственные дарования и чрезмерная твёрдость характера, какое-то неудобство в общении – товарищи его недолюбливали.
Никого это не напоминает? Скажем, Аракчеева в кадетском корпусе?..
Сильные, властные характеры схожи, но пути их по жизни складываются очень по-разному. Не в пример Аракчееву, к воспитаннику Пестелю настороженно относились не только сокурсники, но и начальство, несмотря на то, что он, конечно же, учился превосходно. Педагоги отмечали в нём странные, непонятные им дерзость и вольнодумство: это казалось несовместимым с репутацией первого ученика, а тем не менее было…
Жизнь, надо сказать, предоставляет подобным натурам обширное поле для деятельности, но большинство из них закономерно оказываются либо на государственной службе, либо в политике – что часто совмещается одно с другим. Однако, и это происходит по-разному.
Окончив корпус, Павел Пестель поступил прапорщиком в лейб-гвардии Литовский полк. Было это в 1811 году – почти сразу же для молодого офицера пошли годы войн, битв, походов. Бородино, Дрезден, Кульм, Лейпциг… Разумеется, прапорщик зарекомендовал себя отличным служакой, за три года превратился в поручика, получил несколько орденов, и русских и иностранных, наградную золотую шпагу, стал адъютантом главнокомандующего (Витгенштейна), которым был очень высоко ценим. Карьера просто блистательная! Будущий генерал в двадцатилетнем поручике угадывался уже наверняка… Если бы темп, взятый в начале жизни, сохранился и потом, то как знать, вероятно быть бы Пестелю и самому главнокомандующим.
Но судьба сыграла с ним в другую игру.
Далее жизнь провела Пестеля по масонским ложам: совершенно банальная биографическая черта по тем временам. Ну, а потом – Союз спасения; и вот здесь судьба Павла Ивановича совершила роковой поворот.
Конечно, в нём самом поворот назревал давно. То раздражавшее воспитателей Пажеского корпуса трудное, упрямое вольнодумство было, очевидно, зародышем будущего. А будущее стало расчётливой, холодной волей к власти. Возможно, впрочем, то был не единственный мотив самого Пестеля и уж точно не главный в идеологии тайных обществ… Там и вправду были очень разные люди.
Были чистые сердцем, но несчастно заплутавшие в странных религиозных мудрствованиях и оттого ожесточившиеся Сергей Муравьёв-Апостол и Михаил Бестужев-Рюмин; для людей типа братьев Тургеневых и Никиты Муравьёва общество наверняка представлялось чем-то вроде интеллектуального клуба [55, 30]… Ну, а для Пестеля главное стало в том, что такая организация может стать средством достижения власти – его, разумеется, Павла Ивановича Пестеля персональной власти.
Очень может быть, что это вовсе не было грубым прагматичным политиканством, а за деяниями этого человека скрывалось непростое, более всего похожее на стоицизм мировоззрение. Судьба слишком уж явно намекала Пестелю на его избранность. Он исключительно умный, одарённый человек, он рано стал самостоятельно мыслить, его карьера началась стремительно, как ни у кого другого… Что это значит? То, что его предназначение – власть?.. Да, не иначе! Но это невозможно в империи Романовых. Следовательно, он, Павел Пестель, должен данную империю устранить. Всё логично и всё подтверждается.
Впоследствии многие в «обществах» находили, что Пестель похож на Наполеона: и диктаторскими замашками, и манерой поведения, тяжеловатой, давящей [44, т.3, 201]… Это справедливо подмечено – да и сам Пестель не мог не заметить этого сходства: судьба ведь вела его вверх так же мощно, так же напористо, даже, пожалуй, ещё напористее, чем самого Бонапарта… Но! – властные натуры все схожи и все различны. Наполеон от всей души презирал какую-то там философию, для него власть была целью и смыслом, альфой и омегой, всем. Он мог быть и весел, и обаятелен, и простодушен – при условии, однако, что он первый, всем приказывает и указывает, а ему никто и слова поперёк не скажи; когда же его этого лишили, он превратился в скучного и нудного корсиканского буржуа.
Пестель воспитал себя мыслителем, ищущим первопричин. Кстати, его мать была чрезвычайно набожной лютеранкой – и как знать, не пришёл ли умный молодой человек, осмысливая свою жизнь, к тому, что он есть орудие Провидения? Что власть, к которой столь явно ведёт его судьба, не цель, но средство, указание, как сделать Россию счастливой?.. А иначе почему же все пути, все обстоятельства ведут к этому?!
Да, обстоятельства складывались, как под диктовку. Но сказано было выше, и нелишне будте повторить: хитёр искуситель рода человеческого, умён и хитёр. Всё так сложилось, чтобы человек одарённый, теоретически пришедший к идее бытия Бога, пришёл и к идее своей избранности, к ноше, возложенной на него Провидением: взять власть и привести к свободе Отечество, а потом – отчего бы нет! – весь мир.
У мыслящих людей, мучительно застрявших на проблеме расхождения веры и разума в нашем мире, эта дисгармония проявляется, как правило, в том, что человек сознаёт невозможность бытия без абсолютного нравственного и эстетического начала, сиречь Бога – но действительность не даёт этому никаких подтверждений, никаких доказательств… А вот у Пестеля было наоборот. «У меня сердце материалиста, – говаривал он с усмешкой, – но умом я понимаю, что Бог нужен для метафизики, как для математики нуль» [44, т.4, 241]. И вот с таким багажом: пониманием необходимости и отсутствием веры избранник взялся за преобразование мира.
Вот отчасти и ответ на вопрос: почему же всё-таки романтики стали фанатиками? Почему тайные общества из интеллектуальных клубов превратились в боевые организации, а потом и в толпы мятежников?.. Да хотя бы потому, что там был Павел Пестель! Его ум, его воля повлекли многих, воздействовали как гипнозом. Властная, сильная, тяжёлая личность точно прессом давила рыхлые, сырые сборища, выдавливая из них лишнее, выжимая бесконечные и бесплодные дискуссии. Дисциплина вместо приятельства, диктатура вместо дружбы – к этому неумолимо двигались взрослеющие русские юноши взрослеющего XIX века, хотя дойти им до их цели так и не было дано.
10
Священный Союз не смог стать духовным небом Европы. Александр долго не хотел с этим мириться; правду говоря, он так и не смирился с этим. Тем паче он не отказался от мысли о победе нашего мира над злом и возвращении в Царство Божие. Он лишь понял со временем, что ему, Александру I, эту битву не выиграть. И не Священному Союзу. Грустная правда – но и её император вынужден был принять как данность. Спокойнее в Европе не стало. Наоборот, после нескольких лет затишья шевеление недовольных стало явным, опасным и пугающим. Меттерних, конечно, был прав.
В 1819 году Александр ощутил это по Царству Польскому. Четыре года назад, утверждая конституцию этого царства, год тому назад открывая сейм, он думал, что создаёт в своей империи зародыш будущих гражданских свобод… Но в 1815-м благоволение государя к полякам разобидело и возмутило многих русских, а в 1819-м недовольство стали проявлять сами «ясновельможные». Свобод, дарованных императором, теперь уже показалось мало…
Александру пришлось пережить очередное разочарование. Правда, за последние годы к этому было не привыкать, но каждый такой случай бьёт по сердцу, а сил всё меньше и меньше… Царь чувствует, что он от этой жизни очень устал.
Там же, в Варшаве, он признаётся в этом брату Константину. И впервые он явно и ответственно говорит о том, что хочет оставить престол. Впоследствии, впрочем, историки, зная о странных событиях вокруг завещания и кончины Александра, усматривали намёки на предполагаемое отречение и уход царя в разное время оброненных им фразах. О юношеских вздохах насчёт «домика на берегу», конечно, повторяться не стоит, а вот в зрелые годы… Так, будучи в Киеве (когда посещал схимника Вассиана), однажды за парадным обедом он вдруг заговорил о том, что глава большого государства должен пребывать в своей должности лишь до того, покуда ему позволят это силы и здоровье… Затем конкретизировал данный тезис: «Что касается меня, то в настоящее время я прекрасно чувствую себя, но через десять или пятнадцать лет, когда мне будет пятьдесят…» [5, 345].
Тут присутствующие зашумели, наперебой говоря, что они и слышать не хотят об этом, что уверены в долгих и счастливых летах жизни их обожаемого монарха… Александр улыбнулся и сменил тему.
А в 1819 году великий князь Николай Павлович к великому своему изумлению услышал от старшего брата, что именно ему, Николаю, а не Константину предстоит в не очень далёком будущем возложить на себя шапку Мономаха, поскольку бездетный и давным-давно не живущий с женой Константин решил от престола отказаться. Более того! Стать царём Николаю предстоит ещё при жизни Александра, ибо тот хочет со временем удалиться не только от власти, но и от «мира» [там же].
Услыхав такие новости, Николай и его жена Александра Фёдоровна на какое-то время потеряли дар речи; потом опамятовались и залепетали что-то вроде: что вы, что вы, Ваше величество… дай Бог вам царствовать и здравствовать… и этот разговор тоже сам собою рассеялся на какой-то неопределённой ноте.
Да, со временем мотив ухода, к чему прибавился ещё и мотив нежелания Константина править, зазвучал вполне серьёзно. Несомненно, старшие братья о чём-то втихомолку говорили друг с другом; весьма также вероятно, что курсе их переговоров была Мария Фёдоровна… Однако, всё это пока было больше похоже на пробные шары. А вот в варшавской беседе – это сентябрь 1819 года – Александр высказывается почти официально (Константин законный наследник, никто его престолонаследного первенства не отменял!): «Я должен сказать тебе, брат, что я хочу абдикировать [отречься – В.Г.]; я устал и не в силах сносить тягость правительства, я тебя предупреждаю для того, чтобы ты подумал, что тебе надобно будет делать в этом случае» [6, 72].
Константин полушутливо-полувсерьёз отвечал, что в этом случае он готов быть брату камердинером и чистить ему сапоги; Александр расчувствовался, обнял брата, поцеловал и сказал: «Когда придёт пора абдикировать, то я тебе дам знать, и ты мысли мои напиши матушке»[6, 73].
Великий князь Константин действительно не хотел царствовать. Он слишком хорошо помнил 11 марта! Убийство отца навсегда отшатнуло его от престола, хотя он и продолжал по закону числиться в наследниках… К двадцатилетию Александрова царствования пассивное отлынивание переросло в твёрдую неуступчивую позицию: Константин категорически не желал оказываться на троне. Он нашёл себе в жизни уютную, тихую нишу в Варшаве, комфортно в ней обретался, и глубоко безразличны ему сделались и Петербург и тем более имперская корона.
Должно сказать, что чуть позже у Константина Павловича появился и формальный повод для самоотвода; но о том разговор отдельный. Сейчас – о делах европейских.
1 января 1820 года по Григорианскому календарю сменилась очередная цифра десятилетий на календаре всемирной истории. И в этот же день человек по фамилии Риего-и-Нуньес нанёс Священному Союзу удар – наверняка показавшийся тому чем-то вроде булавочного укола. Но политическая ткань союза от этого укола вдруг стала расползаться с катастрофической быстротой…
Испанский офицер Рафаэль Риего-и-Нуньес во время Пиренейской кампании Наполеона попал к французам в плен, очутился во Франции, провёл там несколько лет. Чем он это время занимался – дело тёмное, но вернулся он на родину не просто масоном, а масоном-экстремистом; в сущности, его взгляды проделали эволюцию, подобную взглядам Пестеля. А испанские масонские ложи подобно русским, год за годом превращались в глубоко враждебные правительству организации, разрастались, координировали действия… Так что, когда 1 января 1820 года в портовом городе Кадис, близ которого Нельсон когда-то настиг франко-испанский флот, Риего взбунтовал экспедиционный корпус, предназначенный для отправки в Южную Америку – неожиданно для оплошавшей королевской власти полыхнуло по всему югу страны.
В России к этому времени вместо Союза спасения, выполнившего роль первоначала, уже действовал его преемник – Союз благоденствия, организация, постаравшаяся учесть предыдущие недостатки, куда более жёсткая в намерениях, намного лучше систематизированная и разветвлённая: отделения «благодетелей» имелись не только в Москве и Петербурге, ими стала насыщаться 2-я армия под командованием Витгенштейна, расквартированная в юго-западных губерниях империи. Там оказался и Пестель опять же в роли адьютанта – никого другого Витгенштейн не хотел знать. А одним из командиров дивизий в этой армии был Михаил Орлов… Кстати, для многих будущих декабристов Риего служил маяком, образцом для подражания. Да и было за что:
Мятеж не может кончиться удачей;
В противном случае его зовут иначе…
С этой точки зрения Риего мятежником не был: его революция победоносно распространялась по Испании (хорошо была организована система лож!) и король Фердинанд VII ничего не мог с ней поделать, напротив, вынужден был даже утвердить смутьяна президентом кортесов [главой парламента – В.Г.]. Правда, кончил масонский вождь всё-таки плохо, зато уж начало вышло триумфальное…
Испанские дела, конечно, растревожили Священный Союз. Но не успели там как следует собраться с мыслями, как грянуло в соседней Франции.
У графа Д`Артуа (напомним: младший брат короля и сам будущий король Карл X), был сын, имевший титул герцога Беррийского, по имени провинции Берри, исторической области в центре Франции. Этот вполне зрелый мужчина активно вошёл в политику и как-то уж очень неуживчиво стал в ней вращаться – в конце концов его невзлюбили все: и роялисты, и бонапартисты, и республиканцы… «Конец концов» в данном случае не фигуральное, а самое что ни на есть натуральное и грустное выражение, к тому же наступил он скоро. Европейский бомонд бурно обсуждал события в Испании, когда вдруг его настигла ещё одна оглушительная весть: некий ремесленник Пьер Лувель убил герцога Беррийского.
Официальная версия гласит, что преступление было совершено из антироялистских побуждений, но и сегодня, спустя почти двести лет, оно вызывает пересуды историков: слишком уж со многими перессорился герцог. Ходят гипотезы, что за Лувелем, желавшим «истребить Бурбонов», таким же неуравновешенным типом, что и Занд, могли скрываться и сам король Людовик XVIII, и его премьер-министр Деказ, к этому времени сменивший Ришелье… Но с точки зрения текущей политики всё это не было важно. Особенно для Меттерниха. Ему был важен всякий повод, подтверждающий его правоту. А 1820 год предоставлял ему повод за поводом, будто нарочно для того, чтобы продемонстрировать, какой князь умный… Правда, легче от этого никому не делалось, в том числе и самому князю.
В июле – что, наверное, никого теперь не удивило – вспыхнула революция в Неаполе: здесь уже поработали карбонарии. Александру день за днём приходилось с глубокой печалью признать окончательный крах своих прекраснодушных замыслов… Духовно-нравственное одеяние, скроенное по лекалам Венского конгресса и с таким трудом надетое на неподатливое тело европейского континента, трещало по всем швам. И «христианскому братству» только и оставалось, как неладному портному, латать одну дыру за другой и лепить заплаты.
В это время Александр, вероятно, стиснув зубы, решил, что строительство всемирного храма – равно как и храма в Москве! – придётся приостановить и поработать в супер-министерстве по чрезвычайным ситуациям, каковым неудержимо становился Священный Союз. Преодолеть кризис – а уж тогда о храме и подумаем…
Преодолевать властители и их министры взялись в октябре, собравшись на второй конгресс Союза. На сей раз хозяином, принимавшим высоких гостей, был Франц… а фактически, конечно, Меттерних. Местом встречи выбрали опять же небольшой городок Троппау (ныне Опава, в Чехии). Главный вопрос, рассматривавшийся на встрече: насколько члены Священного Союза могут помогать друг другу пресекать волнения, буде те возникнут в какой-либо из стран; иначе говоря, возможны ли военные интервенции стран-членов Союза на сопредельные территории – разумеется, с общего согласия.
Общее согласие наступило не сразу. Вопрос оказался слишком уж непростым… Из пяти великих держав три: Россия, Австрия, Пруссия стояли за разрешение таких действий – а Меттерних не мог надивиться и нарадоваться на Александра; таким протрезвевшим от былых иллюзий представлялся ему русский царь. Англия же и Франция, в принципе не возражая против военной взаимовыручки, сами в подобном участвовать не пожелали, ссылаясь на различные туманные «принципы». Завязались обычные скучные дипломатические дебаты… как вдруг царя настигло известие, которого он ожидать никак не мог.
Напомним: Александр издавна считался шефом гвардейского Семёновского полка – одного из двух, созданных ещё Петром I. Эта боевая единица была как бы царским эскортом, сопровождавшим императора по жизни, рядом с ним и повседневно, в разные трудные и двусмысленные моменты. Гатчинские вахт-парады, страшная ночь с 11 на 12 марта 1801 года, Аустерлиц… Александр знал практически всех офицеров полка, знал лично и многих солдат, особенно в 1-й, гренадерской роте. В общем, как для военнослужащего, для него это была родная часть.
И вот, в самый разгар конгресса императору доносят, что в его полку бунт!
Весть об этом принёс Александру специальный посланник – ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка Пётр Чаадаев, близкий к тайным обществам, но не входивший в них, будущий вольнодумный мыслитель, навлекший на себя гнев императора Николая I… Но и Александра он рассердил – слишком медленным путешествием из Петербурга в Троппау; очень уж тяготел к комфорту и ехал с неторопливым приятным сибаритством, в результате чего Меттерних узнал о Семёновском бунте раньше, чем Александр. Прежде к гвардейскому ротмистру благосклонный, император принял его на сей раз прохладно – тот счёл это незаслуженным афронтом, подал в отставку и немедля её получил [32, т.5, 512]. Военная служба кончилась, началась карьера свободного философа, спустя много лет также завершившаяся грустно…
В первый момент Александр сообщению даже не поверил. Но потом-то уж поверить пришлось… Он приказал провести разбирательство – покинуть Троппау посреди столь важного мероприятия император, конечно, не мог.
История возмущения в Семёновском полку не очень ясна и по сей день. По факту дело обстояло так: на место прежнего командира, любимого солдатами генерала Потёмкина, заступил новый, отличный строевик, но придирчивый, занудный и неумный полковник Шварц. Меньше чем за год он довёл блестящую гвардейскую часть до вспышки неповиновения. Причём началось оно именно с 1-й гренадерской роты.
Но Александр с подозрением отнёсся к этому. Он знал Шварца и вовсе не считал его «варваром», способным довести солдат до отчаяния. Сопоставив кое-какие факты, поразмыслив, император пришёл к выводу, что бунт – деяние злонамеренное, и что недобрые силы на самом деле сознательно раскачивают Европу, христианский мир. Связаны ли они друг с другом – масоны в Испании, карбонарии в Неаполе, петербургские подпольные вредители?.. Да! – решил Александр. Всё это звенья одной цепи.
Такого резкого вывода несколько испугался даже Меттерних, который до того сам всех пугал. «Превосходило бы всякую меру вероятия, – успокаивая себя, писал он, – если бы в России радикалы уже могли располагать целыми полками»[73, 205].
Это, понятно, преувеличение, полками тогда заговорщики располагать не могли. Но вызвать сумятицу в отдельно взятом полку, в гвардейском тем более – вполне… Вспомним: Николай I полагал, что ещё в 1818 году государь знал о существовании тайных обществ. Может быть, он не столько знал, сколько подозревал, а если всё же и знал, то воспринимал эти сборища больше как мальчишеские шалости; во всяком случае, хотел бы их себе такими представлять. Но вот стало ясно, что это не шалость…
Вряд ли мы сможем и сейчас ответить на вопрос: было ли смятение Семёновского полка спонтанным возмущением солдат против вздорного командира, или же здесь действительно поработали тайные агитаторы. Некоторые факты подтверждают второе: прокламации «Воззвание от Семёновского полка от Преображенскому» распространялись во время бунта, и уж это никак не было похоже на солдатские эксцессы. Многие офицеры-семёновцы были, разумеется, членами Союза благоденствия, а впоследствии стали самыми настоящими мятежниками: братья Муравьвы-Апостолы, Сергей и Матвей, Михаил Бестужев-Рюмин… А могло быть и так, что бунт первой роты случился сам собой, а кто-то попытался подхватить удачно выпавший случай, хотя бы для того, чтобы увидеть, что из этого выйдет.
Вышло немногое. Побуянили и угомонились. Точнее, угомонили – конечно, Аракчеев, как же без него! Кто-то попал под трибунал и был наказан – в том числе и сам Шварц, за то, что упустил ситуацию из-под контроля; практически всех солдат и офицеров раскассировали по другим полкам. Собственно говоря, «прежний» Семёновский полк перестал существовать: осень 1820 года – начало «новой» истории этой славной боевой единицы.
Император следил за событиями, не прекращая переговоров на конгрессе – и, кажется, к концу ноября мог вздохнуть свободнее: в Петербурге стихло, в Троппау относительно договорились… «Предварительный протокол», утверждавший право на военную взаимопомощь, был подписан, но англичане и французы от подписания так и уклонились, хотя на словах всех уверяли, что возражать и протестовать, случись что, не будут. Правда, беспорядки в Неаполе остановить не удалось, и потому конгресс принял решение, не прерывая работы, перебраться с одной австрийской оконечности на другую, с северо-востока на юго-восток, из Троппау в Лайбах, ближе к Италии. Новый, 1821 год и начался с этого переезда.
Лайбах – сегодня столица Словении Любляна…
Решение оказалось разумным: переезд добавил конгрессу оперативности, дела в Неаполе быстро пошли на лад. После подписания ноябрьского протокола у Союза оказались юридически развязаны руки, и когда неаполитанский король Фердинанд I по всем правилам обратился к сонму коллег-монархов за военной помощью, она пришла к нему на самых законных основаниях. Союзные – а именно, австрийские – войска вторглись на территорию Неаполитанского королевства и быстро покончили с карбонарийскими поползновениями, в военном отношении имевшими вполне дилетантский характер… Походя армия Франца справилась с такими же волнениями в Пьемонте (Турин), тогда населённой итальянцами австрийской провинции – тут уж и приглашений не потребовалось.
Александр же немного схитрил. Он распорядился было отправить гвардию в итальянский поход, но когда полки вышли из Петербурга и продвинулись на значительное расстояние (где-то в район Минска), царь вдруг издал «стоп-приказ»: всем стать по квартирам. Поход окончен. До Италии не дошли, и слава Богу [6, 76].
Словчив, император одним выстрелом уложил-таки двух зайцев. Первый (маленький) заяц таков: Российская империя показала свою безусловную готовность действовать в интересах Священного Союза. Потребовалась Союзу военная сила – и русская военная сила пошла! Правда, на месте справились без неё, но это уж вопрос второй… Ну, а главный заяц здесь понятно какой: удалить из столицы взволнованную гвардию под благовидным предлогом… Что и было сделано.
В Лайбахе императоры, короли и министры вроде бы имели шанс себя поздравить: их аварийная команда сработала достаточно успешно. Однако, ведь это даже не пол-дела, разве что четверть… Аварийная команда – не стратегия, не поиск кардинального решения, создающего социальный гомеостаз, а суета и латание дыр. Где лопнет в следующий раз?..
Конечно, лопнуло там, где не ждали.
11
Со времён падения Византии под натиском турок-османов, завоёванные, но не покорённые греки не оставляли попыток освободиться из-под власти «безбожных», на их взгляд, завоевателей – и в этой борьбе неизменно уповали на помощь православных единоверцев: московских, а потом петербургских государей.
Помощь приходила скорее косвенная, чем прямая: бесконечно воюя с Османской империей на протяжении XVIII века, империя Российская преследовала свои собственные интересы, но эти войны, конечно, расшатывали царство султанов, а грекам только того и надо было. Многие из них поступали на русскую службу и находили себя в ней – Каподистрия, к примеру… Среди таковых были представители аристократического семейства Ипсиланти, претендовавшие на происхождение от византийской императорской династии Комнинов [83] и с давних пор владевшие Валахией как вассальным по отношению к Турции государством. Между прочим, известная нам русско-турецкая война 1806-12 годов завязалась в частности из-за того, что правительство Селима III, провоцируемое Талейраном, сместило пророссийски настроенного господаря Валахии Константина Ипсиланти. Селима вскоре свергли и убили заговорщики, Константин Ипсиланти с семьёй перебрался в Россию, а сыновья его, Александр и Дмитрий, поступили в русскую армию. Старший из них, Александр, в 1817 году стал генералом.
Общества греческих патриотов, гетерии (или этерии) существовали собственно на территории Османской империи с конца XVIII века. Со временем координацию их взял на себя Каподистрия, император же Александр, где-то на очень заднем плане своей памяти держа мысль и о водружении креста на Святой Софии, и о проливах, деятельность своего помощника поощрял, вернее, не препятствовал ей. Самому-то заниматься этим было некогда, других забот невпроворот… А Каподистрия человек деятельный, разумный, он всё делает тактически грамотно, стимулирует своих греков, когда-нибудь всё это полыхнёт к страшной головной боли Порты [султанского правительства – В.Г.], а в Петербурге будут довольно потирать руки…
Но полыхнуло не когда-нибудь, а в самый неподходящий момент. То есть, Александр Ипсиланти, напротив, счёл, что момент как раз самый подходящий: в январе 1821 года умер господарь Валахии Александр Суццо, султанский ставленник. Воспользовавшись междуцарствием, местный политический авантюрист Тудор Владимиреску поднял бунт против турок – за независимую Валахию – и имел с этим призывом успех. Дунайский край охватило масштабное восстание. Ипсиланти почувствовал: это его шанс.
Вероятно, не будет ошибки, если сказать, что генерал попросту спохватился: как бы его вотчину не освободили без него; тогда, собственно – а зачем он нужен?.. И полагавший себя потомком императоров решил ускорить события.
В самом начале марта Александр Ипсиланти во главе весьма скромного кавалерийского отряда (около 800 сабель) вторгся из Бессарабии в Валахию – то есть, из Российской империи в Османскую. Это была его личная инициатива, но греки решили, что он, русский генерал, действует от имени России. Да и сам он не спешил разубеждать их в этом… Однако, отправил в Лайбах объяснительное письмо, надеясь, что державы Священного Союза признают его задним числом и придадут его действиям законный характер.
В сущности, Ипсиланти оказался таким же авантюристом, что и Владимиреску. Они сразу же друг с другом не поладили – абсолютно естественным образом, оказавшись в ситуации двух медведей в одной берлоге… Кончилось тем, что Ипсиланти арестовал Владимиреску и без долгих проволочек расстрелял.
Военные успехи генерала получились ничтожными. Правда, ему удалось объединить все бунтарские силы в княжестве, но ненадолго и неудачно: в решающем сражении самодельная армия была начисто разбита турками… Но! – гетерия, спровоцированная этим выступлением, забушевала вовсю, и потушить её Порте так и не удалось никогда. В свирепой борьбе грекам удалось-таки завоевать независимость.
Не всем и не сейчас. Сейчас – весной 1821 года – султан Махмуд II, взбешённый изменой христианских подданных, хотел было устроить им тотальный погром, но умные советники отговорили его, объяснив, что это может вызвать в европейских странах такой взрыв возмущения, который неизвестно чем для Османской империи закончится. Лучше меньше, да лучше! – на сто лет раньше Ленина султанские политтехнологи смекнули, насколько эффективным способен стать такой метод.
Было решено принести в жертву высшее православное духовенство Константинополя (Стамбула) – патриарха и ещё нескольких лиц, причём с особой изощрённостью: убийство наметили совершить в день Пасхи, 10 апреля; а помимо того, турки постарались втянуть в злодейскую историю константинопольских евреев, ненавидевших греков и ответно ненавидимых теми. Местные сыны Израиля подрядились – не бесплатно, разумеется! – опозорить тело патриарха после будущего убийства: разрубить на части и раскидать по улицам.
Патриарх Григорий V был типичным политиком: да и не мог быть другим в эпоху, в какой ему довелось жить. Глава недовольного своим положением православного меньшинства в мусульманской стране, охваченной перманентным кризисом… Позиция сложная, даже лукавая, патриарху приходилось служить «и вашим и нашим», юлить, хитрить, а иной раз быть суровым по отношению к единоверцам. Так, он отлучил от церкви всех участников восстания Ипсиланти-Владимиреску – но и этот маневр ему не помог.
В какой-то миг он понял, что обречён.
Тогда иерарх, столь погрязший в суете, увидел себя перед выбором: либо продлить свои земные дни, погрязнув ещё дальше, либо набраться мужества и за прошлые грехи предстать перед судом вечности… Григорий V выбрал второе.
Уже арестованному, турецкие власти предложили ему шанс: отречься от веры и тем самым сохранить жизнь. «Напрасно трудитесь, – ответил первосвященник, – христианский патриарх умирает христианином»[76, 322]. И умер таковым, будучи повешен на воротах собственного дома; «… в других же частях города, как бы по магической окружности, повешены были шестеро старейших митрополитов. Город был взят в погребальное кольцо»[5, 269].
По другим данным, казнены были три митрополита: ефесский, никомедийский, ахиольский; и 8 человек из высшего духовенства [32, т.6, 29].
И вот здесь-то в дело должна была вступить иудейская община: совершить надругательство над телом убиенного патриарха. Аванс получен, осталось отработать его…
Но то, что случилось далее, поистине феноменально.
Да, местные иудеи не любили местных христиан. Но – бизнес есть бизнес, и ничего личного! Получив 800 пиастров от турок, старейшины кагала вступили в переговоры с греками, и за сумму в 100 000 пиастров – с более чем стократной прибылью! – пообещали не глумиться над телом. И обещание относительно сдержали: труп Григория V был «всего лишь» протащен до берега и с камнем на шее ввергнут в море.
Действительно ли имелся камень? Произошло ли чудо?.. Об этом в пределах «чистого разума» сказать невозможно. Факты же таковы: 14 апреля волны принесли почти невредимое тело – был выбит левый глаз – к борту русского судна с греческим экипажем. Подняв останки иерарха на корабль, моряки немедля снялись с якоря и на всех парусах пустились в Россию. 5 мая они были в Одессе.
Когда Ипсиланти отправлял послание в Лайбах, он наверняка рассчитывал на то, что его там поддержат. Основания на то у него были, и они отчасти оправдались… но не так, как он хотел. Общественное мнение Европы (и России) приветствовало греческое восстание с огромным энтузиазмом, встретило известие о расправе над священниками с крайним возмущением. Байрон отправился воевать за свободу и умер там, в Греции, заболев лихорадкой; правда, это случилось позднее, в 1824 году… Ну, а в русском обществе потенциал сочувствия к восставшей Элладе был неизмерим.
Набоков, исследуя творчество Гоголя, пришёл ко мнению, парадоксальному на первый взгляд, но совершенно закономерному на взгляд пристальный, а именно: Собакевич, косолапый помещик, похожий на медведя и способный в один присест съесть огромного осетра – самый романтический и поэтический персонаж «Мёртвых душ». И это правда: не забудем, с каким вдохновением расписывает Собакевич достоинства своих крестьян!.. Набоков же свой тезис подтверждает разными местами из поэмы, в том числе и теми, где говорится о портретах греческих повстанцев, развешанных на стенах гостиной Собакевича:
«…я отметил тот лирический порыв, который сопровождает появление широкой флегматичной физиономии Собакевича, – из неё, как из громадного, безобразного кокона вылетает яркий, нежный мотылёк… Нет ли чего-то необычного в склонности Собакевича к романтической Греции? Не скрывается ли в этой могучей груди «тощий, худенький» поэт? Ведь в ту пору ничто не отзывалось с такой силой в сердцах поэтически настроенных русских, как миссия Байрона» [45, 457].
О «той поре» в интерпретации Гоголя мы тоже помним. Вообще, хронологическая небрежность – видимо, какой-то закономерный побочный эффект необычного дарования, без этого Гоголь, вероятно, просто не смог бы стать Гоголем, самым удивительным и странным гением, которого только производила когда-либо Россия…
Но вот в Лайбахе сердца политиков настроились совсем не поэтически. Там мыслили суровой прозой. А в парадигме легитимизма им, политикам, невозможно было осудить карбонариев и поддержать гетеристов: подобное выглядело бы необъяснимой нелепостью. Даже при человеческом сочувствии к восставшим грекам. Даже при моральном неприятии творимого турецкими властями (истина требует отметить, что и отряды Ипсиланти творили кровавые расправы над турецким населением Валахии)…
Нельзя! В очередной раз выяснилось, что политика сильнее морали – и она продиктовала синклиту властителей принцип невмешательства в дела Османской империи, прямо вытекавший из принципа легитимизма. Конгресс ограничился требованием восстановить спокойствие и разрушенные православные храмы.
Порта отвечала, что всё, разумеется, будет сделано, что патриарх Григорий казнён вовсе не как глава церкви, но как изменник; в варварских выходках виновата буйная чернь, а правительство тут ни при чём. Русское общество этими объяснениями, конечно, не удовлетворилось, оно в эти весенние дни 1821 года не просто сочувствовало грекам – многие были почти уверены, что Россия вот-вот начнёт войну, тем более, что из Константинополя был отозван посол. Эту предполагаемую войну единодушно считали праведным возмездием за христианские погромы и предвкушали, как православный царь Александр грозно вознесёт карающий меч Господень над трепещущими врагами…
А православный царь меч возносить не спешил. И как вскоре выяснилось, совсем его не занёс, к немалому недоумению и возмущению энтузиастов. Но у него-то, у царя, имелись свои невидимые миру резоны.
Во-первых, он ощутил заметное противодействие Австрии и особенно Англии: тень «Восточного вопроса» к этому времени уже превратилась во вполне стойкий, добротный призрак, не желавший рассеиваться. Английские политики, ревниво следя за Ближним Востоком, усматривали в дальнейшем усилении России и ослаблении Турции явную угрозу их колониальным интересам, где на первом месте обреталась, конечно, Индия… Австрии тоже от русской экспансии прибыли не было никакой, а вот гипотетические убытки в недалёком будущем просматривались… и Меттерних очень старался растолковать Александру, что гетеристы – суть те же масоны и карбонарии, что они находятся в связи с прочими тайными обществами, зловещей паутиной опутывающими всё Европу, и что поддержав их сейчас, русский император рискует в недалёком будущем пригреть на груди змею.
Опасения Меттерниха строились вообще-то не сказать, чтобы на пустом месте. Что верно, то верно – структура гетерий воспроизводила масонские ложи; да, разумеется, это естественно-образуемая форма любой подпольной организации, но высокопоставленные эллины дополнительно наводили загадочный туман, намекая на каких-то ещё более высокопоставленных, таинственных и едва ли не всемогущих мужей, стоящих над ними… Рядовые члены разгадывали это так, что в виду имеются то ли Каподистрия, то ли сам император Александр – и усугубляли ситуацию своими вольными домыслами.
Вот здесь Александр и увидел то «во-вторых», что очевидно вытекало из первого. Принцип легитимизма и христианская мораль окончательно разъехались в стороны; или, правильнее будет сказать, не вышло чаемого единства. Греческий кризис с какой-то крайне обидной лёгкостью раскидал то, что Александр так трудно пытался срастить, скрепить, склеить… и все эти труды оказались пустышкой, миражом.
«Действия этерии… были досадны Александру – исходя из правил Священного Союза. Каподистрия подвергся выговору, а Ипсиланти исключён из Русской службы» [2, 319]. Да, Союз оказался в одной стороне от царя, а многие близкие ему люди – в другой. В том числе и госпожа Криднер.
Она с самого начала греческих событий воспламенилась идеей всехристианской помощи восставшим, видения носились пред её внутренним взором – и уж кто, как не самый могущественный монарх мира, православный, доселе разделявший все её религиозные находки, должен стать десницей промысла Всевышнего!.. Баронесса срочно прибыла в Петербург, где ничтоже сумняшеся распространялась о предстоящей совместной (император Александр и она, баронесса Криднер) борьбе за свободу христиан, угнетённых турками. Она, должно быть, пребывала в полной уверенности – видения ведь не обманут! – что император вдохновлён таким же порывом.
Однако, видения почему-то обманули. Александр ужаснулся речам своей духовной сестры (некогда старшей, а теперь, видимо, младшей) и направил ей огромное письменное увещевание, почтительно прося не вмешиваться в дела мирские… Не помогло. Пришлось царю с огорчением признавать, что человек, прежде производивший на него огромное и действительно благое впечатление, впал в грех лжепророчества. Что, увы, правда: вдова пустилась трезвонить о политике, полагая свои душевные фантазмы всеобъемлющей истиной, способной озарить и разрешить любую проблему… Мадам Криднер была человек известный, даже знаменитый, её нервно-восторженный голос зазвенел не где-нибудь, а в столице, внося в умы совершенно немыслимый разброд… что не могло закончиться ничем иным, кроме как принудительным путешествием из Петербурга в Лифляндию под полицейский надзор.
Вот и ещё одна печальная утрата в жизни Александра Павловича…
Интервенция Ипсиланти закончилась полным фиаско. Уже не генерал (из русской службы исключён) он вынужден был скрыться в Австрии, где как преступник оказался в крепости. Правда, греческое восстание только разгоралось – оно растеклось из Валахии дальше на юг, до самого Пелопонесса, и уже не закончилось: через несколько лет часть греческих земель освободилась, образовав независимое государство. А Каподистрии позже было суждено было стать его президентом и погибнуть в политической борьбе…
Но к тому времени много всякой воды утекло. Тогда же, весной и летом 1821 года, гетерия была первой новостью во всех петербургских салонах, затмив собой даже кончину Бонапарта на острове Святой Елены. Тело Патриарха Григория находится в Одессе, там готовится торжественное погребение, которое вскоре и состоялось; отношения России и Турции зависли в фазе «ни мира, ни войны»: русский посол отозван, гетеристы, убежавшие на российскую территорию, и пальцем не тронуты, несмотря на протесты Стамбула… И никаких приготовлений к военным действиям, которых ожидают почти все.
Война при Александре так и не состоялась, хотя оказалась, в сущности, лишь отложенной, до 1828 года. Но – другое царствование, иная ответственность, новая глава в учебниках истории…
Александру грустно, очень грустно. В письме из Лайбаха к одной из виднейших деятельниц русского мистицизма княгине Софье Мещерской он говорит, что мысли о метафизических пространствах, где идёт великая борьба Добра со злом, не дают ему покоя, что он удручён разрывом между христианством и легитимизмом [13, 12]… в сущности, он признаётся в своей слабости – он, вовлекший себя в эту борьбу.
Если б он знал, что преподнесёт ему родина по возвращении!..
В конце мая государь наконец приезжает с конгресса в Петербург, вернее, в Царское Село. Здесь его ожидает с чрезвычайной важности сообщением командующий гвардейским корпусом генерал Илларион Васильчиков. Он докладывает: в России существует политический заговор, не исключающий акт цареубийства. Чуть позже о том же доносит начальник штаба гвардии Александр Бенкендорф (внук бывшей царской няньки).
Каково императору слышать такое на второй день возвращения в родную страну?!..
Среди членов Союза благоденствия был некто Михаил Грибовский. Насмотревшись на отечественных карбонариев и наслушавшись их прений, он, очевидно, сообразил, что попал в чрезвычайно сомнительное положение: случись что, головы ему не сносить – и решил, что наилучшим выходом из нехорошей истории будет явка с повинной. Так и сделал: составил подробнейший донос на товарищей по заговору и покаянно представил его начальству. А уж дальше по инстанциям секретнейший доклад дошёл до императора.
Наверняка это не столь уж удивило Александра. Но обстоятельства переменили ситуацию: теперь он официально слышал от официального лица то, о чём прежде лишь задумывался или сообщал в частной переписке. Отныне же это обретало государственный статус. И официальное лицо – генерал Васильчиков – ждало от своего государя ответа… ждало, ждало и вероятно, уже забеспокоилось – потому что государь невесело молчал… но вот, наконец, дождалось.
Ответ был таков (по-французски):
– Дорогой Васильчиков! Вы были у меня на службе с самого начала моего царствования. Вы знаете, что я разделял и поощрял эти иллюзии и заблуждения… Не мне подобает карать [74, т.4, 204].
Были эти слова плодом затяжного молчания, или же Александр всё давно продумал и передумал, а молчал, вспоминая всю свою жизнь… вроде бы не очень длинную, но с учётом тронного срока, где год можно смело считать за три, с учётом всех трудов, тягот, тревог, несбывшихся надежд и горестных утрат – эта жизнь, наверное, казалась ему такой долгой, что то ли было, то ли не было… Вспоминал он бабушку, отца, малышек Машу и Лизу, сестру Екатерину?.. Вспомнил ли о тех бесчисленных своих подданных, кому уже никогда не вернуться домой со всех войн, великих и незнаменитых, что вела империя под ним, её властелином, посылавшим этих людей на смерть? Думал о том, что ждёт его впереди?..
И что есть истина?!
Глава 11. Закат
1
Нельзя говорить с уверенностью, счёл ли Александр сорок третье лето своей жизни некоей чертой, на которой остановилось царское время его жизни и потекло какое-то другое. Иначе говоря – решил ли он, что все возможности исправить этот мир с имперской высоты им, Александром I, исчерпаны, и больше ему на троне делать нечего. И как он оценил силы, которым безуспешно в качестве монарха пытался противостоять, и насколько надеялся противостать им как христианин?.. Но мы из нашего далека с грустью видим, что он не просто проиграл эту борьбу. Он, вероятно, и не мог её выиграть…
«Не мне подобает карать,» – сказал император через полгода после того, как выражал уверенность во всеевропейском преступном антихристианском сговоре. Он был уверен, но ещё без веских доказательств, только с косвенными. И вот они, доказательства – о заговоре в его державе докладывают люди, заслуживающие абсолютного доверия. Всё подтвердилось! Надо действовать!.. Но – царь странно молчалив. Не ему подобает карать.
Конечно же, греческий конфликт удручающе повлиял на Александра. В Лайбахе он, бывало, жаловался Меттерниху на то, что он едва ли не единственный русский, удерживающий Россию от войны с турками… Он действительно с высоты общеевропейских интересов видел необходимость удержаться от экспансии в интересах Священного Союза, которыми дорожил: всё-таки, вероятно, не терял надежду на то, что в Союзе пусть не современники, так потомки увидят духовное единство мира. Но что же это за единство будущего, потрясённо думал он, если ради него приходится рушить единство настоящего! Да, Александр сохранил союз – и потерял прежних друзей, и еле-еле удержал свою страну… Не слишком ли высокая цена будущей гармонии?!
Возможно, этот вопрос и задал себе император, и искал и не находил ответа, когда настигло его сообщение Васильчикова. Задумчивость царя в эти минуты… Постиг ли он, что такое история, и каким образом пересеклась, переплелась с ней судьба Александра Павловича Романова, человека и государя? На этот вопрос отвечать уже потомкам, и как всегда, сделать это не просто. Из наших лет нам видно то, что ему тогда увидеть было неизмеримо труднее; мы смотрим в прошлое, а он должен был вглядываться в будущее. И он никому не сказал, что там увидел. А гадания на эту тему бесплодны.
Куда шло человечество последние двести лет, к чему пришло, чего нам ожидать от лет грядущих, и может ли помочь опыт недавних столетий, «вчера» и «позавчера» планеты людей? в том числе и грустный опыт Императора Всероссийского Александра I?..
Мы к этому постепенно подходим.
2
Русская неспокойная публика: недовольные, критики, скептики, фрондёры – изначально не очень однородная, с приходом 20-х годов продолжала заметно дифференцироваться, расходясь в своих морально-политических исканиях. Самые умеренные: князь Вяземский (ещё одна живая иллюстрация к словам о либералах в юности и консерваторах в старости), Милорадович, Воронцов, братья Тургеневы, ещё ряд аристократов – почти одновременно с докладом Васильчикова подали царю записку с предложением создать Общество содействия освобождению крестьян. Воронцов получил высочайшую аудиенцию; поговорили. Александр вроде бы согласился. Но вскоре переменил решение, объясняя это тем, что незачем дублировать подсистемы в и без того громоздком госаппарате. Для подобных функций существует-де министерство внутренних дел, а в нём опытнейший министр граф Кочубей, вот он и будет заниматься «обращениями граждан», в том числе и такими…
Разумно вроде бы? Вроде бы так. Но почему-то дальше не пошло. То ли инициативной группе показалось неинтересным работать «под министром», в то время как они рассчитывали иметь дело непосредственно с государем, то ли пассивность императора охладила их?.. Увы, и этот проект канул в омут забвения.
Братья Тургеневы в данной компании были самыми радикальными – их социальность балансировала на границе тайных обществ и легальной жизни, не предаваясь с головою ни туда, ни сюда. Поэтому в компании обратной, в Союзе благоденствия, братья, напротив, оказались самыми мягкими по взглядам. Там мировоззренческое расслоение постепенно нарастало – умеренные, центристы и экстремисты расходились в представлениях о будущем и во мнениях на конкретные действия в существующих условиях. Быть России монархией или республикой? Допустимо ли цареубийство (со временем разговор зашёл о разных степенях насилия по отношению к династии Романовых вообще); как быть с национальными и религиозными меньшинствами, стоит ли вовлекать в дело простонародье, и если да, то под какой идеологией это делать?.. Много, много вопросов, и серьёзных, и вздорных, и рабочих, повседневных – и всё это вызывало дебаты, полемику, всё далее и далее разъединявшие русских Гракхов… И наконец настал такой момент, когда большинству из них показалось, что имеющаяся форма более не вмещает меняющееся содержание.
Кризисы роста – в общем-то нормальные, рядовые явления любой саморазвивающейся системы; другое дело, что не всякая такая система, биологическая ли, социальная ли, саморазвивается нормально – преодолевает эти кризисы, становясь устойчивее и эффективнее… Причины системного распада? Разные, конечно, хотя нечто общее во всех них есть. В этом смысле кончина Союза благоденствия была для тайных обществ и успехом и неуспехом: они росли и развивались, вырастая из прежних оболочек, как насекомое из промежуточных форм; сам Союз благоденствия стал, несомненно, более высокой стадией развития относительно Союза спасения. Но прошло время, и он показался многим его членам слишком рыхлой, аморфной массой – и это было тоже правдой, за три года организация обросла случайными людьми, иной раз набираемыми по совершенно неопределённым принципам. Потому распалась и она, дав начало более жёстким, более действенным, более агрессивным партиям – чтобы уж те завершили своё существование полным провалом.
В феврале 1821 года в Москве состоялся съезд Союза благоденствия, формально констатировавший кончину сего собрания. Умеренность одних и радикализм других больше не смогли сосуществовать в единой упряжке; фактически на московском совещании центристы постарались отделаться от пугавших их экстремистов – прежде всего от Пестеля. Он, кстати, на съезд даже не был приглашён – многие, вероятно, просто боялись его. Их страшили давящий взгляд этого человека, сильная воля, тяжкая логика: заговорщику, в глубине души понимающему, что он близок к преступлению, однако, норовящему от такого признания увернуться, придумав оправдание поблагороднее, куда как нелегко сопротивляться мрачной честности того, кто твёрдо убеждён в необходимости преступных действий, сознаёт их именно как преступные и называет вещи своими именами – и возразить на это нечем, кроме ничтожных софистических увёрток…
В известных мемуарах придворной дамы А. О. Смирновой-Россет приводится мнение самого младшего брата Александра, Михаила о Пестеле; цесаревич говорил так: «У него не было ни сердца, ни увлечения; это человек холодный, педант, резонёр, умный, но парадоксальный и без установившихся принципов» [58, 66]… Думается, великий князь и прав и не прав. Прав относительно холодности и педантизма, по-своему прав насчёт принципов – то, чем руководствовались декабристы, тем паче крайние из них, Михаил Павлович наверняка не мог считать принципами. Но как таковая «парадигма Пестеля» несомненно, существовала: цельное, хотя и не вполне определившееся мировоззрение, развиваемое от года к году и отчасти изложенное в «Русской правде» – некоем законоподобном документе, который, конечно, не назовёшь философской программой, но из которого достаточно явствует политическая физиономия автора. «Русская правда» существует в трёх вариантах (все они не закончены [98]), в них есть нестыковки, впрочем, не принципиальные. Нам, наверное, нет нужды разбирать данный документ, скажем лишь, что он в целом выглядит как сочинение типичного якобинца, убедившегося, что революция не удалась потому, что не всех её врагов перебили, и что террор был недостаточно свирепым… Правда, этот якобинец русский. Верующий ли? Сам он наверняка считал своё мировоззрение религиозным. «Бог нужен для метафизики как для математики нуль,» – Пестель не только не отвергал религию как социальный институт, но считал её немалым инструментом будущего государственного устройства. Несмотря на лютеранство по рождению, он в своём проекте предусматривал жёсткую, если не сказать жестокую конфессиональную ассимиляцию: все граждане России в перспективе должны были стать русскими и православными. Принудительно! Для несогласных же законотворец-теоретик предусматривал крутые меры вплоть до переселения или даже полного отселения из страны – такое предполагалось в частности для иудеев, которых Пестель почему-то особенно невзлюбил… Творческое освоение французского опыта проявилось также и в любовном внимании революционера к идее внутреннего политического шпионажа [95]; подобная подсистема, правда, возникает, будучи необходимой, во всякой власти – будем последовательны. Однако, Павел Иванович разрабатывал данную тематику с особым тщанием: видимо, всерьёз вникнув в технологию отъёма и удержания власти, пришёл к выводу, что разветвлённая сеть осведомительства есть чрезвычайно успешный приём властного действия. «Высшее благочиние» – так одухотворённо назвал Пестель своё гестапо – должно было пронизать информационными щупальцами все слои общества, при этом оставаясь, разумеется, неведомым для прочих граждан… И, конечное дело, это для блага самих граждан; всё та же старая и не очень добрая масонская этика – декабристская социальная мысль не выдумала ничего нового по сравнению с прошлым столетием.
Итак, московский съезд Союза благоденствия подвёл черту под его житием. Практически тот же кадровый состав заговорщиков образовал два общества: Северное (Петербург) и Южное (2-я армия) – с этими названиями они остались вплоть до последнего их дня.
Позднее, тоже в южных гарнизонах, независимо от тех двух возникло общество Соединённых Славян, самое демократическое, самое плебейское по составу; согласия меж ними так и не вышло, хотя попытки воссоединиться были, и вроде бы о чём-то там договаривались… Но и внутри даже самих обществ не унялись разногласия, особенно в южном.
Потаённость тайных организаций была делом весьма относительным. Люди петербургской элиты, бывавшие во дворце, посещавшие рауты, балы и театры – между прочим (обыкновенно ночью) собирались на квартире у кого-либо из членов, где тоже было весело, лились шампанское и пунш, вздымались бокалы… Многие в свете знали или догадывались: и члены и не члены Северного общества вращались в одном и том же кругу, наверняка кто-то под честным словом делился секретами с друзьями; но честное слово честным словом, а слухи в «свете» – вещь с почти абсолютной проникающей способностью. С некоторым утрированием, но верно по сути можно сказать так: все знали и все молчали, своего рода табу – всем известный магический объект, о котором нельзя упоминать. Знал и сам царь, но и он молчал, как спартанский мальчик. Почему? Надеялся что-то сделать, исправить нелепую ситуацию? Каким образом?..
3
Жизнь Александра Павловича к лету 1821 года принесла его в такую бухту житейских разочарований, где пропало всякое течение и обвисли все паруса – политические и административные мероприятия, столько лет проводимые императором, почти не дали результатов, огромные усилия пропали зря. Ничего из того, что пытался он сделать, не сбылось. Не отменилось крепостное право, не стали военные поселения школой свободы, не воссоединились разделённые церкви… И Священный Союз не стал духовным куполом будущего. И храм Христа Спасителя не был построен.
Но ведь не мог Александр обмануться тогда, осенью двенадцатого года! То, что он пережил, не забудется, потому что не сможет позабыться – это единство с Вечностью, эта причастность к правде, сильнее всяких доказательств, сильнее всего, что есть в мире!.. Отчего же эта сила распылилась в прошедших годах, не воплотилась в счастье, пусть бы самом маленьком, самом простом, самом будничном человеческом счастье? Отчего император Александр, добрый, совестливый человек, всегда стремившийся всем делать благо, так никого и не сумел сделать счастливым?! Отчего из времени вокруг Александра незаметно и неизвестно как соткались в плоть враждебные силы, которые всё больше окружают его?..
Что-то было не так в этих годах. Надо было иначе действовать, иные меры принимать… Надо было. А время ушло и не вернуть его. Осталось ли оно ещё? Что делать царю в мире, наполненном воплотившимися призраками, созданными им самим, как Франкенштейном [роман Мэри Шелли только что вышел и имел огромный успех – В. Г.]?..
А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас [Мф. 5:44].
Да, это так. Но что же делать, если нет сил для такой любви! если позади двадцать тяжких царских лет, оставивших в душе безмерную усталость, трудную память обо всём и бессильную жалость к этому несчастному миру…
И всё-таки придётся жить дальше. Христианин не должен хотеть смерти от тоски, не должен и бояться смерти – он вообще не имеет права считать, что жизнь не удалась. Значит – причины своих неудач он должен искать в себе. Искать, и находить, и устранять – и верить, что толпы сил вражьих рассеются от точного соприкосновения души с Небом, как это было уже один раз. Да, нелегко такому повториться, и годы прошли, груз прошлого стал тяжелее и суровее, чем был… но что же ещё делать, чтобы разомкнуть силы, обращающее земные пути императора Александра в заколдованные круги!..
Первым помощником императора в этом стал, конечно, Голицын: кому, как не министру духовных дел организовывать поиск истины! Что касается прочих министров, то среди них шла постепенная естественная ротация; так, Коновницына в 1819 году сменил генерал П. И. Меллер-Закомельский, что вообще-то практического значения не имело: как был в военном ведомстве первой фигурой начальник Главного штаба, так и остался. Конкретно – тот же Пётр Волконский. Трощинский, не сработавшись с Аракчеевым, ушёл в отставку ещё в 1817-м, вместо него юстицией руководил теперь Д. И. Лобанов-Ростовский. Крупные перемены настигли правительство позже, в 1823-24 годах, и мы к ним вернёмся. Ну, а реально «премьер-министром» или «вице-императором» оставался, разумеется, Аракчеев – сей политический тяжеловес огромной административной массой накрывал практически всё правительство, включая и номинального премьера Лопухина; минуя Алексея Андреевича, к государю входили разве что Голицын и Волконский – но у тех были особые, внесистемные функции. Точнее, надсистемные: друзья детства, эти люди создавали самый ближний, самый уютный круг жизни Александра. С матерью отношения у него продолжали оставаться неестественно-вежливыми, с младшими братьями – ровными, хорошими, но очень уж велика была разница в возрасте; Константин далеко; с женою Александр давно привык быть в равнодушном отчуждении… Дочь Софья подросла, стала отцовской отрадой, настоящим утешением – но это всё же нечто иное, другая сторона души. А вот опора и поддержка, спутник по дороге в неизведанное – князь Голицын, только с ним, с его поддержкой государь ощущал себя способным войти в пространство Духа: Голицын поможет, Голицын найдёт, как это сделать!..
И князь действительно искал. Он осознал важность вставшей перед ним задачи, поскольку и сам считал так: лишь мощным мистическим актом можно вдруг разорвать паутину неудач и полуудач и выстроить все политические и иные обстоятельства под царскую волю. Сознавал министр и то, что ни он, ни император, видимо, не обладают достаточной духовной силой для подобного метафизического прорыва. Нужен человек, могущий сотворить это! И Голицын пустился на поиски.
4
Наверное, что вина, что беда князя Александра Николаевича Голицына заключалась в недостатке – а правду говоря, отсутствии – настоящего, серьёзного образования. Мистическая одарённость дело штучное, почти уникальное; развить в себе такие способности можно, однако, для этого, как в любой творческой деятельности, необходимы упорные, многолетние, систематические учение и труд… А вот этому в жизни вдохновенного вельможи места не нашлось. В юности он тешился светскими проказами; повзрослев, вдруг воспылал религиозным воодушевлением, что, конечно, похвально: человек нашёл стержень своей жизни – мир, прежде бывший легкомысленно-туманно-шатким, обрёл ясность, прочность, надежду… Это, повторим, похвально, и далеко не всякий человек способен на такое; но ведь это лишь первый шаг, а дальше – долгий, трудный путь, с испытаниями, преградами, обманными ходами: судьба много, много раз будет делать странности, запутывать, обнадёживать и разочаровывать… и нелегко, очень нелегко не сбиться, не заплутать и наконец не махнуть рукой на перепутья, бледные рассветы и тенистые закаты, на дурную бесконечность – знать не зная о Гегеле – и просто жить как живётся, а конец придёт сам.
К чести князя должно сказать, что он духовных исканий не бросал; но и верного пути найти не сумел… Людей, совсем уж лишённых религиозного чувства, невидимой, но прочной трансцендентной нити, связующей нас с Небом, по большому счёту нет, но…
Сумбурный интерес министра к разного рода сектантам и мистикам-одиночкам вызвал, конечно, вокруг него вихрь суетных искательств и страстей. Не забудем: князь оставался обер-прокурором Синода, светским начальником церкви, и ничего удивительного, что между ним и иерархами возникла напряжённость, сначала скрытная, а затем перешедшая в явную фазу.
Митрополитом Санкт-Петербургским ещё с 1801 года был Амвросий (Андрей Подобедов) – аккуратный, осторожный, типичный церковный чиновник, хорошо научившийся уживаться с властью. Но конформизм его имел всё же пределы, и когда Голицынские духовные эксперименты хватили, по его мнению, через край, владыка осмелился протестовать. Министра это рассердило, хотя вида он не подал: умелый интриган, он, напротив, затаился, выжидая удобного случая атаковать митрополита с неожиданной стороны… Вскоре случай представился.
Слаб человек – даже священнослужитель, даже высокого ранга. Была небольшая слабость и у Амвросия: он любил прифрантиться. Вроде бы трудно представить, как можно делать это в рясе, да ещё в преклонном возрасте, однако, иерарх умел найти выход. И вот однажды он не удержался от искушения обшить манжеты и подол своего саккоса [верхняя архиерейская одежда – В. Г.] роскошной опушкой из горностая – и в таком виде предстал на богослужении при большом стечении народа, в том числе и великосветской публики.
Горностаевый мех негласно, но традиционно считался у нас исключительно царской привилегией, примерно как в Риме пурпурный, а в Китае жёлтый цвета. Поэтому по Петербургу тут же поползли пересуды – что бы это значило, на что владыка Амвросий намекает?.. Ну, а мастера по разгадыванию подтекстов водились на Руси всегда. Владыка-то ровно ни на что не намекал, просто самым невинным образом решил, грешный человек, щегольнуть – но не тут-то было. Голицын ловко сыграл на этом случае: нашептал царю такое, что тот очень огорчился.
Здесь мы вынуждены признать одну бывшую и прежде, а со временем ещё более развившуюся не очень приглядную черту в характере Александра: добрый, великодушный, вполне толерантный, он был необычайно, до болезненности раним и мнителен по пустякам, тщательно скрывая это и стараясь не выплёскивать ни на кого, так как понимал несправедливость подобных эксцессов…
Не сдерживал себя он разве что с Волконским, которого знал столь давно и близко, что по привычке продолжал держать себя с ним как барчонок с дядькой: случалось, и сердился, и капризничал – к чему, в общем, оба привыкли, даже, наверное, не замечали этого.
Понимал, но совладать с собой не мог и в душе перебирал копеечные обиды и подозрения до бесконечности. По глухоте на одно ухо ему всё мерещилось, что улыбки, разговоры и смешки придворных относятся к его персоне; однажды какие-то ябедники донесли дурацкую сплетню – якобы он подкладывает в лосины ватные прослойки (прообразы нынешних «имплантантов»), чтобы ноги казались стройнее и рельефнее. Вздор – но Александр расстроился чуть не до слёз… Или вот ещё история: в 1818 в Варшаве император, до крайности серьёзно относясь к предстоящему выступлению в сейме, где речь должна была пойти о конституции, репетировал эту самую речь перед зеркалом, отрабатывал позы, жесты, мимику… что делал, разумеется, втайне, один в комнате, но забыл закрыть дверь, что ли. Внезапно вошёл адъютант – и обомлел, увидя, как Его Величество изображает разные фигуры. Оба застыли от неловкости; затем адъютант забормотал что-то извинительное, выскользнул из помещения, ну и как будто ничего не было… После, однако, уж Бог весть каким путём, нечаянным ли, с неуловимою ли тончайшею издевкой – Александра достиг слух, что польскую конституцию называют «зеркальной» [44, т. 3, 138] – и он, никому ничего не говоря, горько переживал насмешку.
Вот и в случае с горностаевым саккосом император вдруг разнервничался; в итоге митрополит Амвросий возглавил Новгородскую епархию – по существу, оказался в почётной ссылке. Теперь пришла пора переживать ему: старик действительно был очень огорчён удалением из столицы и, видимо, не в его возрасте такие огорчения терпеть… Вскоре он скончался.
Петербургским митрополитом стал черниговский архиепископ Михаил (Матвей Десницкий), человек тоже немолодой, известный добрым, мягким нравом. Это, должно быть, и подкупило Голицына, да ещё то, что владыка был здоровьем слаб – министр рассчитал, что из такого человека он слепит всё, что захочет…
И ошибся.
Михаил, пожилой, болезненный и кроткий, сумел найти в себе и силы и волю противостать курсу, на его взгляд, ошибочному и губительному – нездоровому интересу князя к сомнительной публике. В вопросах принципиальных митрополит оказался на удивление твёрд – и вновь пошли неудовольствия, прения и трения, в которых здоровье иерарха подорвалось окончательно… К началу 1821 года он сам увидел, что его дни земные сочтены; царя же рядом нет, он на конгрессе – и тогда Михаил отправил Александру в Лайбах откровенное письмо, где изложил свою позицию и опасения на счёт политики, проводимой министерством духовных дел. О самом Голицыне владыка отозвался с грустью – как о человеке, теологически неподготовленном и оттого легко впадающем в ереси… Письмо прозвучало духовным завещанием: император успел получить его, прочесть, а через две недели, там же, в Лайбахе, узнал о смерти митрополита Санкт-Петербургского.
Говорят, Александр серьёзно задумался над трудной для него правдой, облечённой в строки владыки Михаила [32, т.6, 391]. От Голицына, конечно, отказаться он не смог бы, как Данте не мог отказаться от Вергилия – слишком уж надёжной и привычной опорой государя был князь, и в придворной жизни, и в мире возвышенных исканий… но коррективы в ход действий внести было необходимо; царь это осознал. Ортодоксия церковной элиты оказалась значительно более твёрдой и неподатливой, чем это думалось императору и министру: оба они догадались, что за этим стоит сила настоящего убеждения, что следует быть поосторожнее и поаккуратнее, учли «конструктивную критику» и взяли необходимые меры.
Первой из них стало выдвижение на Санкт-Петербургскую кафедру митрополита Серафима (Глаголевского), человека на редкость тихого, смиренного, даже робкого; при том чрезвычайного консерватора, которого никто и никогда, ни при каких обстоятельствах не сумел бы уличить в отступлении от сложившихся канонов и обрядов… Тем самым и Голицын и сам Александр надеялись закрыть себя от малейших подозрений и упрёков в ереси – и, в общем, тактически были правы.
Однако, это было даже не полдела. Главное – а оба они по-прежнему надеялись на возможность трансцендентного прорыва, должного воедино развеять тёмные заблуждения мира – так вот, главным здесь было найти особенного человека, и непременно безупречно-православного, чей мистический талант равен масштабу задачи.
Внятно определённая цель и безбрежная энергия отнюдь не являются гарантией эффективности поиска данной цели. Очень многое зависит также от умения верно ставить промежуточные задачи и выстраивать алгоритмы их решения. Иначе говоря, от методологии поиска. Какую методологию мог выработать князь Голицын, человек неглупый, оживлённый благой вестью – но, к прискорбию, круглый невежда в богословской специфике?.. Увы, результат поиска, как нельзя точно выражает дилетантскую природу устремлений князя. Министр нашёл того, кого нашёл. Не Серафима Саровского – в чём ни вины, ни беды Голицына нет, знал он или не знал о великом затворнике: тот ведь не мог до поры выйти из затвора… Но в том проблема, что пути-дороги привели князя и ни к кому иному из строгих подвижников, обретавшихся по Руси – к Авелю, например. А увидел он православного чудотворца в игумене Фотии, том самом бывшем – теперь уже бывшем – законоучителе из кадетского корпуса, а теперь настоятеле Сковородского монастыря. Очевидно, только в таком мистике как Фотий, мог узреть искомое такой мыслитель, как Голицын…
A propos: Фотий был на короткой ноге с настоятелем Саровского монастыря Нифонтом, прохладно относившимся к подчинённому ему монаху Серафиму: игумен Нифонт, очевидно, считал деяния подвижника странным и рискованным новшеством [5, 383]. Более чем вероятно, что подобным же образом отнёсся бы к ним и Фотий.
5
Любопытно: происхождением Фотий перекликается сразу и со Сперанским (по социальному происхождению) и с Аракчеевым (по месту рождения). Новгородец и сын сельского дьячка, Пётр Никитич Спасский (в миру) продлил стезю родителя, достигнув на ней куда больших успехов. Пробившись в столичную семинарию, он сумел закрепиться в столице; сложно говорить сейчас, как складывалось в детстве и юности воспитание и образование будущего архимандрита, но вряд ли стоит сомневаться в том, что его мистический талант был значительным. Возможно, он не уступал и дару Авеля (о Серафиме Саровском не говорим – иная категория…), но ясно, что с одним талантом не станешь праведником и пророком. Нужно ещё иное, возможно, вообще неопределимое в терминах обиходной рациональности: что и как должно сложиться, слиться в душе, чтобы она озарилась светом горнего мира?.. Это, конечно, особая тема; скажем лишь, что в Фотии, к сожалению, так не слилось. Но бывает, по выражению Набокова, что в тёмном человеке удивительно ярко и неожиданно, и непредсказуемо для него самого играет какой-то маленький фонарик – и зрелище случается диковинное, после чего разговоров хватает надолго. Нет никаких оснований думать, будто Фотий лгал или сочинял о посещавших его необыкновенных видениях: он должно быть, и в самом деле странствовал по границам миров, угадывал их отзвуки и отблески – душа его была чуткой, трепетной; может быть, слишком трепетной… Слишком чуткой душе, наверное, быть невозможно, а вот трепет… Для Фотия он был естественным, привычным состоянием, дарившим монаха грозными предчувствиями, о которых он неустанно «вопиял» – вопли эти отличались, как мы знаем, каким-то неестественным красноречием.
Исследователи либерально-позитивистского толка прямо и недружелюбно записывали архимандрита в сумасшедшие или, по крайней мере, в психопаты [13, 97]. Вообще-то, среднему позитивисту подозрительным кажется всё яркое и необычное, всё, что хоть как-то выходит за рамки… но в данном случае, возможно, истина не так уж далеко. Неистовый монах ходил по тонким, хрупким граням опасных бездн – они то обдавали его лютой стужей, то опаляли адским пламенем… а от этого трудно ожидать небесной ясности в душе.
Слава ревнителя веры и обличителя нечестия пришла к Фотию рано: ему было всего-то двадцать пять лет, когда он получил должность законоучителя. А вскоре молва пошла по столице – о молодом священнике, пылко-благочестивом и яростном, потрясающем сердца людские, подобно Савонароле… Это было в 1818-19 годах; Фотий сразу же явил себя крайним врагом всяческого «мистицизма», разумея под этим словом тогдашнюю идейную моду, исходившую от самого царя. Но Его величества, конечно, обличения не касались – а обрушился воин духа на масонов, квакеров, лжепророков вроде «Криднерши» и Татариновских чудаков, не слишком делая разницы между ними. В битву эту он ударился со всем огнём своей страстной натуры: бушевал, проклинал, устраивал сожжение еретических книг с торжественной анафемой… Воюя с врагами внешними, параллельно вёл жестокий бой и с внутренними: бесами, которые, чуя в нём опаснейшего противника, вторгались в пространство не физическое, но ментальное, в сны и видения монаха, то ужасая его чудовищностью дьявольских личин, то наоборот – являясь в виде прелестных ангелов, называли величайшим святым, способным совершить всё, что угодно, ласково говорили: «Сотворил бы ты, отче Фотий, некое чудо – перешёл бы по Неве, яко по суху» [44, т.3, 145]. Отче сражался с сатанинскими полчищами горячими молитвами и истязанием плоти: носил тяжкие вериги, постился так, что телесно являл собою обтянутый кожей скелет, трясся в ознобе даже летом; а после Великого поста вынужден был питаться в буквальном смысле крохами, чтобы усохший желудок постепенно восстанавливал свои функции… Так что, сокрушая бесов, правдоискатель более сокрушил себя самого, бесы же, увы, преследуют человечество и поныне.
Итак, слава о монахе-праведнике загуляла по Петербургу. Из царских покоев, правда, Фотий пока замечен не был, но в некоторых светских салонах о нём заговорили сочувственно, а кое-где готовы были встретить как желанного гостя… Получилось так, что вельможный кров Фотий нашёл в роскошном доме графини Анны Орловой-Чесменской, дочери Алексея Орлова, того, кто некогда нёс корону за гробом убитого им Петра III.
Жизнь графа Алексея пролетела бурно, бешено, в огне и грохоте битв, с пряным привкусом приключений, на которые горазда была тайная политика Екатерины… Человек невеликого образования, но толковый, разносторонний, граф увлекался многим, в том числе и экономической наукой; Бог весть, благодаря ли этому или совокупности многих факторов – но дни свои Алексей Григорьевич закончил баснословно богатым, и всё это богатство досталось дочери Анне, тоже особе прелюбопытной, хотя и совершенно иного плана.
Анна Алексеевна выросла женщиной чрезвычайной набожности. Граф Алексей Григорьевич был, видимо, замечательным отцом: он не просто воспитал дочь в традициях светской утончённости, но сумел чем-то вселить в неё благоговение перед своей персоной – Анна в нём души не чаяла. Однако, эта огромная любовь к отцу, и живому, и, тем более, покойному (он скончался в 1807 году) каким-то образом должна была уживаться в душе графини с кошмарным знанием об его грехах, особенно в самом страшном из них – цареубийстве.
Примирить одно с другим, казалось, было невозможно. Факт убийства Петра III не опровергнешь! Что же тогда – признать, что отец обречён на вечные муки в аду?.. Признать такое было бы свыше всех сил.
Несчастная Анна молилась денно и нощно о спасении отцовской души. Замуж не вышла, несмотря на богатство, вокруг которого женихи вились стаями – а деньги и драгоценности жертвовала направо и налево: монастырям, нуждающимся, просто духовным лицам… Немало самоцветов перепало и Фотию, но вовсе не корысти ради – он совершенно не ведал, что такое роскошь, живя в мире бушующих грёз; бриллиантами же, рубинами и сапфирами любовался по-детски невинно, ибо чуткая душа его бессознательно стремилась к прекрасному, а все виды светского искусства он клеймил как «бесовские служения» и «мерзости языческие»… Ядовитые языки намекали на его греховное сожительство с Анной (отметился тут несколькими эпиграммами и Пушкин) – что, конечно, неправда. Борьбу с плотью Фотий вёл честно.
Он отвергал не только искусство, но вообще всю «учёность», понимая под этим и науку, и философию, и теологию; с какой-то особенно ревнивой неприязнью относился он к Филарету, к его Катехизису, к идее перевода Библии на русский язык, витийствовал, сотрясая воздух эпохи пугающими страстями… «Учёность» и вправду может быть религиозному подвижнику не нужна, но может и присутствовать, и худа от того нет: первые апостолы, призванные Христом, были совсем простыми людьми, пастухами и рыбаками, а апостол Павел – вполне образованная личность, что не сделало никакой разницы в их жизненных целях. Мог Фотий обойтись без «науки», без философской и теологической подготовки?.. Наверное, мог. Но для того он должен был уединиться в монастыре, предать себя подвигу сосредоточенного, при необходимости и молчаливого, затворнического служения, вне всякой суеты – так, как поступили и Авель и Серафим Саровский. Не были они людьми образованными, и не мешало это им… А вот отцу Фотию помешало, его витийства выглядят смешной нелепостью, несмотря на то, что – повторимся! – был он и вправду духовно талантлив, открыт тайнам бытия, многое мог чувствовать и видеть. Но чего-то потаённого, странного и опасного так и не увидел… Кого-то, вернее.
Сражаясь с бесами, воинствующий подвижник и не заметил, как с тыла к нему прокрался самый хитрый, самый искусный, самый утончённый бес – прокрался и проник, как червь в яблоко. Мы это, собственно, видели выше: масоны, и Наполеон, и Пестель, и многие, многие другие, люди и общества – перечислять нужды нет – в разные эпохи, с разными подробностями были изъедены и опустошены этим самым бесом, бесом осознания собственной исключительности, высшей вознесённости над прочими, величия!.. – ловко цепляющимся за человеческие самолюбие и честолюбие, качества совершенно естественные, возможно, и необходимые, но должные, конечно, пребывать под строгим духовным контролем. Как определить, где кончается здоровое стремление проявить себя и начинаются нездоровые зависть и ревность?.. Тонка, неуловима, странно игрива это грань – иные честолюбцы беса вовсе не интересуют, пусть они хоть корчатся от неутолённой жажды славы или, наоборот, глупо довольны собой; а отчего так – надо выяснять отдельно. Нам же остаётся с печалью констатировать то, что борец за торжество веры и бессребренник Фотий пропустил в себя вирус гордости – да так и не сумел вытравить его. Попросту не заметил. Так и жил с ним, и вопиял, и обличал, и проповедовал, не чуя с некоторых пор, что устами его глаголет не он один…
«Я ему прямо скажу: как хотите, я не могу жить без Петербурга. За что ж, в самом деле, я должен погубить жизнь с мужиками?.. Эх, Петербург! что за жизнь, право!» [19, т.4, 33].
Так говорил Хлестаков. Отец Фотий так не говорил, но жизнь сама сказала за него – что он вкусил Петербурга и отравился им. Войдя в высшее общество, он не смог оттуда выйти, не мог больше жить вдали от царя, министров, света, высших иерархов – жизнь без этого всего уже казалась слишком пресной, слишком мелкой для его огнедышащих талантов. Нет, только Петербург! А там, глядишь, и дальше, выше, и возможно, весь мир потрясётся от явления митрополита, а потом, кто знает, и от патриарха Фотия?..
Поучительно: судьба настойчиво предлагала монаху заняться своим прямым делом, собственно тем, чем и должен монах заниматься. Весной 1820 года в Казанском соборе уже входящий в славу ратоборец духа произнёс столь громоподобную проповедь, что кто-то испугался и решил перестраховаться, направив модную знаменитость в Новгород, в Деревяницкий монастырь, считавшийся не очень престижным. Формально это выглядело повышением – Фотий стал игуменом, настоятелем монастыря, но реально от него, разумеется, хотели избавиться… Однако, не так-то просто это было! В Петербурге графиня Орлова активно захлопотала за своего духовного отца, и хлопоты удались: митрополит Серафим перевёл Фотия в другую не самую первоклассную обитель: Сковородскую, с возведением в архимандритский чин; что было, разумеется, не более, чем тактической рокировкой перед настоящим взлётом.
Вот уж воистину: художник – рисуй! Писатель – пиши! Монах – монашествуй! Для того ты и принял обет, чтобы находиться чуть поодаль от мира, смотреть чуть со стороны, держать дистанцию… Не раз и не два Фотию открывалось поле для действительного духовного подвига, и кто знает, что бы сумел этот неординарный человек свершить на должном поприще. Но… «нет, как хотите, я без Петербурга не могу».
Конечно, незачем и думать, что архимандрит рвался в столицу ради власти как таковой – нет, это его не трогало, возможно, даже не приходило в голову. Нет! Он мечтал быть вдохновителем и источником благости для царя, а стало быть, и для всей России – ибо уже чувствовал себя перстом Божиим, орудием Высшего Промысла, сосудом, отверстым Абсолютной истине… одним словом – Избранным.
Архимандритом Фотий сделался в январе 1822 года. А весной, сразу после Пасхи, Серафим вызвал его в Петербург.
Трудно отделаться от мысли, что настоятель ехал из Новгорода в столицу с радостно и тревожно бьющимся сердцем, предвкушая, что с каждой верстой он всё ближе и ближе к дивному, невиданному прежде звёздному часу своей жизни.
6
Весна и лето 1822 года – время, когда влияние и слава Фотия взошли в зенит. 21 мая при самом активном посредничестве Орловой состоялось знакомство архимандрита с министром духовных дел; и сразу же меж ними процвела самая пылкая и умильная дружба… Общение с графиней и монахом поглотило князя: он почти забросил все прочие министерские заботы и по шесть, а то и девять часов в день впитывал «слово и дело Божие», льющееся из уст новгородского праведника – тот, окрылённый вдохновением, говорить не уставал. Да что там какие-то дела по сравнению с потоком истин! Голицыну почудилось, что наконец-то, через годы поисков он обрёл то, чего желал: понятия «свобода» и «христианство» для него в отце Фотии слились воедино.
Князь недаром стал с годами ближайшим другом императора: оба они сильно, сходно, по-братски почувствовали великую правду христианства, и оба остро прочувствовали странность мира сего – то, что в наблюдаемой ими жизни эта правда как-то обидно растерялась, перестала ощущаться как правда многими людьми… И оба всей душой решились восстановить утраченное, выправить пошатнувшийся, опасно покосившийся в непонятную сторону мир. Как они это стали делать, известно – удач было немного, а если честно сказать, почти и не было. Дело трудное, разумеется!.. Но и сами моралисты дров наломали. Особенно Голицын – он в поисках идеалов духовно странствовал как-то уж особенно мудрено; потом сам понял, что заплутал – и осадил себя. И тут перед ним возник отец Фотий.
Возможно, что у Голицына были на новообретённого друга определённые политические виды. Но если так и было, то было явлением вторичным. Иначе трудно понять столь стремительный подъём Фотия во властную высь посредством князя – на свою же в недальнем будущем голову. Опытнейший царедворец, князь в придворных играх профаном никогда не был; покуда он вообще не проигрывал. Тридцать лет при дворе – шутка ли! И всё вверх и вверх, не слишком быстро, но надёжно: многих из тех, кто был выше и сильнее, время смыло, а князь Голицын теперь на самом верху, выше некуда.
Но сколь умело министр духовных дел лавировал вокруг царя, столь же ощупью и наобум орудовал он этими самыми духовными делами – и новая эпопея с Фотием оказалась в его карьере последней. Голицын сокрушительно ошибся в своём протеже потому, что взглянул на него не политическим, а философским взором – будучи в философии беспомощным – а потому и увидел то, что увидел. Взвинченный, экзальтированный монах почудился князю столпом истинной веры. Это вам не квакер, не скопец, не барабанщик Никитушка, а настоящий православный провидец!.. А уж эта мировоззренческая ошибка повлекла за собой и политическую: вводя Фотия в самый высший, самый ближний к царю круг, Голицын, вероятно, и представить не мог, что «орудие Промысла» вскоре обратится в орудие Аракчеева, повёрнутое именно против него, Голицына…
Тогда же, в мае-июне 1822 года всё, казалось бы, складывалось как нельзя лучше. 21 мая – первая встреча Голицына с Фотием; затем дни-ночи напролёт жарких духовных поучений… и вот свершилось! 5 июня в Каменноостровском дворце состоялась встреча Фотия с государем.
Но и здесь, в этих двух феерических неделях не всё так гладко. Именно в них-то и начала закручиваться пружина будущих коллизий, столкновений сил, воль, интересов… И прежде всего здесь, разумеется, надо сказать, что сам Фотий отнюдь не ощущал себя ничьим, кроме Провидения, орудием – ни Голицына, ни Аракчеева; другое дело, что последний в житейской повести, творимой архимандритом, смотрелся положительным героем, а первый – отрицательным. Отчего так? Почему деликвентную распущенность графа суровый ригорист снисходительно не замечал, а духовная суетливость князя вызвала у него в скором времни даже анафему?.. Возможно, Фотий вправду считал эротоманию таким пустяком по сравнению с излишним любомудрием, что и говорить нечего; весьма возможно, и Аракчеева он полагал лишь временным подспорьем в той великой миссии, которую возложил на него Всевышний, а потому и курил фимиам Алексею Андреевичу из тактических ухищрений… Возможно, всё возможно. Во всяком случае, юлить и хитрить архимандрит ловко умел уже тогда, счастливой для него весной 1822 года – и нисколько не стоит сомневаться в том, что своё лукавство он совершенно оправдывал и ничуть его не стыдился, невинно веря, что всё сие совершается ради блага веры и церкви – такое вот иезуитское простодушие, sancta simplifiсata. Весьма приемлемо допущение: уже в первые дни знакомства с Голицыным, в тех самых беседах с участием Анны Орловой, Фотий понял, что с его точки зрения министр неисправим. Понял, но и виду не подал. Почему? Так нуждался в личной встрече с государем?.. И это очень может быть, и опять-таки с сугубо высшей целью – ведь он, Фотий, рождён быть царёвой совестью, это же яснее ясного! И ясно, что судьба ведёт эту совесть к её объекту, как то и должно – а раз так, то на этом святом пути хорошо всё, и отчего бы не притвориться другом и наставником «сына беззакония», зловредного князя Голицына… Пусть и он послужит делу, как разгонная ступень ракеты, которая потом отстреливается за ненадобностью.
И вот – 5 июня 1822 года. Каменноостровский дворец.
Александр жаждал восприять от гостя очередную порцию духовной свежести – и отчасти получил её, примерно так же, как некогда в беседе с Криднер. Правда, сам Фотий от такого сравнения пришёл бы в ужасный гнев (или в гневный ужас?..), да и сама аура свидания была совсем иной, чем в Гейдельберге в 1815-м – не слёзная грусть о грехах с последующим покаянием, а буйное, грозовое вскипание истин. Царь увидел, что пришедший к нему монах духовно пробуждён тем же самым, что и он, Александр – правдоискательством; только куда более мощно, решительно, горячо. И Александр поверил Фотию, увидел в нём наставника.
Император повергся перед гостем на колени, лобызал руки его – и просил совета. Что делать?! Что делать русскому царю, оказавшемуся в духовном тупике, в опаснейшем одиночестве?.. Ответ прозвучал тут же и без малейшего сомнения: «Противу тайных врагов тайно и нечаянно действуя, вдруг надобно открыто запретить и поступать» [5, 292].
Знал ли архимандрит о тайных обществах? Очень вероятно: через графиню Орлову он наверняка должен был быть в курсе тайн и полутайн бомонда. Но явно, что под «врагами» он разумел отнюдь не только заговорщиков в узком смысле: членов Северного и Южного обществ. Если Фотий и ведал об этих организациях, вряд ли он как-то особо выделял их из числа «тьмы сил вражьих», к чему причислял и масонов, и Библейское общество, и всевозможных сектантов, и даже архиепископа Филарета, которого невзлюбил до крайности. Вот на них всех и предложил провидец обрушить меч праведного царского гнева.
Наверное, Александр был несколько разочарован. От встречи с разрекламированным праведником можно было ожидать большего. Вполне можно допустить, что где-то в глубине души император надеялся увидеть чудо: преображение мира, хотя бы частичное; может быть, исходящий от гостя нетленный свет разлился бы по комнате…
Однако, ничего подобного не разлилось. В ответ на самые свои насущные запросы царь получил довольно банальные ответы. Опасность распространения тайных обществ он видел и без Фотия, и возможность обрушить на них тяжкую властную десницу у него была уже давно. Но он страшился рубить по живому; а Фотий ничуть не боялся такой радикальной хирургии: руби, царь! и будет ти благо, и нам вкупе – рецепт самый незатейливый, в котором Александру нетрудно было угадать рядовое социальное дилетантство.
Правда, он не мог не признать суровой действенности этих слов. Не мог не понимать, что если раньше были возможны какие-то паллиативные варианты, то теперь, в 1822 году, очевидно, не осталось никакого другого способа решить проблему, кроме как одним сильным ударом разгромить заговорщиков… понимал и всё-таки не хотел смириться с этим, и отчаянно и страстно желал какого-нибудь другого, мирного способа, его ждал и от Фотия: сотворит-таки отче Фотий «некое чудо»: мощным духовным полем преобразит вдруг ситуацию, и те, кто считают царя врагом, увидят, что никакой он им не враг, что всю жизнь он хотел только одного: сделать Россию счастливой. Наверное, того же хотят и они – но не понимают, не могут осознать, не прочувствовали ещё на себе, насколько это трудная, тяжкая, невероятно тяжкая работа! Так как же было Александру не жалеть прожектёров, не вспоминать себя самого времён отцова царствования и Негласного комитета… А значит, и не рубить сплеча, с горечью сознавая, что рубить надо себя, своё прошлое. Да, впрочем, Бог уж с ним, с прошлым! что было, то было. Стало то, что стало – вот ведь в чём беда… Но это ставшее, эта правда, эта сила, постигнутые, пережитые царём – почему это всё оказалось бессильным?! Почему то, что Александр одолел в себе, выросло вновь, как недополотый сорняк в сердцах других людей, других поколений – а время идёт, и подрастают новые поколения… И приходится признать, что этот сорняк злой, живучий, и вряд ли императору или кому другому удастся нащупать корень его.
Так ли это?..
Тем не менее, Александр Фотию поверил. Захотел, очень захотел поверить – это будет вернее. Энергия била из необычного гостя мощнейшими пучками квантов; пространство не просияло, но самый воздух в комнате словно вздрагивал от электричества – царь не мог этого не ощутить. И не подумать, что такой необычайный талант, пусть пока и не произведший чуда, сумеет произвести его в будущем… Следовательно, отец Фотий – ближайший духовный резерв; пусть будет всегда вблизи.
А тот с превеликою охотою внедрялся в высшие сферы – его предназначение исполнялось, как то и должно быть; он воспринимал происходящее с ним самым натуральнейшим образом: явился он в этот мир, чтобы наставлять царей – и мир послушно выполнил волю Отца небесного. Отец Фотий встал рядом с царями и наставляет их…
Не только Александра. Прослышав об удивительном священнике, заинтересовалась им Мария Фёдоровна.
Она вообще провела жизнь как бы в засаде, так и не дождавшись решительного броска. Сложная дворцовая обстановка научила её быть чрезвычайно осторожной дамой, по относительной молодости лет она ещё могла восклицать: «Я буду царствовать!..» – а потом уж этого себе не позволяла. Но и мыслей не оставляла, точнее, обстоятельства сами не давали мыслям остыть… Нет, было бы, наверное, слишком опрометчивым считать, что мать нечто замышляла против сына; однако, состояние его души, грустные разговоры, невнятица с престолонаследием – всё это потихоньку наводило вдовствующую императрицу на то, что и её час может пробить, а шестьдесят два года – для большой политики ещё не такая уж и осень. Бог наградил Марию Фёдоровну редкостным здоровьем, она и в этом возрасте смотрелась цветущей крепкой женщиной, даже на лошади верхом каталась с удовольствием… При таких условиях тактика «засады» может себя и оправдать.
Встреча Марии Фёдоровны с Фотием состоялась в августе и прошла в «тёплой, дружественной обстановке» – язык протокола в данном случае вполне уместен. Императрица и архимандрит отлично поняли друг друга: он словесно язвил именно тех, кого она терпеть не могла: Голицына, Александра Тургенева, Родиона Кошелева [5, 292], а богатая сокрушительными метафорами речь его должна была восхитить царицу, в русской грамматике нетвёрдую… Расстались совершенными друзьями.
Фотий умел быть мастером интриги: уже ведя вовсю тайную войну против Голицына, он внешне продолжал выказывать к нему расположение, даже приязнь, писал министру письма льстивого характера [70, т.3, 140]. Теперь, при таком-то положении и влиянии, архимандриту было как-то не по чину оставаться главой скромной обители – несмотря на то, что он всего полгода как её принял – и митрополит Серафим пролоббировал назначение Фотия настоятелем большого и славного Юрьевского монастыря (всё там же, в Новгородской губернии), главой коего не так уж давно был архиепископ Московский Филарет, ныне один из наиболее раздражавших Фотия людей… Вместе с назначением архимандрит получил личную награду и от императора: наперсный крест, украшенный алмазами.
Отныне даже своё пребывание в монастыре Фотий мог не считать удалением от Петербурга: он закрепился на социальной вершине прочно, а всей информацией о происходящем в столице его исправнейшим образом снабжала графиня Орлова. Теперь уже самим вельможам надобно было искать дружбы с Юрьевским настоятелем – что со временем лучше всего удалось сделать Аракчееву…
А радикальный совет Фотия Александру всё же не остался без последствий. Первого августа был издан Высочайший указ о запрете существующих тайных обществ и недопущении новых. К таковым были отнесены масонские ложи, различные секты; под действие данного акта подпадали, разумеется, и «настоящие» общества, Северное и Южное, но они-то указа точно не заметили, словно не было его… Ну, собственно, и всё. «В России строгость законов уравновешивается необязательностью их исполнения,» – премудрость известная.
Но что же сам Александр? Насколько эффективного действия ожидал он от собственного указа? Некоторые обстоятельства говорят о том, что ожидания были невелики – таковым в действительности и оказались… На самого же Фотия надежды продолжали возлагаться немалые. При этом, правда, поиск подобных талантов продолжался: вскоре он дал новые результаты. Этот важнейший фронт был по-прежнему доверен Голицыну, но у императора были и другие фронты, не столь возвышенные, но не менее громоздкие и трудоёмкие, и никто, конечно, ответственности за них с императора не снимал. Время сжимало и сжимало клещи. Вздохнуть было некогда.
7
В 1822 году разговоры Александра с Константином и матерью об «абдикировании» и действиях, из этого вытекающих, вошли в новое качество: реальных, задокументированных договорённостей. Почему история с престолонаследием тянулась столь долго (да так и осталась незаконченной при жизни Александра)?.. Да потому, что ситуация здесь действительно сложилась крайне неопределённая и трудноразрешимая. Нетрудно представить себе, как Александр внутренне тихо тосковал, когда ему приходилось разрешать дела на этом тягостном переплетении обстоятельств: тратить время на утомительную рутину, вместо того, чтобы практиковать подъём к духовным высотам… Ничего, однако, не поделаешь – рутина держится крепко и требует от царя своей толики внимания. Он это, конечно, тоже понимал.
Великого князя Константина бабушка женила ещё в 1796 году на принцессе Саксен-Кобургской Юлиане (в православии – Анне Фёдоровне). Брак этот не заладился с самого начала; бывают, наверное, на свете менее удачные браки, но редко. Константин Павлович чудил так, что молодая жена едва не сделалась неврастеничкой (о некоторых его подвигах в юности и молодости мы знаем)… Кончилось тем, что супруги разъехались по разным домам, а со временем и разным странам – и складывается впечатление, что всю свою долгую жизнь, прожитую преимущественно в Швейцарии, Анна Фёдоровна отдыхала и лечилась от пяти лет, проведённых рядом с весёлым муженьком, чьи шутки были далеки от светских изящества и такта…
Итак, жена уехала в Швейцарию, сам же цесаревич, став с годами главнокомандующим в Польше, как засел в Варшаве, так практически и не выезжал оттуда, обрёл себе спутницу жизни – местную аристократку графиню Иоанну Грудзинскую, а с нею и настоящий семейный очаг, который захотел сделать законным.
Бракоразводный процесс в те времена, да ещё для члена императорской фамилии, да ещё наследника! – дело более, чем казусное. Но Константин взялся за него весьма решительно. Так ли уж было он вдохновлён любовью ко графине? или, зная, что в случае женитьбы на ней практически теряет право на престол, именно и стремился потерять это право?.. По-видимому, второе более вероятно, чем первое. Что будет в Царствии Небесном? – вопрос, конечно, важный, но уж очень сложный и отдалённый от насущной повседневности; а вот здесь, в земном царстве-государстве всё куда ощутительнее: трон такое непредсказуемое место, что ничего наперёд сказать нельзя… Константин слишком хорошо помнил историю отца.
Правда, старший брат сумел укрепить престол. Но далось это ему неимоверным трудом, к тому же сказать, что положение стало устойчивым?.. Нет, пожалуй, цесаревич Константин так бы не сказал. Он, конечно, был осведомлён о тайных обществах, тем более о приглушённом непокорстве Польши… впрочем, относительно Польши наследнику думалось, что он сумел достичь взаимопонимания со здешней элитой. А вот в масштабах империи… Он, Константин Павлович, не такой простак, чтобы надевать на себя это ярмо.
И добился-таки своего: развёлся с Анной Фёдоровной и женился вторично, на графине Иоанне…
Курьёза ради напомним, что в третий раз его «женили» помимо его воли 14 декабря 1825 года – на Конституции.
Вторая свадьба состоялась 12 мая 1820 года в Варшаве. И в этот самый день, день бракосочетания – в Царском Селе вспыхнул сильный пожар, едва не сгорела легендарная Янтарная комната. Будто бы многие сложные чувства наследника, выработанные годами борьбы с собственной судьбой, вдруг материализовались таким неожиданным образом через сотни вёрст…
Как бы там ни было, себя от трона он практически оградил: морганатический брак и отсутствие детей делали царственное будущее Константина крайне проблематичным.
Однако, закон о престолонаследии, выработанный Павлом Петровичем, продолжал в полной мере действовать, отменять его никто не собирался, да и делать это было совершенно незачем: он так чётко, внятно прописывал порядок смены монархов, что лучшего и желать было нельзя – и вправду, как показало время, прежние безобразия и беззакония прекратились. А по букве этого закона Константин продолжал оставаться наследником: другое дело, что гипотетические его дети от брака с Грудзинской (после свадьбы получившей титул княгини Лович) уже не могли претендовать на русский трон.
Здесь юридическая казуистика явно вступала если не в прямой конфликт, то в странную коллизию с разумом. Став императором, Константин не имел права передать трон своим сыновьям, буде они возникнут – следовательно, ближайшим претендентом как был, так и оставался его младший брат Николай, у которого, кстати, уже имелся сын Александр: готовая династическая линия! Отсюда само собой напрашивалось простое решение, придающее здравому смыслу безупречное правовое одеяние: Константин добровольно отказывается от прав наследования, после чего наследником автоматически становится Николай.
Константин именно на такую нормальную логику и рассчитывал, прося освободить его от бремени короны… да не тут-то было. Прошло почти два года после варшавской свадьбы, прежде чем на очередное письмо Константина Александр ответил формальным согласием. И всё это в обстановке совершенной секретности, не говоря ничего никому постороннему.
Александр – Константин – Мария Фёдоровна… Это для исследователя, конечно, Бермудский треугольник. Все трое люди со странностями: один скрытный до крайности, другой юморист-самоучка, третья и вовсе дама-загадка… Без малого пять лет они запутывали будущих историков: и по сей день приходится ломать головы над тайнами престолонаследной истории 1820–1825 годов, которую её создатели осложнили донельзя. Разумеется, у них были на то свои причины, они руководствовались некими чрезвычайно важными для них соображениями, так и оставшимися в тени… а прошедшие с тех пор столетия нанесли с собой столько всего, что миру давно уже не до тех далёких тайн. Тени превратились в сумрак. Что могли думать царь и вдовствующая императрица (Константин много не думал – он своё дело сделал и мог теперь считать себя свободным от обязательств)? Что гласное объявление Николая наследником спровоцирует какие-то непредсказуемые волнения?.. Очень может быть. Желающие устроить смуту непременно нашлись бы – и совсем не обязательно, что это были бы члены тайных обществ, хотя и они постарались бы, конечно, ухватиться за данный предлог, пустили бы слух о том, что государь незаконно изолировал Константина в Варшаве, сфабриковал отречение и незаконно назначил преемником Николая. Но никак нельзя было исключать того, что такую пьесу попытаются разыграть и какие-либо из совершенно лояльных придворных, среди коих змеились потаённые интриги, обиды, кляузы… Есть сугубые основания полагать, что на пелене секретности вокруг этого дела настаивала Мария Фёдоровна, надеявшаяся извлечь из невнятной ситуации в случае чего некие одной ей ведомые дивиденды… а впрочем, все эти мудрствования теперь выглядят бесплодною софистикой. Вероятно, что и Александр продумывал те или иные запасные варианты действий, вытекавшие именно из скрытности сценария. Может быть, они с матерью лукавили друг с другом, недоговаривали, не доверяя и боясь открыться – боясь и своих подозрений, и того, что эти подозрения вдруг окажутся правдой… Ведь в самом деле страшно, просто по-человечески страшно! – узнать о родном человеке то, чего перенести невозможно, и особенно – особенно! – когда знаешь, что всё равно, что б ни случилось, ты никогда не перестанешь этого человека любить.
Разве не любила Мария Фёдоровна своего первенца, разве не видела в нём крохотный тёплый живой комочек, который, правда, отобрала у неё свекровь, но который от этого, ей матери, был ещё дороже?! – и как же было ей не гордиться тем, что это существо, её сын, плоть от плоти её стало самым могущественным, самым знаменитым человеком на планете!.. И каково при этом помнить, что сын предал отца – и думать, что единожды предав, он сможет предать и потом, и ожидать, что когда-нибудь такое повторится… А каково было Александру день за днём, год за годом – годы, пять, десять, пятнадцать, двадцать лет! – думать, что мать ничего не забыла, всё помнит, только молчит об этом, и никогда первая не скажет. И он молчит, и тоже первым никогда не скажет. Ибо стоит сказать одно лишь слово – это слово обратится в злую силу: всё, что в молчании хоть как-то держится, вдруг прорвёт тонкую стену и хлынет как потоп, грозящий смести всё, что он, Александр, возводил, к чему так долго, так трудно шёл, через ошибки и падения, нашёл вроде бы… и что оказалось так хрупко, ненадёжно и несчастно.
И как же после этого всего не случиться трагедии у трона, удручённого кровавыми вакханалиями прошлого столетия! Счастье ещё, что Александр кое-как, но всё же сумел закрыть пробоину из страшных миров – ценой опустошающей утраты самого себя, собственного поражения в игре, где он, сам того не зная, схватился с противником, которого победить не мог…
Итак, просьбы Константина об отказе от престола и реакция императора на них – история протяжённостью чуть менее двух лет. А после того, как согласие последовало, потребовалось ещё полтора года для воплощения Манифеста, явно обозначившего порядок будущего перехода власти – от Александра к Николаю.
Но и на этом тайны не закончились…
8
С января 1822-го по август 1823-го много чего произошло и многое изменилось. Аракчеев всё укреплял свои позиции, действуя медленно и пунктуально, стараясь продвигать на ключевые посты верных, по его мнению, людей. Вероятно, Алексей Андреевич планировал укрепиться в роли «вице-императора» надолго; не исключено, что где-то про себя он вполне разумно мыслил: мол, императоры приходят и уходят, а вице-император Аракчеев, держащий в руках все нити внутригосударственного управления, останется – без него никому с делами не совладать. Мысль, вероятно, и вправду здравая, и граф методично проводил её в жизнь… но спустя немного времени в очередной раз подтвердилась вечная истина: человек только предполагает, располагать же оказывается опрометчивым.
Год 1823 – время крупных перемен в правительстве. В марте удалился в отставку военный министр Меллер-Закомельский: Александр велел ему найти возможность сократить расходы по министерству; тот изыскал экономию в 800 тысяч рублей. Узнав об этом, Аракчеев провёл свои расчёты, вычислил сокращение в несколько миллионов, доложил царю. Исчисления Алексея Андреевича показались убедительными; император решил, что министра надо поменять, что и сделал. В должность вступил пожилой генерал А. И. Татищев, не ознаменовавший себя никакими победами… впрочем, славы, равно как и полководческих талантов от него не требовалось. Требовались послушание и исполнительность – немногое, надо признать; вероятно, нашлось бы довольно немало лиц, способных на это. Но фортуна улыбнулась Татищеву…
Основной военной должностью по-прежнему оставался начальник Главного штаба – но и здесь случилась перемена. Место Волконского занял молодой, энергичный, перспективный Иван Дибич, сын худородного прусского офицера, впоследствии ставший графом и добавивший к фамилии звонкий эпитет «Забалканский» – Александр приметил расторопного офицера среди своей свиты на Лайбахском конгрессе, приблизил, после чего карьера прусского выходца круто пошла вверх. Сумел он приглянуться и Аракчееву, что в наличной обстановке было едва ли не важнее… Так и закрепился в «высшей лиге».
Чуть позже, в апреле закончилось долгое министерство графа Д. А. Гурьева, гурмана и кандидата в академики живописи. Несмотря на сии благоприобретенные качества и Аракчеевское благоволение, Дмитрий Александрович запустил имперские финансы до неприличия – так что и Аракчеев ничего не мог поделать. Престарелого министра от греха отправили на покой, а выправлять поверженное графом-эпикурейцем хозяйство взялся блестящий экономист-практик Егор Канкрин, и делал он это долгих двадцать с лишним лет, поставив всероссийский рекорд, продержавшийся больше века…
Дольше Канкрина на посту министра финансов нашего государства (в данном случае – СССР), продержались легендарные Арсений Зверев (1938–1960, с перерывом на 1948 год) и Василий Гарбузов (1960–1985). Зверев, правда, первые восемь лет назывался не министром, а наркомом – что, конечно, сути не меняет…
Относительно Канкрина – не утаим истины! – мнения расходятся, его маневры в качестве главного финансиста страны оцениваются очень по-разному. Он регулярно, год за годом, выводил профицитные бюджеты, что сделать по тем обстоятельствам было крайне сложно; какими, однако, методами он этого добивался? – тема, и поныне вызывающая немалые дебаты…
В которые нам вдаваться незачем. Обратимся к другим персонам.
Июнь 1823 года – в самом конце этого месяца завершилось министерское бытие Кочубея. Разумеется, граф не выпал из «обоймы», он и при следующем царе обретался в ближнем кругу, и князем стал, и в правительство вернулся, ещё и с высшим качеством: в 1827-м Виктор Павлович стал председателем Комитета Министров, а заодно уж, по сложившейся традиции, возглавил и Госсовет.
А тогда, в 1823-м его сменил Кампенгаузен. И здесь, думается, без Аракчеева не обошлось: педант педанта видел издалека. Видел и ценил… Правда, коротенькой вышла министерская служба Балтазара Балтазаровича (он оставался и государственным контролёром) – два месяца. В конце июня пост принял, в конце августа – сдал. А в сентябре ушёл и из контролёров. Здоровье подвело: вскоре Балтазар Балтазарович скончался… Министром внутренних дел был назначен генерал Василий Ланской, человек не ахти каких дарований, но исправный служака без затей. Он устроил всех – и в этой очень крупной должности задержался на немалые пять лет.
Несколько ранее описываемых событий сменился главноуправляющий путями сообщения. Здесь как-то получалось так, что при деле оказывались иностранцы, притом половина из них родственники Александра: сначала, как мы помним, управлял путями супруг Екатерины Павловны принц Ольденбургский, после скоропостижной смерти которого организацию возглавил Ф. Деволант. На смену ему в 1819 году пришёл испанец французского происхождения Августин Бетанкур – между прочим, незаурядный инженер, будущий организатор водружения Александровской колонны на Дворцовой площади, памятника, ставшего со временем главным символом эпохи шестого русского императора; а в ноябре 1822 года управляющим стал дядя Александра, самый младший брат Марии Фёдоровны принц Вюртембергский. Он, должно быть, оказался неплохим менеджером – прослужил в приравненной к министерской должности 11 лет, правда, политического влияния не имел… Да и не стремился участвовать в политике.
Подспудное значение большинства из этих перестановок очевидно: Аракчеев, как хороший сапёр укреплял, обустраивал позиции; а правильнее будет сказать, что Александр привык к графу, как к совершенно неотъемлемой части своего политического существа: что хорошо Алексею Андреевичу, то хорошо мне… Правда, это не вылечит от печалей, от скрытой, невысказываемой тоски наедине с собой; но всё остальное… ну, пусть не всё, пусть кое-что хотя бы – пусть так, от этого «чего-то» нет лучшей защиты, лучшего заслона, чем Аракчеев. С ним так так уютно, так по-родственному!.. Наверное, Александру, когда он общался с Алексеем Андреевичем, пил с ним чай, разговаривал о пустяках – казалось, что этот сложный, неприятный мир чудесным образом становился проще, тише, теплее, обретал домашние формы – мир, каким он должен быть! Надёжный, прочный, нет в нём страха и жестокости, войн, бунтов, несчастий, политики, Меттерниха, заговорщиков… Это нельзя, конечно, было назвть реальным преображением, чего Александр ждал, скажем, от Фотия – но Аракчеев был как наркоз – утишал давнюю, ноющую боль; ненадолго – он уходил, и боль привычно возвращалась, но ничем другим унять её было нельзя. Даже Фотием. Даже Голицыным…
Казалось бы, Голицын и Аракчеев поделили сферы влияния: духовную и административную, и могли сосуществовать спокойно, чего ж им ещё?.. Но – видимо, такова уж придворная жизнь, всегда там тесно. Вот и эти сферы перепутались, и князь с графом не смогли ужиться вместе. Хотя до поры до времени уживались – без любви, однако достаточно терпимо. Голицын продолжал неустанно трудиться на ниве мистицизма, где открывал всё новые и новые таланты: так, осенью 1822 года ему на глаза попалось сочинение под протяжным названием «О необходимости и неотрицаемом долге Церкви заботиться о просвещении всех остальных языков и возвращении всех христиан ко святому единомыслию»[5, 295]. Автор – рядовой священник из маленького западноукраинского города Балты о. Феодосий Левицкий. Рукопись взволновала министра, он захотел срочно познакомиться с провинциальным батюшкой, заодно познакомить с ним и государя… но срочно не получилось: Александра ожидал очередной конгресс Священного Союза.
Это была последняя на высшем уровне сессия «братского христианского союза», последнее международное мероприятие, в котором участвовал Александр, последний его выезд за границу. Официальная идеология Союза кое-как держалась на одном только русском императоре, да и то, скорее, из нерушимого уважения к нему. А в сущности, самому царю было ясно, что идея провалилась. Никакого христианского единства в обозримом мире и в помине видно не было. Александр не мог не замечать этого. На конгресс он ехал будто по инерции.
Предварительные консультации состоялись в Вене, а потом почтенное собрание переехало в Верону, город Ромео и Джульетты; тогда – владение Франца I.
Каким-то грустным предстаёт этот конгресс в воспоминаниях участников, несмотря на то, что график работы был вполне напряжённый, решать приходилось, как всегда, множество разного масштаба вопросов… Кого-то из героев прежних саммитов уже нет: Каслри, например. «Нет повести печальнее на свете…» – это в Вероне можно было сказать не только о несчастных влюблённых, но и об английском министре, павшем жертвой общественного мнения. Почему-то многие в Европе сочли, что британское правительство уморило Бонапарта невыносимыми условиями содержания на острове (после того, что пережило человечество в ХХ веке, эти условия могут показаться чуть ли не райским садом, но тогда…) – и общество долго, с негодованием бурлило, осыпая Англию упрёками в жестокости, мстительности и тому подобном; и больше всего доставалось несчастному Каслри. Действительно несчастному, ибо никто Бонапарта нарочно не морил, другое дело, что ему, вырванному из привычной «экосистемы», просто незачем стало жить. Лишённый цели и мотива, он скучал, ворчал, сердился на кого-то – всё довольно бессмысленно. Так и угас. А вот Каслри как раз воспринял слишком остро обвинения в свой адрес и… покончил жизнь самоубийством [66, 261].
Сомнительно, разумеется, строить некие обобщения на основе данного факта. И всё-таки… Неужто иные представления о чести были у людей того века, чем у нынешних? Даже у английских министров…
А вот министры французские делались поэтами. Или наоборот – поэты делались министрами. Знаменитый католический мыслитель и стихотворец Франсуа Рене Шатобриан, уполномоченный правительства Франции в самый разгар конгресса был назначен министром иностранных дел. Для истории, правда, он всё-таки литератор: о достижениях романтика на дипломатических ристалищах следует упоминать со скромными оговорками. Как писатель же – оставил любопытные заметки об Александре: в Вероне они подолгу и дружески общались. Наблюдательный сочинитель уловил душевную усталость русского царя: словно что-то перегорело, что-то отмерло в этом человеке. Было ли это предчувствие?.. Императору предстояли ещё три года; вовсе не так уж мало. Правда, пролетели они как один миг – но так бывает всегда и со всеми, с кем идут годы. Не замечаешь, как они идут, а они уже бегут… а когда спохватишься, уже не различить прошлого: всё там в нежной и печальной дымке. Лица, слова, взгляды… И какая разница, было это семь, десять или же двенадцать лет назад!
Верноский конгресс оказался существенно короче, нежели предыдущие: продолжался менее двух месяцев. Работа государей и дипломатов была напряжённой, вопросов рассмотрели немало. Главными среди них были: испанская революция и греческое освободительное движение, то есть, те же самые, что в Троппау и Лайбахе… С эллинской проблемой всё осталось по-прежнему: при моральном сочувствии к восставшим властители Европы не могли позволить себе нарушить принцип легитимизма, потому даже отказались принять греческую делегацию, прибывшую на конгресс [25, т.1, 7]. Позднее, правда, принцип именно в этом самом месте пошатнулся – но то позднее… Что касается Испании, то здесь державы уполномочили Францию разобраться со вредоносным Риего; планировали также организовать интервенцию в Латинскую Америку, где антииспанские восстания достигли апогея. Но опять начала чинить препоны Англия – слишком уж велики были её аппетиты в южной части Нового Света; настолько велики, что пришлось попрать стопой экономического интереса собственную гордость и обратиться ко вчерашней колонии, США с предложением о совсместных действиях в Западном полушарии. Итогом стала знаменитая «доктрина Монро»: Америка для американцев. Планы Священного Союза о помощи Фердинанду VII навести порядок на дальних берегах так и остались планами.
Союз был вынужден ограничиться наведением порядка в самой Испании, что и сделал французскими руками. Звезда Риего закатилась довольно быстро: он пытался противостоять интервенции с севера, но безуспешно; его сбродное войско – что-то вроде «армии Ипсиланти» – потерпело совершенный разгром. Фердинанд VII и раньше терпеть не мог масона, бывшего для королевской власти болезненной занозой – а теперь получил практическую возможность разделаться с ним сполна, что и сделал незамедлительно. В октябре 1823 года бывший председатель парламента был казнён.
Впрочем, для императора Александра это всё были косвенные события. Он, конечно, заботился о Священном Союзе, не пустил его на самотёк… но не без оснований создаётся впечатление, что занимаясь большой политикой, царь постоянно возвращался памятью к незавершённым домашним делам – и она владела им тяжело и грузно, будто бы содержала смутную весть о том, что эти дела так и останутся незавершёнными… Политика кончалась. Приближалось нечто иное.
Зима 1822-23 годов выдалась очень холодной. Даже в Италии. Алпександр, правда, не изменил своей привычке прогуливаться: и пешком и верхом, много ходил и ездил, иной раз надолго останавливался, смотрел, любуясь то очарованием старинного города, то холодным далёким небом, то прекрасными пейзажами Ломбардии… Предчувствовал прощание с Европой? или просто редавался созерцанию земных красот, на коих знающему глазу виден отблеск вечности?..
Он никому об этом не сказал.
В январе 1823 года император Александр I навсегда вернулся в Россию.
9
Дни человеческие обыкновенно идут так, что люди привыкают и не замечают, как день за днём набегают месяцы, обрастают памятью, нужной и ненужной… Проходят годы, мы меняемся, меняется мир вблизи и вдали от нас. Но вдруг случится, что время сорвётся, замелькает такими поспешными картинками, что всё покажется пёстрой и суматошной рябью, какой-то отдельной от самого человека – точно он зритель странного кино, в котором невозможно угадать сюжет…
Возможно, годы 1823-24 стали для Александра именно таким временем. Он менял министров, о чём-то говорил с Аракчеевым, Волконским, Голицыным, подписывал Манифест, ездил по стране, принимал парады, болел, выздоравливал, навещал выросшую дочь… и всё это были для него только дни и вёсны, ручьи, талые снега, ливни, пыль дорог, спина кучера Ильи, знакомые и чужие лица… и небо, небо! – ясное с солнцем на востоке, притенённое с солнцем на западе, ночное в звёздах и без звёзд, со вздохами ветра, шелестом листвы, едва уловимый запах пробежавшего где-то короткого, невидимого в темноте дождя.
Это бегущее из лета в осень, из зимы в весну время было сдвинуто памятью о тайных обществах – и вместе с тем надеждой на духовную победу. Память давила как опухоль: вроде бы даже Александр как-то привык к ней, хотя, конечно, полностью привыкнуть невозможно. А вот надежда… Надежда странно играла с царём: то ли есть она, то ли нет; Александр пытался ухватить её, и сам чувствовал, что держится за хрупкий, слабый кончик, так же как когда-то старался уверить себя в том, что заговорщики не убьют отца, а лишь заставят отречься – и там была такая же ненадёжная надежда… Но как тогда, так и сейчас хвататься было больше не за что. Император, не очень веря и боясь признаться себе в этом, всё-таки старался верить, очень дорожил мыслью: а вдруг Голицыну и его мистической команде удастся прорвать паутину зла!..
Надежда без веры? Видимо, бывает в жизни и такое.
Поздней весной 1823-го Феодосий Левицкий был наконец-то вызван Голицыным в Петербург и почти сразу же представлен государю. Между царём и священником вспыхнул прозрачный пламень беседы о высоком; даже и о самом высшем.
Отец Феодосий предстал, можно сказать, «Фотием с обратным знаком»: два этих духовных лица были похожи и не похожи друг на друга как Северный и Южный полюса. Священник-южанин, так же как и северянин-монах, пребывал в неизбывном экстатическом вдохновении, только совсем иного свойства. Если видения архимандрита были таковы, что сам их наблюдатель имел «страх и трясение всех членов», то миролюбивому украинцу грезилось счастье того мира, где «… смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло»[От., 21:4]. Левицкий выражал светлую сторону мистики – и это должно было глянуться императору больше, чем ужас духовного одиночества, переживаемого Фотием. Несомненно, должны были понравиться царю и некоторые земные мысли собеседника – о единении всех христианских конфессий, скажем… Александр выслушал просветлённого гостя очень позитивно; разумеется, был неподражаемо любезен – в итоге и отец Феодосий вошёл в ближайшее окружение императора.
Это было понятно по-человечески и вполне симпатично в смысле мировоззренческом. Правда, как представлял себе Александр реализацию духовных потенций мистика-оптимиста?.. – признаться, не очень вразумительно. Впрочем, дорогу осилит идущий – может быть, государь уговаривал себя так. Увы, однако! ни сам автократор, ни ближние его так и не сумели религией победить политику.
Явление отца Феодосия едва ли не в центре придворного мира тут же всколыхнуло беспокойство известных высокопоставленных персон. Митрополит Серафим встретился с Левицким, поговорил; вероятно, увидел в нём сомнительного духовного прожектёра – о чём не замедлил доложить Аракчееву.
Не столь уж существенно знать, какие именно эволюции свершались в треугольнике Аракчеев – Серафим – Фотий. Важен невесёлый итог: близ трона отчётливо обрисовались две оппозиционирующие партии, чьё противостояние быстро переросло в неразрешимую вражду.
Совершенно нет уверенности, что Александру в любом случае удалось бы выправить зачерствевшую ситуацию, а в данных обстоятельствах, отягощённых операцией «Преемник», необходимость скрытно манипулировать угнетала императора – но что ж делать! Иного решения ни Александр ни Мария Фёдоровна не сумели увидеть. Поэтому в течение весны и лета шла работа по подготовке Манифеста о престолонаследии… и здесь царь сделал неожиданный ход.
Однако, если вдуматься, всё здесь оказалось выверено точно с мировоззренческой установкой Александра. Он поручил составить Манифест не кому-то из конфидентов и не профессиональным юристам – а архиепископу Филарету, которого так не любил и против которого будировал Фотий (высочайшее доверие было изъявлено Московскому первосвященнику посредством Голицына). Почему такой окружной ход?.. Всё логично и оптимально: во-первых, подальше от двора. Архиепископ (впоследствии митрополит) принадлежа, несомненно, к элите тогдашнего общества, никогда не тяготел ни к каким властным конъюнктурам; на Голицына в данном случае государь тоже мог положиться. А во-вторых – и в главных! – ибо из этого-то и вытекало первое: владыка Филарет как никто другой сочетал истинное православное благочестие с добротной академической учёностью. Александр мог быть уверен, что важнейшее сакральное дело он вверяет человеку настоящей драгоценной веры и сильного разума – именно оба этих качества необходимы для социального оформления монаршей воли в столь деликатном деле, какое получилось в результате извилистых маневров августейшей семьи. Документ должен быть создан в атмосфере праведности и вместе с тем должен быть вполне формализован.
Первоначальный текст был составлен Филаретом с риторическим мастерством; то есть так, что трактовать его можно было по-разному: имеется ли здесь в виду кончина государя? его добровольный уход с трона? или что-либо непредвиденное?.. всё можно было при желании объять умелыми конъюнкциями и дизъюнкциями автора [5, 307]. Потрудился он изрядно, сдал текст высочайшему заказчику…
А в ответ – тишина.
Впоследствии эта логическая предусмотрительность Филаретова варианта стала одним из доводов в пользу версии об Александре, тайно покинувшем престол и ушедшим в скитания по планете; что, впрочем, аргумент слабый.
При том, что нимало не стоит считать слабой саму данную версию – но о том позже.
Слабый потому, что желание оставить трон было давним мотивом, ощутимо вплетавшимся в ауру Александровой жизни, никакого тут секрета нет. А от желания до воплощения – дистанция огромного размера, и говорить о том, что поскольку человек многократно озвучивал некий тезис, постольку его и осуществил – значит, грешить против принципа достаточного основания. Хотя, безусловно, связь присутствует, и то, что в «Манифесте Филарета» допускается будущая добровольная отставка императора – это, конечно, так.
Итак, автор текст сдал, заказчик взял. Но принял ли?.. Наступило затишье, и по сей день порождающее раздумья и гипотезы историков. Александр занимался повседневными делами, намечал осенью провести смотр войск Царства Польского и 2-й армии, в недрах которой, как он знал, таится зловещее подполье… Насколько царь рисковал? Риск был. Среди «южан» заклубились кровожадные разговоры: дескать, вот она, возможность… С самыми дикими проектами выступили Сергей Муравьёв-Апостол и Михаил Бестужев-Рюмин – именно мечтатели-убийцы, люди «ума отрывистого и неправильного», по словам Достоевского; правда, их ужасные задумки, слава Богу, так и не сбылись.
В отличие от этих полубезумных фантасмагорий планы Пестеля отличались твёрдым постепенством. Он, при его-то честолюбии, умел по-немецки держать себя в железном порядке терпеливого ожидания. Он вёл длительные переговоры по новому объединению «запрещённых» обществ; переговоры шли вяло, но он не отступался, продолжал, настаивал, действовал с мелочным повседневным упорством – немецкие терпение и труд всё перетрут… Годы шли, карьера, сперва обещавшая ослепительный взлёт, затормозилась. Павлу Ивановичу уже тридцать; с тем, что когда-то обещалось, вполне бы мог быть генералом. Но – нет, что-то не так… Правда, полковник и командир полка, и на отличном счету у непосредственного начальства: командующего армией Витгенштейна и начальника штаба Киселёва. Полк свой Пестель школил, жучил и стегал беспощадно, делая из него превосходную строевую машину – и сделал-таки. И ждал своего часа. «Терпеньем, можно сказать, повит, спелёнат и, будучи, так сказать, сам одно олицетворённое терпенье…» [19, т.6, 37].
Пестель – незаурядный человек, спору нет – оказался почти таким же «Наполеоном», что и его фантомный тёзка Павел Иванович Чичиков. Единственное, что он сумел сделать на самом деле добротно – выдрессировать свой провинциальный Вятский полк по строевой части до уровня гвардейского…
Филаретов текст подвергся корректировке. Занимался этим Голицын, но можно не сомневаться, что в обсуждениях участвовали и Мария Фёдоровна и сам Александр. Мастерская гибкость профессиональной риторики несколько упростилась, погрубела [8, 103], но содержание сделалось более определённым: стало ясно, что Манифест должен быть оглашён только после государевой кончины [5, 308].
Ещё какие-то штрихи – и документ подписан императором, обретя силу закона. Это произошло 16 августа. Но… сложные маневры продолжились.
По устоявшейся уже традиции Александр отправлялся в ежегодный вояж по стране в августе, накануне дня тезоименитства: к этому дню он, как известно, обычно оказывался в Москве. Так же точно случилось и в этот раз: 25 августа император прибыл в старую столицу, а 29-го случилось действо, для историков головоломное.
Вечером этого дня в алтаре Успенского собора Кремля собрались четыре человека: все либо духовные лица, либо чиновники духовного ведомства. Сам архиепископ Московский, протопресвитер собора, сакелларий и прокурор Московской синодальной конторы. Главную роль в этом почтенном собрании исполнил Филарет – прочие остались для истории безмолвными свидетелями, хотя наверняка что-то они при этом говорили… Но это, видимо, неважно.
Филарет отпер специальный ящичек – «ковчег государственных актов»; продемонстрировал запечатанный конверт и объявил, что в нём содержится государев закон, должный весьма содержаться в тайне. Затем вложил конверт в ковчег, запер и тоже опечатал.
Насколько поняли присутствующие, что здесь и сейчас, в тишине, в огромной полутьме собора История вдруг взглянула на них, прямо в глаза их? Ощутили они этот странный взор? Невидимка Клио, хоть и язычница, безбоязненно проникла в святая святых православного собора, зная, что её не прогонят, ибо для просвещённого христианина всякая душа христианка…
Хочется думать, что ощутили. Сердца забились волнительнее, может быть, и тревожнее – правда, понять, тем более предвидеть, что будет, как отзовутся в мире этот вечер, эта тишина, эта минута… да, это дано немногим. Но возвышенность момента!.. Нет, не прочувствовать это нельзя.
Кроме Манифеста, в конверте находилось письмо Константина с просьбой об отречении, а на самом конверте рукою Александра начертано так: «Хранить в Успенском соборе с государственными актами до востребования моего, а в случае моей кончины открыть московскому епархиальному архиерею и московскому генерал-губернатору в Успенском соборе прежде всякого другого действия».
Многознаменательная приписка: «…до востребования моего…» пробуждает в исследователях законное глубокомыслие [5, 305]. Значит ли это, что Александр не окончательно утвердился в решении передать трон Николаю? Или держал про запас ещё какую-то комбинацию, о которой так никто никогда и не узнал?..
Риторические вопросы! Вероятно, всё это когда-то было значимо, целилось в будущее… но стало прошлым: выцвело, побледнело и ушло; теперь это любопытно и только. А что не стало прошлым и не станет: Москва, Кремль, Успенский собор. Да, с точки зрения обычной логики – невесть что, нелепо, даже как-то раздражает. Легко представить себе умного человека без улыбки, с неодобрительным взглядом: зачем царю понадобился этот детективный сюжет?.. Очередная мистическая блажь?
Мистическая, но не блажь. Александр знал, что делал. Он знал, что затея с престолонаследием вышла неладная, негладкая, тревожная. Православному монарху оставить добровольно трон… Очень, очень спорная процедура! Теоретически возможная, да; но очень непростая. Александр это сознавал. Но, мучительно думая об этом, многократно взвешивая все «за» и «против», император, видимо, не исключал, что при некоем стечении обстоятельств придётся поступить именно так… Следовательно: во-первых, надо всё содержать в тайне, а во-вторых и в главных, по возможности сакрализовать дело, обеспечить ему защиту, способную нейтрализовать то, что может случиться, когда запечатанный Манифест вдруг будет объявлен всей стране.
В этом Александр оказался провидцем. Случилось. Насколько сработала сакральная защита? – вопрос, на который, очевидно, твёрдого ответа нет. Но то, что смертей и крови могло быть куда больше, чем было в декабре 1825-январе 1826 годов – это совершенно так. Это факт. А дальше можно размышлять.
Во всяком случае, в августе 1823 года престолонаследная эпопея взошла на очередную ступень; взошла и остановилась, напряжённо и недоверчиво… Император постарался законсервировать сложившееся положение дел: его держава ничего не знала о смене наследника, для неё таковым продолжал оставаться Константин; а в Успенском соборе Кремля – месте, которое царь, очевидно, каким-то образом связывал с наивысшим взлётом своей жизни: чудесным изгнанием врагов, победой над ними и прощением их – лежал совершенно секретный документ с сюрпризом, обещавшим стране то, что на языке современной синергетики зовётся «точкой бифуркации».
Впрочем, где-то в глубине души император наверняка возлагал надежды на чудо и на счастье: и Успенский собор недаром, и недаром в столице и в монастыре под Новгородом свершают духовный труд отцы Феодосий и Фотий. Должно это сработать! А покуда придётся немного подождать, потерпеть… Всё должно проясниться.
Из Москвы Александр отправился на юго-запад, постепенно забирая всё западнее; так он оказался в царстве Польском, в Бресте (тогда – Брест-Литовске), где не было ещё легендарной крепости – она была сооружена в 1842 году… Константин поджидал брата, приготовив ему грандиозный парад; присутствовал при сем принц прусский, будущий король Фридрих-Вильгельм IV. Смотр войск Царства Польского прошёл с полным великолепием, если не считать одного досадного случая: лошадь некоего офицера, близко подъехавшего к императору, внезапно взбрыкнула и лягнула царя в голень правой (?) ноги.
Собствено, не такой это и пустяк: удар по голени вообще чертовски болезненная штука, а уж если ударило существо весом едва ли не в пол-тонны… Нога Александра так распухла, что главному придворному врачу Виллие пришлось разрезать сапог, чтобы сравнительно безболезненно высвободить ногу. Всё, однако, обошлось благополучно: Виллие был хороший доктор. Воспаление сошло вроде бы без последствий.
Вроде бы – до своего злого часа…
Брест-Литовск – самая западная точка в этом путешествии императора. Оттуда он поехал в расположение частей 2-й армии, маленькие белорусские и украинские городки: Ковель, Дубно, Острог, Тульчин, Крапивна, Умань… иных и нынче-то не найдёшь на карте. Эту экспедицию царя и имели в виду радикалы Муравьёв и Бестужев, когда предлагали свои воинственные эскапады; Верховная управа Южного общества оказалась, однако, заведением более благоразумным, чем о ней можно думать: она планы бывших семёновцев отклонила.
Вообще, это путешествие Александра – такая стыдливая игра в молчанку. Он знал, что находится в гнездилище изменников и молчал; они знали, что государь – потенциальная жертва их титанизма, и тоже помалкивали, внешне выказывая привычную субординацию… Странно? И да, и нет. Император, во всяком случае, столько уже встречал в своей жизни странностей, что наверняка уже перестал им удивляться – отчего они странностями быть, конечно, не переставали.
На смотру в Тульчине Вятский полк промаршировал перед государем так браво, что он восхитился. «Превосходно, точно гвардия!» – воскликнул Александр и тут же пожаловал командиру этого полка полковнику Пестелю три тысячи десятин земли – огромную для помещичьего хозяйства территорию.
Разумеется, царь знал, что Павел Пестель – сын причудливого сибирского губернатора. Вероятно, знал про членство полковника в тайном обществе. Знал ли, что отличный командир полка в мыслях своих – созревший клятвопреступник и убийца?.. Если и знал, то виду не подал, ещё глубже спрятал терзающие его чувства. Почему? Всё же надеялся на духовный спецназ? На то, что по сугубым и трегубым молитвам всё-таки случится чудо, и несчастные прозреют, увидят грубость собственных заблуждений, подобно тому, как прозрел он сам?..
Да ведь так и случилось! Не со всеми, не сразу… а тогда, когда, сказать правду, что-либо исправлять было поздно. Прозрели! Горько и безнадежно, и особенного чуда здесь не было. Только годы – и привычная, застарелая боль прошлого, которого можно было бы избежать, как того и хотел император Александр…
Вильгельм Кюхельбекер – наверное, один из лучших среди декабристов. Мечтатель, нелепый, вспыльчивый, рассеянный – но не убийца, нет. Не исключено, что мог бы стать им; но не стал: Бог его спас. Однако, счёл нужным провести по суровым годам, по холодным бесприютным землям, одиночеству, болезням, разочарованиям – для того, чтобы пройдя через много таких лет, полуоглохший, полуослепший, у разбитого корыта столь талантливо, счастливо начинавшейся, и столь грустно закончившейся жизни, старик сказал такие вот слова:
«…взирая на блистательные качества, которыми Бог одарил народ русский, народ первый в свете по славе и могуществу своему, по всоему звучному, богатому, мощному языку, коему в Европе нет подобного, наконец – по радушию, мягкосердию, остроумию и непамятозлобию, ему пред всеми свойственными, я душою скорбел, что всё это подавляется, вянет и быть может, опадёт, не принесши никакого плода в нравственном мире. Да отпустит мне Бог за скорбь сию часть прегрешений моих, а милосердный Царь – часть заблуждений моих, в которые вовлекла меня слепая, может быть, но беспредельная любовь к отечеству!» [32, т.6, 412].
Вот так. И что тут ещё скажешь?..
10
Император вернулся в Царское Село в ноябре 1823 года. День за днём, неделя за неделей – время полетело ещё быстрее: именины, Рождество, Новый год… Ещё один настенный календарь долой.
Александр всегда отличался хорошим здоровьем и никогда ничем серьёзным не болел – спасибо бабушке! Воздушные ванны хоть и сократили вполовину слух, но тело закалили, никакие хвори не цеплялись к нему, разве что на нервной почве случались кратковременные расстройства. И всё же не миновала государя чаша сия, да ещё как! Будто бы сразу болезнь решила отыграться за годы бездействия. Прежде всегда стойкий организм вдруг дал слабину, впустил в себя невидимое зло. И началось… Точно вполовину пропал иммунитет (вспомним Екатерину Павловну!): лихорадка, слабость, температура… и всё это, наконец, в январе 1824-го превратилось в такое же, как у сестры, рожистое воспаление; правда, охватило оно не голову, а правую ногу, приобретя вид страшной, гноящейся раны на левой голени.
И вот вопрос: в какую ногу Александра лягнула лошадь на маневрах в Бресте?! В правую?.. У Мережковского читаем (действие происходит в марте того же года) следующее:
«А воспаление-то сделалось там, где нога уже болела раз,» – подумал вдруг [Александр – В.Г.] и вспомнил, как года три назад на кавалерийских маневрах шальная лошадь зашибла ему ударом копыта это самое место – берцовую кость левой ноги» [44, т.3, 134].
С «тремя годами» маститый автор оплошал: происшествие с лошадью случилось несколько месяцев назад. Насчёт же левой ноги… Конечно, в литературном произведении допустимы вольности, но здесь, думается, не тот случай. Просто Дмитрий Сергеевич сделал простейшее дедуктивное умозаключение: где тонко, там и рвётся. Воспаление скорее всего случится в том месте, где уже была травма, и не столь уж лёгкая. То, что рожистая зараза поразила царя в левую голень – факт, признаваемый беспорным. Следовательно – удар копыта пришёлся именно в неё. Нормальный дедуктивный силлогизм.
Но вот печальный документ: акт вскрытия тела императора Александра I. Описание достаточно подробное, и в нём есть следующее: «… на обеих ногах ниже икр, до самых мыщелков [щиколоток – В.Г.]… различные рубцы (cicatrices), особенно на правой ноге, оставшиеся по заживлении ран, которыми государь император одержим был прежде» [36, 422].
Может быть, рубец от удара копытом действительно был на правой ноге, а от воспаления – на левой, и одно с другим не связано? Может быть. Не всё в жизни случается по силлогизмам. Но, судя по всем описаниям, след воспаления должен был быть куда отчётливее следа удара; откуда же тогда «…особенно на правой ноге…»?
Понятно, что эта путаница фактов дала богатую пищу для размышлений и гипотез, о коих нам сказать ещё предстоит.
А январская болезнь вцепилась в Александра люто. Сутки за сутками бригада придворных медиков, бледных, осунувшихся, билась с инфекцией, не желавшей отступать. Рана на ноге приобретала всё более пугающий вид… и вот в разговорах врачей с глазу на глаз зазвучали жуткие слова: «антонов огонь», гангрена, то есть, и – «ампутация».
Но Александр ещё раз доказал, что может победить самую вроде бы безнадёжную ситуацию. Медикам удалось локализовать поражение тканей; какое-то время больного температурило и лихорадило, а 26 января омертвевший струп на ране вдруг отпал сам собой, после чего дело быстро пошло на поправку. Правда, долго ещё нога побаливала и опухала… но то были уже остаточные явления.
Зато другие явления – политические! – были пока только зачаточными, обещавшими развернулься в ближайшем будущем… Пока император колесил по военным смотрам, затем пока болел, две придворные партии, Голицынская и Аракчеевская, оформились определённо и непримиримо. Упустил Александр ситуацию? Если б он каждый день следил за своими ближайшими сановниками – не сцепились бы они?.. Сложно сказать; впрочем, как бы там ни было, случилось то, что случилось. При этом Аракчеев сумел сколотить куда более боеспособную команду; собственно, у князя и команды-то никакой не было. Феодосий Левицкий, конечно, был чрезвычайно благодарен министру за покровительство, но участвовать в придворной борьбе?! В мистическом простодушии отец Феодосий, наверное, полагал, что никому никогда и в голову не придёт возражать, тем более противодействовать его озарениям – ибо всем должно быть совершенно ясно, что в них-то и заключена истина.
Правда, команда «молитвенная» Голицыным была создана. Кроме Левицкого, в неё вошли ещё несколько духовных лиц; некоторые из них впоследствии стали заметными иерархами. Самым же близким отцу Феодосию сотрудником сделался его соотечественник, рядовой священник из-под Каменец-Подольска о. Феодор Лисевич.
Земляки-украинцы, полные возвышенных позывов, в духовном рвении хватили через край, проводя некие потаённые, ото всех скрытые богослужения, и даже возложив на себя тайные имена, известные лишь им двоим: отец Феодор стал Григорием, а отец Феодосий – как раз Феодором… Нет сомнений, что во время своих подпольных служб новоявленные Феодор и Григорий возносили молитвы горячо и искренне, с самыми чистыми намерениями; и в том, что намерения важнее результата, действительно есть правда жизни. Но есть правда и в результате – а результат творчества духовных энтузиастов из наших дней смотрится, признаем правду, скромно. Между прочим, архиепископу Филарету не понадобилось ста восьмидесяти лет, чтобы это увидеть: познакомясь с отцом Феодосием, он сразу же понял, с кем имеет дело, так что годы спустя Левицкий с некоторой обидой вспоминал о беседе с владыкой: «…рассуждение его наипаче состояло в том: как я самозван на великое дело Христово решился…»[5, 303].
Проницательный взор московского епископа без труда разглядел в младшем коллеге мечтателя без твёрдой религиозной дисциплины – что могло быть простительно людям светским, императору Александру или Голицыну; а священнослужителю, конечно, в этом смысле надо быть осмотрительнее. Левицкий же и Лисевич, люди увлекающиеся, продуцировали слишком смелые идеи… За зиму они сотворили рукопись «Свидетельство Иисуса Христа», представили её царю. Тот прочитал, хвалил, просил и впредь работать в том же направлении… однако, не много совместной работы суждено им было.
Духовная армия Аракчеева к земным стычкам подготовилась куда лучше. Полтора года, проведённые Фотием в Юрьевом монастыре, сильно возвысили его репутацию в свете – а сам он за это время однозначно принял сторону «вице-императора». Алексей Андреевич в данном случае проявил солидную политическую мудрость: зная, что не любим обществом, он не педалировал своё покровительство Фотию – но напротив, аккуратно подвёл ситуацию к тому, чтобы авторитетный настоятель сам громогласно объявил о великих достоинствах графа, что в итоге и произошло. Архимандрит остался верен себе: изъяснялся резко и художественно. Так, Аракчеев был им определён как «муж преизящнейший», что могло бы показаться насмешкой – сутулый, длиннорукий, с топорным ликом, Алексей Андреевич был скорее похож на неандертальца; однако, Фотий говорил так совершенно серьёзно, имея в виду нечто более существенное, чем внешность: ирония не в его стиле. Относительно же Голицына лицемерие было отброшено, и теперь князь удостаивался таких сильных эпитетов, как «козлище» и «зверь-рысь»: «Входит князь и образом, яко зверь-рысь является» [44, т.3, 238]… Глядя на успехи пламенного монаха и чувствуя поддержку Аракчеева, воспрянул также митрополит Серафим, явно принял сторону данной партии.
В феврале 1824 года Фотий вновь объявился в Петербурге, где немедля принялся «вопиять» и обличать: «…он уже не стеснялся выставлять себя каким-то воинствующим орудием Промысла, определённым на поражение духов злобы, изрекал загадочные тирады, говорил о своих видениях и снабжал представителей высшего общества широковещательными посланиями» [70, т.3, 140]. Понятно, что духи злобы для Юрьевского архимандрита материализовались в самом министре духовных дел, возглавляемом им министерстве, в Библейском обществе; а несколько позже – в книге католического проповедника из Баварии Иоганна Госнера «Толкование на Новый завет», которую Библейское общество сочло нужным перевести с немецкого языка на русский как душеполезную. Фотий же, естественно, счёл её душегубительной.
Теологическое дилетантство Голицына проявилось в этой истории и смешно и грустно. Сочинение Госнера явило собой набор рассуждений честного, искренне верующего и недалёкого провинциального патера – чего ради оно показалось министру перлом богословской мысли?.. непонятно. Книгу запустили в печать.
И тут вспыхнуло негодование. Синодский чиновник Степанов исхитрился выкрасть корректуру Госнеровой книги, передал Магницкому, тот Фотию – и завертелось колесо… Фотий во всеуслышание заявил, что Госнер есть не кто иной как «сатана-человек» и «проповедник Антихриста», Голицын потворствует ему, сеет в обществе разврат и беззаконие… При немногословном и угрюмом поощрении Аракчеева осмелел и возроптал Синод, подмятый под министерство духовных дел – короче говоря, поднялась такая свара, что хоть всё бросай и вон беги. Но в том-то и беда, что Александр никуда убежать не мог…
На переходе от зимы к весне 1824 года он, вероятнее всего, уже понял: ничего не вышло. Ничего из того, на что он рассчитывал, привлекая мистические таланты, должные разогнать тучи над его судьбой – а значит, и над судьбой страны. Но всё же не хотелось, очень не хотелось признаваться в этом! Что-то, вероятно, такое пограничное, экзистенциальное здесь было, какая-то туго натянутая нить, которая уж если лопнет, то навсегда.
Навсегда! Трудное слово. Звучало оно в памяти Александра в те дни?.. Надеялся он примирить Голицына с Аракчеевым? Была ли здесь та самая надежда без веры?.. И сколько ещё вёсен впереди?! – вот вопрос всем вопросам, от которого не уклониться, и на который ответа никто не даст. И сам он, император Александр – что он? Он только смотрит в окна углового кабинета в Зимнем дворце, видит подтаявший лёд на Неве и синее небо над крышами, и словно хочет что-то вспомнить… а память чувствует лишь то, что прожитые годы обратились в тяжесть, которую уже нет сил с себя сбросить.
20 апреля состоялось второе свидание государя с Фотием, на сей раз в Зимнем дворце. После этой встречи Александр наверняка не мог не почувствовать, что дело-то обстоит не важно. Что никакого примирения не будет – отец Фотий не глашатай истины, а несчастный, одинокий в этом мире человек, смутно предчувствующий ужас будущего, но не умеющий толком понять и выразить его; и в этом чем-то похожий на самого Александра, при всех прочих несходствах…
22 апреля встретились Аракчеев, Фотий и Серафим. Вероятно, на этом совещании был принят какой-то план действий, да только вскоре это стало совсем ни к чему, потому что Фотий вдруг пустился в импровизации, всколыхнувшие весь светский Петербург. Возможно, он сам от себя не ожидал такого – но тут уж с ним случился такой взрыв духа, коего он сдержать не смог.
В столице Фотий проживал, конечно, в доме Орловой – туда-то, во дворец графини и нагрянул внезапно Голицын. Цель визита так и осталась неясна: примириться он хотел или что-то другое сделать?.. всё это зачёркнуто дальнейшими событиями. Фотий утверждал, что именно в этот момент князь явился «образом яко зверь-рысь», однако, верить таким мемуарам, понятно, дело сомнительное. Что здесь достоверно – то, что встреча быстро переросла в ругань, чуть не в драку… монах, воспылав гневом, воззвал к силам небесным, дабы обрушить их на голову министра – чего как священнослужитель не имел права делать. А он сделал: прокричал «анафема!» – то есть как бы отлучил Голицына от церкви; «как бы» потому, что отлучение суть крайне строгий и ответственный процесс, совершаемый по особым правилам. Фотий же в исступлении простёр свою дерзость до произвола, непростительного духовному лицу.
Самовольная анафема, да ещё другу царя!.. Петербург ужаснулся. Фотий, опомнившись, сам немного испугался; про Анну же и говорить нечего: та от страха заболела, слегла. Фотий сидел подле её ложа, утешал разными благостными разговорами… Александр молчал. По городу блуждали недостоверные слухи, что он на Фотия очень рассержен.
Так ли это?.. Вероятнее всего – если царь на кого и был рассержен, то на самого себя. Что Фотий?! Конечно, он не виноват: он таков, каков есть, и Александр должен был с самого начала осознать это, а не питаться несбыточными надеждами… А впрочем, и на себя ему сердиться было уже невмоготу. Молчал потому, что сказать было нечего. Что тут скажешь! Нить всё-таки лопнула. Никакого духовного преображения не произошло. Хотел получить сакральную защиту, а получил глупую и смешную придворную историю, такую же, как десятки подобных историй… Голый король! Он – Александр, Император Всероссийский, голый король. Хочет быть добрым, справедливым – а раз за разом оказывается смешным. Хочет создать эпос, а раз за разом выходит балаган… Словно чудак Фортюнид, потешавший весь Ахенский конгресс, как в воду глядел! Собрался в шуты не к кому-нибудь, а к Александру – сейчас при дворе только шута и не хватает…
Печаль печалью, но жизнь-то продолжалась, ситуацию надо было разрешать – то есть, кем-то пожертвовать. Иначе уже не получалось. Этим «кем-то» не мог быть Аракчеев: он сумел поставить себя так, что без него Александр мгновенно ощутил бы себя на семи ледяных ветрах, несмотря на весну. Поэтому выходка Фотия не только не повлекла за собой какую-либо кару, но решительно переломила ситуацию в пользу графа. Ничего не вышло! Ничего. Пора привыкать к этой мысли. Она не вчера явилась, но до того её как-то удавалось гнать; вернее, прятаться от неё… А теперь прятки кончились.
Без Аракчеева жить было нельзя – значит, пришлось «отдать» Голицына. Правда, Александр уж постарался сделать это как только мог мягко и сглаженно: князь лишился министерского поста, но стал руководить почтовой службой, а кроме того, остался личным другом царя, вхожим в монаршии покои беспрепятственно… Ликвидировалось и само министерство духовных дел, главной государственной инстанцией по делам церкви вновь становился Синод, восстанавливалось Главное управление иностранных вероисповеданий; министерство же просвещения оставалось, а министром, впервые за долгую карьеру, стал Шишков, отметивший в том году семидесятилетие. Ещё один рекорд! – никогда прежде в истории российских министерств не заступал на пост столь ветхий старец (он же возглавил и управление иностранных исповеданий).
Между прочим отметим, что до упокоения Александру Семёновичу было ещё немалых семнадцать лет: Бог наградил его здоровьем на славу. Может быть, и флотская служба помогла, вольный морской воздух?.. Адмирал почил в 1841 году, в возрасте 87 лет.
Фотий торжествовал! Он решил, что «духи зла» повергнуты и писал об этом своему единомышленнику архимандриту Герасиму так: «Порадуйся, старче преподобный… нечестие пресеклось, армия богохульная диавола паде, ересей и расколов язык онемел; общества же все богопротивныя яко ад, сокрушились… Молись об Аракчееве: он явился, раб Божий, за св. Церковь и веру, яко Георгий Победоносец» [44, т.3, 245].
Одно из исчадий – не дошедший до прилавков тираж книги Госнера – было подвергнуто аутодафе: сожжено в печах кирпичного завода Александро-Невской лавры. Фотий лично присутствовал при этом, возглашал анафему, на сей раз совершенно законную… Несладко пришлось цензорам, допустившим книгу патера к печати, и кое-кому из чиновников Синода; самого же Госнера наскоро выслали из России – и это был, вероятно, оптимальный в данной ситуации шаг.
Отметим, что спустя годы Госнер перешёл из католицизма в лютеранство: там, очевидно, его мировоззренческий анархизм чувствовал себя вольготнее.
Вместе с министерством Голицын оставил и Библейское общество. Президентом оного был сделан митрополит Серафим – ровно для того, чтобы провести одно, заключительное заседание, на котором было объявлено о самороспуске Общества: так оно и «сокрушилось, яко ад».
Упоённый победой, Фотий не заметил, как что-то изменилось вокруг него. Что-то стало не так. Но заметили царедворцы, чей служебный нюх был обострён до состояния почти экстрасенсорного: они вмиг смекнули, что император деликатно оградил себя от ураганного монаха – и ураган сразу же превратился в игрушечный веер, вхолостую машущий картонными крылышками…
Фотий потерял придворный вес. Александр больше не захотел с ним видеться. А мир царских чертогов неумолим: сегодня ты любимец – и все спешат к тебе наперебой; завтра монаршей милости конец – и всех как ни было… Архимандрит, и без того фантаст, а теперь ещё и пребывая в высшей фазе головокружения от успехов, долго не видел, что он больше не государев проводник в миры горние. Конечно, со временем эта нелёгкая правда открылась Фотию. И пережить её оказалось трудновато…
Николай Павлович, приняв царство, обошёлся с недавним духовным фаворитом корректно, но твёрдо. Разрешил ему быть своим постоянным корреспондентом – но во дворец не приглашал и вообще предпочёл держать на расстоянии. Пришлось Фотию становиться тем, кем он официально и был: настоятелем Юрьевского монастыря, со всеми рядовыми трудами, задачами, повседневными заботами… Сообщают, что архимандрит достиг несомненного уважения в глазах местных верующих; однако, витийствовать не прекращал, что дало митрополиту Серафиму повод для тревожного прогноза: «Не сносить ему головы своей, ежели нрава своего не переменит» [70, т.3, 141]… Что буквально разумел под этим владыка, сложно сказать, но фактически предсказание сбылось: Фотий действительно недолго «носил голову» на Земле. Чрезвычайный аскетизм плюс пугающие видения свели его в гроб в 1838 году, в возрасте 46 лет; причём безо всяких переносных смыслов: гроб этот был заготовлен настоятелем заранее и содержался в монастыре.
Кто знает! – может быть, архимандрит Фотий просто-напросто пришёл к тому, к чему и шёл: в этой жизни ему было тесновато, он не сумел сладить с эпохой. Грустно признавать это, да что ж делать…
Что же касается Александра – то он перестал цепляться за призрак надежды. Он сумел честно сказать себе: не вышло. Никакого мистического прорыва не случилось и, видимо, не могло. Не под силу это Фотию, вряд ли отцы Феодосий и Феодор способны такое совершить… Всё это было и осталось а прошлом.
Зато есть место на Земле, куда бессилен вторгнуться огромный, недобрый, шершавый мир, от которого император так устал. Как же этот мир стал ему не нужен, как он неряшлив, груб и сумрачен!.. Но тем яснее, тем прекраснее отрада, обретённая Александром – не императором, а отцом взрослой дочери, прелестной, хрупкой и болезненной девушки. Уж этого-то у него, не у царя, у человека, такого же, как все – уж этого-то маленького счастья у него, наверное, никому не отнять?!..
11
Софья Дмитриевна Нарышкина была действительно очень слаба здоровьем. Почему так? – Александр крепкий, бравый мужчина, про Марью Антоновну и говорить нечего: её невероятная красота наверняка не что иное, как форма биологического совершенства, подаренного природой. И вот у этих двух здоровых, красивых людей родилась и росла слабенькая девочка – точно все их грехи, лукавства, ложь, измены отравой влились в юный организм, не давая ему нормальной жизни… У Софьи обнаружился туберкулёз: крайне тяжёлый по тем временам диагноз. Александр обеспечил лучших врачей, лечение на высшем уровне, однако максимум, что удавалось сделать – приостановить процесс, но не прекратить его. Разумеется, жизнь девушки была окружена заботой и комфортом, о каких лишь могли и могут мечтать её ровесницы всех поколений, и женихи вокруг неё не переводились: хваткие юноши света прекрасно знали, чья дочь Софья Дмитриевна, знали, что она значит для отца – и жадно искали фортуны и карьеры у её ног…
Другом детства Софьи был племянник Голицына князь Валериан Михайлович, камер-юнкер двора, учившийся «чему-нибудь и как-нибудь», хотя чему-то всё же научившийся. Он поездил по европейским университетам, был в окружении царя на Веронском конгрессе, носил очки, загадочно усмехался; в свете его считали чересчур учёным и надменным, за что, естественно, недолюбливали. Горделивость довела князя до тайных обществ: долго он ходил по обочинам, формально не вступая туда, но всупил-таки… А в сущности, был Валериан Михайлович человек искренний, честно ищущий правду жизни – только вот пришлось ему искать её в Петропавловской крепости, а потом и в ссылке. Нашёл, вероятно: с годами вздор выветрился, пришло осознание того, что в молодости было бреднями, а что всерьёз…
Детство прошло, но молодой Голицын так и остался ближайшим другом Софьи Дмитриевны. Женихом, правда, не был: император, зная об умственных блужданиях князя, такой альянс не приветствовал, и с самим дядюшкой Александром Николаевичем мягко о том побеседовал. Тот охал, ахал, причитал – мол, племянничек у него «сущий карбонар»; государь утешал друга, говоря, что молодой человек лишь болен модною болезнью века, которая со временем пройдёт сама.
Хотя знал, что так просто она не пройдёт…
Официальным женихом сделался граф Андрей Шувалов, типичный светский пустоцвет, никаким «модным болезням» не подверженный. Свадьба уже была определена: лето 1824 года. В Париже заказали для невесты роскошное подвенечное платье, оно прибыло… но отец с дочерью, встречаясь друг с другом, меньше всего думали и говорили об этой свадьбе. Они вообще почти не говорили. Им очень хорошо было вместе, никто иной не нужен. Александру, наверное, в эти минуты казалось, что весь мир – это они вдвоём, а больше нет ничего.
И не было! – ни Лагарпа, ни 11 марта, ни «прекрасного начала», ни Аустерлица, ни Бонапарта, ни триумфального марша по Парижу… Он, император Александр, был величайшим человеком в мире?.. Какой вздор! Чего стоит это величие перед минутами, когда они вдвоём, две родных души – и ничего, ничего, ничего больше не надо…
Да, Александр понимал, что это сказка, выдуманная им самим. Что ничем она не поможет, ничего не изменит – лишь позволит забыться. Ненадолго. Забытье кончится. Придётся жить дальше.
Он видел, конечно, что дочь плоха; и слишком уж много раз он прежде обжигался ложными надеждами. Потому дотошно расспрашивал докторов, своих же придворных медиков: Тарасова, Миллера, Виллие – а те не имели духу сообщить государю, что земные дни Софьи сочтены. Весной 1824 года чахотка обострилась; надо было бы везти больную куда-то на юг, но консилиум эскулапов, посовещавшись, решил, что этого путешествия она не перенесёт. Единственно, что можно посоветовать – жить за городом, на свежем воздухе, тем более, что весна выдалась тёплая, дружная. И Нарышкины переехали на свою роскошную дачу в Петергоф.
Император тоже с приходом тёплых дней перебрался на летние квартиры, жил то в Каменноостровском дворце, то то в Царском Селе, готовился к большим маневрам, запланированным на середину июня… Фельдъегерская почта несколько раз в сутки доставляла сведения о состоянии Софьи, да и сам он гостил у Нарышкиных чуть ли не ежедневно.
В какой из этих дней Александр понял, что и этой надежде не бывать, что жестокий мир отберёт у него и этот маленький уголок?.. Софья уже перестала вставать, даже одеяло казалось ей тяжёлым, она всё сбрасывала его. Александр приезжал, садился у постели дочери. Они почти не разговаривали. Зачем?.. Если же говорили, то так, будто ничего особенного с ними не происходит: не умирает одна, не теряет единственного ребёнка другой. Ничего этого нет! А есть – начинающееся лето, запах свежих трав, долгие дни, светлые ночи, грозовые перекаты где-то на горизонте…
Маневры были назначены на 18 июня. Накануне государь посетил Нарышкиных, увидел, что дочь совсем слаба; впрочем, такое случалось и раньше, после чего наступало некоторое улучшение. Александр, конечно, готовился к худшему, но всё же… Он уехал к себе, наказав сразу же сообщить ему, если что.
Это «если что» пришло к Софье в предрассветный час, совсем тихо. Никто не видел, не слышал, не заметил этого. Утром проснулись, пошли проведать больную – и только тогда увидели, что её больше нет.
Александр узнал о случившемся около восьми утра, от верных, бесконечно преданных ему людей: Волконского и врачей Виллие и Тарасова; эти три человека были рядом с императором в хмуроватое, ветреное утро 18 июня 1824 года. Услышав тяжкую весть, Александр побледнел и попросил всех оставить его.
Минут двадцать придворные ждали в соседней комнате – наверное, эти минуты растянулись для них в часы… Но вот раздался звонок: одеваться. Камердинер Мельников побежал на зов, прошло ещё немного аремени – и император в полной форме вышел к подчинённым.
Он был приветлив и любезен как всегда. Задавал вопросы, выслушивал ответы, дополнял их – словно бы ничего не произошло. Доктор Тарасов позже вспоминал: «Я наблюдал лицо его внимательно и, к моему удивлению, не увидел в нём ни единой черты, обличающей внутреннее положение растерзанной души его: он до того сохранял присутствие духа, что кроме нас троих, бывших в уборной, никто ничего не заметил» [44, т.3, 268].
На смотру император был по обыкновению требователен и придирчив по мелочам: указывал на ошибки строя, увидел у кого-то из офицеров сбрую на лошади не по форме… Но в целом мероприятие прошло успешно и удостоилось высочайшей благодарности. Александр не дал себе ни малейшего послабления, не сократил маневры ни на минуту: всё закончилось только тогда, когда мимо него промаршировал последний солдат. Лишь после этого царь вернулся во дворец (дело было в Красном Селе), наскоро ополоснулся, переоделся, кликнул незаменимого Илью – и они вдвоём помчались в Петергоф.
Юную покойницу обрядили в то самое подвенечное парижское платье. Нет причин думать, что это было сделано с каким-то метафизическим глубокомыслием, но мистику Александру должно было показаться исполненным высокого смысла: какая для безгрешной души радость! – покинуть тесное земное бытие и обратиться в светлую бескрайность вечности…
Да! Софья теперь в вечности. А он, грешный её родитель, он-то здесь, и никто не освободит его от необходимости жить и царствовать дальше. Царствовать! – вот что тяжелее всего. Может быть, хоть это с него, Александра, снимется?!..
Он провалился в краткий обморок у тела дочери – как когда-то потерял сознание, увидев труп отца. Ну, конечно, доктора тут же подхватили обмякшего царя, вернули в память. Но право, лучше б этой памяти не было! – она была давящей опухолью, а тут её словно сорвали и она превратилась в открытую рану: отныне это всегда будет память об отце, о том, что его смерть – проклятие Александра, превращающее все его благие планы в пепел, в прах, в ничто. Всё, что ему удалось – прогнать врагов из родной страны и освободить мир от сумасбродного гения… Но это ведь, наверное, случилось бы и без Александра! И у страны и у мира есть свои механизмы самосохранения: если вдруг всё оказывается на грани, то некая сила сплачивает людей, вздымает стихии, метёт снегами, сковывает льдом… Да, Александр – нерядовая, одарённая натура. Да, будь вместо Александра кто другой, всё могло быть хуже, топорнее, грубее… но было бы! Бог выручал Россию и планету, и император Александр лишь следовал Его небесной воле. Наверное, он уловил её лучше, чем кто-либо, обладал такой счастливой способностью. Но то был долг христианина, и всякий на царском месте старался бы исполнить этот долг… Да, Александру дано было счастье пережить единство своего «Я» с высшей сутью бытия. И был, наверное, в этой земной жизни такой момент – был у русского царя шанс исправить мир. Да ведь, правду сказать, он, царь, старался, очень старался, стремился, работал, работал и работал… да так и не сработал. Что ещё нужно было сделать? Как?!..
Александр этого не знал.
Он не роптал, Боже упаси: христианину роптать не прилично. Он лишь понял, что грехи его слишком тяжелы. Один, точнее, грех – но какой!..
Предательство отца. Александр не хотел об этом думать, надеялся исправить это, изматывал себя работой, вся его жизнь стала служением Богу и человечеству, и… и что же? Каков итог?
ВОЙНИЦКИЙ. О, да! Я был светлою личностью, от которой никому не было светло…
Пауза.
Я был светлой личностью… Нельзя сострить ядовитей! Теперь мне сорок семь лет… [71, т.13, 70].
Чеховский «дядя Ваня» Войницкий – субъект, конечно, иного склада: завистливый, раздражённый нытик. Неудачник. Но ведь разве не может стать неудачником человек незлобивый, добрый, деятельный, не ленившийся, трудившийся, достигший всемирной силы и славы, вправду хотевший сделать жизнь лучше, светлее, чище… и не сделавший этого. Разве не так?! И что теперь сила и слава? Пустой звук, прошлое. А настоящее – усталость и раненая душа. И те же сорок семь лет.
Из Петергофа Александр поехал не в Красное Село, а в Царское, где находилась Елизавета Алексеевна. Заходить к ней не стал, отправил с фрейлиной краткую записку: «Elle est morte. Je recois le chatiment de tous mes egarements».
Она мертва. Я наказан за все мои грехи.
12
После похорон государь отправился в Грузино к Аракчееву, инспектировать военные поселения.
Вероятно, этой поездкой Александр хотел заглушить терзавшую его боль – в дороге ему вообще было легче, а кроме того, Аракчеев был для императора давнишним, испытанным обезболивающим: с ним рядом сразу делалось легче, и обзор новгородских поселений был просто анестезией. Конечно, память и боль кривыми зубьями цепляли душу, грызли её… но в движении, в повседневных делах, в разноворах с Аракчеевым было всё-таки полегче. Иной раз даже возникала мысль – а может, дело-то не так и скверно? Может, удастся искупить грех?..
За последний год Александр очень сблизился с женой. Они давным-давно привыкли жить в равнодушно-мирном отдалении друг от друга; обоим им было вполне комфортно. Но вдруг – болезнь! Александр вдруг почувствовал, что рядом кого-то не хватает, пусто, тревожно без кого-то…
Оказалось – без жены. Она не отходила от больного мужа, ухаживала за ним – и болезнь отступила. Вместе супруги победили её… Потом, правда, возникла было прежняя осторожная дистанция, но смерть Софьи вновь привела Александра к императрице. Мир отнял у него даже маленький уголок покоя – и где теперь найти другой?.. Конечно, Александр нашёл его рядом с женой. Последний, уже самый последний уголок… Александр и Елизавета сделались неразлучны в высшем смысле этого слова – внешняя разлука не в счёт.
Разлучаться всё-таки пришлось. В августе, как всегда, император предпринял вояж по стране. На сей раз он поехал на восток, за Волгу, к Уральским горам, где ещё никто из царей не бывал. Александр заехал в казахские степи, пообщался с местной кочевой аристократией, затем повернул на север, к башкирам, там провёл военный смотр: лихие башкирские конники, герои Наполеоновских войн, продемонстрировали государю чудеса джигитовки [32, т.6, 374]… После этого Александр прибыл в Уфу.
Что представлял собой город Уфа в 1824 году?.. Статистика сохранила точные данные за 1825-й – надо полагать, за год немногое прибавилось.
Лиц мужского пола – 4017, женского – 3572. Каменных домов – 5, деревянных – 1084. 8 церквей, 1 монастырь, 2 учебных заведения [каких?.. – В.Г.], 2 – богоугодных, 2 – трактирных, 8 питейных домов и 1 баня [62, 83].
Мы не знаем, учтена ли среди этих восьми церквей та, начало которой в сентябре 1824 года положил сам Александр I, опустив первый камень в её основание [46, 58]. Она, конечно, построена была ещё не скоро: освятили храм, получивший имя Святого Александра Невского в 1836 году, спустя немало лет. Здание, кстати, было замечательное, в лучших традициях классицизма: изящное, элегантное, с чётко выверенными пропорциями… Сейчас его, разумеется, нет.
Из Уфы император отправился дальше на северо-восток, в Демидовские края, страну тёмных лесов, железных руд, огненных печей, сталеваров и кузнецов. Побывал в Сатке, Миассе, Златоусте, Красноуфимске, Екатеринбурге… Изо всех названных населённых пунктов Красноуфимск вызывает более всего пересудов в разговорах об императоре Александре: именно в окрестностях этого городка, в том же 1836 году, когда в Уфе освятили храм Александра Невского, неведомо откуда возник пожилой, не помнящий родства бродяга Феодор Козьмич. И тут уж начинаются сопоставления…
Екатеринбург, «город бабушки» – самая восточная точка этого путешествия и вообще всех земных странствий императора Александра. Отсюда он пустился в обратный путь. Пермь – Вятка – Вологда – Тихвин… 23 октября император был дома в Царском. Наверное, был рад возвращению. Уютный уголок, который у него пока не отняли: Елизавета Алексеевна! она здесь, они вместе, можно хоть на время забыть о мраке, обступающем со всех сторон. Да, от него не убежать, не скрыться, это уж понятно – но хотя бы несколько дней…
Судьба подарила Александру даже больше: две недели. А потом наступило седьмое ноября.
13
Нева – исключительно полноводная и напористая река, хотя и коротенькая (всего-то 75 километров). Она широкая, довольно глубокая и течение в ней быстрое – через поперечную площадь русла она прогоняет в единицу времени очень большой массив воды. Это с одной стороны хорошо, с другой плохо; плохая сторона чаще всего проявляется в ноябре, когда над Финским заливом дуют сильные северо-западные ветра, загоняющие морскую воду в устье Невы. Балтийский поток сталкивается с естественным невским течением – и воде остаётся лишь подниматься, затопляя побережье, то есть город Санкт-Петербург.
Неприятную особенность местности пришлось испытать на себе самому основателю города: Пётр начал строительство системы каналов, должных отводить избыток воды в критических случаях, и потом это строительство продолжалось… но при таких наводнениях, какие иной раз случаются в устье Невы, никакие каналы помочь не способны. Во вторую половину XVIII века Петербург топило почему-то особенно часто: 18 ноября 1755 года, 25 августа 1762-го, 20 ноября 1764-го… и, наконец, то самое, сильнейшее затопление 12 ноября 1777 года, предшествовавшее рождению Александра и породившее упорные зловещие слухи о том, что это было предзнаменованием; что раз уж появление на свет царственного младенца предварилось такой катастрофой, то следующая будет вестником чего?.. Страшно вымолвить.
В течение сорока шести лет бедствий не было. Неприятности погодные, конечно, случались, но во вменяемых пределах. Мрачные прорицания не то, чтобы позабылись, а как-то сгладились, с ними привыкли жить, как привыкает жить чахоточный со скрытой формой туберкулёза…
И вот сорок седьмой год.
Перед рассветом 7 ноября 1824 года с Петропавловской крепости тревожно захлопали холостые пушечные выстрелы, отмечавшие прибыль воды. Императрица Елизавета Алексеевна слышала их сквозь сон; она вообще плохо спала ночь, ощущала нудную головную боль, встала невыспавшейся и разбитой… и тут её настиг ещё один сюрприз: когда затопили камин, дым повалил в комнату. Сперва подумали было – забился дымоход; но выяснилось, что западный ветер усилился настолько, что напрочь забивает трубы: дым просто не может идти вверх.
Из окон дворца видно было, как чудовищно вздулась Нева: свинцово-серые волны плескались вровень с парапетом, тысячи брызг летели над ними веером. И такое же свинцовое небо опустилось, едва не цепляя Петропавловский шпиль – город точно застыл в смертном испуге меж двух стихий…
Вода хлынула через парапет.
И вот она уже топит дворцовые подвалы. Во дворце поднялась суматоха. Стало ясно, что вода будет прибывать ещё, и забегали придворные, лакеи, солдаты-гвардейцы, поволокли в верхние этажи мебель, картины, вазы, зеркала…
Секретарь Елизаветы Алексеевны Лонгинов не очень ловко сравнил Петербург с Атлантидой.
Но город вправду погружался в пучину вод – нечто апокалиптическое чудилось перепуганным людям в происходящем, казалось, что вот-вот тёмная вода сомкнётся с жутким небом… Из дворцовых подвалов полезли толпы крыс. К царю шли вести одна хуже другой: уровень воды повышается и повышается, деревянные дома окраин сметены, люди гибнут сотнями:
Осада! Приступ! злые волны Как воры, лезут в окна. Чёлны С разбега стёкла бьют кормой. Лотки под мокрой пеленой, Обломки хижин, брёвна, кровли, Товар запасливой торговли, Пожитки бледной нищеты, Грозой снесённые мосты, Гроба с размытого кладбища Плывут по улицам! Народ Зрит Божий гнев и казни ждёт [49, т.3, 260].Так писал Пушкин в «Медном всаднике». В третьем часу пополудни царю донесли, что вода превысила отметку 1777 года: этого уровня не было никогда. Люди во дворце переглянулись, побледнели. Всем было ясно, что продлись ветер ещё часа два-три – и город погиб. «Месту сему быть пусту!..» – кликали беду на Петербург всяческие прорицатели ещё с Петровских времён. Сбывается?..
Нет, слава Богу, не сбылось. Да, наводнение поставило рекорд, держащийся и по сей день: 410 сантиметров выше ординара; разорение было страшное. Но ветер всё же стих, море отступило, Нева схлынула в свои берега. Жизнь вернулась в город.
Люди засуетились, обустраиваясь, восстанавливая разорённое. Пошли гулять забавные, трагикомические истории: графиня Толстая так разозлилась на Петра I, поставившего столицу на гиблом месте, что проезжая мимо памятника, того самого «Медного всадника», со злости показала ему язык; к какому-то старому холостяку приплыл ящик с младенцем, и старик, увидя в том знак свыше, усыновил дитя; а знаменитый баснописец Иван Андреевич Крылов, флегматик и обжора, проверяя после наводнения подвал Публичной библиотеки, нашёл там нечаянно заплывшую туда рыбину, тут же отправил её на сковородку и съел.
Юмор – спасение в любом ненастье, даже на войне. Люди смеялись, вспоминая пережитое, чтобы заглушить ужас. Но не смеялся Александр. Он распоряжался, хлопотал, ездил по городу, посещая наиболее пострадавшие районы… делал всё это, а в душе у него стояла смертная тоска, он чувствовал, что кольцо смыкается, что он в осаде, из которой выхода нет. Зайдя в одну из церквей, он увидел, что всё помещение заставлено гробами с телами утопленников – зрелище потрясло императора; он закрыл лицо руками и долго стоял так, плача. И всё люди в церкви плакали тоже. Кто-то сквозь слёзы сказал: «За грехи наши карает нас Господь!», на что Александр тихо ответил: «Нет, за мои».
Господь, конечно, не карает так, но простим необразованным людям их грубую теологию. Несчастье извиняет их.
Со дня 7 ноября 1824 года Александр окончательно смирился перед неизбежным. Принял страшную правду: он – отцеубийца. И жизнь раз за разом заставляет его вспомнить эти слова, и раз за разом всё упорней, всё жесточе и сильнее. Ты убил отца! И все напасти, что обрушиваются на близких его, вообще на его подданных – это всё твой непрощёный, неисправленный тобою грех. Не принял этот мир того, что старался сделать император. И что же, теперь каждый день его царствования будет днём бедствий?..
Наводнение действительно рассматривалось всеми как гнев Господень – Пушкин ничего не выдумал. Ходили упорные слухи, что это возмездие за православных греков, которых Россия бросила на произвол неправедного мира… Отец Феодосий Левицкий, исполнясь великой ревности, во весь голос объявил катастрофу бичом Божиим, «…поелику не видно со стороны правительства ни малого движения к покаянию»[44, т.3, 341]. После таких слов движение обнаружилось, правда, не к покаянию, а совсем иное: к отцу Феодосию явились два дюжих фельдегеря, взяли под белы руки и препроводили в Коневецкий монастырь на Ладожском озере; видимо, было решено, что подобные проповеди будет полезнее оглашать там, нежели в столице… А цензура строго-настрого запрещала печатать вообще что-либо о петербургских бедах.
Александр боялся огласки. Почему? Страшился накликать на себя и страну ещё нечто?.. Наверняка он думал о странном: почему за его грехи от злых сил гибнут другие люди. Сестра Екатерина, дочь Софья, те несчастные, над чьими гробами он плакал в церкви… А он жив. Он был тяжко болен – и вдруг болезнь ушла. Что это? На какую мысль наводит… Не оттого ли это, что ему, императору Александру, уготовано нечто ещё более тяжкое? Ряды заговорщиков растут, их планы мрачны – императору это известно. Он жалеет заблудших, зная, что они его жалеть не будут… Не значит ли это, что для своего искупления царь Александр должен принять мученический венец от рук несчастных, не ведающих, что творят?! Они – суть порождение его; его стремления, его мечты, отравленные, искажённые грехом, кривое зеркало, в которое он смотрит. Может быть, он даже хотел бы испугаться! – но и этого нет. Есть усталость и равнодушие, когда всё равно: жить ли, ждать ли смерти… И память об отце.
Зима пронеслась как-то незаметно. Отмели своё метели, солнце повернуло на весну, понемногу удлинялись дни… Елизавета Алексеевна простудилась во время наводнения, да так с тех пор всё и недомогала, никак не удавалось докторам одолеть недуг; они даже не рекомендовали больной разговаривать – её начинал душить кашель. Поэтому Александр целыми днями сидел у жены, читал ей что-нибудь или говорил, а она писала ему записочки. Они смотрели друг на друга, улыбались, удивляясь, наверное тому, что раньше не замечали, не ценили этой тихой, слабой радости… Но, видно, так и должно быть: чтобы оценить такое, надо узнать, что на самых вершинах власти и славы точно так же нет счастья, как нет его и в низинах… то есть, конечно, может, где-то есть оно в мире, и кому-то дано его найти; может, и так. Но Александру не дано было: один миг малодушия, один миг слабости – и четверти века как не было… Ладно, хоть такая отрада осталась на закате: быть вдвоём с женою, как бы позабыв обо всём за стенами комнаты. Будто они на острове, обитаемом только ими двумя…
Конечно, остров призрачный. Жизнь вторгалась в уединение вновь обретших друг друга «Амура и Психеи» – император вынужден был реагировать на неё. Являлись министры, седовласые, дряхлые, с трясущимися руками; Александр смотрел на них и вспоминал, должно быть, собрания Негласного комитета и цветущих, полных сил друзей своих, жаждущих творить. Вот – сотворили… Нынешние министры Александра: Ланской, Шишков, Татищев, Траверсе, Лобанов-Ростовский – пожилые, усталые, траченые жизнью люди. И бывшие «негласные», Кочубей и Новосильцев, теперь такие же, при чинах и титулах, лысинах, сединах и морщинах, словно вместе с неизбывной усталостью царя устало и состарилось само пространство вокруг него… И Аракчеев тоже старик.
Слухи о тайных обществах расплодились и запутались настолько, что уже никто не знал, что там правда, что нет, кто заговорщик, кто не заговорщик – не знал и Александр. Начальник особой канцелярии МВД барон фон Фок поставлял такую противоречивую информацию и в таком объёме, что голова пухла; наконец, выяснилось, что сыщики Фока следят и за Аракчеевым. Государь, узнав об этом, сперва было возмутился, а потом лишь рукой махнул: пропади всё пропадом.
Учреждение Фока впоследствии было переведено из МВД в Его Императорского Величества канцелярию – от Ланского к Аракчееву, послужив началом знаменитому III отделению.
Бог знает, как выстраивали отношения Аракчеев и Фок – служащие тогда ещё разных ведомств. Сдаётся, что никак, а секретно-агентурные разработки вели в в тайне друг от друга… В начале лета начальник Южных военных поселений генерал Витт доложил Аракчееву, что на него вышел некий унтер-офицер 3-го Украинского уланского полка Шервуд с сообщением чрезвычайной важности.
Генерал Витт – личность тёмно-авантюрно-романтическая. Интриги, разведка, шпионаж были его стихией… Но вот, волею судеб оказался он начальником Южных поселений и в этой должности как-то так согрешил с казёнными деньгами, что по итогам первой же ревизии мог оказаться под судом. Ревизии, правда, пока не было, а Витт, отчаянно ища выход из ситуации, начал искать контактов с Южным обществом Пестеля, о котором, вероятно, знал раньше. Вероятно также, что с кем-то ему удалось встретиться – генерал представил себя потенциальным союзником заговорщиков и начал «сливать» им информацию о неблагополучии в военных поселениях: дескать, люди ропщут, всё на грани бунта. Аракчееву же докладывал: он, Витт, кажется, обнаружил щупальца «спрута»; ещё немного, и удастся найти самый мозг… Словом, создал родную ему атмосферу терпкой шпионской игры – пробовал «и наших и ваших», просчитывая, чья возьмёт. Когда же в игре возник Шервуд, Витт смекнул, что здесь государева сторона, пожалуй, может взять сразу всё. И поспешил донести Аракчееву.
Унтер-офицер Иван Шервуд был обрусевший англичанин [83]: отца его, механика очень высокой квалификации, ещё при Павле Петровиче сманили в Россию великолепным жалованьем, коего в Англии он бы в жизни не дождался… А сын механика, выросши, поступил на службу в русскую армию. Будучи не плохо образован, во всяком случае, зная несколько языков, он, конечно, был социально выше, чем обычный унтер-офицер – в офицерском обществе воспринимался почти как свой, благодаря чему многое знал, ибо был неглуп, сопоставлять и делать выводы умел. Когда определённых выводов у него набралось должное количество, он каким-то образом навёл мосты к Витту, тот счёл нужным переправить осведомителя вверх по инстанции, к Аракчееву. А уж там Шервуд решил, видимо, сыграть ва-банк: объявил, что собранные им сведения он готов открыть только государю императору и никому другому.
В самом ли деле сын английского механика вырос таким верноподданным русского царя, стремился ли как неофит с особым рвением выставить напоказ свой патриотизм, или же рассчитывал сорвать в этой игре свой куш: дворянство и офицерский чин?.. а может, было здесь всё это вместе взятое? – в рассматриваемом аспекте не столь важно. Морально-психологический портрет Шервуда вне наших интересов; единственное, что можно сказать – психологом он оказался хорошим. Наверное, даже отличным. Суметь убедить Аракчеева, что он, Шервуд, должен быть удостоен государевой аудиенции – это нечто на грани фантастики… А ведь убедил-таки. И 17 июля в 17.00 государь Шервуда принял.
В общем-то, всё, что поведал ему доносчик, император знал или догадывался о том – но Шервуд, очевидно, сумел изложить дело образно, рельефно, с подробностями; они придавали рассказу колорит достоверности. Находчивый унтер сообщил как о действительных заговорщиках, так и о тех, кто вращался поблизости – как, например, легендарный воин генерал Николай Раевский, командир корпуса во 2-й армии (Сергей Волконский и Михаил Орлов были женаты на его дочерях), добавил сюда начальника штаба армии Павла Киселёва, а заодно уж, за компанию, и самого Витта, пройдоху и «каналью», как отзывался о нём Константин Павлович. И всё это, вероятно, в устах Шервуда звучало убедительно.
Александр выслушал информатора спокойно, сухо поблагодарил и велел ждать дальнейших указаний. А сам…
Вторая половина июля 1825 года – странный узел для историков.
Елизавета Алексеевна за восемь месяцев так и не поправилась. Здоровье её слабело, и консилиум придворных врачей пришёл к выводу, что очередной петербургской зимы императрица не переживёт. До весны должно будет уехать в тёплые края.
Куда?.. Рассматривались разные варианты, в том числе заграничные: южная Франция, Италия, Мальта. Все они отвергнуты.
У нас наилучшим климатом для излечения лёгочных заболеваний обладает Крым, точнее, его Южный берег. Это – понятие не столько географическое, сколько экологическое: линия побережья от Фороса на западе до Алушты на востоке представляет собой уникальную, чрезвычайно позитивную для человеческого проживания экосистему.
Однако, и Крым оказался в стороне. Решено было ехать в Таганрог – город на берегу Азовского моря, где также сложился мягкий, тёплый микроклимат: мелководный Таганрогский залив – сильно вдавшаяся в материк северо-восточная часть моря – создаёт этот благоприятный фон.
Всё так. Но история есть история: мы смотрим в прошлое сквозь призму состоявшихся событий и норовим угадать в нём предчувствия, признаки, провозвестия этих событий… Так уж устроена душа человеческая! Мы знаем, что случилось в Таганроге в ноябре 1825 года, знаем, как всё обернулось потом – оттого и чудится теперь в июльских-августовских днях того же года что-то проскользнувшее мимо документов, кем-то где-то услышанное, неуверенно изложенное, как-то вроде бы касающееся некоей тайны, которую так и унёс с собой император Александр I…
И здесь вновь в главную тему входит монах Авель.
Давно не упоминался он на этих страницах. Как для него прошли минувшие годы?..
С точки зрения обычной человеческой жизни они более всего были насыщены внешними событиями. Во время Отечественной войны, в сложнейший миг своей жизни Александр вспомнил о монахе, а летом 1813-го тот прибыл из Соловков в Петербург, встречался с Голицыным, с некоторыми духовными лицами, после чего был с миром, так сказать, отправлен по миру – побывал в различных святых местах, в частности, в Иерусалиме и на Афонском полуострове. Попутешествовал немало: четыре года длились его странствия. Вернувшись в 1817-м, он по личному распоряжению Александра (!) был направлен в Высотский монастырь близ Серпухова, где подвизался смиренно и замкнуто, именно как подобает православному подвижнику.
Вот, собственно, и вся вся внешняя канва этих лет Авеля, которые с обычной точки зрения кажутся самыми разнообразными в его жизни…
Только вот сама-то жизнь – не обычная.
Александр не упускал Авеля из «поля зрения»? Более, чем вероятно. Почему спокойный, ровный монах не стал ближайшим проводником царя по таинственным изгибам мироздания, подобно тому, как пытались это делать Фотий и Феодосий?.. Отчасти мы знаем, почему так случилось, добавим лишь, что сам Авель, вероятно, не согласился бы на эту роль. Делались ли ему такие предложения? – не ведаем, равно как не ведаем и того, в чём исповедовался Александр отцу Павлу Криницкому.
Отчего эти люди так вскользь коснулись биографии императора? Может быть что-то чрезвычайно важное там, куда биографу, ограниченному пространственно-временными рамками, не заглянуть?..
Может.
Осторожно, очень осторожно бродит предположение, что зимой-весной 1825 года, уже после череды Александровых несчастий, Авель сделал пугающее прорицание, в глубокой тайне доведённое до императора. И фактом, указывающим на это, является ещё один грозный случай: пожар Преображенской церкви в столице (об этом якобы писал Елизавете Алексеевне в частном письме некий Алексей Лешевич-Бородулич, раскаявшийся член тайного общества) [5, 350] – Авелю явной увиделась связь между пожаром и чем-то страшным, подстерегающим Александра в близком, уже очень близком будущем.
Роковые события последнего года намекали Александру об этом страшном. Он ждал его. Сердце полнилось тоской. И вот – известие от Авеля. И вот – сведения от Шервуда…
Вырисовывается гипотеза?
Если да, то из неё можно вывести сразу несколько не менее гипотетических следствий – для чего император отправился именно в Таганрог.
1. Город с севера защищён грядой военных поселений (пусть и не слишком надёжных? но всё-таки…), а с юга куда более надёжным Донским казачьим войском. Значит – случись что-либо, лучшего места для временной резиденции не найти.
2. Место избрано из тех же самых тактических соображений, но по другой причине: царь вовсе не собирался «отсиживаться» там, а хотел объявить об отречении от престола – надпись «хранить до востребования моего» на конверте, хранимом в Успенском соборе, должна превратиться в действие приказом именно из Таганрога.
3. Александр заранее задумал инсценировать свою смерть – что лучше сделать где-нибудь подальше от столиц, после чего уйти в неведомое безымянным странником; возможно, принять страдание, а может быть, и смерть от лихих людей на большой дороге, искупая свой грех и спасая страну от ужасов бунта…
4. Видения Авеля твёрдо и бесповоротно указали на скорую смерть государя. Александр решил до последнего своего земного вздоха быть рядом с женой, перед которой был так виноват. Ну, а почему местом этого вздоха должен быть именно Таганрог? – только императору Александру да монаху Авелю известно…
И, наконец:
5. Таганрог в самом деле показался точкой, где могло бы поправиться здоровье Елизаветы Алексеевны – вот и весь секрет. Александр не мог оставить супругу одну – вот второй секрет. Слова Авеля, свои собственные смутные предчувствия, тревожная информация со всех сторон?.. Будь что будет, на всё воля Господня. Всего не предусмотришь. Коли грешен – ответ на твой грех сам найдёт тебя.
С июля 1825 года слово «последний» – едва ли не главное в описаниях жизни императора Александра I.
Последний раз он виделся со многими близкими ему людьми: Карамзиным, Аракчеевым, матушкой Марией Фёдоровной, братьями; последний раз ходил по петербургским, царскосельским, павловским улицам…
Ехать решено было порознь: сначала Александр, чтобы немного обжиться на новом месте, подготовить его – а уж затем императрица. В свите царя всё те же лица: Волконский, Дибич, доктора Виллие, Тарасов и другие; привычная придворная челядь: вагенмейстер, шталмейстер, метрдотель, лакеи… ну и, конечно, кучер Илья Байков! Куда же без него, он главное лицо в дороге.
Традиция Александровых путешествий почти не нарушилась: правда, отправление назначено на 1 сентября, но предотъездные дни, когда уже всё ясно, ничего не переменишь, и надо лишь доделать последние необходимые дела – это всё-таки август, месяц отъездов.
Последние дела, последние дни лета…
Опять же по традиции, перед отъездом Александр обязательно присутствовал на молебне в Казанском соборе. На сей раз это действие было несколько изменено: царь отправился в Александро-Невскую лавру – служилась литургия в честь перенесения мощей Александра Невского из Владимира в Петербург. Служил сам митрополит Серафим; император сказал ему, что через день, прямо перед выездом, он хочет вернуться сюда и попросил не афишировать эту свою просьбу. Серафим согласился.
Очень рано, в предрассветной тишине 1 сентября Александр прибыл в лавру, где был встречен митрополитом и братией.
Этот визит – источник загадок и догадок. По логике митрополит должен был бы служить чин благословления в путешествие, но император (он приехал только с Байковым, а на службу отправился один) вроде бы пожелал, чтобы прозвучала панихида [32, т.6, 507] (?..) – чего другие источники не подтверждают.
По окончании службы царя благословили иконой, и дали её в дорогу ему; после чего он согласился посетить одного из самых почтенных схимников лавры отца Алексия (духовника Фотия, кстати говоря). Между царём и отшельником состоялся многозначительный строгий разговор: о гробе, о сне могилы, уготованном всему земному… В некоторых источниках есть намёки на то, что отец Алексий «…иносказательно дал понять государю, что тот в Петербург не вернётся»[5, 351], но и здесь определённости нет. Во всяком случае, Александр вышел от схимника в глубокой задумчивости. Пошёл к могилкам дочерей, Машеньки и Лизаньки, похороненных здесь же, постоял там молча и вернулся. Да будет мой путь под покровом этих ангелов! – грустно пожелал он сам себе.
Наступила минута прощания.
Последний шаг Александра за ворота лавры…
Последний раз перед ним лицо митрополита Серафима…
Илья тронул коней – коляска покатила в темноту.
Это не то, чтобы странно, из наших дней это кажется чем-то невероятным, немыслимым: император, властитель огромной страны, вознесённый так, как простой смертный даже и догадаться не может! – этот властитель почти одиноким путником едет по своей стране, ничего не ведающей о том, где сейчас её властелин…
Когда выехали за заставу, Александр попросил Илью остановиться, встал, обернулся и долго смотрел.
Последний раз он смотрел на родной город.
Потом вздохнул, сел – и экипаж понёсся в первое сентябрьское утро, вдогонку за ушедшим летом.
14
13 сентября 1825 года маленький город Таганрог был в таком же волнении, что и большой город Париж 19 апреля 1814 года; а, пожалуй, и в большем. Париж за многие свои столетия насмотрелся всякого, Таганрог же столь высоких персон видел впервые. Сам государь! – подумать страшно. Что-то будет?..
А ничего не было. Александр и свита прибыли, разместились в доме бывшего городничего – добротном, обширном, одном из лучших в городе – но уж, конечно, не царских хоромах. Александр, впрочем, этого совершенно не заметил; он хлопотал, распоряжался расстановкой мебели, сам приколачивал картины к стенам… Стояла тёплая погода, окна во «дворце» были распахнуты, и обитатели дивились тому, как Император Всероссийский забирается на лесенку, стучит молотком… А потом он ввёл в обычай регулярные прогулки по городу, улыбаясь прохожим, любезно с ними разговаривая, терпеливо выслушивая. Бывало, что и деньги давал кому-то, либо распоряжался о помощи какому-то бедному семейству… Словом, очень скоро местные жители были очарованы своим государем, который наверняка прежде им представлялся громовержцем с огненными очами – и души в нём не чаяли.
А государь тем временем всё обустроил, всё приготовил к приезду жены – и теперь ждал её, будучи в приподнятом настроении от того, что так хорошо, хозяйственно распорядился. Ждал и Аракчеева; должно быть, предвкушал уютные вечера с ним в компании, с чаем, вареньем, неспешными разговорами…
Но не дождался.
Там, в Петербурге, несмотря на невесёлые думы, Александру, наверное, и в голову не пришло, что Аракчеева от тоже видит в последний раз. Как бы ни пугало будущее, что бы ни подозревал в нём царь – он полагал, что в любых обстоятельствах граф будет рядом с ним. И когда 22 сентября (а на следующий день ждали приезда императрицы) от «вернаго друга» пришло письмо, государь было обрадовался… но лишь пока не распечатал конверт.
Семейная жизнь графа сложилась худо. Виной ли тому нездоровая сексуальность Алексея Андреевича, либо что иное?.. – неизвестно, но с женой он не ужился. Разводиться супруги не стали, однако и изнемогать от жизни общим домом у них тоже не было желания. Пошли по жизни порознь, не докучая друг другу.
Проживая в Грузино, граф познакомился с женщиной – своей же крепостной – по имени Настасья Минкина. Странная, загадочная женщина! Вроде бы она была не местная, но кто такая, откуда? – покрыто мраком. Вроде бы отец её, некий Фёдор Минкин, был цыган. А вроде бы и нет?.. Внешность же этой особы мемуаристы описывают на удивление по-разному.
Но не во внешности дело. Жители Грузина с несомненным единодушием называли Минкину «колдуньей»: что они имели в виду, примерно ясно. Говоря наукообразным языком, она владела специфическими психотехниками… хотя, как знать! Технологии «любовных приворотов» настолько элементарны и общеизвестны, что никакой парапсихологии здесь не надо. А вот сам граф!.. Не могло ли и вправду быть так, что он, возможно, сам того не зная – обладал некоей паранормальной одарённостью невыясненного качества?! И именно этим объясняются его карьерные успехи при отстутствии каких-либо явных талантов?.. Во всяком случае, явление Алексея Андреевича в каком-либо месте тут же оказывало на присутствующих сильнейшее воздействие: вмиг исчезали все шалости и вольности, всяк сперва вытягивался в струнку, а затем судорожно хватался за работу.
Вот мысль – спорная, но и не претендующая на теоретический статус: возможно, люди, аномально талантливые, сами наиболее всего уязвимы к такого рода воздействиям. И кто знает, может, в суровом, неприступном Аракчееве была какая-то опасная душевная пробоина, не найденная никем… кроме полуграмотной крестьянки Настасьи Минкиной. Быть может, для того, чтобы угадать эту пробоину, вовсе не надо было быть никакой «колдуньей» – хватило и кондовой бабьей хитрости?.. Может, и так. Граф, опытнейший администратор и знаток житейских будней, перед своей сожительницей вдруг оказывался слеп и глуп до изумления. Он, державший в ежовых рукавицах всю страну, сделался куклой в женских руках!.. Настасья симулировала беременность; прижитого ею с кем-то сына выдала за сына Аракчеева – и тот, всегда выставлявший себя строгим законником, пустился в сомнительное предприятие, добиваясь для фаворитки дворянского звания. И добился-таки! – так надавил на новгородского губернатора, что тот закрыл глаза на явные нарушения – и крестьянка Настасья Минкина стала дворянкой Анастасией Шумской. А грешный плод обмана стал называться Михаилом Шумским – тоже, разумеется, дворянином.
Аракчеев не заметил, как случилось, что он уже не мог жить без своей Настасьи.
О ней в нашей исторической традиции мнение сложилось неблагоподобное. Михаил Булгаков удостоил покойницу сомнительной чести побывать на балу полнолуния у Воланда…
«– Госпожа Минкина, ах, как хороша! Немного нервозна. Зачем же было жечь горничной лицо щипцами для завивки! Конечно, при таких условиях зарежут!» [11, 630] – сообщает Маргарите Коровьев об этой гостье.
Было бы, пожалуй, опрометчивым судить сплеча, насколько справедливы или, напротив, облыжны такие слухи. Минкина была строгой домоправительницей, дотошно следила за порядком, за всеми работами, и сельскохозяйственными и домашними; крестьянку, обмануть её в этом было невозможно, и если кто-то пытался ловчить или отлынивать, с такими разговор был короткий: спускались штаны (задиралась юбка) и… какое-то время лентяю (лентяйке) приходилось присаживаться на лавку очень осторожно, с горечью размышляя о превратностях бытия.
Была ли Настасья Фёдоровна садистически жестока? Не любя Аракчеева, «свет» мог изощряться в злых сплетнях относительно графа – и Минкина была здесь, конечно, самой удобной мишенью. Хотя, дым без огня… В чём-то она, должно быть, перегнула палку, войдя в хозяйский раж. Действительно, человек, выбившийся «из грязи в князи» – трудный социальный феномен, и для окружающих, и для себя…
В «Тихом Доне» Григорий Мелехов, споря со своими же хуторянами, кидает им резкие слова:
«– Нет! Привада одна! Уж ежли пан плох, то из хама пан во сто раз хуже! Какие бы поганые офицеры ни были, а как из казуни выйдет какой в офицеры – ложись и помирай, хуже его не найдёшь!» [77, т.4, 162] – в горячке спора забывая, что он и сам вышел в офицеры из «казуни», то есть из рядовых казаков.
Решиться на убийство – дело страшное, а те, кто в сентябре 1825 года в Грузине решился на это, вовсе не такие уж закоренелые злодеи. Были тут замешаны любовь, ревность?.. И это всё покрыто мраком неизвестности, в котором любые догадки бесплодны. А результат ужасный: 10 сентября несколько дворовых людей (и мужчины и женщины) проникли в спальню хозяйки, та проснулась, завязалась борьба; то ли все обозлились, то ли вспыхнули какие-то старые счёты… неведомо; только после этой схватки на полу остался жестоко изувеченный труп «дворянки Шумской».
Ещё один аргумент в пользу недостоверной гипотезы – способный магически воздействовать на людей Аракчеев сам впал в аномальную зависимость от умной, хитрой женщины?.. Когда граф узнал об убийстве, его точно сразил припадок безумия: он то бился в истерике, то впадал в буйство, то в прострацию; наконец, кое-как пришёл в себя, тогда-то и написал Александру письмо, которое царь получил 22 сентября.
По эпистолярным (да и по иерархическим – писал ведь не кто-нибудь кому-нибудь, а подданный государю!) правилам того времени это, конечно, никакое не письмо, а вопль простреленной навелет души. Император прочёл, ужаснулся, и немедля написал в ответ, что он ждёт верного друга к себе, дабы хоть как-то смягчить горе… Между Таганрогом и Грузино завязалась переписка – и кончилась ничем. Убитый горем граф словесно лобызал руки повелителя, припадал к его стопам… но так и не приехал, объясняя это своим болезненным состоянием.
Иной раз в уклончивости Аракчеева видят умелый расчёт политического профессионала (вне зависимости от его переживаний) [5, 360]. Однако, мысль, склонная к метафизике, упорно возвращается к недоказанной теореме о невидимой нити… Аракчеев, держа в руках вожжи управления страной, сам очутился на одном конце нити, другой конец которой незаметно, мягко и крепко взяли женские пальцы. Почему он не заметил этой нити? Может, заметил, да не возражал против неё? Нить обвила его, приросла к плоти, он привык к ней…
И вот она лопнула.
Энергетическая катастрофа! Минкина вдруг втянула в свою могилу всю энергию графа – все краски мира, все друзья, работа, служба, чины, власть – всё разом превратилось в бледный далёкий призрак жизни. Да и сам граф Аракчеев стал тенью – точно как в сказке Андерсена. Он, оказывается, был человеком, лишь пока была жива Настасья. Строил планы, укреплял позиции, обустраивался, подминал под себя огромную страну…
И вот чего это всё стоит.
Хлестнула ли оборванная нить по Александру? Он так много потерял за последние годы, столько оборвалось нитей, что ещё одной больше, одной меньше… Всё подтверждалось, всё одно к одному. Вот и Аракчеев… Что делать? Да то, что и положено в таких случаях христианину: не вздыхать попусту, не жаловаться, не роптать. И ждать.
23 сентября прибыла Елизавета Алексеевна. Супруги встретились с радостью: успели соскучиться друг по другу. Теперь они вместе гуляли по городу и по окрестностям, часто ходили к морю, смотрели на закаты. С берега человеческому взору и мелкое Азовское море видно точно таким же бескрайним, что и самый великий океан. Берег моря! – где, как не здесь, задуматься о вере, мироздании, бессмертии и вечности, о том, что не должно быть зла и смерти, политики, дипломатии, царей и министров, революций, заговорщиков… Боже, как это ничтожно! Почему люди не поймут этого, суетятся, мечутся, строят какие-то нелепые планы?.. А, что там говорить! Разве сам он, Александр, не суетился зря, не гнался за бренной тщетой земной, не догонял призраки – а правда оказалась слишком тяжкой для него?! Чтобы делать мир лучше, надо иметь душу не отравленную грехом; император понял это слишком поздно, иные же и вовсе не понимают, и не объяснишь им этого: сами должны пройти своё, удариться, разбиться в кровь… и стать мудрее – когда будет уже поздно.
Вот и Александр обрёл мудрость – а жить больше незачем.
Но надо. Уныние суть смертный грех, а императору от и прежних грехов тяжко. Господь милостив! Освобождение придёт само. Будет знак.
Государь продолжал работать, внешне оставаясь столь же доступным и приветливым, что и всегда. Съездил в Область Войска Донского, ознакомился с воинской подготовкой и бытом казаков, остался доволен, изъявил самым верным и надёжным своим подданным высочайшие милость и благодарность… Вернулся в Таганрог. Там его уже поджидал энергичный генерал Витт с очередной порцией сенсаций относительно тайных обществ; что тут было правдой, а что рождено вдохновением виртуоза дезинформации – право, совершенно не интересно. Можно предполагать, что и государю слушать об этом надоело хуже некуда, хотя Витта он, конечно, выслушал. Поблагодарил, порекомендовал что-то, да и отправил с глаз долой.
После этого Александр стал готовиться к поездке в Крым. Параллельно с Виттом в Таганрог прибыл наместник Новороссийского края Михаил Воронцов (бывший командующий войсками во Франции) – и 20 октября царь в сопровождении небольшой свиты поехал вдоль побережья на запад.
Дорога!.. Южный октябрь, непрочное тепло, багряные закаты в пол-неба – какая отрада усталому путнику! пленнику «большого мира», обманщика с пустозвонной славой, притворившегося большим, а на самом деле таким ничтожным и смешным в сравнении с вечностью – о, император теперь знал, что она такое!..
Только вот где же она?!
Александр колесил по крымским субтропикам, восхищался климатом. Недавно он приобрёл поместье Ореанду близ Ялты, побывал и там; место ему очень понравилось. Теперь он поддразнивал окружающих, говоря, что здесь, в Ореанде, будет дом «отставного генерала Александра Павловича Романова»… Слушатели терялись, не знали, как реагировать на такие сообщения, а император добавлял, что он отслужил двадцать пять лет: за этот срок и солдату дают отставку. Волконскому же в шутку предложил идти к нему в библиотекари.
Так шли день за днём. Государь побывал в Алупке, Балаклаве, Севастополе, Бахчисарае; подходил к концу октябрь, днём ещё стояла жара, а по ночам задували студёные ветра: на солнце можно было загорать, а под утро впору кутаться в тёплую шинель… Перед Севастополем император заехал в Георгиевский монастырь, оттуда ехал уже ночью, было холодно, сильно продрог. Через несколько дней в Бахчисарае выпил лимонаду, а ночью вдруг ощутил сильную резь в животе, закончившуюся расстройством желудка. После чего явно полегчало.
То была ночь 30 октября.
А днём сопровождавшему царя Виллие показалось, что его подопечный испытывает недомогание; врач стал было расспрашивать, но услышал в ответ, что всё пустяки, пройдёт и так. Из Бахчисарая поехали ещё в Евпаторию, где бродила эпидемия малярии, соблюдался карантин. Но Александр ходил, заглядывал в разные уголки, зачем-то стал разговаривать с капитаном одного турецкого судна, а тот неизвестно, прошёл ли карантин или нет…
Путешествие подходило к концу. 1 ноября двинулись обратно, на северо-восток. Император чувствовал себя неважно, перемогался кое-как на ногах; невесело подействовала на него догнавшая в дороге весть о смерти свойственника, короля Баварии Максимиллиана, чья супруга была родной сестрой Елизаветы Алексеевны… И тут на полпути к Таганрогу случилась совершенно нелепая трагедия.
3 ноября близ Запорожья навстречу царской кавалькаде прибыл фельдъегерь с депешами и из Петербурга и из Таганрога. Александр депеши взял, ласково улыбнулся посыльному – тот был рослый, бравый парень, внешне чем-то похожий на самого Александра – и велел присоединиться к колонне.
Фельдъегерь Масков – какой русский не любит быстрой езды! – а тут ещё и взвихренный улыбкой самого государя, захотел, видно, блеснуть молодецким ухарством. Гикнул, свистнул, рявкнул на ямщика – тот ошалел, хлестнул лошадей, полетели во весь мах. Да как на грех, под колесо попал какой-то ухаб, бричку швырнуло, Масков вылетел из неё кувырком. А на другой грех тут же на обочине лежал большой камень: фельдъегерь так и угодил в него темечком.
«Тычком» – этот термин до сих пор ходит по всем описаниям нелепого случая.
Александр ахнул, всплеснул руками, сказал Тарасову бежать скорей на помощь. Доктор побежал, да что толку: несчастный Масков был уже мёртв.
Сказать, что царь был угнетён этой смертью – ничего не сказать. Да неужто же он так и сеет несчастья вокруг себя?! Масков – здоровый, лихой, весёлый парень – жил себе да жил, и солнце для него светило ярко, никакие хвори даже не касались его… пока не повстречался на пути Император Всероссийский Александр I. Повстречался, и… Какая ненужная, какая дикая смерть!..
Так что ж, чем дальше, тем больше Александр будет превращаться в анчара, убивающего всех, кто приближается к нему? Масков – это только начало, а потом будут ещё и ещё невинные смерти, и особенно тех людей, которых Александр любит?! Вот умерла Софья. Вот – почти убит Аракчеев… Кто следующий?
Или должна случиться одна смерть, которая разом, наконец, прервёт цепь несчастий?!..
Это не грех, не самоубийство. И не уныние. Просто всё указывает на то, что всё так и должно быть. Знаки?.. Так вот же он, знак: болезнь! Чего ещё другого ждать?! Она включила механизм финала.
А коли так, то и слава Богу.
Мы не знаем, с какого именно дня и часа государь Александр Павлович начал умирать – а свидетельства тех, кто был с ним в трагическом ноябре 1825 года, отрывочны и противоречивы. Многие документы были уничтожены императором Николаем Павловичем и Марией Фёдоровной, а после смерти матери Николай предал огню и её дневник [6, 97]. Поэтому изложенное ниже – только вариант реконструкции событий. Все эти несхожие данные сходятся в одной точке: нежелании императора лечиться – точно он таким вот образом предоставил русской истории возможность поскорее выбраться из сгущающихся сумерек…
С 5-го ноября пошёл особый счёт дней.
Вечером Александр прибыл в Таганрог – и все заметили, что он болен. Засуетились, запричитали; Виллие втихомолку ворчал, что государь упорно не хочет лечения – а тот и вправду твердил: всё в порядке, ерунда, пройдёт…
Несколько суток прошли в тревожной неопределённости: царю делалось то получше, то похуже, а в сущности, болезнь мало-помалу овладевала организмом, пока ещё не очень заметно для окружающих. Сам Александр если и думал о грехах человеческих и о неизбежности расплаты за них – то молча. Ни с кем на такие темы он не говорил, даже с женой, хотя всё это время они были вместе, болтали о каких-то милых пустяках, шутили, посмеивались… Счастливая семейная жизнь! – если б не больной, утомлённый вид супруга.
В ночь на 10-е вдруг стало резко хуже: жар, бессонница. Утром принял слабительное, подействовало; но от этого очень ослабел, после чего после чего вновь стал упрямо отказываться от лекарств. С 11-го по 13-е продолжал терять силы, температура и лихорадка не спадали, всё время клонило в сон. Доктора пугались этого, считая плохим симптомом, будили, если царь засыпал днём. Он сердился, говорил, что когда спит, чувствует себя так хорошо, покойно…
Тринадцатое, кстати, была пятница; вопреки нынешним суевериям, ничего худого в тот день не случилось.
Случилось четырнадцатого.
Утром Александр стал бриться – и внезапно потерял сознание. Упал. В первые секунды все так перепугались – даже доктора – что оказались в столбняке. Виллие сам чуть не рухнул в обморок. Не растерялась только императрица: велела срочно нести упавшего на кровать. Отнесли; он очнулся, увидал смятенные лица, постарался всех успокоить, но вскоре вновь впал в сонное забытье, продолжавшееся почти сутки.
Покуда это длилось, самые близкие: Елизавета Алексеевна, Волконский, врачи обсуждали серьёзность положения. Сошлись на том, что да, дела очень плохи… Когда утром 15-го больной пришёл в себя, от него этого не скрыли. Александр, должно быть, про себя грустно улыбнулся: с его точки зрения дела-то как раз шли так, как надо. Предстояло пройти через последнее испытание: ещё несколько дней страданий. Будут страдать и близкие, и жаль жену, жаль друзей, но что ж делать!.. Время всякой вещи под небом, время разбрасывать камни и время собирать их, время жить и время умирать. Совсем немного этого времени – а потом вечность… Вот и она!
Елизавета Алексеевна сказала, что стоит бы исповедаться и причаситься. Александр согласился. Духовника его, отца Павла, в свите не было, послали за местным соборным протоиереем Алексеем Федотовым, которому суждено было таким внезапным образом войти в историю… Отца Алексия, прежде чем допустить к страждущему, должным образом проинструктировали – и после исповеди и причастия священник стал просить государя «уврачевать не только душу, но и тело» [44, т.3, 521]. Александр, чтоб не огорчать старика, пообещал делать это – но про себя-то знал последние шаги своей судьбы на Земле. Если что-то и не закончил, то теперь заканчивать другим. Жил, конечно, Александр Павлович Романов не святым, грешил, путался сам и многих путал – но ведь милость Господня безгранична! А правду сказать, был Александр Павлович совсем не плохой человек…
Был? Ну да, чего уж там! теперь, конечно, был. Был не плохой – только чего-то в этом мире так и не постиг… Но и об этом грустить поздно. Укатали сивку крутые горки. Всё!
Больше Александр не вставал. Есть ничего не мог, разве что несколько ложек бульона или мороженого… Сон его стал похож на обморок, с губ срывались невнятные слова, то по-русски, то по-французски. Проблески сознания становились всё реже, хотя, приходя в себя, он всем улыбался, утешал, видя горестные лица. Елизавета не отходила от него; открывая глаза, он искал ей взглядом – она понимала это и всегда была рядом, держала свою руку в его руках, чувствуя, что у него жар…
Семнадцатого числа увидели, что больной ослабел ещё. Говорить мог с трудом, шептал неразборчивое, но улыбался так светло и ласково, что сердца у всех разрывались от горя – они, эти люди, не могли представить, как они будут жить без него… И ему, верно, жаль было оставлять их. Но он уже знал, что Вечность ждёт. Туда не опоздаешь, конечно… а всё-таки срок у каждого свой.
Вечером Елизавета Алексеевна, сидевшая рядом, заметила, что муж с улыбкой смотрит на неё, губы его беззвучно шевелятся. Она заспешила, приклонила голову к губам его, услышала: «Не страшно, Lise, не страшно…» – на привычном им обоим русско-французском языке.
То были последние слова государя Александра Павловича.
Он ещё приходил в сознание, но говорить уже не мог. От слабости не мог не только есть, но пить: государыня окунала в воду кончики пальцев и проводила ими по губам его, ощущая еле уловимые благодарные поцелуи… Да, ему было тяжко: дыхание стало хриплым, прерывистым, но взор, когда он открывал глаза, оставался ясным – несмотря на страдания, в этих глазах действительно не было страха перед грядущим. Что бы ни было, раб Божий Александр готов был принять всё.
В ночь с 18 на 19 дыхание сделалось ещё реже, ещё слабее и короче. Несколько раз прерывалось, но потом возобновлялось. Осунувшиеся от бессонных суток императрица, Волконский, Виллие, Тарасов дежурили близ постели. Взошло хмурое утро – день 19 ноября в городе Таганроге обещал стать пасмурным и мрачным.
Только Александр этой хмари не видел. Он простился с прежней Землёй, а встретить новую и новое Небо готовился. И все видели это, видели, что остаются даже не часы, а минуты…
Минуло десять. Елизавета Алексеевна держала руку мужа в своей, уже не чувствуя ответа. Он не открывал глаз, лишь дыханье давало знать, что он ещё здесь. Дыханья почти не слышно было – но всё же оно было… Оно было ещё в 10.30, и ещё в 10.40. А в 10.47. он вдохнул – и больше не выдохнул.
«Кончина его была тиха, как отшествие на покой по тяжких трудах жизни. Последний взор его обратился к светлому небу, потом встретился с взглядом добродетельной супруги, – и глаза его закрылись навеки» [78, т.1, 479].
Присутствующие не смогли сдержать рыданий. Не плакала только вдова: она закрыла усопшему глаза, подвязала челюсть, перекрестила и поцеловала в лоб. Долго смотрела, как родное ей лицо, истомлённое последним бореньем с тяжестью этого мира, проясняется, светлеет светом мира иного – пока ещё есть, ещё тянется в эти первые минуты незримая таинственная нить между освободившейся душой и оставленным телом… Должно быть, ТАМ сбылось всё так, как он хотел. И, конечно, он узнал, что отец давно простил его, совсем не сердится, и любит сына куда сильнее, чем когда-либо – ибо ТАМ нет ни обиды, ни мести, ни горечи – ничему этому нет места там, где царит любовь.
Глава 12. От заката до рассвета
1
Не так уж много времени осталось до того, когда исполнится два века со дня ухода императора Александра I из исторического времени. И три четверти этого срока – последние примерно полтора столетия – идут нескончаемые споры о таинственной судьбе уже не Императора Всероссийского, но верующего православного человека Александра Павловича Романова. И, вероятно, будут ещё идти.
Конечно! – всё вдруг может измениться, и кто знает, как повернётся мир пред человеческими взорами через десять-пятнадцать лет. Возможно, ждут его такие перемены, коих мы себе даже вообразить не можем – то, о чём сейчас способны строить разве смутные догадки, в изменённом мире раскроется просто и легко. Тайное станет явным, дальнее – ближним, грустное – ясным. И никакой тогда не будет «тайны Феодора Козьмича»: покажутся смешными слепые блуждания предков, их полузнание прошлого и незнание будущего. Мегапространство – не вечность, конечно, но прошлое и будущее должны быть различимы так куда яснее, чем в привычном нам четырёхмерном пространстве-времени…
Фантастика? Разумеется. Но таков всякий пристальный взгляд вперёд из покуда четырёхмерного мира. Прогнозы же, основанные на экстраполяции наиболее очевидных тенденций современности, как правило, оказываются, пустышками. Срабатывают тенденции неочевидные. То, что изложено абзацем выше – попытка уловить некоторые из них, обозначенные рядом факторов, просматриваемых сегодня. И «вторая жизнь» Александра Павловича имеет к этому прямое отношение.
Впрочем, ничего этого может, конечно, и не случиться…
Следует оговориться заранее: мы не знаем, был ли сибирский отшельник Феодор Козьмич, умерший в 1864 году, а в 1984-м канонизированный Русской православной церковью под именем святого праведного Феодора Томского, в прежней жизни императором Александром I, имитировавшим в Таганроге свою смерть и ушедшим в искупительное странствие. Литература на данную тему обширна чрезвычайно; только из прилагаемого списка можно указать на: [5, 6, 7, 8, 13, 36, 39, 44, 51, 56, 58, 61, 66, 74, 75]. Аргументов и контраргументов «за» и «против» отождествления Александра I и Феодора Козьмича за полтора столетия набралось столько, что перечислять их нет просто никакой возможности. Кое-что выше уже отмечалось: сама загадочность отъезда в Таганрог, чин панихиды в Александро-Невской лавре (?), некоторые странности в протоколе вскрытия (рубцы от ран на ногах покойного)… Иной раз вспоминают, что трагически погибший фельдъегерь Масков был похож на императора [7, 107] – нет ли здесь подмены тела?.. Смирнова-Россет говорит о том, как священник читал над гробом Александра Евангелие именно в том месте, где говорится о воскресении Лазаря [58, 148]: к чему бы это?.. Протокол вскрытия был подписан девятью медиками, однако много позже известный нам доктор Тарасов заявил, что не подписывал [7, 81], что его подпись подделана…
Стоп! Главное здесь – вовремя остановиться. Перебор известных фактов – дело вроде бы теоретически ограниченное, но практически – бесконечное. И бесплодное: ничего нового не совершится, чашки весов «pro» и «contra» останутся на прежнем месте…
Если суммировать всё, что за полтора века сказано о сочетании «Александр I – Феодор Козьмич», то обрисуются следующие версии.
1. Александр I и Феодор Козьмич – одно и то же лицо. Император не умер, а в самом деле сознательно ушёл в неизвестность.
Иногда этот тезис обогащается удивительным дополнением: монахиня Сырковского монастыря (близ Новгорода) Вера, возложившая на себя обет молчания, и так, не промолвив ни слова, скончавшаяся в начале 50-х гг. XIX века, была… Елизавета Алексеевна, подобно мужу инсценировавшая свою смерть и тайно удалившаяся от мира [8, 17; 94].
Императрица Елизавета Алексеевна пережила мужа на полгода; собственно, она так и не выздоровела после той простуды, полученной 7 ноября 1824 года. Проведя зиму в Таганроге, она весной 1826-го поехала обратно в столицу, но в пути занемогла хуже… и скончалась 3 мая в городе Белёве Тульской губернии.
«Альтернативных историков» это, разумеется, не смущает. Венценосная чета, полагают они, заранее всё обсудила – и как по нотам разыграла комбинацию: сопряжены пред Богом – значит, оба и будем держать ответ за грехи. И с помощью друзей, сохранивших тайну, совершили уход из суеты – в разные стороны России, она на запад, он на восток – чтобы никогда уже не встретиться в этом мире, всегда помня друг о друге…
Могила монахини Веры Молчальницы и поныне считается чудотоворной, подобно могиле Павла I в Петропавловском соборе. Летом на ней всегда живые цветы – и люди аккуратно срывают их, считая, что они тоже обладают целебной силой.
2. Феодор Козьмич – не Александр I.
Много свидетельств тому, что он был человек образованный; более того: знакомый с высшим светом, скорее всего бывший военный [есть, впрочем, и иные свидетельства – В.Г.]. Ростом, осанкой, манерами кому-то напомнил Александра Благословенного, пошли слухи, стали взаимодополняться… и пошло-поехало, и превратилось в сказку: может быть и помимо воли этого самого человека, по неким одному ему ведомым причинам возложившего на себя подвиг отшельничества. А вот царю, помазаннику Божию, тайно уйти с трона – дело в сакральном смысле очень непростое, и сам Александр, истово верующий монарх, понимал это лучше, чем кто-либо.
Хотя…
Хотя вспомним выход Серафима Саровского из затвора – через шесть дней после официальной смерти императора! Говорит это о чём-то? А маршрут императора в Таганрог, пролегавший буквально в нескольких верстах от Саровской обители?.. Не намекает ли всё это на то, что Александр получил-таки позволение оставить престол?!
Не очень, честно говоря.
Но кто же тогда был всё-таки Феодор Козьмич?!..
Упоминается морской офицер Семён Великий – личность, окружённая легендами. Якобы внебрачный сын императора Павла, то ли умерший, то ли пропавший без вести примерно в 1794 году в Карибском море во время дальнего похода [7, 139]… Ясно, впрочем, какова цена и этому предположению и ему подобным.
3. Самая отчаянная версия: Александр действительно умер, а потом по каким-то обстоятельствам воскрес – вернулся с того света в наш, ибо ТАМ ему было сказано, что мера его ещё не пришла… И в данном случае находятся аргументы «за», хотя как раз было бы весомее, если бы никаких аргументов не было.
Теория чудес – дело особое, и разговор на эту тему должен быть специальный. Нам же придётся ограничиться констатацией факта: есть и такое мнение. Впрочем, вряд ли кто-то решиться признаться в том, что он его сторонник, даже если в глубине души страстно хочет видеть императора Александра способным на чудо.
4. Феодор Козьмич – не Александр I, но человек, решившийся на редкое подвижничество: добровольно взять на себя грехи покойного государя, искупая их, равно как и свои, которые у него, конечно, тоже водились; есть основания допускать, что были они весьма тяжкие…
Деяние это было бы, однако, банальным самозванством без благословения церкви – а потому, если так, то человек, известный в русской истории под именем Феодора Козьмича, благословение такое должен был получить. От кого?..
А. Архангельский, рассматривая данную гипотезу, указывает, что оно могло исходить от митрополита Филарета (митрополитом стал в 1826-м) [5, 405]. Разумеется, кающийся грешник не мог очутиться перед взором владыки ни с того ни с сего – некоторые косвенные признаки наводят на мысль об его пребывании сначала в Киево-Печерской лавре (вообще о том, что он, предположительно, был родом с Украины) откуда «по рекомендации» он был направлен к Филарету, а преосвященный, болея душой о посмертной судьбе Александра I, предложил гостю взять на себя нелёгкую миссию.
Тот согласился. И митрополит отослал его прежде к Серафиму Саровскому, который мог заранее предвидеть такое развитие событий. Познакомившись с неприкаянным странником, саровский старец подтвердил слова Филарета и определил на подвижничество в глухом краю. А дальнейшее известно…
Любопытный поворот темы: будущий Феодор Козьмич сам мог пережить встречу, потрясшую его и изменившую всю его жизнь. Именно: его физическое тело стало пристанищем души покойного императора. Уже ТАМ, в мире горнем, прощёный и принятый, Александр, окинув духовным взором пройденный путь, мог предъявить себе высший счёт. Он не сделал всего, что должен был сделать, как монарх. Он, помазанник Божий, устал от этой стези, и смертельную болезнь воспринял с облегчением, как законный повод избавиться от огромной ответственности, от судеб страны, народа, будущего… Судьба мира, наверное, в любом бы случае не очень изменилась от этой Александровой слабости, и вероятно, уход прежнего и воцарение нового государя на самом деле оказались наилучшим практическим разрешением актуальной ситуации. Но ведь саму-то эту неблагополучную ситуацию создал не кто иной, как он сам, прежний! И с престолонаследием, и с тайными обществами – заварил горькую кашу, а расхлёбывать оставил брату Николаю.
Так вот – видя из вечности земное время, зная, что может случиться, не решил ли Александр Павлович, что он должен пройти ещё одно испытание временем: ради будущего, ради того, чтобы оно сложилось не столь уж сурово к новым поколениям землян?..
На этом, впрочем, авторскую фантазию должно укоротить; к тому же в контексте историческом всё это не столь уж и важно.
2
Да, разумеется, с онтологической точки зрения это очень интересно! Более того – принципиально. Однако, следует повторить: в привычном нам бытии мы не можем безапелляционно определить тождество или отличие этих двух персон. Можем строить догадки, которые догадками и останутся… Добавить здесь нечего.
Другое дело – позиция историческая. Здесь попроще в том смысло, что ответ на вопрос не требует взлёта над профанным временем. Вопрос не «кто?», а «почему?» – проявляет большую снисходительность к отвечающему, ибо требует не утверждения (отрицания), но интерпретации.
Почему возник миф о Феодоре Козьмиче как об Александре I?..
В нашей истории (равно и в истории любой крупной державы) более чем достаточно созданных текущим социальным запросом, легендированных, так сказать, ролей; «масок», если угодно. Иногда на роль находится незаурядный исполнитель – и становится достоянием учебников; иногда маска остаётся маской, так и не примерившись ни на чьё лицо – и эти случаи теряются в былом…
Было время – довольно упорно циркулировали слухи о брате-близнеце Павла Петровича, некоем «царевиче Афанасии» [56, 247], скрывающемся невесть где по глухим окраинным углам России. Но почему-то этот персонаж не привлёк внимания «артистов» – и слухи сами собой сошли на нет.
Однако, Феодор Козьмич в галерее русских загадок занимает особое место.
Упомянутые «артисты», добывшие себе сомнительную славу – Отрепьев, Пугачёв, княжна Тараканова, etc. – люди, бесспорно, очень разные. Тем не менее, амплуа у них одно: все они рвались к власти, и все личины, ими надеваемые, назывались царями, царевичами, царевнами… А Феодор Козьмич явил собою именно обратное: человек иного измерения, человек анти-власти, и при том помазанник Божий – соединивший своей личностью полярные пункты социума, сведший два полюса в один.
Царь, ставший отшельником!.. Иная геометрия человеческого бытия. Явление не уникальное, но крайне редкое: пожалуй, и десятка таких примеров (и близких к ним) в истории не наберётся. И, судя по резонансу, вызванному Феодором Козьмичом, феномен этот в данное время в данном месте оказался востребован. Россия живо откликнулась на сюжет – и уж, разумеется, главным героем мог стать только царь Александр I, никто другой.
Теперь обозначенное выше «почему» заостряется, насыщается конкретикой: почему именно он, Александр Павлович, увиделся страной как человек, смирением и покаянием исцелявший грехи свои личные, своего народа и всего человечества?.. При том, что большинство людей, воспринимавших это, о таких пафосных формулировках знать не знали, слыхом не слыхивали – их восприятие было безошибочным. Они почувствовали в Александре нечто мифологическое, то, что судьба его может стать доброй, хотя и немного грустной сказкой: идея носилась в воздухе и потому так легко нашла подходящую фабулу. Александр – хороший человек, милосердный царь, стремившийся сделать жизнь подданных лучше, счастливее; это у него не очень вышло, но всё-таки! всё-таки кое-что вышло, хоть немного, да сумел он смягчить чёрствые сердца… Да, умел он «уважать человечество»! А в одной из статей о нём сказано: «В конце царствования Александра она [Россия – В.Г.] стала правовым государством»[67]. С таким утверждением наверняка найдутся желающие поспорить, но тенденция Александрова правления здесь выражена совершенно разумно. Император хотел, чтобы люди были счастливы, чтобы ушла с Земли «вражда племён». Не получилось, да, но свет этого замысла!.. Не мог он остаться без ответной благодарности – и не остался, память человеческая оказалась необычайно тёплой к покойному царю, превратив его в образ светлого старца, тем самым как бы прощая все неудачи в царском чине, наивно, но искренне признавая, что их он исправлял в чине отшельническом; то, чего не смог сделать как властитель, стремился сделать как Божий угодник, в молитвенном уединении, отдав себя всего человечеству, превратив своё Я в канал, связующий наш мир с Богом, не дающий миру пропасть, невзирая на упорную работу рода человеческого по самоистреблению…
И благодарность эта – не только преподобному Феодору Томскому, но и императору Александру I, вне зависимости от загадок или не загадок его судьбы. Потому что и своим царским служением он выразил попытку противоборства трагическому ходу истории, приведшему христианскую цивилизацию к тяжелейшему кризису первой половины ХХ века, к страшным войнам, захлестнувшим всю планету… Сам Александр, в бытность свою государем, вероятно, не мог осознать полный масштаб происходящего – но действовать стремился именнно так, словно чутьё подсказывало ему, куда, к каким чудовищным провалам движется человечество. И он, властитель крупнейшей в мире державы, изо всех сил пытался будущие катастрофы предотвратить…
Но и это у него не вышло.
Вот мы и добрались до ключевого пункта всей книги.
3
Пришествие Христа на Землю стало событием, озарившим выпавший из полноты бытия мир. Оно, конечно, не вернуло его в Царство Божие – да и не должно было этого делать, ибо не посягнёт Бог на свободу Им сотворённых существ. Он освещает путь – а уж их дело увидеть или же не захотеть увидеть этот свет. Свобода воли есть и в падшем мире: каждый из нас волен выбрать свой путь возвращения. Или не возвращаться. Каждый из нас – и человечество в целом.
Человечество покуда так и не вернулось. Могло оно сделать это раньше? Наверно, да. Но – очень уж много случалось поворотов, перекрёстков, развилок безо всяких указующих или хотя бы подсказывающих надписей. Что будет, если повернёшь налево, направо, если пойдёшь прямо?..
В наши дни едва ли не общим местом стал тезис: беда, поразившая европейскую цивилизацию в ХХ веке, нарастала в течении нескольких веков, именно – примерно с конца XVII-начала XVIII – го, когда в умах многих интеллектуалов стал устойчиво поселяться рационализм как ведущий принцип мировоззрения, активная социальная идеология, согласно которой научное познание мира, основанное на абстрагировании, логической индукции и эксперименте – есть универсальный способ обретения человеком титанической мощи, чудо-средство, разрешающее все проблемы и открывающее беспредельные горизонты. Эта идеология со временем действительно стала модной: многие люди погнались за призраком всемогущества, продуцируемого одним только разумом, постепенно отказываясь, как от балласта, от религии и метафизики, вообще от сакрального, от всего того, что по мнению рационализма мешает человеку, отвлекает от подлинного бытия и подлинного возвышения человека над миром… А человек – это звучит гордо!
В упоении гордостью близорукие мыслители не замечали, как десакрализованное мироздание потихоньку подтачивается, проседает – без должной религиозной составляющей общество становится рыхлым, нездоровым… эта болезнь долго тлела в недрах – и, наконец, выплеснулась в открытую фазу в июле 1914 года. «Прекрасная эпоха», как любили говорить французы, лопнула подобно мыльному пузырю.
Иногда утверждают, что корни глубже: оплошавший и обанкротившийся рационализм был дитя (а точнее, внук) XVI века, прямой потомок Реформации – она источник, с неё всё когда-то началось…
Такая схема действительно стала расхожей. Сейчас, уже почти век спустя после того, как обрушение произошло, былое без большого труда упаковывается в некую удобную концепцию. В ней есть истина! – возражать не приходится. Однако, в данной системе ценностных координат эта истина обретает обвинительный характер: несколько столетий, дескать, христианский мир шёл по ложному пути, заразившись вирусом ratio, который долгое время придавал социальному организму обманчиво-цветущий вид, но в итоге сразил-таки внезапно вспыхнувшей горячкой…
Следует признать, что историческая композиция сложнее. Она требует поглубже заглянуть в прошлое.
Все социально-философские концепции так или иначе являют собой Прокрустово ложе, в которе приходится втискивать живую, невероятно сложную, неуловимо-переменчивую судьбу человечества. Поэтому – то, что будет изложено далее, конечно, тоже схема. Но, думается, есть основания считать её достаточно действенной.
4
Какие моральные проблемы и отклонения искажали и угнетали европейскую цивилизацию в первые полторы тысячи лет после Рождества Христова, что помешало ей дотянуться до света истины?.. Увы, много тому разных причин. Нерон, Диоклетиан, Юлиан Отступник… вообще весь этот саморазлагающийся, надолго отравляющий умы декаданс умирающей античности, в котором давно исчезло то лучшее, что составляло величие греко-римской культуры, за исключением разве что утончённого, но, разумеется, не могущего претендовать на историческое соревнование с христианством неоплатонизма… Нет сомнений, что влили в Европу свои ядовитые струйки и бесчисленные ереси – от гностицизма до иконоборчества – а также суровый абсолютизм императора Юстиниана, и «великий раскол» 1054 года… и многое, многое другое, ныне забытое. Всё это отдаляло горизонт, вытягивало путь, добавляя в него год за годом, год за годом… Годы складывались в чьи-то судьбы, поколения сменяли друг друга, могилы дедов и прадедов терялись, зарастали травой… а потом уж и следа их было не найти.
Христианский мир врастал в русло течения лет – собственно, переставая быть христианским, ибо не может Вечность быть в плену у времени. А коли уж оказались люди в нём, значит, где-то что-то они не уловили, что-то упустили, и свет потускнел – и стало быть, впереди оказались ещё и ещё перепутья, неизбежность обретений и утрат, и близость бездны, и дыхание безумия – и далёкий, но не погасший, ясный, зовущий, печальный, всё-таки живой над нашим миром свет.
Блуждания по странным, невесёлым перепутьям сделались пугающими ближе к концу XV века, когда Европу вдруг захлестнула волна грубого оккультизма и демономании. Это было настоящее цунами! – при том, что колдовство, ведовство и тому подобное присутствует всегда, во все века во всех культурах, и европейская не исключение. Но именно вторая половина пятнадцатого столетия полыхнула такой бурей магических страстей, какой прежде никогда не было [21, 162]. Почему?!
В порядке рабочей гипотезы можно допустить, что в те годы произошёл всплеск рождаемости людей с экстраспособностями – «детей индиго» пятнадцатого века; отнюдь также не исключено, что эти способности инициируются некими биосферными факторами (какими?)… Планета Земля живёт своей жизнью, меняется её структура, меняется климат, и как это влияет на биопсихический комплекс, называемый человеческим индивидом, и по сей день являет собой загадку.
Разумеется, эти экстраспособности с нравственной точки зрения не хороши и не плохи. Они – инструмент, предоставленный человеку для координации его действий с внешним миром, так же, как и способность человеческого мозга к рациональному мышлению. Иное дело, что всякий инструмент может послужить что во благо, что во зло – смотря с каких моральных позиций его использовать.
Как могли использовать психическую силу, ощутив её рост в себе, люди потускневшего мира, без малого уже на пятнадцать столетий ушедшего от Христа? Мира, где только что рухнула Византия, образ христианского царства, оказавшийся столь же бренным и преходящим, что и всё в потоке забвения?.. Вероятно, большинству из них, подобно Фаусту, этот диковинный дар почудился возможностью обрести своё гордое владычество надо Вселенной – и они, эти люди, на тайных сборищах или в ночном уединении взялись на поиски приёмов прямого воздействия на мир.
Вероятно, такие опасные технологии в те времена давали результат: мода на магию с чудовищной быстротой растеклась по Европе – так что спохватился Рим.
Католическая церковь – институт, чью деятельность невозможно, наверное, оценить однозначно. Она проявила удивительную историческую стойкость; к ней предъявляются из разных адресов множество претензий – и справедливо, и несправедливо… Слово «инквизиция» стало в обиходе синонимом неправедного судилища – в чём тоже наверняка есть зерно горькой истины. Причём мрачный ореол сопровождает эту организацию именно с XV–XVI веков, хотя создана она была гораздо раньше – в XIII веке, и много лет была хотя и суровым, но вовсе не ужасающим сегментом папской власти: «следственным комитетом» на современном языке. Но вот пришли иные времена…
Фаусты и Парацельсы, и великое множество чародеев помельче в невероятной прогрессии стали плодиться во всех европейских странах: мир точно стал сходить с ума. Церковь, чувствуя, как общество начинает расползаться под воздействием оккультного наваждения, забила тревогу. Папа Иннокентий VIII вынужден был издать специальную буллу Summus desiderantes (буквальный перевод: «Совокупность всего, что надо желать» – чересчур громоздок, поэтому данная идиома обыкновенно переводится как «С величайшим рвением»), санкционирующую долг каждого католика бороться с магическими феноменами и талантами, приобретшими, к несчастью жуткий, демонический курс, чреватый распадом и гибелью всего европейского социума… Вот здесь-то инквизиция и выдвинулась на первый план.
Один Бог ведает, сколько фанатиков и подлых проходимцев оказалось в ней! И сколько несчастных пострадали от борцов за идею и за свой кошелёк (имущество осужденных часто пополняло доходы судей)… И заметный исторический негатив, сделавший звучное латинское слово зловещим, конечно, стал заслуженным клеймом.
И всё же! Всё же, несмотря на это, можно взять на себя смелость утверждать, что тогда, в конце XV столетия, и папа Иннокентий VIII, и его инквизиторы, и даже сами Якоб Шпренгер и Генрих Инститорис, авторы знаменитого «Молота ведьм» – были правы, восставая против всего того, что несла власть тогдашней магии над умами. Ни папа, ни другие не были ангелами, не были святыми, но стали, должно быть, лучшими из худших – они не позволили миру, подошедшему к черте безумия, шагнуть за ту черту, откуда мир мог бы не вернуться.
Правда, болезнь оказалась страшной. Весь XVI век Европа содрогалась в пароксизмах войн. Это было что-то невероятное! – будто неведомые энергии Земли, вливаясь в людей, взрывали привычные устои, человечество не справлялось с грозными силами, что рвались из его собственных недр. Если церкви ещё как-то, прибегая иной раз к драконовским мерам, круша и виноватых и невинных, удавалось сдерживать демономанию, бушевавшую в людских сердцах – то удержать страсть к новой мистике, к собственным поискам Бога, к обновлению мира, заплутавшего на земных путях… этого уже ни Папа Римский, ни кто иной сделать не могли.
Европа разделилась. Католики и протестанты, люто возненавидя одни других, погрязли во взаимных проклятиях и убийствах. Обоюдная ненависть не мешала, однако, с равным пылом истреблять всё, что хоть как-то подозревалось в колдовстве, ведовстве, магии – а подозрения могли возникнуть по самому пустячному поводу. Ведовские процессы перехлестнули и в следующее столетие, неистовствовали в нём, и постепенно стали затихать лишь к концу XVII века, когда и колдуны и ведьмы почти полностью вывелись. Впрочем, и позже вспыхивали обвинения и расправы; были то реальные выявления «симптомов индиго» у отдельных личностей, либо чьё-то «тяжкое рвение»?.. Кто знает!
Здесь оказывается необходимым настоятельно подчеркнуть ещё раз: экстраординарные, «паранормальные» (неудачный, но привычный термин!) способности как таковые не являются как таковые ни злостными ни благостными. Существуют немалые основания предполагать, что основатели протестантизма – Лютер, хотя бы – несомненно, были «индиго-одарёнными» людьми, что нимало не мешало им непримиримо преследовать других таких же одарённых, поставивших свой талант на службу своему эгоизму… а уж к чему, вернее, к кому приводит человека сочетание высокой одарённости и свирепого себялюбия – печально известно.
Было бы неправдой обелять что католиков, что протестантов, прошедшихся по шестнадцатому и семнадцатому столетиям почти подобно Смерти с гравюры Дюрера. Но вот это самое спасительное «почти»!.. Оно вправду спасительное, каким бы ханжеством это не показалось. И католическая, и множественные протестантские церкви и секты – да, устроившие полтораста лет жестоких войн; да, содержавшие в своих рядах как принципиальных людоедов, так и бесстыжих циников; да, сотворившие немало такого, за что придётся дать высший ответ! – опять-таки оказались лучшими из того худшего, что тогда было. Они, может, и сами не очень отдавая себе отчёта, предотвратили сползание мира в никуда, что запросто могло бы случиться, возьми верх безоглядные маги, думавшие лишь о своём могуществе, и презиравшие всё прочее с высоты собственного величия.
Позволим себе развить высказанное выше предположение. Если направленность геобиогенных процессов в западной части Евразии в конце XV-начале XVI веков способствовала раскрытию у многих людей их «индиго-потенциала», то ближе к концу XVII столетия заметно изменившиеся биосферные условия (симптомом которых, возможно, стало явное похолодание в этих широтах?..) данный потенциал нейтрализовали. Планета Земля, уловив неготовность европейского человечества к собственным способностям, незаметно снизила их уровень, чем помогла предотвратить катастрофу, которая могла бы случиться, овладей магическими технологиями эти морально к ним не подготовленные массы людей. Разумеется, ультра-психические потенции реализуются у разных людей во все эпохи, во всех краях Земли; однако, данный феномен, как и любой другой, имеет, вероятно, исторические экстремумы…
Это, конечно, дерзкая гипотеза. Но и без неё ясно, что два столетия социальных бурь и потаённой, не замечаемой миром работы в сознаниях и подсознаниях людей сделали огромное дело.
Чем, собственно, отличается «наука» от «магии»? По целеполаганию – ничем. И то и другое суть инструменты воздействия человека на внешнюю среду; разница в технологиях, в методах. Магия предполагает примат непосредственного (во всяком случае, сведённого к минимуму посредников) психического влияния субъекта на объект – наука же выстраивает меж ними довольно долгую цепь промежуточных инстанций в виде логических умозаключений и технических приспособлений. Резонный вопрос: зачем нужна наука, если магия обещает достижение цели кратким путём?.. И резонный ответ: затем, что краткий путь не самый скорый. Выигрываешь в силе, проигрываешь в расстоянии – золотое правило механики творчески применимо и в данном случае. Магический акт, очевидно, требует от человека огромного разового выброса энергии, научно-техногенный же, «растянутый» по времени, позволяет энергетический расход сглаживать, делать спокойным, предсказуемым, а следовательно – куда более социально приемлемым.
Так не должны ли мы сказать «спасибо» инквизиции?!.. С её позиций между магией и наукой вообще никакой разницы не было – и действовали охранители соответственно, как система залпового огня, сметающая всё без разбору. Но результат!.. Результат известен. Чем бы занял себя умный, талантливый, честолюбивый, рвущийся к познаниям молодой немец, француз, англичанин где нибудь в 1495 году?.. Наверняка бы ударился в чернокнижие, астрологию и что-нибудь тому подобное! – попытался бы вырастить свои «ведовские» способности. А вот его ровесник двести лет спустя, ощущая потребность в самореализации, шёл заниматься математикой, физикой или химией – и это, бесспорно, достижение европейской цивилизации. Не великое, но достижение: она просто продолжала существовать. А могла бы исчезнуть.
Явно наметившийся рационализм, успехи точных наук стали симптомом выздоровления. Но… выздоровлением так и не стали. Христианскому обществу всё-таки понадобилось сойти с дистанции, пуститься снова по штрафному кругу – и погрузиться в кошмар двух подряд мировых войн, чтобы в который уже раз оказаться на развилке.
Могли бы тогда, триста с лишним лет назад, проблески надежды превратиться в ясный свет? Теоретически – да, могли. Рационализм Френсиса Бэкона, Декарта, Паскаля, Ньютона был здравым: не был идолом, порабощающим человеческую душу; был не мировоззрением, а методом, не целью, но средством. И Паскаль и Ньютон прекрасно понимали, какова истинная цель жизни человека. Но потом… потом поиски ушли от высот, созданных аристократами науки.
Видимо, и помрачение и лечение не прошли без следа. Дух человеческий ослаб, снизился иммунитет к инфильтрациям из лукавых «подвалов» бессознательного… История человечества – история упущенных возможностей и запоздалых, горьких обретений, приходивших уже после того, как исправлять ошибки и упущения было поздно.
Каким образом рационализм – превосходный познавательный инструмент – превратился в испорченную идеологическую догму?.. Возможно, это было самое грандиозное, эпическое и трагическое заблуждение за всю обозримую историю человечества. «Наука» оказалась ещё более грозным орудием искушения, чем «магия» – при том, что сама она в этом, конечно, не виновата. Виновато несовершенство земной человеческой природы, слишком склонной принимать за золото всё, что блестит, слишком податливой на обольщения… отчего и удлинняется путь мира сего, и время тянется и тянется, так до сих пор и не вернув нас в вечность…
Рационализм, ставший идеологемой, сотворивший себе кумиров и поклонившийся им – он, конечно, стал обречён. Более того: неизбежное самоограничение метафизического пространства естественным образом порождало новых призраков, суррогаты духовности, предлагавшие человечеству неполную истину, фальшивое добро и мираж красоты: утончённую эрзац-мистику нового времени и «интеллектуальный» оккультизм… И эти предложения находили, увы, спрос.
Проницательные люди, способные предвидеть будущее, есть во все эпохи. Были такие и во время обманчивого триумфа рационалистической идеологии, возомнившей себя всемогущей. Эти люди предупреждали (а некоторые, наверное, и не пытались, заранее зная, что их не услышат…) о социальных болезнях, неизбежно зарождавшихся в десакрализуемом обществе… но адепты «передовой мысли» не слушали: предупреждения казались им пустым брюзжанием, в наивной близорукости они думали, что техногенный прогресс и разные социальные движения сумеют разрешить все проблемы, снять все конфликты, всех сделать сытыми, умными и радостными: создать Аркадию от науки.
Впрочем, должно сказать, что данный «штрафной круг» на затянувшейся дистанции человечества явился всё-таки менее горьким, нежели могло бы быть, не справься в своё время церковь с демономанией. Магия обрушила бы цивилизацию куда страшнее, чем это сделала наука. Кризис двадцатого столетия оказался относительно щадящим – как бы странно не прозвучало это после всего пережитого… И тем не менее, это так.
Конечно, оптимисты «прогресса» зачастую были слепы, по-детски заносчивы и по-детски эгоистичны; а некоторые просто бесчувственны и жестоки. Однако, трудно осуждать большинство из них. Можно посочувстовать, пожалеть о том, что это большинство не хотело прислушаться к голосам великих, но упрекать его в отсутствии чуткости и проницательности, в глухоте к будущему… вообще говоря, в том, что эти люди не были великими – наверное, было бы слишком.
Следует с сугубой осмотрительностью относиться к гипотезам о предопределении, о некоем тотальном фатуме, безальтернативно овладевающем чуть ли не целыми эпохами… однако, вместе с тем было бы опрометчивым исключать присутствие в историческом процессе пунктов «перехода количества в качество» – событий, после которых нарастающий массив тенденций преодолевает некий критический порог, и те или иные процессы становятся практически необратимыми… Возможно, на временной излучине истории, называемой «новым временем» – от Декарта до Первой мировой – случилась именно такая точка невозврата. Точка эта – 1789 год, Французская революция. Мир переломился в ней. Буря сотрясла планету, исторгла из своих недр корсиканца Бонапарта, человека, который мог стать великим учёным, но стал грубым тираном – влила в него колоссальные энергии и полтора десятка лет лихорадила мир. Вроде бы удалось одолеть это, победить… но позже выяснилось, что болезнь лишь из острой фазы перешла в хроническую. Мир двинулся к следующей вспышке под весёлое хлопанье пробок от шампанского, звон бокалов, вдохновенные тосты во имя науки, просвещенья… и молчаливо нарастающее ожесточение сердец в душевном подполье.
А за двенадцать лет до революции – последний цикл восточного календаря! – у наследника российского престола Павла Петровича и его жены родился мальчик…
5
Иной раз просто не верится: как уцелел наш мир после всего того, что было с ним в ХХ веке?! После Вердена, газовых атак, фашизма, Освенцима, Хиросимы! Воистину всё было на грани, бездна страшно взглянула в человеческие лица… А ведь уцелел! Удержался! И мы, слава Богу, живы, и вот уже новый век взял старт, и какие-то надежды брезжат рядом, странные, почти неуловимые – так же, как в светлый февральский день коснётся вдруг и улетит бесследно дуновение весны.
Да, нам, сейчас живущим, жить надо с благодарной памятью о тех, кто спас, кто удержал мироздание – пусть на краю, но всё же не за край. Когда последний солдат разбитого полка не бросил винтовку, не побежал – не из-за страха перед заградотрядами и особистами, и не из-за того, что беги-не беги, один чёрт убьют – а просто не побежал, потому, что он солдат – вот тогда-то главная точка опоры, на которой стоит Вселенная, очутилась не где-то в тёмной пустоте, средь звёзд, чёрных дыр и прочей бессмыслицы – а здесь, в полуразрушенном окопе, в последней пуле, в острие штыка, в последний миг! – и мир, качнувшись над пропастью, всё же откачнулся в эту, а не в ту сторону и устоял, спасённый рядовым без званий и наград.
И даже без имени. Бесспорно, есть высокий, даже высочайший смысл в могилах Неизвестного Солдата – в Париже и в Москве… Но при этом не должны быть забыты и те, кто хотел спасти мир задолго до его несчастий; кто угадал, почувствовал, ощутил темнеющий вдалеке обрыв и изо всех сил – пусть и не хватило их, пусть этот мир сам не желал спасаться – всё-таки боролся, не сдавался. Слабел, проигрывал, ощущал своё бессилие… и проиграл.
Мы не знаем, осознал ли император Александр I, в борьбу с какой чудовищной силой он вступил. Борьбу, в которой победить не мог – он, однажды и на всю жизнь обескровивший себя малодушием. Но жизнью своей он искупил эту вину, хотя исправить её уже не мог: и потому, что сам слаб, и потому, что незримый противник был слишком силён, и всё усиливался и усиливался, заполоняя собою время – противостоять этому потоку было всё равно, что противостоять напору стихии. Да, возможно, кто-то умел делать это, познав, что власть над бурями не в шуме их, но в тишине…
Александру это не удалось.
Однако, поражение поражению рознь. Всё, что он мог сделать, он, как видно, сделал. Движение мира к грядущей тьме замедлилось – пусть ненамного, но замедлилось, и хоть чуть-чуть, да легче было в тот миг тому самому Неизвестному Солдату, когда судьба Вселенной оказалась в его руках. Сработала помощь из прошлого. Всё-таки это прошлое не прошло зря!..
И потому чрезвычайно символична легенда о Феодоре Козьмиче – о царе, ставшем святым, человеке, понявшем что-то очень важное в этой жизни, от ложного земного всемогущества ушедшего в сосредоточенное молитвенное уединение… Это миф в лучшем смысле слова – порождение архетипов народной ментальности, не искушённой в философии и вряд ли способной сформулировать то главное, что она поняла безо всяких формул. А из наших дней оно, это главное, выглядит ещё значительнее и суровее, чем сто лет назад.
Мы – человечество – докатились до самой тьмы, коснулись её, ужаснулись, отпрянули. Тьма не поглотила мир, но сумерки недавнего прошлого всё клубятся вокруг нас… Все времена на Земле суть перепутья, но сейчас, в первые годы третьего тысячелетия от Рождества Христова действительно можно сказать, что нечто прежнее закончилось, а новое ещё не началось. Каким стать этому новому? Взойдёт ли ещё раз заря над человечеством, над планетой Земля?!.. Внимательный взгляд наверняка сумеет различить в окружающем, как сквозь неряшливую суматоху наших будней проглядывают робкие надежды на будущее. В разных точках современного социума заметны попытки всерьёз, объёмно и беспристрастно переосмыслить восприятие систем «Бог – мироздание», «человек – биосфера», проявляется осознание потенций, скрытых в нас… и хочется верить, что вместе с этим к людям придёт простая истина: никакие резервы и возможности не раскроются без должной нравственной основы! Только добро, без оговорок и условий, великая сила добра, обращённого к каждому, так, чтобы никто не оказался позабыт – только эта сила развеет сумерки, открыв человечеству путь к тому, что нам пока так и не удалось открыть в самих себе и в красоте нашего мира… Хотелось бы верить! но кто же знает, удастся ли превратить эти надежды в бытие, воистину достойное Человека, или суждено им захиреть уже навсегда.
Каким станет будущее – нам решать и нам делать. А вот за то, что человечество осталось живо, за то, что мы сегодня можем шагнуть из сумерек навстречу свету – за это из нашего двадцать первого века спасибо всем тем, кто удержал мир, не дал ему сползти в бездну – и в том числе Его Величеству, императору Александру Благословенному. Он это заслужил. Не в силе Бог, а в правде.
Список литературы
1. Библия.
2. Абаза В.А. История России. С-Пб., 1886.
3. Аксаков И.С. Отчего так нелегко живётся в России? М., 2002.
4. Артамонова Л.М. Общество, власть и просвещение в русской провинции XVIII – начала XIX вв. Самара, 2001.
5. Архангельский А.А. Александр I. М., 2005.
6. Балязин В.Н. Неофициальная история России. Тайная жизнь Александра I. М., 2007.
7. Барятинский В.В. Царственный мистик. С-Пб., 1912.
8. Бежин Л. Молчание старца, или как Александр I ушёл с престола. М., 2007.
9. Бердяев Н.А. Русская идея// О России и русской философской культуре. М., 1990.
10. Большая советская энциклопедия. В 50-и томах. 2-е изд. М., 1949–1958.
11. Булгаков М.А. Романы. М., 1989.
12. Вандаль А. Сочинения. В 4-х томах. Ростов-на-Дону, 1995.
13. Василич Г. Легенда о старце Кузьмиче и Александре I. М., 1911.
14. Вернадский Г.В. Русская история. М., 2002.
15. Вернадский Г.В. Русское масонство в царствование Екатерины II. С-Пб., 2001.
16. Вигель Ф.Ф. Записки. В 2-х тт. М., 2003.
17. Внешняя политика России XIX и начала ХХ века. М., 1960.
18. Галактионов И.А. Император Александр I и его царствование. С-Пб., 1879.
19. Гоголь Н.В. Собрание сочинений. В 8-и томах. М., 1984.
20. Гордин Я.А. Мистики и охранители. С-Пб., 1999.
21. Горфункель А.Х. «Молот ведьм» – средневековье или Возрождение?// Культура возрождения и общество. М., 1986.
22. Двадцатипятилетие Европы в царствование Александра I. С-Пб., 1831.
23. Двадцать девять лекций по русской истории. С-Пб., 1892.
24. Дженкинс М. Аракчеев: реформатор-реакционер. М., 2004.
25. Дипломатический словарь. М., 1985.
26. Документы для истории дипломатических сношений России с западными державами европейскими, от заключения всеобщего мира в 1814 до конгресса в Вероне в 1822 году. В 2-х томах. С-Пб., 1823.
27. Достоевский Ф.М. Собрание сочинений. В 12-и томах. М., 1982.
28. Дружинин Н.М. Избранные труды. М., 1988.
29. Ермолов А.П. Записки. М., 1991.
30. Зеньковский В.В. История русской философии. М., 2001.
31. История дипломатии. В 5-ти томах. 2-е изд. М., 1959–1979.
32. История царствования императора Александра I и России в его время. Сочинение автора Истории отечественной войны 1812 года. В 6-и томах. С-Пб., 1869–1871.
33. Кант И. Критика чистого разума. М., 1994.
34. Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в её политическом и гражданском отношениях// Русская идея. М., 2004.
35. Ключевский В.О. Сочинения. В 9-и томах. М., 1987–1990.
36. Коняев Н.М. Подлинная история дома Романовых. М., 2005.
37. Корф М. Жизнь графа Сперанского. В 2-х томах. С-Пб., 1861.
38. Крупин В. Н. Русские святые. М., 2006.
39. Кудряшов К.В. Александр I и тайна Федора Козмича. Пг., 1923.
40. Куприн А.И. Собрание сочинений. В 9-и томах. М., 1964.
41. Литературная энциклопедия. В 11-и томах. М., 1929–1939.
42. Любченко О.Н. Граф Ростопчин. М., 2000.
43. Маркс К. Капитал. В 3-х томах. М., 1988.
44. Мережковский Д.С. Собрание сочинений. В 4-х томах. М., 1990.
45. Набоков В.В. Тень русской ветки. М., 2000.
46. Нигматуллина И.В. Старая Уфа. Уфа, 2007.
47. Пикуль В.С. Честь имею. М., 1990.
48. Пирлинг О. Не умер ли католиком император Александр I? М., 1914.
49. Пушкин А.С. Собрание сочинений. В 10-и томах. М., 1974–1978.
50. Пыпин А.Н. Общественное движение в России при Александре I. С-Пб., 2001.
51. Пыпин А.Н. Религиозные движения при Александре I. Пг., 1916.
52. Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву. М., 1974.
53. Рогинский В.В. Швеция и Россия. Союз 1812 года. М., 1978.
54. Росийский архив. В 10-и выпусках. М., 1992.
55. Рудницкая Е.Л. Александр Иванович Тургенев// Российские либералы. М., 2001.
56. Сахаров А.Н. Александр I. М., 1998.
57. Серков А.И. Русское масонство 1731–2000. М., 2001.
58. Смирнова-Россет А.О. Записки. М., 2003.
59. Советская историческая энциклопедия. В 16-и томах. М., 1961–1976.
60. Сокровища древнерусской литературы. Мудрое слово древней Руси. М., 1989.
61. Соловьёв С.М. Император Александр I. М., 1995.
62. Статистическое изображение городов и посадов Российской империи по 1825 год. С-Пб., 1829.
63. Тарле Е.В. Избранные сочинения. В 4-х томах. Ростов-на-Дону, 1994.
64. Тарле Е.В. Наполеон. Талейран. М., 2003.
65. Толстой Л.Н. Война и мир. В 4-х томах. М., 1978.
66. Троицкий Н.А. Александр I и Наполеон. М., 1994.
67. Тростников В. Он один знал, куда ведёт Россию// АиФ, 2005, № 48.
68. Труайя А. Александр I. Северный сфинкс. М., 2004.
69. Трухановский В. Адмирал Нельсон (черты портрета флотоводца, политика, человека)// Прометей. М., 1977.
70. Христианство. Энциклопедический словарь. В 3-х томах. М., 1993–1995.
71. Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем. В 30-и томах. М., 1974–1983.
72. Чибиряев С.А. Великий русский реформатор. Жизнь, деятельность, политические взгляды М.М. Сперанского. М., 1989.
73. Чулков Г.И. Императоры России. М., 2003.
74. Шильдер Н.К. Император Александр I: Его жизнь и царствование. В 4-х томах. С-Пб., 1897–1898.
75. Шиман. Александр I. М., 1908.
76. Шмеман А. Исторический путь православия. М., 1993.
77. Шолохов М.А. Собрание сочинений в 8-и томах. М., 1957.
78. Эйдельман Н.Я. Апостол Сергей. М., 1975.
79. Энциклопедический лексикон. В 17-и томах. С-Пб., 1835.
80. Энциклопедический словарь. В 82-х томах. Лейпциг – С-Пб., 1890–1903.
81. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.
82. www.a-nomalia.narod.ru
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

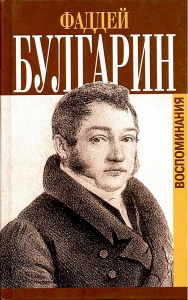



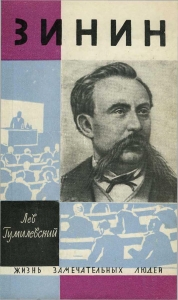


Комментарии к книге «Александр Первый: император, христианин, человек», Всеволод Олегович Глуховцев
Всего 0 комментариев