Труды тургеневского общества
Атеней
Петроград
1923
Об авторе. Лев Самойлович Утевский (1897–1960) — литературовед, историк литературы, известен работами о Гончарове и Тургеневе.
Предисловие
Несмотря на обилие литературы о Тургеневе, отдельные моменты и даже периоды его жизни освещены чрезвычайно слабо. К таким периодам несомненно относится предсмертный период, болезнь, смерть.
Но не только слабая изученность этого периода жизни Тургенева привлекла к себе внимание автора.
Смерть — одна из тех проблем, которые занимали Тургенева в течение всей его жизни, смерти он боялся и не забывал о ней никогда.
Естественно, что его смерть (смерть — близость которой он сознавал) не может не остановить на себе внимания исследователя.
Настоящая работа написана больше двух лет тому назад и первоначально напечатана в Тургеневском Сборнике, изданном Тургеневским Обществом. Таким образом она не принадлежит к числу тех работ, которые пишутся специально по поводу юбилейных дат (в данном случае сорокалетия со дня смерти). Но эта юбилейная дата и те запросы, с которыми к автору по поводу нее обращались, побудили его издать ее отдельной книжкой.
За время, прошедшее с момента опубликованья настоящей работы в Тургеневском Сборнике, автору стали доступными ценные неизданные материалы из архивов П. В. Анненкова и Я. П. Полонского (ныне находящихся в Пушкинском Доме), которыми он смог дополнить настоящее издание. В частности здесь впервые использована переписка Тургенева с П. В. Анненковым за 1882 и 1883 годы и письма Я. П. и Ж. А. Полонских и А. Ф. Онегина, касающиеся болезни и смерти Тургенева.
Часть примечаний, по соображениям чисто техническим (в виду их распространенности) пришлось вынести в конец книги.
В заключение автор считает своим долгом выразить искреннюю благодарность М. Д. Беляеву и С. А. Переселенкову, предоставившим ему некоторые материалы, Ю. Г. Оксману, давшему ему некоторые указания, а в особенности Борису Львовичу Модзалевскому, с неизменной теплотой и исключительным радушием относившемуся к многочисленным просьбам автора о предоставлении ему различных материалов Пушкинского Дома.
Сентябрь
1923.
I
22-го августа 1883 г., в комнате второго этажа небольшого шале в Буживале, вдали от родины и русских друзей, изолированный от теплого общественного внимания, скончался после продолжительных, нечеловеческих страданий Иван Сергеевич Тургенев.
Смерть всегда была для великого писателя страшна, он боялся ее — это известно.
Он беспрестанно ее касается в своих произведениях, всегда изображая ее одинаково мрачными, одинаково грозными красками. Смерть — это «сила, которой нет сопротивления, которой все подвластно, которая без зрения, без образа, без смысла — все видит, все знает и, как хищная птица, выбирает свои жертвы, как змея их давит и лижет своим мертвым жалом» [1], «это страшное насекомое, зловеще шумящее крыльями, жутко и противно шевелящееся, возбуждающее отвращение, страх, ужас» [2]. И всегда это нечто грозное, страшное, от чего «тошнило на сердце, в глазах темнело и волосы становились дыбом».
Тургеневу еще девятнадцатилетним юношей пришлось столкнуться лицом к лицу с этой грозной силой. Пожар на пароходе, на котором он впервые выехал заграницу, заставил его пережить весь страх и ужас неизбежной, казалось, смерти. Повидимому, он встретил ее недостаточно мужественно. Недаром мать упрекала его в том «ридикюльном» пятне, которое это на него наложило. «Слухи всюду доходят» — писала она ему — «Се gros monsieur Tourgueneff qui se lamentoit tant, qui disoit mourir si jeune… Что ты gros monsieur — не твоя вина, но — что ты трусил, когда другие в тогдашнем страхе могли заметить»… [3] Да сам и Тургенев, в 1868 г., в письме в редакцию «С. — Петербургских Ведомостей», признавал, что «близость смерти могла смутить девятнадцатилетнего мальчика — и я не намерен уверять читателя, что я глядел на нее равнодушно» [4].
Это, конечно, лишь эпизод, но эпизод, пройти мимо которого было бы ошибкой. Ужас перед неотвратимостью смерти характерен для Тургенева в течение всей его жизни. Он продиктован общим его миросозерцанием, всем складом его личности, а не кораблекрушением, испытанным им в молодости, но и оно должно было оставить след. Ощутивши раз близкое дыхание смерти, он понимал тот ужас, который «кривил, искажал бледные черты» его Эллис. «Смерть мне тогда заглянула в лицо и заметила меня» — мог он сказать словами Чулкатурина («Дневник лишнего человека»).
Разум писателя никак не может примириться с ее неизбежностью, он тщетно ищет разрешения великой загадки.
Еще в одном из юношеских своих стихотворений («Вечер»), в час «глубокого сна — на небе, на земле» он задает вопрос:
Что если этот сон — одно предвозвещанье Того, что ждет и нас, того, что будет нам! Здесь света с тьмой — там радостей, страданий С забвением и смертью слияние: Здесь ночь и мрак — а там? Что будет там?Вопрос неразрешим.
И грустно стало мне, что ни одно творенье Не в силах знать о тайнах бытия.А проникнуть в эту тайну он стремился всегда.
«Неужели смерть есть не что иное, как последнее отправление жизни?» — пишет он в 1861 г. графине Ламберт [5].
Самая естественность смерти его страшит. «Естественность смерти гораздо страшнее ее внезапности или необычайности» — читаем мы в том же письме.
Чувство, владевшее в жизни Тургеневым, прекрасно объясняется несколькими строками в «Накануне». «Смерть» — говорит он здесь — «как рыбак, который поймал рыбу в свою сеть и оставляет ее на время в воде: рыба еще плавает, но сеть на ней, и рыбак выхватит ее, когда захочет».
Сознание того, что он только рыба, барахтающаяся в сетях, расставленных страшным рыбаком — смертью, сетях, которые последний волен затянуть, когда ему заблагорассудится, его не покидало. «Мы все осуждены на смерть» — писал он графине Ламберт — «какого еще хотите трагического?»
Чем дальше, чем ближе к настоящей старости, тем ужас перед «страшной ямой», «ненасытной, немой и глупой, не сознающей того, что она пожирает» [6], но от которой «не уйдешь», все более проникает все существо автора «Стихотворений в прозе».
«…Вдруг, уж точно как снег на голову, нагрянет старость — пишет он в «Вешних водах» — и вместе с ней тот постоянно возрастающий, все разъедающий и подтачивающий страх смерти»…
В 1872 г., в кругу французских друзей, он говорит: «Vous savez, quelquefois, il у a dans un appartement une imperceptible odeur de muse, qu'on ne peut chasser, faire disparaitre… Eh bien, il у a, autour de moi, comme une odeur de mort, de neant, de dissolution» [7].
В 1873 г. пишет Фету, что стад «существом, постоянно, как часовой маятник, колеблющимся между двумя одинаково безобразными чувствами: отвращением к жизни и страхом смерти»… [8].
«Начинаю чувствовать глухой страх смерти», — ответил он однажды, уже в последние годы жизни, художнику Верещагину на вопрос о состоянии его духа [9].
А в 1881 г., во время пребывания своего в Ясной Поляне у Толстого, он находил, что страх смерти естественное чувство, сознавался, что боится смерти, и откровенно говорил, что не приезжает в Россию во время холеры [10].
Страх смерти для Тургенева непобедим.
«Одна религия может победить этот страх» — говорит он в письме к графине Ламберт (от 10/22 декабря 1861 г.) — «Но сама религия должна стать естественной потребностью в человеке, а у кого ее нет, тому остается только с легкомыслием или с стоицизмом (в сущности это все равно) отворачивать глаза».
Его сны, его предчувствия вращаются теперь все вокруг того же. Знаменитая «Старуха» является, по свидетельству Я. П. Полонского, одним из его снов. А предчувствия его доходят до того, что, боясь из-за одного такого предчувствия умереть в октябре 1881 г. (он ждал смерти в ночь с 1-го на 2-е октября), он просит Ж. А. Полонскую взять на сохранение кой-какие его бумаги [11].
* * *
Но вот смерть уже на яву, а не во сне, вплотную подошла к Тургеневу. Страшная сеть, на этот раз в действительности, затягиваясь тесней и тесней, стала душить великую добычу.
Как же отнесся к ней наш писатель теперь, ставши перед ее лицом, вновь, как когда-то девятнадцатилетним юношей, ощутив ее дыхание, сознавая, что на этот раз нет спасения, что роковая сеть неминуемо и неотвратимо затянется мертвой петлей? Исказились ли его черты тем «томительным ужасом», который кривил когда-то бледные черты Эллис? Темнело ли у него в глазах, вставали ли волосы дыбом от леденящего дыхания, или же он умирал, как русский человек — «холодно и просто, словно обряд совершая»?[12].
Душевное состояние Тургенева на смертном одре не напоминает ни того ни другого. На сцену выступает нечто новое, ибо в душе великого писателя, кажется нам, совершился перелом.
Этим новым является, под влиянием нечеловеческих страданий, коренным образом изменившееся отношение к смерти.
Вспомним сон Лукерьи из «Живых мощей».
Наблюдая проходящих мимо нее по большой дороге странников, Лукерья видит между ними «женщину, целой головой выше других, с постным и строгим лицом». «Остановилась и смотрит… И спрашиваю я ее: кто ты? — А она мне говорит: «Я смерть твоя». Мне что бы испугаться, а я напротив рад — радехонька, крещусь! И говорит мне та женщина смерть моя: «Жаль мне тебя, Лукерья, но взять тебя с собой не могу. Прощай!» Господи! Как мне тут грустно стало! «Возьми меня», говорю, «матушка, голубушка, возьми!» И смерть моя обернулась ко мне и стала мне выговаривать»…
Сон Лукерьи дает нам совершенно непохожий на предыдущие образ, — образ смерти — избавительницы, желанной избавительницы от мук и страданий.
И если всю жизнь смерть рисуется Тургеневу лишь в виде внушающих ужас и отвращение страшных образов, то на смертном одре эта всемогущая сила существует для него лишь в виде смерти из сна Лукерьи.
Если до сих пор, при представлении грозной силы, волосы становились у него дыбом, то теперь, подобно Лукерье, он взывает к ней: «возьми меня, возьми меня!»
Сдвиг этот вызван был, как мы уже сказали, страданиями, нестерпимыми, нечеловеческими, не дающими покоя, безнадежными, столь сильными, какие испытывали лишь немногие.
Великому писателю выпало на долю переносить их в течение долгих дней.
II
Первые признаки болезни, сведшей Тургенева в могилу, появились в конце марта 1882 года.
Великий писатель проводил зиму в Париже. Предыдущее лето он прожил в родном Спасском вместе с гостившей у него семьей Полонских. — Эта «Спасская жизнь являлась ему каким-то приятнейшим сном» [13] и теперь он мечтает о возобновлении ее следующим летом. Увы! Этого желанья ему осуществить не удалось.
Первоначально Тургенев полагал, что у него невралгия. Знаменитый Шарко определил у него angine de poitrine — грудную жабу. Как-то нерешительно сообщает он об этом в Россию: «Опасности болезнь не представляет, но заставляет лежать или сидеть смирно; даже при простом хождении или стоянии на ногах делаются очень сильные боли в плече, спинных лопатках и всей груди, затем является и затруднительность дыхания» [14]. Друзья в России забеспокоились, и в ряде писем Тургенев подробно описывает болезнь. «La medecine est a peu pres impuissante contre cette maladie» — сказал ему Шарко, — «надо лежать и ждать недели, месяцы, даже годы» [15]. Больше всего его огорчила невозможность определить даже время возвращения на родину.
Тургенев видимо хандрил и скучал [16].
Первые месяцы болезни протекли без всяких перемен (Если не считать случившегося с ним в начале мая мучительного припадка желчевой колики. «В самый день Вашего отъезда, любезнейший Павел Васильевич — писал Тургенев 6/18 мая 1882 г. П. В. Анненкову — я чуть не в за правду окачурился: со мной (Бог ведает с чего) сделался сильнейший припадок желчевой колики … я орал как гиппопотам и глаза у меня чуть не вылезли из орбит. Присоединившись к другим моим недугам — был с чего уложить настоящего гиппопотама»[17]. «Здоровье мое поправляется — писал он в мае М. М. Стасюлевичу, — но с медленностью, достойной Фабия Кунктатора или нашей Податной Комиссии»[18].
В конце мая больного писателя «частью перенесли, частью перевезли» [19] в Буживаль. Здесь, в усадьбе Виардо — «Les Frenes», среди роскошного парка, рядом с большим домом, в котором жила семья Виардо, стоял его шале, небольшой домик в швейцарском стиле. Долгожданный переезд не принес в начале желанного облегчения. Напротив, вдобавок ко всему, появилась междуреберная невралгия, не позволявшая даже лежать и мешавшая спать. Для облегчения болей стали прибегать к впрыскиванию морфия.
Один из лучших парижских врачей Jaccoud, к которому Тургенев, по совету д-ра Белоголового, обращается в конце июня, так же, как и Шарко, признает болезнь за грудную жабу, но прописывает строгое молочное лечение [20]. С этого времени больной начинает ежедневно потреблять огромное количество молока.
Душевное состояние его представляет картину, полную безотрадности. «Бодрость духа во мне исчезла» — пишет он теперь [21] — «человек я похеренный». Не то, чтобы он думал, что болезнь грозит ему скорой смертью. Напротив, он полагал, что жить может с ней много лет, но только «начинал убеждаться», что болезнь неизлечима. Он старается привыкнуть к этой мысли, примириться с безысходностью положения. «Личная жизнь моя прекратилась» — пишет он, — «это голый факт».
Такое настроение, конечно, нисколько не удивительно. Быть осужденным на неподвижность, когда кругом все зелено, все цветет, когда в голове столько планов и литературных, и всяческих, когда тянет в родное Спасское, а об этом нельзя и подумать, конечно, не легко. И грустные нотки появляются все чаще. «Когда будете в Спасском — пишет он 30-го мая 1882 года Я. П. Полонскому, — поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу — родине поклонитесь, которую я уже, вероятно, никогда не увижу».
* * *
Эти глубоко трогательные строки поразительно напоминают то поэтическое, обвеянное предсмертной грустью, место «Дневника лишнего человека», в котором несчастный Чулкатурин, расставаясь с жизнью, прощается с родной природой:
«О, мой сад, о, заросшие дорожки возле мелкого пруда! о, песчаное местечко под дряхлой плотиной, где я ловил пескарей и гольцов! И вы, высокие березы, с длинными висячими ветками, из-за которых с проселочной дороги, бывало, неслась унылая песенка мужика, неровно прерываемая толчками телеги — я посылаю вам мое последнее прости!.. Расставаясь с жизнью, я к вам одним простираю мои руки. Я бы хотел еще раз надышаться горькой свежестью полыни, сладким запахом сжатой гречихи на полях моей родины; я бы хотел еще раз услышать издали скромное тяканье надтреснутого колокола в приходской нашей церкви; еще раз полежать в прохладной тени под дубовым кустом на скате знакомого оврага; еще раз проводить глазами подвижный след ветра, темной струею бегущего по золотистой траве нашего луга…» («Дневник лишнего человека» [22]).
Кто говорит это — «лишний» Чулкатурин или умирающий Тургенев? Это прощание, по своему настроению, так гармонирует с состоянием души писателя во время предсмертной болезни, что его вполне можно было бы принять за строки из письма к кому-либо из близких друзей. Как-будто Тургенев вложил в него частицу тех переживаний, которые выпали на его долю через 33 года.
* * *
В июле здоровье великого писателя как-будто начинает поправляться. Сообразно с этим, и пессимизм его принимает более светлые тона. Себя он называет «приросшей к здешнему месту устрицей, которую даже съесть нельзя»[23]. От молочного ли лечения (которое вновь ему прописал, посетивший его в это время, по просьбе Полонских, д-р Бертенсон[24], или это было естественным ходом болезни, но облегчение наступило [25]. Боли стали значительно слабее, он получил возможность стоять и ходить в продолжение десяти минут, спокойно спать по ночам, спускаться в сад, даже «литературная жилка в нем зашевелилась». В этот период написана им «Клара Милич» [26].
Состояние улучшения продолжалось несколько месяцев.
В первое время после его наступления Тургенев делается бодрее. Надежда его теперь не оставляет, он надеется зимой переехать в Петербург и будущее лето провести в Спасском. В то же время у него появляется какое-то своего рода смирение. Он «ничего уже от жизни не требует, кроме отсутствия, по мере возможности, страданий». «Главный интерес дня — вечерний вист; иногда немножко музыки. Самый лучший режим для той устрицы, в которую я превратился» [27].
Но время шло, улучшение не прогрессировало, желанное выздоровление не приходило. И больной писатель больше не хочет обольщать себя надеждами. «Махнув рукой на всякую возможность выздоровления — старается жить, работать и не думать» о болезни. «Оказывается, что можно существовать, не будучи в состоянии ни стоять, ни ходить, ни ездить». Он уверяет, что примирился с этим. «Живут же так устрицы». — «Я нахожу даже, что ничего… устрицей быть недурно» — пишет Тургенев [28]. Он утешается тем, что мог бы ослепнуть, лишиться ног и т. д., а он даже работать может.
Таково настроение писателя в этот период болезни. Это не унылость, не падение духа, уверяет он своих русских друзей, это просто резиньяция, «резиньяция старческая», как говорит он в письме к Савиной, уверяя ее, что постарел на десять лет. «День пережит… и слава богу!» — цитирует он теперь Тютчева [29].
Чем дальше, тем настроение это все прогрессирует. Зимой Тургенев уже пишет, что окончательно и бесповоротно убедился в неизлечимости недуга, не питает ни малейшей надежды ни на выздоровление, ни на возвращение на родину.
В ноябре больной переезжает из Буживаля в Париж и здесь, все в том же положении, проводит зиму.
Великий писатель, в этот период болезни, по состоянию духа, выработавшемуся в результате болезни, являет сходство, и я бы сказал разительное, с одной из собственных своих героинь, с… Лукерьей — «Живыми мощами».
Смирившийся духом, не могущий ни ходить ни стоять, автор «Записок Охотника» чувствует и мыслит так же, как и седьмой годок без движения лежащая «в сарайчике» Лукерья. Она — «привыкла» к своему положению, он — «примирился» со своей неизлечимой болезнью. Покорная судьбе, окостеневшая страдалица «приучила себя не думать, а пуще того не вспоминать» и точно так же, прикованный к креслу писатель, «махнув рукой на выздоровление», старается «не думать о болезни» и хочет лишь жить «покелева богу угодно». И даже утешенье у обоих, и у автора и его героини, одно и то же: «иным еще хуже бывает», «а иной слепой или глухой! А я, слава богу, вижу прекрасно и все слышу» — говорит Лукерья. И то же самое, вслед за ней, говорит Тургенев: «Я мог бы ослепнуть, ноги могли бы отняться и т. д. А теперь даже работать можно».
Так, такие противоположные полюсы — великий писатель и бесхитростная крепостная — путем долгих и тяжких страданий, физических страданий и нравственной муки, пришли к одному миросозерцанию, одинаковым переживаниям, заговорили одним языком.
III
Всю болезнь Тургенева можно разделить на два периода. Второй — период резкого ухудшения, страшных нечеловеческих страданий — начинается в январе 1883 г.
В начале этого месяца больному была сделана операция. В нижней части живота, доктором Сегоном вырезан был давний его невром, с некоторых пор ставший болезненным [30]. Операция прошла удачно. Тургенев даже «рад, что освободился от дурацкого неврома»[31]. «Бертенсон был у нас на днях и прочел то, что Вы ему пишете», — писала Тургеневу, после операции, Ж. А. Полонская (Письма Полонских к Тургеневу неизвестны. Цитирую по отпуску, ненапечатанному, находящемуся в Пушкинском Доме). — «Я невольно подумала — Вы герой. Жаль только, что операция эта не избавила Вас от грудных болей и что, несмотря на вырезанный невром, Вы так же страдаете».
Так как его не хлороформировали, то у него осталось от операции ясное воспоминание: «Я анализировал свою боль, — сказал он Альфонсу Додэ, — чтобы быть в состоянии описать ее Вам, полагая, что это может заинтересовать Вас» [32].
До заживления раны он должен был в продолжение двух недель лежать в постели и вот в это-то время вновь стали усиливаться прежние его боли и старая болезнь разыгралась с новой, страшной и небывалой еще силой, чтобы на этот раз не выпускать его уже до самой смерти. С этого времени начинается для больного писателя полоса настоящего мученичества. «Никогда мне не было так худо» — пишет Тургенев в январе. — «Теперь уже вся грудь и спина и бока болят», даже во время лежания и сидения, «особенно жестоки ночи, спать возможно только при вспрыскивании морфином» [33].
Борьба между «невообразимо мучительным недугом и невообразимо сильным организмом» разгоралась [34]. Особенно страшными для больного месяцами были март и апрель. «Страдания дошли до такой невероятной силы» — пишет П. В. Анненков М. М. Стасюлевичу, — «что рассудок его помешался, подорванный отчасти и количеством морфия, введенного в его кровь, он требовал яда, просил смерти, прогнал от себя наиболее близких ему лиц, называя их всех заговорщиками, свершающими над ним легальное убийство, и называя m-me Viardot страшной женщиной, перещеголявшей леди Макбет».
«К физическим мучениям присоединилось еще и психическое расстройство — писал в апреле, один из лечивших Тургенева врачей, доктор Гирц д-ру С. П. Боткину, — выраженное смутными представлениями о преследовании, страстным враждебным отношением ко всем окружающим его лицам, систематическим недоверием к своим самым преданным друзьям. Время от времени у больного являются помыслы о самоубийстве и даже человекоубийстве»[35]. Доктор Н. А. Белоголовый, исследовавший Тургенева несколько раз, также отмечает уклонение в его психике. В мае 1883 г. больной удивил его, высказав убеждение, что причина его болезни в том, что он отравлен, рассказал длинную, весьма фантастическую и нелепую до крайности историю отравления и на все доводы и возражения твердил: «поверьте, это так, я уж знаю».
Желавшая посетить его, в апреле, русская дама застала на дворе суматоху: «Ночью сделался припадок с Тургеневым, как говорили в доме, сумасшествие» [36].
То был обычный для него, во время страданий, бред.
Кризис, как бы то ни было, миновал. «С ужасом и со слезами он вспоминал о нем, помня все его подробности и прибавив, что если когда-нибудь он возвратится к литературной деятельности, то опишет физические страдания, приводящие к безумию. «Я был на дне моря и видел чудовища и сцепления безобразнейших организмов, которые никто не описывал, потому что никто не воскресал после таких спектаклей» [37].
«Все это время мне было так плохо — пишет 11-го апреля, после полуторамесячного перерыва, Ж. А. Полонской Тургенев, — что я начинаю думать: «не конец-ли?» Третьего дня, ночью, у меня прорвался какой-то кровяной, внутренний, кровяно-гнилостный нарыв, и с тех пор мне полегче». То же самое пишет он и Анненкову 7-го апреля: «Плохо было, очень плохо, Павел Васильевич! Мое оранье слышалось, кажись, на всю улицу. Но вот, третьего дня прорвался какой-то внутренний кровяно-гнилостный нарыв, пошла кровь с гноем и мне теперь относительно полегче» (печатается впервые). «Мне кажется, что недель шесть голова моя была в каком-то тяжелом тумане до тех пор, пока меня не перевезли сюда», говорил Тургенев д-ру Белоголовому в мае, уже в Буживале, куда его вновь перевезли из Парижа.
Заметим, что именно теперь почувствовал великий писатель смерть, с этого времени она рисуется ему в образе смерти-избавительницы. В апреле, посетившей его русской даме [38] бледный, как смерть, и точно вылитый из воска, лежащий, по выражению рассказчицы, как опрокинутый дуб, он рассказал, что чувствует, что умирает. Теперь он мог бы сказать словами одного из своих героев: «смерть уже приближается с возрастающим громом, как карета ночью по мостовой: она здесь, она порхает вокруг меня, как то легкое дуновенье, от которого поднялись дыбом волосы у пророка» [39].
В мае, сообщая Полонским, что болезнь все усиливается, страдания постоянные, невыносимые, надежды никакой, он пишет: «жажда смерти все растет и мне остается просить вас, чтобы и вы с своей стороны пожелали бы осуществления желания вашего несчастного друга».
С переездом в Буживаль наступило некоторое облегчение, но и теперь, в пароксизмах боли, он страдает невыносимо, его схватывает и держит в каких-то гигантских тисках и в эти минуты он кричит так, что слышно в рядом стоящем доме Виардо.
Болезнь медленно, но верно точила силы больного.
Жестокие страдания отразились и на его наружности. Навестивший его в Буживале художник Верещагин был поражен, увидев великого писателя не могучим великаном, как прежде, величественным, с красивой головой, а лежащим на кушетке, свернувшись калачиком, каким-то небольшим, тощим, желтым, как воск, с ввалившимися глазами и мутным взглядом. «Я страдаю так, что по сту раз в день призываю смерть. Я не боюсь расстаться с жизнью», вот что услышал он от него [40].
В июне и июле продолжалось то же. У окружающих он несколько раз просил яду, говорил, что почитает себя умирающим [41].
В конце июля наступило как будто небольшое облегчение. Посещавшим его в это время казалось даже, что он поправится. «Теперь я сам уверен — сказал Тургенев 31-го июля М. М. Стасюлевичу, — что проживу еще месяца три» [42]. Как ни печальны эти слова, но они оказались слишком оптимистичными: «его сил в борьбе с отчаянной болезнью достало только на три недели».
За две недели до кончины, он продиктовал m-me Виардо свой последний рассказ «Une fin» — «Конец». «Дней за пятнадцать до своей кончины он велел позвать меня к постели — рассказывает она[43]. — Он сказал мне, со слезами на глазах, что хочет просить у меня большой услуги, которой никто другой в мире, кроме меня, не может оказать ему: «Я хотел бы написать рассказ, который у меня в голове, но это слишком утомило бы меня, я не смог бы». Он продиктовал рассказ на разных языках, по мере того, как находил подходящие слова и обороты фраз, которые лучше и скорее выражали его мысль, a m-me Виардо излагала все по-французски. После нескольких коротких сеансов, рассказ был окончен.
За неделю до смерти наступило вновь ухудшение; припадки возобновились с прежней силой. Когда, за пять дней до смерти, навестил его Мопассан, он сказал ему: «дайте мне револьвер, они не хотят мне дать револьвер, если вы дадите мне револьвер, вы будете моим другом» [44].
В четверг, 18-го августа, начался бред. В субботу умирающий простился со всеми, но затем впал в бессознательное состояние, продолжавшееся уже до самой смерти.
В воскресенье им стало овладевать возбуждение, постепенно усиливавшееся. Он начал говорить с окружавшей его семьей Виардо по-русски, так что только кн. А. А. Мещерский, находившийся у его постели с утра воскресенья, и отчасти m-me Виардо могли понимать его слова [45]. «Веришь ли ты мне, веришь, — говорил он, обращаясь к зятю m-me Виардо — Шамеро — я всегда искренно любил, всегда, всегда, всегда был правдив и честен, ты должен мне верить… Поцелуй меня в знак доверия… Я тебе верю, у тебя такое славное, русское, да, русское лицо». Речи его начали становиться бессвязными. «Ближе, ближе ко мне — говорил он, вскидывая веками во все стороны и делая усилия обнять дорогих ему людей: пусть я всех вас чувствую тут около себя… Настала минута прощаться… прощаться… как русские цари… царь Алексей… царь Алексей… Алексей второй… второй». На одну минуту больной узнал Виардо, которая пододвинулась к нему ближе, он встрепенулся и сказал: «вот царица цариц, сколько она добра сделала!» Потом обратился к ее замужней дочери, стоявшей на коленях у изголовья, и стал ей внушать, все же говоря по-русски, как она должна воспитывать сына: «пусть он и непоседливый, непоседливый, непоседливый мальчишка, лишь бы был честным, хорошим, хорошим»… У него стали прорываться простонародные выражения. Впечатление получалось такое, будто он представляет себя умирающим русским простолюдином, дающим напутствования и прощающимся с чадами и домочадцами».
Последними словами умирающего были: «Прощайте, мои милые, мои белесоватые» [46].
«В понедельник утром опять появились признаки возбуждения, выражавшиеся уже не в речах, а в движениях и жестах больного: рот его часто косило влево, дыхание не приподнимало более груди, а отражалось в одной лишь диафрагме, пульс стал до того неровен, что никак нельзя было высчитать среднего биения, а по временам совсем упадал»[47]
Около двух часов он начал дышать с необыкновенной силой и хрипом, делая усилия приподняться, лицо его передернулось, брови насупились, из горла и рта вырвались полусдавленные восклицания: «А-а!» Так прошло несколько минут. Ровно в 2 часа дня руки его вытянулись с последним глубоким вздохом, голова безжизненно откинулась на подушку.
Великого писателя не стало.
«Черты лица приняли тотчас спокойный, но необыкновенно ласковый и мягкий отпечаток». «Он был дивной красоты на смертном одре, — пишет дочь m-me Виардо, Марианна Дювернуа [48]. — Его прекрасное лицо, столь похудевшее и изменившееся, приняло выражения спокойствия и улыбки, как при жизни».
«Он никогда при жизни не был так красив, можно даже сказать, так величествен» — вспоминает М. М. Стасюлевич — «следы страдания на второй день исчезли совсем, распустились и лицо приняло вид глубоко задумчивый, с отпечатком необыкновенной энергии, какой никогда не было заметно и тени при жизни, на вечно добродушном, постоянно готовом к улыбке, лице покойного».
IV
Смерть-избавительница освободила Тургенева не только от страданий физических; она положила предел и тем тяжелым душевным переживаниям, которые, перед лицом неведомого, не могли не поглощать его.
Писатель, в течение всей жизни не перестававший думать о великой загадке, всю жизнь чувствовавший страх перед страшной, неизбежной силой, угнетаемый ее неотвратимостью, не мог не перечувствовать, не перестрадать многого, когда эта «старуха», посещавшая до сих пор лишь его близких, подошла вплотную и к нему, — другими словами, когда смерть, из области лишь обсуждаемого, правда, уже давно и со страхом ожидаемого, но такого, в сущности, далекого, стала реальностью и, что самое страшное, отчетливо сознаваемой.
В душе его, не верующего человека, не могшего, хотя, может быть, и желавшего в религии найти утешение, — человека, для которого естественность смерти была страшнее всего, должно было что-то шевельнуться, произойти что-то новое.
Да, он, всю жизнь смерти боявшийся, встретил ее не с усугубленным страхом от ее близости, как этого можно было ожидать, а спокойно и мужественно, без всякого страха.
В душе великого писателя на смертном одре произошел перелом.
И если до сих пор в нем все еще жила душа того девятнадцатилетнего мальчика, который на горящем пароходе, в смертном страхе, взывал о спасении, то теперь это душа кроткой страдалицы Лукерьи.
Смерть переменила для него самый свой образ. Она уже для него не та — ибо он сам уже не тот. Призывающий ее, эту всепоглощающую силу, в минуту страшных страданий, — он и в минуты отдыха от боли не цепляется малодушно за жизнь, в эти минуты он просто спокоен. Человек, скованный долгой болезнью и спокойно говорящий о том, что жизнь его исчисляется днями, разве это тот Тургенев, который малодушно, по его выражению, «поджимал хвост» при одном известии о холере. Нет, это уже не тот. Это новый Тургенев, немощный телом и великий душой.
Близость смерти, этой высокой, тихой, белой женщины в длинном покрове, с никуда не смотрящими глубокими бледными глазами, примирившей его уже раз с когда-то коротким, близким другом [49], внесла теперь примирение в его собственную душу.
Уже одно его знаменитое предсмертное письмо к Толстому это доказывает [50]. Каждое слово этой, писанной карандашом, слабеющей рукой, записки, дышащей такой любовью, таким примирением, глубоко проникнуто его предсмертным настроением.
Отречение от всего земного так и сквозит в ней. Писатель, стоящий одною ногой в гробу очевидно явственно сознает, что лишь дни отделяют его от того мира неведомого, разгадать загадку которого он пытался с юношеских лет. Для него более не существует прежнего его девиза «grefen ins voile Menschenleben», ибо самая эта Menschenleben должна казаться ему слишком мелкой, слишком суетной и ничтожной; он выше ее, он поднялся до высот, достигнуть которых удел немногих, удел лишь избранных.
V
У нас часто говорят о тяжелых условиях, одиночестве, чуть ли не заброшенности, в которых будто бы находился Тургенев во время предсмертной болезни.
С этим согласиться никак нельзя.
Да, наш великий писатель умирал не среди родной семьи, но ее ведь он никогда не имел и всю жизнь прожил, приютившись на «краешке чужого гнезда». Нам кажется, что это гнездо, особенно в последние годы жизни, когда он жил в нем, окруженный любимой им семьей m-me Виардо, не было таким чужим, как его рисуют.
Не пытаясь разрешить в настоящей статье вопроса об отношениях Тургенева к Виардо вообще, а говоря лишь о предсмертном периоде его жизни, нужно признать, что в долгие и тяжелые месяцы болезни оно оказалось на высоте. Уход за больным писателем был, не только по его словам, но и по свидетельству лиц, несомненно беспристрастных, прекрасным.
К таким выводам мы пришли несмотря на то, что печатаемые нами ниже два неизданные документа рисуют совершенно обратную картину. Документы эти — письма А. Ф. Онегина, — в то время приближенного к Тургеневу лица — к П. В. Аненкову [51]. Вследствие важности этих писем позволяем себе привести их почти полностью.
31/III 83. «Многоуважаемый Павел Васильевич! Я бы хотел Вам сказать по русски: голубчик Павел Васильевич, что нам делать?! Вряд ли придется мне писать Вам еще под диктовку Ивана Сергеевича, а я знаю, я помню, что Вы из лучших друзей его. Он говорил мне когда-то, когда любил меня сильнее, что, умирая, призовет, конечно, M-me Виардо, а затем лишь Вас и меня. Случай привел меня быть, бывать около него по нескольку минут в день, по нескольку минут лишь, а остальное время он на руках женщин и слуг… Правда, он нас и не хочет, ничего не хочет, просит лишь смерти, а ведь как боялся ее!.. Неужели так должен умирать — сохрани боже! — наш друг, наша русская народная слава? Он в какой то темнице, куда доступ затруднен даже мне… Две, три знаменитости медицины призывались на совет, конечно, но лечит постоянно, не веря сам в свои средства, не понимая кто и что такое больной, какой то темный жидок французский (немецкий?) Hirtz. В нижнем этаже еле дышет старик Виардо: лечат гуртом…»
Второе письмо:
Paris 19/IV. «Знаменитый Шарко, друг по… [52] убийца Бруардель [53] и полнейшее невежество — незнание — убийца жид Гирц[54] доведши до галлюцинаций, подписали сегодня на консультации, не ими самими написанный совет не принимать никого в продолжении нескольких дней (??), а в эти несколько дней, продолжая вспрыскиванье, быть может, убьют окончательно»[55].
Мы знаем, что и на некоторых посетителей больного Тургенева обстановка, в которой он находился в Париже, производила тяжелое впечатление. М. Г. Савина, бывшая там в самом начале болезни писателя, в письме к Я. П. Полонскому [56] пишет: «При всем желании видеть Ивана Сергеевича каждый день, я лишаю себя (а, может-быть, и его) этого удовольствия. Обстановка мне очень не понравилась и мне тяжело бывать там».
Письма Онегина и Савиной рисуют печальную картину. Но рядом с этим ряд других лиц, не доверять которым нельзя, свидетельствуют о прекрасной обстановке и заботливом уходе, которыми больной был окружен.
Савина, по приезде в Петербург, рассказала о своем впечатлении Полонским, повидимому, сильно сгустив краски. Последние, как искренние друзья писателя, забеспокоились, и Тургеневу, в письмах, приходится их успокаивать: «Савина — чудачка. Из всех моих 4 комнат она видела только одну — спальню, которая не меньше и не ниже обыкновенных парижских спален. Музыка подо мной не только не надоедала мне, но я даже истратил 200 фр. для устройства слуховой длинной трубы, чтобы лучше ее слышать» [57]. «Жалеть обо мне можно было только потому, что я болен, и кажется неизлечимо; во всех других отношениях я как сыр в масле катался. То же и теперь продолжается здесь (в Буживале): и болезнь неизлечимая, и всевозможные за мной уходы и удобства». А в одном из предыдущих писем он пишет: «Что же касается до ухода за мной, то он, как Гоголевские индюшки, — даже противно смотреть, как это все обильно и жирно».
Думается, что Тургенев был искренен. По крайней мере, такой беспристрастный человек и друг, как М. М. Стасюлевич, подтверждает это, рассказывая, как он был «свидетелем тех самых нежных забот, которыми был окружен наш больной. Мучения и боли делали его, естественно, нетерпеливым и в высшей степени раздражительным, — пишет он, — и надобно было иметь неистощимый запас терпения и спокойствия, а вместе и привязанности к страдальцу, чтобы охотно и без утомления следить за каждым его движением, уступать его желаниям и вместе настаивать на исполнении предписаний доктора, редко приятных больному» [58].
Доктор Н. А. Белоголовый свидетельствует, что «пребывание Тургенева в Буживале было обставлено редким домашним комфортом» и что «уход за собой семьи Виардо Иван Сергеевич сам признавал идеальным и не мог им достаточно нахвалиться». Точно так же и Людвиг Пич, в своих воспоминаниях [59], говорит: «семья его друга (Луи Виардо), умершего несколькими месяцами раньше, неутомимо исполняла тяжелые обязанности ухода за ним».
Наконец П. В. Анненков, долголетний, лучший и верный друг Тургенева, писал ему — 31-го марта 1883 г.: «От души кланяюсь всей семье m-me Виардо вас окружающей. Что за честные и любящие сердца», а в другом письме — 30-го июня 1883 г.: «Передайте слово благодарности и просьбу о воспоминании всем членам семейства Виардо, которые так вас любят и берегут».
Эти строки, печатающиеся здесь впервые [60], имеют для нас неизмеримое значение. Помимо того, что они принадлежат Анненкову, несомненно беспристрастному другу, самому побывавшему у больного и видевшему окружавшую его обстановку, важно то, что именно ему адресованы оба письма Онегина, напечатанные выше. Второе письмо Анненкова написано уже после получения им писем Онегина — таким образом, мы видим, как отнесся Анненков к его обвинениям. И мы, конечно, не можем отнестись к ним иначе.
Письма Онегина, производящие такое тяжелое впечатление, направлены против Виардо. Именно m-me Виардо имеет он в виду, говоря во втором письме, что врачи «подписали на консультации не ими самими написанный совет не принимать никого в продолжение нескольких дней». И в первом письме он пишет: «он в какой то темнице, куда доступ затруднен»…
Лучшим опровержением этого является собственное письмо m-me Виардо (печатается нами впервые) к тому же Анненкову, написанное почти одновременно с вторым письмом Онегина, в котором она сама его просит посетить больного.
Вот это письмо:
50. Rue de Douai. 14 Avril (1883) «Cher Monsieur. Notre pauvre ami m-r Tourgueneff est bien malade. II m'a dit, il у a quelque temps, que Vous comptiez aller en Russie et je viens Vous prier de venir auparavant le voir. Faites cela, je Vous en prie, car Dieu sait si Vous le retrouverez.
Recevez, cher Monsieur, mes souvenirs bien affectueux. P. Viardot.
Mon mari est tres malade depuis 3 mois. Ah, je Vous assure que nous sommes bien malheu-reux dans la maison, je Vous assure».
Уже одно это письмо, дышащее заботливостью о больном, показывает с какой осторожностью нужно относиться к письмам Онегина.
И так мы не придаем им значения — свидетельства Анненкова, Стасюлевича, Белоголового, Пича и самого Тургенева заставляют нас признать, что больной был окружен тщательным уходом.
Но чем же продиктованы, в таком случае, письма Онегина?
По нашему мнению — исключительно враждой к m-me Виардо, вызванной личными счетами.
А. Ф. Отто, человек с темным прошлым, впоследствии переменивший фамилию и ставший Онегиным, сумел, в последние годы жизни Тургенева, мягкого, всем доверявшего, стать приближенным к нему человеком. Трезвая и лучше разбиравшаяся в людях m-me Виардо чрезвычайно отрицательно относилась к Онегину [61]. Против него были выдвинуты какие то обвинения (впоследствии m-me Виардо обвиняла его в присвоении ее интимной переписки) и Онегин удалился из Буживаля. Конечно, он яростно ненавидел m-me Виардо и естественно, что в письмах к друзьям Тургенева ему хотелось изобразить обстановку, в которой находился Тургенев в доме Виардо, в самых мрачных красках [62].
* * *
Таким образом приходится признать, что Тургенев во время болезни был окружен и нежными заботами и тщательным уходом семьи, с которой он прожил всю свою жизнь, и что о какой-либо покинутости или заброшенности не может быть и речи [63].
Чем же объяснить, в таком случае, те рассказы (например, Савиной), которые стремятся изобразить иную картину?
Нужно различать две причины. С одной стороны, конечно, в комнатах его парижской квартиры (в верхнем этаже дома, занимаемого m-me Виардо), в которых видела его Савина в начале болезни, действительно заметны были, как мы знаем по воспоминаниям А. Ф. Кони, и следы неряшливости и отпечаток беспорядка, так часто встречающиеся в комнате старого холостяка (Если такое впечатление могли произвести парижские комнаты Тургенева, то дача его в Буживале, где протекала большая часть болезни, наоборот, обращала внимание своим комфортом. «Насколько тесно и скромно было парижское помещение Ивана Сергеевича — пишет Е. Апрелева-Ардов[64], — настолько просторной, изящной, изысканно-уютной и художественно обставленной была его дача «Les Frenes», где он проживал большую часть года»).
Но есть и другая причина, нам кажется, более важная. Это — чувство, которое питали некоторые русские его друзья к Виардо — я позволил бы себе назвать его ревностью, — а вместе с тем и коренное непонимание самых отношений Тургенева к этому семейству.
Сохранившиеся в архиве Полонских (находящемся в Пушкинском Доме) отпуски писем к нему Ж. А. Полонской (никогда не бывшие в печати) дают этому яркие доказательства.
Например, в письме от 12-го октября 1882 г., она пишет ему: «Я никогда не сомневалась в Вашей доброте, знаю, что каждому Вы готовы помочь, кто только руку за помощью протянет к Вам. Но к тем, которые Вас искренно любят, Вы не всегда добры — часто старались их отдалить от себя и Ваша душа была всегда для них закрыта… Вы верите только одному семейству, и это семейство для Вас заключает весь мир… Но на Вашу заграничную привязанность никто не в праве роптать — если бы только Вы понимаете (понимали?!) насколько Вы можете быть дороги тем из русских, которые любят Вас» [65]…
И Тургеневу приходится уверять своих русских друзей, ревнующих его к французским, в своей любви. «Прошу Вас быть уверенной — писал он 17-го июня 1882 г. Ж. А. Полонской, — что, как ни дороги и близки мне мои здешние друзья, русские друзья столь же мне дороги».
Это ревнивое чувство легко объяснимо. Естественно, что эти друзья, любившие в нем, в личных отношениях — друга, а как русские люди — великого писателя, среди которых были такие, как Я. П. Полонский, уверявший в письме к художнику Боголюбову (ненапечатанном), что «охотно взял бы на себя страдания Тургенева и умер бы за него» [66], должны были питать неприязненное чувство к французской семье, отнимавшей от них и как бы поглотившей, если можно так выразиться, их великого друга [67]. Они забывали при этом, что эта семья, хоть и французская, хоть и не понимавшая его последних русских слов, была для русского писателя самой дорогой во всем свете. Вспомним, не входя в оценку этого факта, что дочерей m-me Виардо Тургенев любил больше своей собственной дочери. И если не было около него, в последние минуты, близкого русского человека, то самые близкие для него люди около него были. Мне думается, что умирай Тургенев в родном Спасском, он чувствовал бы себя более одиноким, чем в Буживале. Душой он был бы там.
Мне хочется этим лишь подчеркнуть, что в семье Виардо великий писатель умирал среди самых дорогих для него во всем мире людей [68].
То же самое вспоминает и М. Островская: «Меня часто упрекают — сказал нам Тургенев, — что я живу заграницей, обвиняют меня в недостатке патриотизма, в космополитизме и т. д. Дело просто в том, что я привязался к семейству Виардо и так их люблю, что живи они в Стерлитамаке — я жил бы в Стерлитамаке; они живут в Париже и я живу в Париже»… [69].
Если никак нельзя согласиться с тем, что Тургенев перед смертью был одинок, заброшен, в тяжелых условиях, то нужно все же признать печальный факт изолированности его от России и всего русского. Говоря так, я вовсе не хочу обвинять в том m-me Виардо и ее семью [70]. И без всяких искусственных причин, такая изолированность естественно должна была возникнуть от того, что наш великий писатель умирал за несколько тысяч верст от России, в маленьком французском местечке, и в последние месяцы жизни не был даже в состоянии переписываться со своими русскими друзьями. При таких условиях, общение писателя с Россией поддерживалось (если не считать изредка навещавших его русских) лишь приходившими оттуда газетами.
А желание побывать на родине было у автора «Дыма» очень сильно. Сознание невозможности его осуществления доставляло ему, конечно, не мало горечи. «Меня не только тянет, меня рвет в Россию — да ты все-таки сиди!» — писал он в ответ на призывы вернуться на родину. Эти настойчивые призывы друзей, не сознававших его истинного положения, еще более растравляли, и без того болезненную, рану. «Ни о каком путешествии думать нельзя — писал он еще в начале болезни Ж. А. Полонской. — И потому будьте так добры, не зовите меня в Спасское… Это только больше мучит меня» [71].
Эти, связанные с болезнью, переживания несомненно прибавляли к страданиям физическим и муку душевную. И, отбрасывая в сторону всякие обвинения против окружавших его лиц, отрицая утверждения о его заброшенности и одиночестве, этой муки отрицать нельзя.
Смерть Тургенева не только была нелегкой, без преувеличения ее можно назвать страшной.
И, может-быть, его «глухой страх» был только предчувствием, смутным страхом страданий, бессознательным инстинктом и инстинктом не обманувшим.
VI
«Смерть имеет очищающую и примиряющую силу», — говорит Тургенев в статье о Гоголе, — «клевета и зависть, вражда и недоразумения — все смолкает перед самой обыкновенной могилой».
На этот раз, может-быть, потому, что могила не была обыкновенной, ничего не смолкло — ни клевета, ни зависть, ни вражда, ни недоразумения и, на ряду с силой примиряющей и объединяющей, широко разлившейся и захлестнувшей даже самые мелкие углы, волной скорби и любви к ушедшему, на ряду с этим вокруг гроба ярким пламенем разгорелась яростная борьба страстей.
«Над незакрытой еще могилой поэта, у его свежего трупа, происходит настоящая свалка» — такими словами начинается выпущенная партией Народной Воли, по поводу смерти Тургенева, прокламация [72].
Свалка — слово слишком резкое для охарактеризования того, что происходило вокруг этой смерти, но следует, во всяком случае, признать, что она была превращена в орудие политической борьбы.
На завтра же, после отпевания тела Тургенева в Париже, П. Л. Лавров опубликовал в газете «Justice», редактором которой состоял знаменитый Клемансо (в то время социалист), письмо, в котором сообщал, что Тургенев, по собственной инициативе, предложил ему содействовать изданию революционного органа «Вперед» и с этой целью, в течение трех лет, вносил по 500 фр. ежегодно. Письмо Лаврова, сообщившего, как мы теперь знаем, про действительный факт [73], преследовало, конечно, политические цели. Политические же цели преследовал и Катков, без всяких комментариев перепечатавший письмо Лаврова в своих «Московских Ведомостях» (№ 251). Письмо произвело сенсацию. «Много делается тут невероятного по поводу смерти Тургенева», — писал М. М. Стасюлевич своей жене (Стасюлевич и его современники. Т. III, стр. 238). Почти все петербургские газеты перепечатали письмо, но ни одна из них не верила ему, считая сообщение Лаврова лживым и отрицая самую возможность факта [74]. Стасюлевич выступил с письмом в редакцию «Новостей» (№ 164), в котором энергично обрушился как на Лаврова, так и на Каткова. Он утверждал, что письмо Лаврова (в лживости его он убежден) является лишь «искусным маневром», рассчитанным на действие его в России; цель его — вызвать «распоряжения, которые огорчат все образованное общество в России и в Европе», что желательно для Лаврова. Цель Каткова, «позаботившегося опубликовать это письмо поближе ко времени встречи тела Ивана Сергеевича», — ясна.
Такая позиция всей нашей прессы не осталась без ответа со стороны нелегальной, революционной печати. Резко нападал на нее Л. Тихомиров в «Вестнике Народной Воли». «Иван Сергеевич не был ни социалистом, ни революционером, — писал он, — он даже едва ли понимал с должной ясностью социализм вообще и русское социально-революционное движение в частности. Многим чертам последнего он не сочувствовал. Но тем характернее является его сочувствие движению в общем, как оппозиция против державного деспотизма. Факт этого сочувственного отношения, доходивший иногда даже до содействия, теперь на все лады отрицается и затирается запуганной и приниженной легальной прессой. Из мелких, малодушных побуждений деятели этой прессы, даже пользующиеся репутацией порядочности, позволяют себе зачеркивать в жизни Тургенева ту долю политического чутья и гражданского мужества, которая у него на самом деле всегда была» [75].
Последние строки несправедливы. Отрицая сообщенный Лавровым факт, Стасюлевич и люди его лагеря действовали, будучи глубоко убежденными в его лживости. Да и могли ли они ему поверить, когда еще только за три года до того Тургенев, в своем ответе «Иногороднему обывателю» — Болеславу Маркевичу [76], характеризовал себя как «постепеновца», либерала в английском смысле, человека, ожидающего реформ только свыше, принципиального противника революций?
А за полтора года до смерти, в письме в редакцию «Gaulois» [77], по поводу сообщения этой газеты, что он неоднократно спасал Лаврова от высылки, он писал: «Спасать г. Лаврова я никогда не имел ни возможности ни случая, а наши политические убеждения до такой степени несходны, что в одном из своих сочинений г. Лавров формально упрекнул меня за то, что, как либерал и оппортунист, я всегда противился тому, что он называл развитием революционной мысли в России»[78].
Резко и непримиримо подходит к делу прокламация Партии Нар. Воли: «Забитые в угол либералы пытаются протестовать против такой узкой постановки вопроса (против утверждения правого лагеря, что Тургенев был лишь художником-поэтом и ничем больше) — но, с другой стороны, им ужасно хочется прицепиться к такому удобному случаю, как погребение Тургенева, и отвести свою наболевшую либеральную душу хотя бы в грандиозной демонстрации легального свойства. Они дрожат и трусят, как бы кто не вырвал у них из рук этого предвкушаемого наслаждения, и с пеной у рта ополчаются поэтому на Лаврова, опубликовавшего известное письмо, клянутся всеми существующими клятвами в чистоте своих помыслов и намерений [79]. Они забывают при этом даже то, что Тургенев, видя угнетение русской печати, не мог не сочувствовать свободному слову».
Опасения, что письмо Лаврова вызовет правительственные репрессии, действительно существовали у Стасюлевича. «Сегодня была панихида по Тургеневе в Казанском соборе», — писал он 10 сентября своей жене, — «церковь была переполнена, но не было никого ни из высшего общества, ни из правительственных сфер. Лавров может теперь сказать, что он торжествует: его хитрость ему удалась вполне, т. е. ему поверили, несмотря на то, что во всем другом ему же не поверили бы».
Газета Каткова, у открытого гроба сводившего с покойным старые счеты (в продолжение почти трех недель, вплоть до выступления с перепечаткой письма Лаврова, «Московские Ведомости» не проронили о смерти Тургенева ни одного слова), не могла быть равнодушной свидетельницей чествования памяти великого писателя и нисколько не скрывала своей злобы. «Умер Тургенев, — пишется в неприличной по тону статье (№ 247), — и всевозможные прихвостни либерализма накинулись на его еще не закрытую могилу, громко требуя поминального угощения». «Все, что у нас прияло известную печать лже-либерализма, сорвалось с мест, носится и мечется, стараясь из всех сил показать свою непосредственную близость к автору «Отцов и Детей» и потребовать своей доли в воздаваемых его памяти чествованиях».
Нововременские журналисты доказывали, что Тургенев имеет значение лишь как художник-поэт. Другой крайний легерь, народовольцы, в своей прокламации дают правой прессе по-своему резкий, но горячий ответ: «Умер Тургенев — они и его привлекают в свои жирные объятия, и его торопятся отделить ревнивой стеной от всякой злобы дня, от русской молодежи, от ее идеалов, надежд и страданий; лицемерно преклоняясь перед ним, лицемерно захлебываясь от восторга, они силятся доказать, что он был художник-поэт и ничего больше, пропагандист отвлеченной от жизни красоты и правды, и что в этом, будто бы, и заключается его великое общественное значение». Для них же — русских революционеров, оно не в том: «Не за красоту слога, не за поэтические и живые описания картин природы, наконец, не за правдивые и неподражаемо талантливые изображения характеров вообще — так страстно любит Тургенева лучшая часть молодежи, а за то, что он был честным провозвестником идеалов целого ряда молодых поколений, певцом их беспримерного чисто-русского идеализма, изобразителем их внутренних мук и душевной борьбы». «Барин по рождению, аристократ по воспитанию и характеру, «постепеновец» по убеждениям, Тургенев, быть-может, бессознательно для самого себя своим чутким и любящим сердцем сочувствовал и даже служил русской революции» [80]. «Покойный не был никогда ни социалистом, ни даже революционером, — писал Л. Тихомиров [81], — но русские социалисты-революционеры не могут забыть, что горячая любовь к свободе, ненависть к произволу самодержавия и к мертвящему элементу оффициального православия, гуманность и глубокое понимание красоты развитой человеческой личности постоянно одушевляли этот глубокий талант и еще более усиливали его общественное значение».
Таковы две диаметрально-противоположные оценки двух крайних полюсов русской общественности 80-х годов. Какое же значение придавал смерти великого писателя третий лагерь, те либералы, которым так попадало и справа и слева, но которые больше всех имели право считать Тургенева своим?
«Смерть великого писателя — событие в истории века», говорили эти, наиболее близкие Тургеневу, люди [82]. И для них, для них скорей чем для кого бы то ни было, он, вместе с поэтом, и мыслитель и гражданин. «Протестуя против попыток стушевать или исказить одну сторону деятельности Тургенева» — писал «Вестник Европы» [83], — «мы не намерены утверждать, что тенденциозность была его господствующей чертой, что прежде всего и больше всего он был человеком партии или политической группы. Прежде всего он был художником, но это еще не значит, что он был только художником». И среди всей направо и налево выражавшейся в те дни скорби, наиболее глубокой, наиболее искренней была скорбь этого лагеря, смерть вырвала одного из их рядов.
Так реагировали на кончину великого писателя враждующие партии.
Как отнеслось к ней правительство?
17-го сентября всем петербургским газетам был разослан секретный циркуляр (№ 3359) министерства внутренних дел: «не сообщать решительно ничего о полицейских распоряжениях, предпринимаемых по случаю погребения И. С. Тургенева, ограничиваясь сообщением лишь тех сведений по этому предмету, которые будут опубликованы в оффициальных изданиях» [84]. А распоряжения эти были предпринимаемы в изобилии. «Сколько гадостей, сколько мерзостей и не перескажешь, а писать так никогда не кончишь», — писал жене своей М. М. Стасюлевич, на долю которого выпало сопровождать тело Тургенева от границы до Петербурга. Препятствия ставились на каждом шагу. «До сих пор запрещено извещать станции о том, что завтра едет тело, — писал он, за два дня до похорон, — а на вопрос «когда?» отвечают «еще неизвестно». Не желают, чтобы по дороге чествовали Тургенева». 21-го сентября Департаментом Полиции телеграфно было приказано псковскому губернатору, виленскому генерал-губернатору и начальнику жандармского управления: «в виду предстоящего на днях по линии Вержболово — Виленской — Петербургской провоза тела покойного писателя Тургенева… принять без всякой огласки, с особой осмотрительностью меры к тому, чтобы… не делаемо было торжественных встреч» [85]. «Если бы я описал подробности этих трех дней в Вержболове лет через 20, — писал М. М. Стасюлевич, — не поверят, что все это было возможно».
Все это заставляет его воскликнуть: «Ведь можно подумать, что я везу тело Соловья-разбойника!» В этих нескольких словах весь ответ на поставленный выше вопрос об отношении правительства к смерти Тургенева.
«Вот великий руссификатор», — думал Стасюлевич, глядя на огромные, объединенные общей скорбью, толпы людей разных национальностей, на всех станциях, даже ночью, выходивших встречать тело Тургенева. «Соловей-Разбойник» — как бы отвечало правительство, для эскортирования тела приставившее жандармского офицера.
Это отношение проявлялось во всем. Решение петербургской Городской Думы оказать Тургеневу почесть, которой еще никто не удостаивался в России — похоронить его на счет города Петербурга [86], было опротестовано градоначальником, ген. Грессером [87]. Вследствие отмены присутствием по городским делам, согласившимся с протестом градоначальника, решения Думы и жалобы последней в Сенат, началось дело. Тем временем Похоронная Комиссия Литературного Фонда, сдавши отчет об израсходовании ассигнованной на похороны суммы, предложила Думе организовать Комиссию по устройству надгробного памятника Тургеневу, делегировав в нее представителя Думы [88]. В ответ на это, Городская Управа сообщила (19 января 1884 г., № 3394), что «в виду отмены присутствием по городским делам постановления Думы об ассигновании денег на расходы по погребению тела покойного И. С. Тургенева и в виду того, что на упомянутое постановление присутствия по городским делам, Городским Управлением подана жалоба Правительствующему Сенату, Городская Управа не находит возможным, впредь до разрешения упомянутого дела Сенатом, возбуждать в Городской Думе вопрос об избрании Комиссии для указанной Комитетом цели»[89].
Долго бы пришлось Комиссии ждать, если бы она не соорганизовалась без представителя Думы, ибо дело, переходя из инстанции в инстанцию, тянулось 12 лет и, не решенное по существу, было по формальным основаниям прекращено [90].
Так постыдно кончилась печальная повесть о том, как Городское Общественное Самоуправление столицы России хотело оказать великому русскому писателю высокую честь общественных похорон, и что из этого вышло.
«Бедный, бедный Тургенев! — писал М. М. Стасюлевич жене из Вержболова, — прости им их прегрешения вольные и невольные: не ведят бо, что творят».
Примечания
1) При первом известии о серьезной болезни Тургенева Толстой написал ему глубоко трогательное письмо, поражающее всякого, кто знает историю отношений Тургенева и Толстого.
В 1878 году, уже после последовавшего между ними примирения, после того, как Тургенев вновь побывал в Ясной Поляне, вновь почувствовал руку Толстого в своей руке, Толстой писал Фету: «Получил от Тургенева письмо и, знаете, решил лучше подальше от него и от греха. Какой-то задира неприятный» (Фет. «Мои воспоминания», II, стр. 358).
Но как только Тургенев заболел опасной и мучительной болезнью, Толстой почувствовал, как этот «задира» ему дорог. Позволяю себе привести это письмо, почти совершенно неизвестное (хранится в Рукописном Отделении Российской Публичной Библиотеки, в Отчете которой за 1906 г. напечатано в извлечениях. Полностью впервые напечатано нами в «Вестнике Литературы», 1920 г., № 8, стр. 15):
«Дорогой Иван Сергеич. Известия о вашей болезни, о которой мне рассказывал Григорович и про которую потом стали писать, ужасно огорчили меня. Когда я поверил, что это серьезная болезнь, я почувствовал, как я вас люблю. Я почувствовал, что если вы умрете прежде меня, мне будет очень больно. Последние газетные известия утешительны. Может быть еще и все это мнительность и вранье докторов и мы с вами опять увидимся в Ясной Поляне и в Спасском, дай бог. В первую минуту, когда я поверил — надеюсь напрасно — что вы опасно больны, мне даже пришло в голову ехать в Париж, чтобы повидаться с Вами. Напишите или велите написать мне определенно и подробно о вашей болезни. Я буду очень благодарен. Хочется знать верно. Обнимаю Вас — старый, милый и очень дорогой мне человек и друг. Ваш Толстой».
Недавно вышедшая книга Т. Л. Сухотиной-Толстой «Друзья и гости Ясной Поляны» (Изд-во «Колос», М. 1923), в которой напечатан ряд до сих пор неизданных писем Тургенева к Толстому, познакомила нас с письмом Тургенева, доселе неизвестным (от 14 мая 1882 г.), несомненно являющимся ответом на вышеприведенное письмо Толстого. «Милый Толстой, — писал Тургенев, — не могу сказать, как меня тронуло Ваше письмо. Обнимаю Вас за каждое в нем слово. Болезнь моя, которой я почти готов быть благодарен за доставленные мне ею выражения сочувствия, вовсе неопасная, хоть и довольно мучительная; главная беда в том, что, плохо поддаваясь лекарствам, она может долго продолжаться, и лишает меня способности движения. Она на неопределенное время отдаляет мою поездку в Спасское. А как я готовился к этой поездке. Но всякая надежда еще не потеряна. Что же касается моей жизни, так я, вероятно, долго еще проживу, хотя моя песенка уже спета».
2) Операция вызвала следующую переписку между Тургеневым и лучшим его другом П. В. Анненковым (печатается нами впервые):
«Через три дня, а именно в Воскресенье, любезный Павел Васильевич — писал Тургенев 10 января 1883 г. — будут вырезывать у меня именно невром, а не кишку или лупу. Этот доселе мне по имени неизвестный господин именно тем скверен, что состоя… (одно слово неразборчиво) клубком перепутанных нервных нитей должен быть насильственно вылущен или вырезаем — между тем как лупа, после удара ножа, сама выдает все свои внутренности. Опасность состоит не в самой операции, как она ни мучительна и не продолжительна, — а в возможности двух следующих последствий: рожи или воспаления брюшной полости. От того то и придется мне пролежать после операции недели две недвижимо. Но я не унываю; «lе vin est tire — il faut le boire» — говорят французы — да к тому же я буду в искусных руках. А Вы в Воскресенье — между 11-ю и 1-м сочувственно подумайте обо мне».
Взволнованный этим письмом, Анненков отвечал ему — 14 января:
«Не стану говорить каким ударом было Ваше письмо для меня. Вышло бы глупо. Я все думал — авось так сойдет, а когда действительность подошла с ножами, страданиями и может быть с катастрофой — так в глазах потемнело. Ни думать, ни писать об этом не хочется, да и страшно — ох, страшно. Умоляю Вас или m-me Виардо известить меня телеграммой, как сошла операция и в каком Вы положении. До тех пор не имею сил ни мыслить о Вас, ни говорить с Вами. Умоляю о телеграмме (Первое письмо печатается нами по копии, находящейся в Пушкинском Доме, второе — по подлиннику, находящемуся там же).
3) В произведениях Тургенева мы находим описание смерти, происшедшей при чрезвычайно сходных условиях. Иван Матвеевич Колтовский (повесть «Несчастная») был «совершенный француз». Изъяснялся он исключительно по-французски, «почти совсем не умел говорить по-русски и презирал наше «грубое наречие», «се jargon vulgaire etrude». И, тем не менее, умирая, он два раза сряду повторил: «Вот тебе бабушка и Юрьев день». — И будто это были его последние слова — пишет в истории своей жизни героиня повести, — но я не могу этому верить. С какой стати он заговорил бы по-русски, в такую минуту и в таких выражениях!».
Тот же вопрос можем и мы задать по отношению к самому автору «Несчастной», на смертном одре заговорившему с французской семьей, с которой он всю жизнь изъяснялся языком истого француза, словами русского мужика.
В этом странном сходстве хочется видеть какой-то непонятный нам смысл.
4) Лучшим подтверждением искренности Тургенева, лучшим показателем того ухода и заботливости, которыми больной был окружен, являются письма дочери м-ме Виардо, Марианны Дювернуа, к Е. Н. Бларамбер-Апрелевой (Е. Ардов). Согретые неподдельной теплотой и искренней печалью, они вводят нас в ту атмосферу, которой он был окружен во время болезни:
Les Frenes, Bougival, le 5 mai 83… «Мы все теперь собрались около нашего дорогого больного Тургенева, который все еще очень плох; однако, ему с некоторых пор немного лучше, но, к несчастью, всегда надо опасаться возобновления припадков. Не будет ли жара иметь такой же счастливый результат, как и прошлым летом? На это мы надеемся и желаем это от всего сердца… Несмотря на все наши заботы, полные любви о нем, это желание приблизительно все, что мы можем для него сделать… Какая жестокая болезнь и какого бедного мученика она из него сделала!»
Les Frenes, Bougival, le 18 Octobre 83. «Простите, что я так долго не отвечала на Ваше письмо. Не знаю, как протекло время, но наша большая печаль и тысячи забот и дел, последовавших за кончиной нашего дорогого друга, безусловно поглотили и наполнили все наше существование. Мы находимся еще под гнетом этой жестокой утраты и не можем привыкнуть к мысли, что навсегда должны отказаться от мысли увидеть вновь того доброго дорогого друга, которого мы так нежно любили, и который, в свою очередь, так нас нежно любил. Мысль, что мы могли окружить его заботами до самой его смерти — слабое утешение для нас… А эта смерть, которую он призывал так давно и которая освободила его от невыразимых страданий, не менее для нас ужасна; пустота, которую он оставил после себя, неизмерима и никогда не будет наполнена. Мы проживем здесь еще некоторое время, не имея духа покинуть les Frenes, которые наш дорогой усопший так любил и которые теперь наполнены грустными сладостными воспоминаниями. Мне всегда тяжело входить в шале, где наш бедный Тургенев так сильно страдал, и где мы проводили такие печальные дни, приходя в отчаяние, что так мало в состоянии облегчить его муки» («Русские Ведомости», 1904 г., № 25).
5) Русские друзья (Полонские) не понимали истинного положения больного. В своей обычной ревности к его французским друзьям они полагали, что он не едет в Россию только потому, что не хочет покинуть этих друзей; не понимали, что он (в действительности в Россию рвущийся) физически не в состоянии был это сделать и тем причиняли ему лишние мучения. В этом отношении чрезвычайно характерно печатаемое нами ниже неизданное письмо Ж. А. Полонской к мужу, Я. П. Полонскому (переписка их неизвестна, цитирую по черновику — из архива Полонских, хранящегося в Пушкинском Доме). «Брани его (Тургенева) — писала 22 августа 1882 г. мужу Ж. А. Полонская — за то, что он писал, что «где-то живет старик». Напиши ему, что если он собирается 20 лет прожить, то ему следует прожить их в России, так как никто к нему не сохранит в продолжение этих двадцати лет свои чувства, как мы, которые его любят и для которых он вечно тем останется, чем был для нас. Поэтому я (мы) настоятельно требую ею возвращения в Петербург (курсив наш) и напоминаю ему, что с 2 октября прошлого года он уже помер для своих французских друзей и что ему уже давно не следовало жить в Париже».
(В 1881 г. Тургенев предчувствовал, что умрет в ночь с 1-го на 2 октября. — Л. У.).
6) В статье «Тургенев и развитие русского общества», напечатанной в «Вестнике Народной Воли», Лавров пишет: «Иван Сергеевич не был никогда ни социалистом, ни революционером; но история его научила, что никакие «реформы свыше» не даются без давления снизу на власть, он искал силы, которая была бы способна произвести это давление, и в разные периоды его жизни ему представлялось, что эта сила может появиться в разных элементах русского общества. Как только он мог заподозрить, что новый элемент может сделаться подобной силой, он сочувственно относился к этому элементу и готов был даже содействовать ему в той мере, в какой терял надежду, чтобы то же историческое дело могли сделать другие элементы, ему более близкие и симпатичные. Поэтому, когда я ему нарисовал картину одушевления и готовности к самоотвержению в группах молодежи, примкнувших в Цюрихе к «Вперед», он, без всякого вызова с моей стороны, высказал свою готовность помогать этому изданию, первый том которого был уже около полугода в его руках, и программа которого, следовательно была ему хорошо известна» («Вести. Нар. Воли». Женева. 1884 г. № 2).
7) Дело «Комиссии по погребению И. С. Тургенева» (хранится в рукописном Отделении Российской Публичной Библиотеки) дает нам возможность отметить одну, хотя и незначительную, но трогательную и забавную для нас сейчас черточку. Из находящихся в деле, выданных членам Комиссии, подписных листов мы узнаем, что писатель Скабичевский пожертвовал на устройство надгробного памятника Тургеневу (по листу В. П. Гаевского) — 20 к. Эта сумма и тогда должна была казаться ничтожной (по тем же листам видны одновременные пожертвования бар. Гинзбурга в 100 p., X. Д. Алчевской в 100 р. и т. д.), но в чувстве горести по утрате не было, повидимому, места предрассудкам, не позволяющим жертвовать сумму, могущую вызвать улыбку. Было бы лишь доброе желание.
8) Последовательный ход дела был таков. Градоначальник 29 сентября опротестовал постановление Думы на том основании, что расход этот, как не относящийся к пользам и нуждам города и его обитателей, не согласен со ст. 140 Городового Положения 1870 г. Присутствие по Городским делам с протестом градоначальника согласилось и определением от 27 октября постановление Думы отменило. Дума определение Присуствия обжаловала в Сенат. I Департамент Сената вынес решение, которым было признано, что градоначальник не имел повода приносить протест. Но Министр Внутренних Дел представил отзыв, в котором предложил оставить жалобу Думы без последствий. 1 Департамент Сената с отзывом Министра Внутренних Дел на проект определения Сената не согласился, вследствие чего дело 25 апреля 1884 г. перешло в I общее собрание Сената. Оттуда по разногласию сенаторов, 23 ноября 1884 г., в Консультацию при Министерстве Юстиции. Наконец, 5 февраля 1894 года Министр Юстиции предложил Прав. Сенату ввиду введения нового Городового Положения 1892 г. «производство по жалобе Городской Управы, оставив таковую без рассмотрения по существу, прекратить». Государственный Совет в соединенных департаментах гражданских и духовных дел, законов и государственной экономии и в общем собрании с предложением Министра Юстиции согласился. 24 апреля 1895 г., т. е. через 12 лет после смерти Тургенева, государь утвердил мнение Государственного Совета (см. «Известия СПБ. Гор. Думы» 1895 г… № 25 и «Новости», 1895 г., № 69).
Указатель имен
Алчевская, X. Д.
Анненков, П. В.
Апрелева-Браламбер, Е.
Белоголовый, Н. А.
Беляев, М. Д.
Бертенсон, Л. Б.
Боголюбов, А. П.
Боткин, С. П.
Бруардель, профессор
Верещагин, В. В.
Виардо, Луи.
Виардо, П.
Гаевский, В. П.
Гершензон, М. О.
Гинзбург, Г. О. барон
Гирц (Hirtz), доктор
Глазунов, И. И.
Гоголь, Н. В.
Goncourt
Грессер, генерал
Григорович, Д. В.
Доде, Альфонс
Дювернуа, Марианна
Jассоud, профессор
Катков, М. Н.
Клемансо
Ковалевский, М. М.
Кони, А. Ф.
Лавров, П. Л.
Ламберт, Е. Е. графиня
Луканина, А.
Маркевич, Б. М.
Мещерский, А. А., кн.,
Модзалевский, Б. Л.
Мопассан, Гюи де
Никольский, Ю. А.
Оксман, Ю. Г.
Олсуфьева
Олсуфьев, М. В.
Онегин (Отто), А. Ф.
Островская, М.
Переселенков, С. А.
Пиксанов, Н. К. 10,
Пич, Людвиг
Полонская, Ж. А.
Полонский, Я. П.
Савина, М. Г.
Скабичевский, А. М.
Стасюлевич, М. М.
Суворин, А. С.
Сухотина-Толстая, Т. Л.
Тихомиров, Л. А.
Толстой, Л. Н.
Толстой С. Л.
Топоров, А. В.
Тютчев, Ф. И.
Феоктистов, Е. М.
Фет, А. А. Флобер
Шамеро
Шарко, проф.
Тургенев на смертном одре
(С фотографии Мореля. Собственность Пушкинского Дома)
Тургенев на смертном одне
(С рисунка с натуры Э. К. Липгарта. Собственность Пушкинского Дома)
Примечания
1
«Призраки»
(обратно)2
Стихотворение в прозе «Насекомое»
(обратно)3
«Тургеневский сборник» под редакцией Н. К. Пиксанова, стр. 33
(обратно)4
«Первое Собрание писем И. С. Тургенева». СПб., 1885, стр. 138
(обратно)5
«Письма И. С. Тургенева к графине Ламберт». М., 1915, стр.144
(обратно)6
Письмо к Флоберу от 18 июня 1876 г. — «Письма И. С. Тургенева к П. Виардо и его французским друзьям». М. 1900, стр. 172.
(обратно)7
«Вы знаете, как иногда в комнате бывает незаметный запах мускуса, который нельзя прогнать, заставить исчезнуть… Точно так же я чувствую вокруг себя запах смерти и разложенья» («Journal de Goncourt». T. V, p. 25)
(обратно)8
Фет, «Мои Воспоминания». Т. II, стр. 280
(обратно)9
В. В. Верещагин. «Очерки, наброски и воспоминания». СПб., 1883
(обратно)10
Это дало повод Толстому написать в одном письме «Как Тургенев не боится бояться смерти» (С. Толстой. «Тургенев а Ясной Поляне», «Голос Минувшего», 1919. №№ 1–4, стр. 232)
(обратно)11
Из неизданного письма Я. П. Полонского к А. П. Боголюбову; хранится в Пушкинском Доме
(обратно)12
«Смерть» («Записки Охотника»)
(обратно)13
Письмо к Ж. А. Полонской от 23 сентября 1881 г. — «Первое собрание писем И. С. Тургенева». Стр. 385
(обратно)14
К ней же, от 8 апреля 1882 г.
(обратно)15
«М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке». Т. III, стр. 201
(обратно)16
См. в конце книги примечание 1-е
(обратно)17
Письма Тургенева к Анненкову за этот период не опубликованы, подлинники их находятся В Центрархиве; цитирую по копиям, находящимся в Пушкинском Доме.
(обратно)18
«М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке». Т. III, стр. 203
(обратно)19
Письмо к М. Г. Савиной от 7 июня — 26 мая 1882 г. — «Тургенев и Савина» Пгр., 1918. Стр. 46
(обратно)20
Письмо к Ж. А. Полонской от 25 июня 1882 г.; см. также воспоминания Н. А. Белоголового — «Новости» 1883 г., № 158
(обратно)21
М. Г. Савиной —19/7 июня 1882 г.
(обратно)22
Собр. соч., стереот. текст изд. Глазунова, т. V, стр. 214
(обратно)23
Письмо к Я. П. Полонскому от 17 июля 1882 г. («Перв. Собр. Пис.», 457)
(обратно)24
См. «Медицинск. Вестник» от 3 сент. 1883 г., № 36
(обратно)25
«Здоровье мое действительно поправляется, — писал Тургенев 28-го августа 1882 г. Анненкову, — но прогресс так медлителен, что заслужил бы одобрение самого Каткова!»
(обратно)26
«Благодаря некоторому облегчению моих недугов — писал он 18/6 сентября 82 г. М. Г. Савиной, — мне удалось написать довольно большую повесть — по содержанию почти безумную» («Тургенев и Савина», стр. 54)
(обратно)27
Письмо к Ж. А. Полонской от 4 августа 1882 г.
(обратно)28
Л. Б. Бертенсону 13 октября и Ж. А. Полонской 17 октября 1882 г.
(обратно)29
Письма к Ж. А. Полонской от 31 октября и 2 декабря 1882 г., к М. Г. Савиной от 29/17 августа
(обратно)30
«Я сам в воскресенье ложусь под операторский нож» — писал Тургенев М. М. Стасюлевичу 10 января 1883 г. — «Мне из брюха вырезывают невром, который завелся у меня 24 года тому назад — и вдруг чорт знает с чего — начал расти и пухнуть» («М. М. Стасюлевич и его современники» III, 226). См. в конце книги примечание 2-ое.
(обратно)31
Письмо к Ж. А. Полонской от 11 января 1883 г. Подробно Тургенев описывает операцию в письме к Л. Б. Бертенсону от 6 января
(обратно)32
«Иностранная критика о Тургеневе». Изд. 2-е, стр. 106. «Un veritable homme de lettres, que notre vieux Tourgueneff, — заносит в свой дневник Гонкур. — On vient de lui enlever un kyste dans le ventre et il disait a Daudet, qui est alle le voir ces jours-ci: «Pendant l'оре-ration, je pensais a nos diners, et je cherchais les mots, avec lesquels je pourrais vous donner l'impression justede l'acier, entamant ma peau et entrant dans ma chair… Ainsi qu'un couteau qui couperait une bапапе» («Journaldes Goncourt», t. VI p. 256)
(обратно)33
Письма к А. В. Топорову от 17 января, к Л. Б. Бертенсону — от 19 января, Ж. А. Полонской — 27 января 1883 г.
(обратно)34
Письмо П. В. Анненкова к М. М. Стасюлевичу 1 мая 1883 г. («Стасюлевич и его современники», III, 415)
(обратно)35
«Мнение С. П. Боткина о ходе болезни И. С. Тургенева» (Читано в Обществе русских врачей 27 октября) — «Новости» 29 октября 1883 г., № 209. «Проф. Бруардель и Шарко, которых призывали на консультацию, приписывали это психическое расстройство сердечному бреду». «Теперь, когда истина страдания И. С. Открыта, когда суть его страданий оказалась в раковом поражении костей позвоночника — говорит С. П. Боткин, — мы знаем, что случай бреда и психического расстройства при этой болезни не составляет редкости. Может-быть, это расстройство, сопровождающееся бредом, вызывается страшными мучениями, а, может-быть, сильными дозами морфия, но при раке это расстройство бывает часто» (там же).
(обратно)36
М. В. Олсуфьев, «Воспоминания об И. С. Тургеневе», «Исторический Вестник», 1911 г., март, стр. 863
(обратно)37
Письмо П. В. Анненкова к М. М. Стасюлевичу от 1 мая 1883 г. («Стасюлевич и его современники». III, 415)
(обратно)38
Олсуфьевой — «Ист. Вестник», 1911 г., март, стр. 863
(обратно)39
«Дневник лишнего человека»
(обратно)40
В. В. Верещагин, «Очерки, наброски, воспоминания», стр. 135
(обратно)41
А. Луканина, «Мое знакомство с И. С. Тургеневым». «Северный Вестник», 1887 г., № 3. стр. 85—86
(обратно)42
М. Стасюлевич, «Из воспоминаний о последних днях И. С. Тургенева» — «Вестник Европы» 1883 г., октябрь, стр. 851
(обратно)43
В письме к М. М. Стасюлевичу от 7 июня 1885 г. («М. М. Стасюлевич и его современники», III, 267)
(обратно)44
«Новое Время», 1893 г., № 6346
(обратно)45
Мещерский, А. А. кн., «О последних днях Тургенева» — «Новое Время», 3 сентября 1883 г. № 2699, перепечатано в брошюре «На память об И. С. Тургеневе», СПб. 1883 г., стр. 16—19
(обратно)46
Верещагин, В. В., «Очерки, наброски, воспоминания», стр. 141. См. в конце книги примечание 3-е
(обратно)47
См. воспоминания А. А. Мещерского («Н. Вр.» 1883 г. № 2699), и М. М. Стасюлевича («В. Евр.», 1883 г., № 10)
(обратно)48
Письмо к Е. Апрелевой-Браламбер (Е. Ардов) от 18 октября 1883 г. («Русские Ведомости». 1904 г., № 25)
(обратно)49
Стихотворение в прозе «Последнее свидание»
(обратно)50
В нем благородство и чистота духа умирающего писателя выражены с такой неотразимой силой, что мы не можем не привести его вновь, хотя оно и достаточно известно: «Милый и дорогой Лев Николаевич, долго вам не писал, ибо был и есмь, говоря прямо, на смертном одре. Выздороветь я не могу, и думать об этом нечего. Пишу же я вам собственно, чтобы сказать вам, как я был рад быть вашим современником, и чтобы выразить вам мою последнюю, искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! Ведь этот дар ваш оттуда, откуда все другое. Ах, как я был бы счастлив, если бы мог подумать, что просьба моя так на вас подействует!! Я же человек конченный — доктора даже не знают, как назвать мой недуг, nevralgie stomacale goutteuse. Ни ходить, ни есть, ни спать, да что! — Скучно даже повторять все это! Друг мой, великий писатель русской земли — внемлите моей просьбе! — Дайте мне знать, если вы получите эту бумажку и позвольте еще раз крепко, крепко обнять вас, вашу жену, всех ваших… Не могу больше… Устал!»
(обратно)51
Из архива Анненкова, находящегося в Пушкинском Доме
(обратно)52
Одно слово вырезано, вместе с почтовой маркой
(обратно)53
Бруардель (Paul Brouardel) — известный парижский врач, профессор Парижского Медицинского Факультета
(обратно)54
Гирц, о котором Онегин говорит и в первом письме, известный Парижский врач, ученик Бруарделя. Его, между прочим, рекомендовал Тургенев Савиной, во время ее пребывания в Париже, в 1882 г.
(обратно)55
Эти озлобленные нападки Онегина на врачей совершенно неосновательны. Вскрытие тела Тургенева, обнаружившее рак спинного мозга, (по заключению производивших вскрытие врачей, Тургенев умер от раковидной болезни Мухо Sarcoma) показало, что медицина была бессильна (см. протокол вскрытия тела Тургенева — «Новое Время». 1883 г., № 2742)показало, что медицина была бессильна.
(обратно)56
См. нашу статью «М. Г. Савина и болезнь Тургенева» («Бирюч». Сборник II, 1921 г.), где оно напечатано впервые
(обратно)57
Письмо к Я. П. Полонскому от 30 мая 1882 г.
(обратно)58
М. Стасюлевич. «Из воспоминаний о последних днях И. С. Тургенева». «Вест. Европы» 1883 г. № 10
(обратно)59
«Иностранная критика о Тургеневе». Изд. 2-е стр. 93
(обратно)60
Из архива Анненкова, находящегося в Пушкинском Доме
(обратно)61
Это легко заключить из писем Онегина к Я. П. Полонскому
(обратно)62
В письме к Я. П. Полонскому Онегин называет m-me Виардо, испанку по происхождению, — «жидовкой» (цыганкой), а почтенный М. М. Стасюлевич именуется здесь «quasi-жидом Вестника Европы»
(обратно)63
См. в конце книги примечание 4-е
(обратно)64
«Русск. Вед.». 1904 г., № 15
(обратно)65
Печатается здесь впервые
(обратно)66
То же самое писал он и Савиной (22 апреля 1882 г.): «Не шутя, говорю Вам, что я охотно бы умер вместо него — и вовсе не желаю переживать его» («Тургенев и Савина», стр. 44)
(обратно)67
В недавно напечатанных в Тургеневском Сборнике (под ред. А. Ф. Кони) воспоминаниях Е. М. Феоктистова находим еще одно подтверждение высказываемого здесь мнения: «Своих друзей, за исключением двух или трех…он (Тургенев) не знакомил с г-жей Виардо и это, как уверяли, будто бы потому, что она вообще питала непреодолимое отвращение к Русским (Неосновательность этого может быть легко доказана. — Л. У.). И у нас платили ей, кажется, той же монетой. Однажды Я. П. Полонский начал говорить Тургеневу при мне, что она возбуждает неприязненное к себе чувство уже потому, что оторвала его от России»
(обратно)68
Жить вдали от семьи Виардо было для Тургенева невыносимо. — «Преданность его этому семейству (Виардо) была безгранична, — вспоминает М. М. Ковалевский. — Когда приятели упрашивали его вернуться и навсегда поселиться в России, он обыкновенно отвечал им: «не думайте, что меня удерживает заграницей привычка или пристрастие к Парижу; не думайте что у меня здесь много друзей или близких знакомых… но жить вдали от своих мне тяжело. Переезжай они завтра в самый невозможный город: Копенгаген, что ли, я последую за ними» («Минувшие Годы», 1908 г., № 8)
(обратно)69
Тургеневский сборник, под ред. Н. К. Пиксанова, стр. 102
(обратно)70
Глубоко права была М. Г. Савина, писавшая в 1911 г. А. Ф. Кони: «пора перестать трогать m-me Виардо» («Тургенев и Савина», стр. 102)
(обратно)71
См. в конце книги примечание 5-е
(обратно)72
Листок «И. С. Тургенев», СПб. 25-го сентября 1883 г., издан Партией Народной Воли ко дню похорон Тургенева (см. «Литература партии Народной Воли». СПб. 1905 г., стр. 951)
(обратно)73
«Любезнейший Петр Лаврович, — писал Тургенев Лаврову 21 февраля 1874 г., — я вчера сгоряча обещал немножко более, чем позволяют мои средства: 1000 франков я дать не могу, но с удовольствием буду давать ежегодно 300 фр. до тех пор, пока продержится Ваше предприятие, которому желаю всяческого успеха. 500 фр. за 1874 г. при сем прилагаю» («Былое», 1906 г., № 2, стр. 215). См. в конце книги примечание 6-ое
(обратно)74
«В данную минуту, — писали «Новости» 14-го сентября (№ 164) — вся почти печать, без различия цветов, возмущена письмом Лаврова и тем злонамеренным обращением с ним, какое позволили себе «Московские Ведомости». — «Московские Ведомости» напечатали письмо, не сопроводив его ни одним словом от себя, — писал в «Новом Времени» (№ 2709) «Незнакомец» (А. С. Суворин), — но это молчание как бы говорит: «вот вам — не угодно ли полюбоваться». В мнениях о сообщенном Лавровым факте существовало разногласие. Некоторые считали его совершенной выдумкой, другие объяснили денежные взносы помощью самому Лаврову, вызванной мягкосердечием Тургенева, но не его журналу.
(обратно)75
«Вестник Народной Воли», № 1, Женева, ноябрь 1883 г., стр. 209 — 210
(обратно)76
Обвинявшему его в «кувыркании» перед молодежью. Ответ Тургенева напечатан в «Вестнике Европы». 1880 г., № 2
(обратно)77
См. «Le Temps» 1882 г., 13 fevrier. Перепечатано М. Гершензоном в т. III «Русских Пропилеев». М. 1916, стр. 275
(обратно)78
Как совместить все эти противоречия? Тургенев действительно всегда был верным либералом и «постепеновцем». Вместе с тем он давал деньги на издание революционного журнала, издававшегося Лавровым, политические убеждения которого с его убеждениями, конечно, не могли быть сходными. Предположение, что Тургенев лишь говорил, что дает на журнал, желая, благодаря своей деликатности, под этим предлогом скрыть помощь самому Лаврову, нам кажется не убедительным. Несомненно, что Тургенев действительно вносил деньги в кассу журнала (См. его письма к Лаврову — «Былое» 1906 г., № 2, и «Минувш. Годы» 1908 г., № 8). Как это объяснить? Нам кажется только одним: Тургенев, будучи «принципиальным противником революций», вместе с тем мог «сочувствовать движению в общем, как оппозиции против державного деспотизма». Убежденный враг этого деспотизма, Тургенев в этом должен был сойтись с Лавровым, в остальном его политическим противником. Это общее между ними и могло побудить его желать успеха революционному журналу
(обратно)79
Аналогичные нападки, с не меньшей резкостью, сыпались и с другой стороны. «Факт с притворным пафосом опровергается из опасения, чтоб он не смутил статистов, скликаемых к участию в спектаклях» — писал, в злобной, посвященной этому вопросу передовице, Катков («Моск. Вед.», 1883 г. № 261)
(обратно)80
Листок «И. С. Тургенев» («Литература партии Народной Воли», стр. 951)
(обратно)81
«Вестник Народной Воли», 1883 г. № 1, стр. 209
(обратно)82
«Вестник Европы», 1883 г., № 10, стр. 779
(обратно)83
там же
(обратно)84
Листок «И. С. Тургенев» («Литература Партии Народной Воли», стр. 951)
(обратно)85
Ю. Никольский, «Дело о похоронах И. С. Тургенева» — «Былое». 1917. Октябрь № 4, стр. 148
(обратно)86
С этой целью Дума постановила: «Расходы по провозу тела И. С. Тургенева от Вержболова до С.-Петербурга, а также на погребение его, принять на городской счет, для чего потребную сумму, примерно до 3000 рублей, отпустить в Комитет Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым» (см. «Новости» 1883 г. № 194)
(обратно)87
«Храбрый это генерал, — писал по этому поводу П. В. Анненков М. М. Стасюлевичу, — который не щадит своего имени и отдает его на позор людям» («Стасюлевич и его современники», III, 430)
(обратно)88
См. в конце книги примечание 7-ое
(обратно)89
«Дело Комиссии по погребению И. С. Тургенева и установке ему надгробного памятника», хранится в Рукописном Отделении Российской Публичной Библиотеки.
(обратно)90
См. в конце книги примечание 8-ое
(обратно)

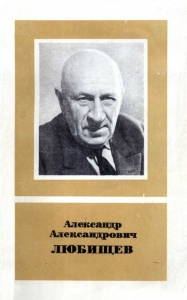
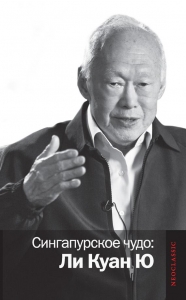

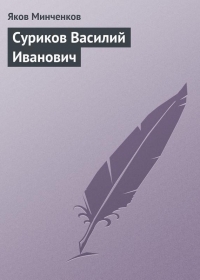



Комментарии к книге «Смерть Тургенева. 1883–1923», Лев Самойлович Утевский
Всего 0 комментариев