ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Из «Записок Красного Профессора»
«В марте двадцать первого года Вася Платонов поручил мне готовить доклад на ячейке к 50-летию Парижской Коммуны, ибо было известно, что я прочитал о Коммуне книгу и, стало быть, изучил этот вопрос лучше кого-либо другого в уездном нашем городке, откуда незадолго до того выбили белых. Я действительно книгу прочел и пропагандировал ее в ячейке. Это была изданная Госиздатом небольшая книжица в переводе с французского, а я вообще был с гимназических пор книгочей и, должно быть, все равно бы этой книжки не пропустил, но тут особый мой интерес имел подоплеку. В данном случае, можно сказать, зверь бежал на ловца. Дело в том, что дядя Андрей, родной брат моей матери, участник Третьего Всероссийского съезда Советов, в свое время, рассказывая о съезде, собравшемся в Петрограде в январе восемнадцатого, передавал слова, какими Ленин начал свое выступление — самый первый отчет Советского правительства съезду Советов, — и слова эти настолько запали мне в память, что и фронт не сумел их стереть. „Товарищи! — говорил Ленин с трибуны Таврического дворца. — От имени Совета Народных Комиссаров я должен представить вам доклад о деятельности его за 2 месяца и 15 дней, протекших со времени образования Советской власти и Советского правительства в России… это всего на пять дней больше того срока, в течение которого существовала предыдущая власть рабочих… Продержавшись 2 месяца и 10 дней, парижские рабочие, впервые создавшие Коммуну… погибли под расстрелом французских кадетов, меньшевиков и правых эсеров-калединцев… Мы находимся в гораздо более благоприятных обстоятельствах…“
Повторяя перед комсомольской ячейкой эти ленинские слова — на четвертом году Советской власти, — я не мог не подкрепить их примерами прошедших трех с лишним лет, когда нам самим пришлось побывать под расстрелом — и не только меньшевиков, эсеров, калединцев, а и Деникина, и Колчака, — но мы не погибли, а победили. И таким образом привязав свою тему к текущему моменту, уж после этого добросовестно стал пересказывать содержание переводной книжки Дюбрейля. И постепенно дошел до раздела об участии русских в Коммуне.
У Дюбрейля, собственно, специально такого раздела ее было. Имелось всего лишь упоминание о „русской Дмитриевой“, сражавшейся на баррикадах в Батиньоле и на площадях Бланш и Пигаль во главе батальона женщин, обнаруживая „чудеса храбрости“. Однако переводчик снабдил это место подробным примечанием, которое я зачитал своим слушателям целиком, — в нем были поименованы и другие русские участники Коммуны с краткими сведениями об их дальнейшей судьбе: Сажин (Росс), поручик Шевелев, даже известный математик Ковалевская; ничего необыкновенного мы в этих фактах, понятно, не усмотрели — если Жанна Лябурб, Джон Рид, Бела Кун, Антикайнен, Дундич сражались за революцию вместе с нами, то почему бы нашим соотечественникам не оказаться вместе с французами… Но о Дмитриевой сообщалось, что после Коммуны она вернулась в Россию, вышла замуж, а затем добровольно последовала в сибирскую ссылку за мужем и в восьмидесятых годах жила в Красноярске. Вот к этой истории мои товарищи отнеслись с особенным интересом, и в первую очередь Люба Луганцева, именно из Красноярска переехавшая перед революцией в наш городок. Фамилия Дмитриевой, так же как и ее мужа Давыдова, тоже упомянутого переводчиком, ничего нашей Любе не говорила… Неужели же рядом с нею жила героиня Парижской Коммуны, а она об этом даже не подозревала?! Впрочем, и без того история этой женщины показалась в нашей ячейке загадочной: Коммуна, муж сомнительной репутации, добровольная ссылка… Но что я мог отвечать на вопросы, когда ничего, кроме этого, сам не знал.
Люба служила на почте. Через несколько дней она прибежала в ячейку со свежим номером петроградских „Известий“, посвященным 50-летию Коммуны, а в нем статья того самого Сажина (Росса), воспоминания участника о последних ее днях, и рассказано о знакомой ему русской женщине, которая во время Коммуны вела усиленную пропаганду и агитацию среди парижских работниц, „организовывая их в различных округах города“, а вернувшись в Россию, одно время жила в Красноярске — „с мужем, судившимся по уголовному делу“… Только называл эту знакомую Сажин (Росс) почему-то не по фамилии, как Дюбрейль, а по имени-отчеству — Елизаветою Дмитриевной. „Напишу-ка я родне в Красноярск, — сказала Люба. — Попрошу разузнать, уж больно мне любопытно…“ Я на это ей не без ехидцы ответил, что любопытство, в отличие от любознательности, черта чисто женская и, быть может, даже пережиток проклятого прошлого. Любознательностью она не упускала случая меня поддразнить, „ты у нас любознательный“, — говорила.
Этот разговор запомнился мне в деталях — и потому, что принесенная Любой газета во многом определила мою дальнейшую жизнь, и потому, что это был один из последних наших с ней разговоров. В апреле Любу застрелили белобандиты.
Не собираюсь в этих записках много говорить о себе. Сказать надо необходимое, только то, без чего не удастся изложить историю „опознания“ моей героини.
О продолжении образования я задумался сразу же после демобилизации из Красной Армии. Товарищи по ячейке всячески это желание во мне поддерживали. Кроме статей к юбилею Парижской Коммуны, в газете, с которой Люба тогда прибежала, я нашел заметку „К открытию Института Красной Профессуры“. И Вася Платонов заявил, прочитавши газету, что уезд мне дает направление, а если этого мало, то и губерния даст, а чтобы я немедленно утрясал тему вступительного доклада. В заметке говорилось, что желающие поступить должны представить письменный доклад на тему, взятую по соглашению с комиссией по приему. Платонову не пришлось повторять сказанного, я написал в комиссию свое предложение и отдал Любе в руки конверт с адресом: Москва, Волхонка, 18. Темой я выбрал Парижскую Коммуну 1871 года, хоть это и было не слишком оригинально в то время. Из комиссии отвечали согласием, однако с советом сосредоточиться на каких-либо конкретных сторонах деятельности Коммуны. Пока я раздумывал, на чем же остановиться, погибла наша Люба Луганцева. В память Любы я решил написать о борьбе женщин в Коммуне.
Разумеется, знакомства с одной книжкой Дюбрейля оказалось недостаточно даже для вступительного доклада. А какие могли быть литературные возможности в уездном городке? Я перечитал „Гражданскую войну во Франции“ Маркса с замечательными словами о парижанках Коммуны — об их героизме, великодушии и самоотверженности; набрел случайно на „Народную историю Парижской Коммуны“ ее члена Арну, изданную ЦИК Советов; раздобыл книжку Петра Лаврова с „поучительными выводами“ для русских; и мне повезло: у дяди Андрея нашлись дореволюционные издания увлекательной „Истории Коммуны“ Лиссагарэ и, главное, воспоминаний Луизы Мишель, можно сказать созданных для моей темы… там я, между прочим, опять обратил внимание на упоминания о женщине, так заинтересовавшей покойную Любу.
„Героиней этой революции была молодая русская аристократка, образованная, красивая и богатая, называвшая себя Дмитриевой“, — утверждал Лиссагарэ, сам коммунар; и в другом месте: „M-me Дмитриева, также раненная, поддерживала раненного на баррикадах предместья Сент-Антуан Франкеля“ (одного из видных деятелей Коммуны, это я знал). Говорила о ней и Луиза Мишель — как о „женщине из Кордери“ (что это означало, осталось для меня тогда загадкой).
Мой доклад одобрили, а это повлекло за собой столько перемен в жизни, что я надолго забыл про таинственную парижанку Дмитриеву. Осенью я перебрался в Москву, чтобы стать „икапистом“».
1
По рябой воде под мостом проплывали из озера в реку желтые лодочки-листья. Даже в этом самом широком месте Роне было далеко до Невы. Привычно пряча нос в шарф, Михаил Николаевич с трудом сдерживал кашель. Чтобы слушать, как сыплет осенний дождик по брезенту коляски, стоило ли уезжать за тридевять земель? Однако необходимо было обратиться за медицинским советом по адресу, полученному еще на углу Кирочной и Литейного.
Она дожидалась его в приемной, листая журнал. Реноме далекого петербургского коллеги женевский доктор не уронил, рекомендовал либо тот же Давос, либо, в сравнительной близости от Женевы, Монтану. «Там, в горах, не увидишь такого, — кивнул за окно. — С утренним почтовым дилижансом успеваешь туда засветло, а если пароходом в Монтрё, так оттуда едва ли не вдвое ближе».
Все же здешнего дождика не хватило на то время, что они провели у врача. Михаил Николаевич сам предложил немного пройтись по старому городу, чьи горбатые узкие улочки были мокры и прелестны. Не успели, однако, спуститься к Корратери, широкой, прямой, что твой Невский, как услышали оклик:
— Дорогие соотечественники, мое почтение!
Интересно, как этот господин их опознал со спины?
Господин с террасы кафе объяснил охотно:
— Русака в Европе узнают по калошам!
Приподнял шляпу и вдруг, вглядевшись в Михаила Николаевича, выкатил маслины-глаза.
— Вот так встреча! Никак, Томановский?
Настал черед и Михаилу Николаевичу изумиться:
— Ты, поручик? Видит бог, чудеса!
И в поисках равновесия принялся представлять супругу свою, Лизавету Лукиничну.
Господин на террасе вскочил, поклонился, щелкнул каблуками.
— Поручик Федотов — разумеется, бывший поручик, — когда-то с вашим супругом служили-с!
Он тотчас попытался усадить их, чтобы отметить столь счастливое совпадение обстоятельств — этот перст провидения, но Михаил Николаевич отговаривался нездоровьем; супруга его поддержала; и тогда бывший поручик вызвался их проводить, ударившись с Михаилом Николаевичем в воспоминания, непонятные и неинтересные Лизе, так что она поспешила остановить извозчика, а Михаилу Николаевичу осталось лишь пригласить своего знакомого как-нибудь заглянуть к ним в отель.
Воспользоваться приглашением однако он не успел: на другое же утро супруги отбыли из Женевы в Монтану, напутствуемые добрыми пожеланиями любезнейшего портье.
А неделю спустя тот удивился, увидав перед стойкой мадам в одиночестве, и выказал подобающим образом участие, но, не дослушав, мадам пояснила, что месье пребывает в заоблачной выси в превосходнейшей санатории доктора Эн, а вот ей хотелось бы получить номер.
— Всегда к услугам постоянных клиентов, — заверил портье, предлагая мадам бельэтаж с видом на озеро и Монблан.
И уже провожая ее туда, вспомнил: спрашивал их один господин, если б только предположить, что мадам так скоро вернутся. Конечно, это бывший поручик, кому ж еще быть, как бы оказался сейчас кстати, ну, да слава богу, Женева не Петербург. На другой же день нос к носу столкнулись. Только вышла от Георга, из книжной лавки на Корратери, как услыхала:
— Бонжур, мадам Лизавета Лукинична! Коман са ва?
Пришлось извиняться за Михаила Николаевича, за внезапный отъезд.
— Знать, Кавказ-то и Томановскому не прошел даром, — услыхав о превосходнейшей санатории доктора Эн, заметил бывший поручик. — А чему удивляться? В хорошие места не ссылают. Вы, я вижу, до чтения охочи, так, стало быть, знаете: Лермонтов, Бестужев-Марлинский… Правда, мы с Томановским туда безгрешны попали.
Она внимательно уставила на него глаза, мужчины редко выдерживали ее взгляд, это она за собой знала.
— Вы-то, слава богу, как будто не повредились в здоровье!
— Тоже не так все просто… я там, может, в уме повредился! Об этом как-нибудь после… — он потянулся к свертку с книгами у нее в руках. — Чем вы тут запаслись? Не секрет, полагаю?
— Тем, чего не выпишешь на Невском ни у Вольфа, ни у Глазунова… мне Михаил Николаевич кое-что про вас рассказал по дороге.
— До того ли вам было? — замахал он руками. — Вы же ехали по Швейцарской Ривьере! А вот ваш Михаил Николаевич не рассказывал, что от чтенья книг глаза вовсе не хорошеют?
— Уж коли зло пресечь…
— О, с вами держи ухо! А встретил тогда вас, скажу по чести, подумал, ах, как повезло слабогрудому Томановскому!
Она вспыхнула:
— Порадовались за него?
— И себя, грешного, пожалел. Он хоть, старый вояка, Шильонский замок вам показал?
— До того ли нам было, Александр Константинович!
— Так это же по дороге, может, полверсты в сторону. Позвольте вам предложить прогулку туда!
И продекламировал:
Свободной Мысли вечная Душа, — Всего светлее ты в тюрьме, Свобода!..…Или, может быть, и без меня у вас здесь довольно знакомых?
— Скажите на милость, Александр Константинович, много наших русских в Женеве?
— И много, и разных, Лизавета Лукинична. Одни, как изволили видеть, торгуют Герценом, другие, обездоленные отменою крепостного состояния, выселились сюда целыми семьями да и застроили берега озера усадьбами. И четвертые есть, и седьмые, не говоря о самом Александре Ивановиче… Да тут пять минут до улицы Роны спуститься — заведение, где все собираются, паноптикум, кунсткамера, зоосад! В Европе это именуют кафе, на Кавказе — духан, а по-русски, пожалуй, трактир, можно и перекусить заодно, и русского лицезреть какой угодно породы!
И действительно, они оказались в дыму и гаме трактирной залы. Придерживая за локоток свою даму, бывший поручик раскланивался направо и налево и отвлекал внимание от тарелок, от рюмок, от газет парижских и петербургских, от шашечных и бильярдных расчетов, и, покуда сквозь этот дым и гам высматривал незанятый столик, Лиза чувствовала себя в средоточии множества взглядов, как если бы выступала на сцене. Наконец, убедившись в тщете своих поисков, Александр Константинович испросил позволения подсесть к какой-то паре, на что получил согласие немедленное и любезное.
— Здесь все настолько приелись друг другу, что всякое свежее лицо вызывает прилив любопытства, — после взаимных уверений в приятности начала было успокаивать новая знакомая Лизавету Лукиничну. — Пусть, милочка, это вас не стесняет.
— Напротив, — сказал Александр Константинович. — Лизавета Лукинична желает ознакомиться со здешним российским обществом.
И, не без усмешки поглядывая по сторонам, приступил к исполнению сего пожелания, предварительно выяснив, каким соотечественникам она отдает предпочтение — таким, к примеру, как вон тот князек Горчаков, родня канцлеру, который третьего дня в подпитии свалился с лестницы, или, может быть, как встреченный в дверях Александр Серно-Соловьевич, брат известного Николая, и ему подобные эмиграчи.
— Исхудалый человек с бородой был Серно?
Нет, они незнакомы, она только слыхала о нем и читала его памфлет. С Герценом он уж чересчур крут, зато Чернышевского по достоинству оценил!
— Вон как, милочка, стало быть, и вы… — сказала новая знакомая (ее звали Екатерина Григорьевна).
— А почему это вас удивляет? — Лиза почувствовала себя задетой. — Обязательно состричь волосы, как нигилистки?
— Ни за что! — бывший поручик всполошился. — Эта прическа вам так к лицу!
— Да, я сторонница его, даже думала приступить к делу… Устроить мельницу на артельных началах у нас в Холмском уезде.
— Что же вам помешало? — спросил молчавший до сих пор супруг Екатерины Григорьевны.
— Вы давно из России? Недавно? Простите, в таком случае ваш вопрос непонятен.
Даже в их псковской глуши человека арестовали за то, что склонял рабочих к устройству артельной чугунолитейни.
— А вон видите, там в углу, это Утин сидит, — показал Александр Константинович.
— Утин, как и Серно, был когда-то к Чернышевскому близок, — заметила Екатерина Григорьевна. — С ним, пожалуй, познакомиться стоит. Ведь в отличие от Серно, который совсем, можно сказать, ошвейцарился последнее время, Николай Исаакович Утин русских дел не оставил. Только, — она замялась, — должно предостеречь вас. В России оба лишены всех прав, Утин даже присужден к смертной казни. С колокольни начальства весьма опасные люди.
— А, понимаю, и в Женеве недреманное око…
— Кстати, вот в другой стороне — Михаил Элпидин. Этот око подозревает едва не в каждом. И случается — вытаскивает на всеобщее обозрение. Чаще, однако, со своей шпиономанией попадает впросак. За границу бежал из тюрьмы, здесь в Женеве завел печатный станок, стал журнал выпускать, издает Чернышевского…
— Да, я только что купила «Что делать?»… А с ним можете познакомить?
— Ну, об этом еще стоит крепко подумать, мы соперники — в неравнодушии к прекрасному полу, не так ли, Катерина Григорьевна?! К тому же, знаете, недавно он сказал Нико Николадзе, моему земляку-кавказцу, вон он, кстати, чернявый, с газетой, тоже Чернышевского ярый поклонник и даже знакомец, так вот, Элпидин ему сказал, что на месте правительства засылал бы в среду эмигрантов молодых привлекательных женщин, не стесненных в денежных средствах…
Лиза вспыхнула:
— Я как будто не давала повода никому!..
— Извините, Лизавета Лукинична, просто к слову пришлось.
А супруг Екатерины Григорьевны прибавил кратко:
— Был бы повод, не было бы разговора!..
— Да к тому же вам надобно иметь в виду, что Элпидин рассорился с Утиным, — сказала Екатерина Григорьевна.
— По-моему, они здесь все между собой перегрызлись, — заметил бывший поручик, — эти «щенята женевские», как прозвал их Герцен.
Себя он не относил к их числу, так же как земляка своего Нико Николадзе и супругов Бартеневых, Екатерину Григорьевну и Виктора Ивановича, или других полуэмигрантов. Эти люди порою даже могли играть в здешних делах заметную роль, но, выехав за границу легально, до поры до времени оставались «полноправными» подданными Российской империи и имели возможность в отчий дом воротиться в любой момент, не то что Серно или Утин, или Герцен, или Бакунин…
— Вон легок на помине Михайло Александрович идет! — заволновалась Бартенева.
В самом деле, привлекая всеобщее внимание, от дверей через залу, точно большой пароход по озеру в окружении лодок, неправдоподобно легко при такой комплекции двигался раблезианского сложения человек, сопровождаемый спутниками обыкновенных размеров (приходил в голову дедушка Крылов: по улицам слона водили), и перебрасывался с ними на ходу фразами едва ли не на трех языках. Стало посвободнее, вновь пришедшие без труда нашли себе столик — неподалеку от Лизы, так что она смогла рассмотреть знаменитого бунтаря — мохнатую львиную голову, заросшее чуть не до глаз, благообразное, по-российски скуластое лицо с багряными щеками («Монументальный старик!» — не удержался от замечания бывший поручик). Было слышно и то, что он говорил, благо ни в малой степени не старался смирять соответствующего богатырской внешности голоса, да и кругом приумолкли.
— Нет, поверьте, друзья мои, — громыхал, — поверьте старому бунтарю, никаких тягучих приготовлений не требуется, чтобы поднять бунт! Это книжники и доктринеры проповедуют, скучнейшим, доложу я вам, образом, бесконечную подготовку, я же, в отличие от кабинетных кунктаторов, знаю, что говорю!..
— Слава богу, Утин ушел, — быстро проговорила Бартенева, — а то непременно быть драке!
— …Помню, в сорок девятом, — продолжал Бакунин на невообразимой своей смеси французского, итальянского, испанского, русского, все отчетливее, однако, предпочитая последний, — ехал я из Парижа, опьяненный, друзья мои, революцией, о, какое это упоительное состояние, пир без начала и без конца, всеобщая горячка, духовное пьянство! — ехал в Прагу и где-то в пути, точно и не скажу вам сейчас, где, в Шварцвальде или, может быть, даже уже в Богемии, натыкаюсь на толпу крестьян, недовольно гудящую перед помещичьим замком. Велю остановить лошадей, вылезаю. Уж не знаю, в чем там у них дело, тороплюсь, не имею времени узнавать, успеваю только построить правильное каре, кое-что присоветовать, дать наставления, старый артиллерист, да сказать краткую речь. Что ж вы думаете, друзья мои, когда я садился к себе в повозку, чтобы ехать своей дорогой, — злополучный замок пылал со всех четырех сторон!
Победительно оглядев окружающих и убедившись в произведенном эффекте, Михайло Александрович шумно перевел дух и продолжил — истый бог-громовержец:
— Так чего же, спрашивается, выжидать годами? Всем, надеюсь, известно, как я распрощался с Сибирью?! Вместо того чтобы ждать, покуда самодержец одумается, как будто этого вообще возможно когда-то дождаться, или покуда кому-то другому удастся некий хитроумнейший и секретнейший план, нет, я сам, в отличие от кунктаторов, сумел провести всех своих цепных сторожей и кругом света явился с Байкала к Герцену в Лондон!
Если в начале бакунинской филиппики Лизе нелегко было разгадать, в кого это он метит своими громами, то уж тут она безошибочно распознала.
— Нападать на беззащитного, на страдальца, — глухо сказала она, — это низко! До свидания, я не желаю больше этого слушать!
Бывший поручик едва поспел за ней, о, как она напоминала ему его земляка Нико! Жаль, Нико не дождался, ушел, он бы тоже наверняка не смолчал. Ведь Нико во всем старался подражать Чернышевскому, в мелочах даже, в разговоре, в походке… Пусть Лиза обязательно обратит внимание другой раз, как Нико сутулится, щурится близоруко, как потирает руки и вставляет едва не в каждую фразу то «ну-с», то «нуте-с». Это все от Николая Гавриловича, говорят. И Серно-Соловьевич за это без пощады бедного Нико высмеял, так что они теперь кровные враги, а ведь еще летом в друзьях ходили.
— …Утверждают, кстати, будто это их Бакунин поссорил…
Тут Бартеневы нагнали сбежавших соседей, и последнюю фразу Екатерина Григорьевна не оставила без внимания:
— Не в отместку ли ваш приятель напал в своей «Современности» на бакунинское «Народное дело»?!
— В «Современности»? — переспросила Лиза. — И журнал в подражание «Современнику» тоже?!
— Ну конечно же, милочка, — отвечала Бартенева, тогда как бывший поручик миролюбиво ей толковал, что не больно-то вникает во все эти свары… да и в «Народном деле», кстати, уже тоже разброд…
— Между тем, — горячо обратилась Бартенева к Лизе, — Михайло Александрович никогда, по-моему, Чернышевского не задевал, не знаю, что нынче сталось, и верность его знамени провозгласил в «Народном деле»!
— Без этого он попросту сразу всех от себя оттолкнул бы, это тоже понимать надо.
— Вы несправедливы к нему… как и ваш приятель.
— А Утин?!
— Ну, они антиподы… достаточно посмотреть на них рядом!.. Во всем, кроме одного. Оба хотят быть первыми. Я думаю, Михайло Александрович именно Утина имеет в виду, когда говорит о кунктаторах и доктринерах: пропаганда, организация, теория… Где же их действие, черт побери?!
— А что там все-таки произошло, в их журнале? — спросила Лиза, и, чтобы ответить, Екатерине Григорьевне едва хватило времени до отеля, куда, пользуясь чудным осенним вечером, вся компания отправилась провожать Лизу.
Редакция «Народного дела» составилась недавно в Веве («Вы еще не были там? О, чудное местечко! Это на противоположном конце озера, поблизости от Монтрё»), — когда там образовалось нечто вроде русской колонии — Бакунин, Жуковский, Ольга Левашова, Утины… Мадам Ольга дала тысячу рублей, печатать взялся Элпидин («Он снимает две комнаты вместе с наборщиком на улице Террасьер, в одной спальня, в другой печатня»)… Чуть ли не с самого начала Утин заспорил с Бакуниным и с его другом Жуком, но Ольга настояла на участии Утина, это было ее условие, она хотела объединить силы; и все-таки после первого номера Бакунин с Жуком хлопнули дверью, а ведь именно они составляли номер. Подробностей разрыва Екатерина Григорьевна не знала. Склонялась же, пожалуй, больше к Бакунину.
На набережной у двери отеля распрощались до завтра.
Наутро она зашла за Бартеневыми раньше, чем уславливались, — чтобы отправиться к Утиным.
— А как же Александр Константинович? — засомневался Бартенев.
— Оставим ему записку.
Утины снимали небольшую квартирку недалеко от вокзала, Лиза узнала знакомое место. Вся комната была завалена книгами и бумагами, оказывается, писали и муж и жена. Утин поднялся навстречу гостям из-за этих завалов не очень-то приветливо, своим приходом они, как видно, оторвали его от стола.
Бартенева вчера точно определила. Стоило только представить себе тщедушного Утина рядом с Саваофом-Бакуниным, как слово «антиподы» напрашивалось само собой. Но дорогой она успела сообщить Лизе, что Утин единственный, помимо Бакунина, здесь в эмиграции, кто в Петропавловской крепости погостил — правда, недолго — после студенческих волнений 61-го года. И что за выпускное сочинение в университете получил золотую медаль, тогда как товарищ его по курсу Писарев получил серебряную, — уже одно это не позволяло смотреть на маленького Утина свысока… И что входил в Центральный комитет «Земли и воли». А приговорен был после того, как убежал за границу, — за то, что от имени «Земли и воли» договаривался с польскими повстанцами.
— Сударыня сия, — отрекомендовала ему Лизу Бартенева, — настолько вчера обиделась за Чернышевского в кафе «Норд», что заявила: не желает больше Бакунина слушать!
Воспаленные глаза Утина по-птичьи сверкнули за толстыми стеклами очков. Он посмотрел на Лизу снизу вверх с любопытством, быстро спросил:
— Уж не единомышленники ли мы с вами?
Но Лиза не оценила усмешки, вспыхнула при напоминании о вчерашнем:
— Посудите сами, какая низость!
Она пересказала бакунинский выпад.
— Вы близко к сердцу принимаете судьбу Николая Гавриловича, — одобрила миловидная жена Утина, похожая на итальянку.
Но муж перебил ее.
— А что вас сюда привело, в Женеву?
Лиза сказала о болезни Михаила Николаевича.
— В таком случае почему же вы не остались при больном муже?!
Лиза спокойно отвечала, что убедилась собственными глазами, как в санатории доктора Эн хорошо ухаживают за больными, и только после этого вернулась в Женеву.
— Зачем?
Лиза замялась:
— Состояние Михаила Николаевича не так уж опасно… я говорила с доктором…
Утин пожал плечами.
— Случись что со мной, надеюсь, моя жена меня одного не оставит, правда, Ната?
— Ну, полно вам, Николя, — вступилась за Лизу Бартенева. — Не всем же быть Волконскими и Трубецкими? Ваша Ната ради вас уехала из России…
— Уж так-таки ради меня! — рассмеялся Утин.
— Это верно, не каждая женщина может стать с Трубецкою вровень, — серьезно согласилась с Бартеневой Лиза. И с болью спросила: — Но скажите, пожалуйста, ведь вы же хорошо были с ними знакомы, мне еще не приходилось разговаривать с людьми, так близко Чернышевского знавшими, почему же его жена не сумела так поступить?
— Итак, вы пожаловали в Женеву побеседовать о Чернышевском или о жене Чернышевского, об Ольге Сократовне, — живо закивал Утин, — для чего и ищете знакомств в эмигрантской среде. Я верно вас понимаю?
Лиза закусила губу, не зная, что отвечать, уже готова была вскочить, как намедни в «Норде», но тут на выручку ей поспешила Ната Утина; вероятно, почувствовала ее обиду.
— Не сердитесь на Утина, Лиза. Наше положение увы, диктует нам осторожность в новых знакомствах… А то, о чем вы спросили, для нас для всех больно.
— Друзья Чернышевского конечно же всегда знали что они совершенно разные люди… — сказал Утин. — Ольга Сократовна была занята только собою… но кто бы посмел заговорить с Николаем Гавриловичем об этом! И — увы! — друзья его в ней не ошиблись… пустая дама!
— Он так ее любил, что все ей прощал! — воскликнула Ната. — И слышно, до сих пор все прощает…
— Так что, может быть, лучше не мы вам, а вы нам Лиза, сумеете объяснить природу подобной натуры!..
— Перестань, Николя, это слишком! — одернула мужа Ната.
Но тут появился бывший поручик собственною персоной.
Он долгом своим счел явиться, раз был уговор, и надеется, не помешал. И Ната и Катя бросились к нему с жалобами на невозможного с его наскоками Утина.
Но Утин успел еще сказать ему:
— Слушай, Саша, попроси своего Нико рассказать Лизе об Ольге Сократовне, ее эта дама весьма занимает.
Бывший поручик отвечал на жалобы женщин с армейскою прямотой, тогда как Лиза молчала, по примеру Бартенева, молчавшего неизменно.
— Вольно же было старику Томановскому брать в жены юную деву. Когда мы служили с ним на Кавказе, он был старше меня годика на два, на три. Ему, стало быть, тридцать три нынче, а вам, Лизавета Лукинична, позвольте узнать?
Кажется, он единственный в этом кругу признавал обходительное, по имени-отчеству, обращение.
— Считайте, что я ровесница Вере Павловне, когда она выходила за Лопухова.
— А Вере Павловне было восемнадцать, — заметил Утин — главным образом для бывшего поручика.
— Вот и мне скоро будет, — сказала Лиза.
Теперь уж не удержалась Катя Бартенева. Да давно ли замужем Лиза? И услышав, что нет еще года, по-бабьи заахала, вот, мол, несчастье, что сразу же такая напасть…
А бывший поручик удивился. Сколь он слышал, Томановский вышел по болезни в отставку, должно быть, уж года четыре тому…
— Это правда, — сказала Лиза. — Когда мы венчались, он был уже нездоров.
— Как же вы могли? — ахнула Катя. — Как же он мог?! Вы что же, не знаете, девочка, ведь вам и детишек нельзя…
У нее у самой было двое.
— У нас и не может их быть, — не смутившись, ответила Лиза; и пояснила: — У нас ведь с Михаилом Николаевичем, как у Веры Павловны с Лопуховым… Только, в отличие от них, у нас все так и останется.
— Значит, вы по Чернышевскому от родительской воли спаслись! — догадалась, к общему облегчению, Ната Утина.
И бывший поручик обрадовался:
— Что ж вы сразу-то не сказали?!
— Нет, причина другая. Мне надо было вступить по закону в права наследства.
— Так экстренно? — Ната Утина пожала плечами.
— Я уже говорила Екатерине Григорьевне… Кате, — поправилась Лиза. — И вот… месье Бартеневу тоже, и вам, Александр Константинович, помните? Думала завести мельницу на артельных началах…
— В Холмском уезде? — вспомнил Бартенев.
— …Или даже мельницы, может быть… К сожалению, это оказалось неосуществимо…
Глаза Утина блеснули из-под очков.
— Стало быть, вы располагаете средствами?
— Я решила их применить по-иному. Сейчас мне не хотелось бы говорить об этом.
— Зато у меня к вам деловое предложение, — решительно сказал Утин.
И Лиза поняла по его тону, что допрос, учиненный ей, на этом закончился и что, по-видимому, она испытание выдержала.
Деловую встречу назначили на другой же день. А покамест от Утиных всей компанией отправились перекусить, благо время было по-российски обеденное, хотя французы (а следовательно, и женевцы) называли эту еду завтраком. Как и накануне, повстречались все в том же «Норде» с Нико Николадзе. На сей раз бывший поручик заговорил с ним. Попросил рассказать об Ольге Сократовне Чернышевской. «Наша милая Лиза не может взять в толк, отчего она не разделила с Николаем Гавриловичем его участь».
— Умом-то я, может быть, уже понимаю…
— Хорошо, Сандро, я исполню просьбу, — гортанно проговорил Нико, называя приятеля на грузинский манер. — Но не ждите, Лиза, что услышите какое-то откровение от меня, я просто кое-что могу об Ольге Сократовне рассказать, вот и все…
И он вспомнил давнее стихотворение Михайлова в альбом Ольге Сократовне, где говорилось о ее прелести и о том, что даже если можно не влюбиться в нее, то уж во всяком случае ни в кого другого невозможно влюбиться при ней…
В Петербург Нико приехал учиться в университете, но едва успел поступить, как за участие в студенческих волнениях был исключен (даже в крепости отсидел) и выслан, однако не поехал, остался — у приятелей-студентов, так сказать, нелегально. Тогда и познакомился с Ольгой Сократовной: сама напоминавшая чертами грузинку, она любила бывать в окружении студентов-кавказцев…
— Интересно, — как бы сама себе сказала Лиза, — ведь и Веру Павловну в «Что делать?» принимали за грузинку…
…и, смеясь, она говорила о нем, что он единственный кавказец, не ухаживающий за нею… А на лето вместе с друзьями Нико поселился в Павловске, где жила семья Чернышевского, и они стали много времени проводить втроем, с Ольгой Сократовной и с ее сестрою, гуляли вместе, катались на лодке. Вечеринки, танцы, спектакли, наряды, выезды, катанье на тройках зимой и пикники летом!.. — вот была стихия Ольги Сократовны. Она была уверена в том, что жизнь — это праздник, и умела устраивать его себе!.. Николай же Гаврилович был, как всегда, страшно занят, и все же именно там, на даче, он наконец разговорился с Нико… Но в июне закрыли «Современник». Опасавшийся ареста Николай Гаврилович отправил Ольгу Сократовну с детьми в свой родной Саратов…
— И она даже не попыталась облегчить его участь?!
— А чем она могла помочь?!
— Не знаю… хлопотать за него…
— Хлопотали друзья, и, как видите, безуспешно.
— Навещать его, наконец, ехать следом за ним…
— Да, верно, мы знаем женщин, способных на это… Петербургская гимназистка, к примеру, царю написала, что готова пойти в тюрьму, голодать и даже лишиться жизни, лишь бы только спасти Чернышевского… Ольга Сократовна, наверно, не способна на это. Поверьте, она прелестная женщина, прелестная, избалованная, жизнерадостная и земная, но не более этого, хотя и это, по-моему, так немало… Не требуйте от нее неземного поступка.
На другой день у Утиных Лиза застала лишь одну Левашову, миловидную даму лет под тридцать. Едва Утин повел речь о журнале, Лиза тотчас же догадалась, что перед нею та самая мадам Ольга, благодаря деньгам которой журнал был основан (как рассказывала Катя Бартенева по пути из «Норда»). Ольга, однако, как и Ната Утина, скорее присутствовала при деловом разговоре, чем принимала в нем участие. Сам же Утин без долгих предисловий сказал, что здесь в Женеве начали издавать журнал, новый орган всей сплоченной российской партии Народного освобождения, для обсуждения революционной теории и практики, для пропаганды и организации сил в России, но, увы, извечная беда революционеров заключается в том, что, хотя они всегда готовы и даже желают, если надо, и жизнь свою отдать за идею, к сожалению, денежных средств у них почти никогда не хватает. Тут он вспомнил о Герцене как счастливом исключении из этого правила, чему в немалой степени обязан долгим и громким успехом «Колокол». Но, увы, когда в эмиграцию выбросило новую волну россиян и молодежь эта попыталась со стариками соединиться для общего дела на единственной тогда почве вольного русского слова, — сколько раз ни пытались, договориться не удалось. Александр Иванович не пожелал ничем ради «щенят» поступиться. Вот Лиза вчера говорила с Нико Николадзе. Пусть Нико ей расскажет, как, сотрудничая в «Колоколе», он свою брошюру в защиту Каракозова набирал по ночам в типографии Герцена от Александра Ивановича тайком!.. Верно, спустя сколько-то времени молодежи удалось все же наладить собственную печатню… главным образом благодаря Элпидину и Николадзе и основанному на сбор от его брошюры «Фонду Чернышевского»… но каких это стоило сил!.. И резон ли сейчас пускаться в исторический экскурс по лабиринтам вольного русского слова, тем паче что в достаточной мере запутаны эти лабиринты, он же, Утин, лицо чересчур пристрастное и на роль Ариадны не претендует… может только добавить, что у истока этой печатни стоят каракозовцы, Худяков, приезжавший в свое время от них в Женеву.
Бегая по комнате от стены к стене, из угла в угол, Утин продолжал:
— С первым номером «Народного дела», едва ли не целиком вышедшим из-под бакунинского пера, Элпидин отправился… ну, неважно куда, но туда, где имел старые связи, чтобы восстановить их для переправки журнала через границу. Не стоит говорить, сколь важно, чтобы журнал доходил до России, в этом смысл его, а иначе кому он вообще нужен… Но покуда Элпидин проездил, развернулись события, в результате которых Бакунин из редакции вышел… Так вот, когда недавно Элпидин вернулся, он заявил, что выходит за Бакуниным следом! Иными словами, его типография для журнала отныне закрыта. Мы попали в пиковое положение. Пришлось обратиться в бывшую типографию Герцена, к ее теперешнему владельцу, который, впрочем, заправлял ею всегда. Но этот Чернецкий, этот собственник, потребовал от нас, вдобавок к нашему шрифту, — благодарение богу в лице мадам Ольги, шрифт у нас собственный — еще денег на покупку печатной машины! Больше нам обратиться некуда. Третьей русской типографии в Женеве не существует. Если мы не хотим погибнуть и погубить свой журнал, теперь у нас единственный выход — открыть таковую!
Он резко остановился перед Лизой и выбросил вперед руку ладонью вверх:
— Помогите чем можете русскому революционному делу!
— Я читала второй номер журнала, — в раздумье проговорила Лиза, — направление мне кажется хорошим…
Но с собой у нее мало свободных денег, да вообще их немного. В права наследства еще не успела вступить… И потом, как она уже говорила, у нее были свои планы… другие планы…
— Неужели нет возможности переменить их?
— Не стану скрывать от вас, чего я хочу, откровенность за откровенность.
И твердо и ясно Лиза объявила, что поклялась себе обратить сколько нужно денег из доставшихся ей от батюшки Луки Ивановича по наследству на дело освобождения Николая Гавриловича Чернышевского, вот в чем планы ее, и за этим именно она стремилась в Женеву.
Вот так-так, ни больше, ни меньше! Утин от неожиданности даже присел на минутку.
— Но, позвольте узнать, отчего же именно сюда, в сторону, можно сказать, прямо противуположную от вашей цели?!
Что же Утин видит непонятного в этом, удивилась такому вопросу Лиза, или, может быть, все еще испытывает ее, как намедни?! Хорошо, если надобно, она объяснит. Дома с кем она может поговорить об этом? Она хотела, даже искала таких людей, и была даже раза два на вечерах нигилистов в кухмистерской на Васильевском острове — невдали от ее, Лизиного, дома, товарищ старшего брата с собой туда приглашал, там у них порядки такие: полтинник за вход, на столах селедка да водка, и танцы вдобавок… и все это, в том числе разговоры, показалось Лизе до того несерьезным… начиная с названия, какое они себе взяли, — Сморгонь!
— Допустим, — согласился Утин, — здесь серьезные люди более на виду. Но какое же, по вашей мысли, они должны найти применение вашим деньгам?
Как какое? Собрать надежных людей да отправиться за Байкал, купив ружья и пистолеты. Впрочем, они, наверное, сами решат, как лучше, не Лизе же, в самом деле, учить их! Вот ехать с ними, пусть Утин знает, она готова!
Но Утин со своими вопросами не отступался.
— Допустим, ваш план удается, Николай Гаврилович на свободе. Что дальше?
Его дотошность уже перестала удивлять Лизу, хотя, конечно, она ждала не такого отношения к своему плану.
— Я думаю, в России ему будет трудно скрываться. И потом, мне кажется, главное для него — возможность работать, писать, нет большого различия где, раз он сумел в Петропавловской крепости написать «Что делать?». А в Женеве-то все-таки лучше, чем в крепости. И кстати, с его приездом, я уверена, намного облегчится задача вашего «Народного дела», о чем вы давеча сказали, — вся партия Народного освобождения, переставши наконец спорить, около него и сойдется.
— А известно ли вам то, сударыня, что, когда Чернышевского предупредили об аресте и посоветовали бежать за границу, он отказался? Да, да, решительно отклонил для себя такой выход, держась мнения, что эмигрантство отрежет его от России, от «пульса общественного», превратит в ненужного болтуна. Это выражения его подлинные, все тот же Нико Николадзе свидетель.
У Лизы упал голос:
— Первый раз слышу.
— …Разумеется, — присовокупил к сказанному Утин, — он не мог тогда думать, что все так обернется… Знай он это, быть может, поступил бы иначе… подобно многим другим… покорному вашему слуге, например. Впрочем, мы здесь не так давно получили весточку от него, один ссыльный, возвращавшийся из Сибири, привез. Никаких жалоб, никаких сожалений! Чернышевский, конечно, не хочет, чтобы кто-то подвергался опасности из-за него. Но волонтеры находятся… вы, Лиза, не первая, должен вас огорчить. Уже вскоре после его ареста одна гимназистка предложила царю в обмен на свободу Чернышевского собственную жизнь…
— Мне Нико Николадзе о ней говорил…
— …а сразу же после приговора мы здесь, в Женеве, составили свой проект… Но я думаю, это должно вас и радовать в то же время, не так ли? Ну конечно же план ваш… наивен, и притом он безусловно разумен!
Лиза как-то встрепенулась, ожила при этих словах. Видно, это такая манера у него — сначала выпотрошить собеседника, а потом уж сообщить свой взгляд на предмет. И намедни Утин так с ней поступил, и нынче.
— …Вы знаете, каких-то полгода тому два человека едва ли не месяц ожидали в Рязани денег, тысячу рублей, чтобы ехать за Чернышевским в Сибирь, — и от безденежья все сорвалось! Здесь об этом недавно узнали… И каракозовцы вели подготовку к тому же — роковой выстрел спутал все планы. А недавно один россиянин тут, в Женеве, носился вовсе с безумным проектом — похитить особу царской фамилии, чтоб затем на Чернышевского обменять!.. Словом, в вашем предложении содержится то, что называют потребностью времени. Согласен, над этим следует еще раз подумать… Но и вы в свой черед обещайте подумать о типографии для журнала. Были б деньги… в конце концов, одно другого не исключает!..
2
Проводив окрепшего на целебном воздухе швейцарской Монтаны законного своего супруга в угличское сельцо, Елизавета Лукинична Томановская объявилась незадолго перед рождеством на Васильевском острове в Петербурге, в доме матушки своей, вдовы майора Каролины Кушелевой, к великой ее радости. Как самую дорогую гостью встретила дочку Наталья Егоровна (давно уже именуемая Каролиною лишь в бумагах), не знала, куда усадить и чем полакомить. Уж сколько лет всем семейством жили зимами здесь, в небольшом особнячке, и, бывало, едва размещались, а вот этот год как-то разом дом обезлюдел. Наталья Егоровна, женщина деятельная и хозяйка, вела дом по-прежнему, не поддавалась тоске, какая нет-нет да подстережет то в опустелой комнате, то в кладовой или в конюшне, все хлопотала, поддерживала порядок. Так все было здесь неизменно привычно, что, войдя к себе в комнату, Лиза на миг позабыла обо всех своих планах, обо всех переменах в жизни и даже почувствовала то же, что чувствовала с тех пор, как помнила себя девчонкой, по приезде на зиму из псковской деревеньки, — радость от того, что она в Петербурге. Подошла к окошку и убедилась, что это не сон — вон, точно напротив, длинный, строгий фасад Кадетского корпуса и правее скорее угадываемый, чем видимый из окна, невский простор.
До сих пор у нее не было секретов от матушки, и, может быть, в этом было главное Лизино счастье. В том, что матушка была человек необыкновенный. У детей обыкновенных родителей все складывалось намного сложнее. Отцы и дети не только у Тургенева не могли друг друга понять, далеко ли ходить за примером. Взять хотя бы соседских племянниц; дом их теток к Лизиному примыкал стенка к стенке.
Сестры, старшая Анна и Лизина сверстница Софа, генеральские дочки, из года в год гостили зимами у теток Шуберт, приезжали из витебской деревни, от Лизиного Волока отстоявшей верст, может быть, на сто. Там, однако же, не видались, здесь же жили бок о бок, друг о дружке многое могли знать. О самостоятельности генеральские дочки мечтали не менее Лизы, младшая увлекалась науками, а старшая — писательством, под большим секретом Лизе было поведано, что ее одобрял и печатал в своем журнале Достоевский, но, невзирая на это, а также и на то, что Анна, в отличие от младшей сестры (и от Лизы), уже достигла совершеннолетия, она шагу ступить не могла без отцовской воли, потому и писательство ее сделалось страшною тайной, в первую очередь от отца. Старый генерал был спесив, и единственным верным средством вырваться из гнетущей, мешающей жить серьезно и искренне обстановки представлялось замужество, освобождение по Чернышевскому, фиктивный брак с человеком, который был бы одушевлен теми же надеждами и идеями… Но столько Вер Павловен пустилось в поиски своих Лопуховых, что, чем дальше, тем устройство такого предприятия становилось труднее. Лиза на себе испытала. У нее, однако, устроилось не только с ведома матушки, но и во многом благодаря ей, тогда как сестрам-соседкам пришлось действовать тайком. Когда же подходящий кандидат наконец минувшей весною нашелся (как ни странно — для младшей, дурнушки рядом с волоокою Анной), то старик генерал не одобрил выбора. Бедной Софе ничего не осталось иного, как «крупно компрометироваться» и сбежать к жениху на квартиру. Явилась мать, произошла сцена с рыданиями и со слезами. Но молодые на своем настояли, только свадьбу до осени отложили, обвенчались перед самым Лизиным отъездом… Кандидата для Анны, Лиза слышала, не подыскали по сей день. Насколько все удачнее получилось у нее… впрочем, при батюшке Луке Ивановиче и у Лизы, наверное, так бы не вышло. Лука бы Иванович Михаила Николаевича не потерпел!.. Грех так думать, но в точности так было бы, хоть батюшка до генерала не дослужился.
Михаила Николаевича Лиза с детства знала, первый раз увидала на свадьбе у Ады, младшей из законных дочерей Луки Ивановича. Лука Иванович был еще жив, когда Ада выходила за Томановского, Владимира Николаевича, лейб-гвардии офицера. Младший брат его, Михаил Николаевич, тоже был офицер, и другие их братья и гости, и запомнилась шестилетней Лизе Адина свадьба звоном шпор и блеском мундиров. После Лиза гащивала у сестры, в заволжском сельце против древнего стоглавого Углича, а Михаил Николаевич, по болезни выйдя в отставку, там поселился, и, гуляя по окрестным местам, о чем только не переговорила подраставшая барышня со своим новым родственником, хотя такому родству, как у них с Михаилом Николаевичем, вроде бы названия не существовало, ведь они единородные с Адой по отцу лишь. Это теперь она стала звать его — братец.
Они любили бродить по кремлевскому парку на крутом берегу, где все было давним прошлым, и в рассказах братца оживала «История» Иловайского, по какой гонял Лизу в Волоке домашний учитель. После смерти царя Ивана Грозного в этих каменных палатах поселилась царица Мария Нагая с сыном, а спустя семь лет царевича Дмитрия нашли мертвым у волжского откоса, вот здесь, на месте ажурной церкви Царевича Димитрия, что «на крови», — целою повестью об убиении царевича и о расправе угличан над убийцами расписана внутренняя стена храма. За расправу ту царь Борис Годунов жестоко наказал угличан, и не только людей: даже колокол, что возвестил о смерти царевича, был предан позору, с колокольни сброшен, посечен плетьми и с вырванным языком и отрубленным ухом отправлен в Сибирь, где «первоссыльный неодушевленный с Углича» пребывал по сию пору. И хотя еще и до тех событий, и позже в землю здешнюю впиталось озеро крови — хан Батый лютовал, и сражался Димитрий Шемяка с Василием Темным, и с поляками бились в Смутное время, — по церковным праздникам, когда долетал к Томановским за Волгу благовест сорока сороков колоколен угличских, после рассказов Михаила Николаевича почему-то Лизе казалось, что все они плачут по ссыльному своему собрату. Лиза уже была полна Чернышевским; и — подобно опальному колоколу — автора «Что делать?» к тому времени уже загнали в Сибирь, — точно язык вырвали у новой России. Лиза посвящала Михаила Николаевича в потаенные свои планы — даже еще не планы, мечты — и об устройстве артельных мельниц, и о спасении осужденного несправедливо, и об острой, неутерпимой жажде самостоятельности ради осуществления этого. Объяснений не требовалось. Михаил Николаевич благородно предложил свое содействие, он не хуже Лизы был осведомлен как в российских законах, так и в делах семейства.
Батюшка Лука Иванович, хоть и не прочь был подчас прикинуться простачком, на самом деле человек был далеко не простой. Сама Лиза, понятно, об этом судить как могла, ей восьми лет не сравнялось, когда Лука Иванович умер, помнился только неодолимый страх перед ним да исходивший от него тонкий запах ароматного табаку, от какого по сей день внутри холодело. А ведь батюшка Лука Иванович был к ней добр и, должно быть, по-своему любил ее, о чем Лиза могла судить по рассказам матушки, и сестры Ады, и дворовых людей. Да и по завещанию Луки Ивановича тоже. Впрочем, вспоминая Луку Ивановича, матушка признавалась на своем ломаном языке, что и сама боялась его: «Отшень любиль и отшень боялься». Он был истинным русским барином, столбовой дворянин Лука Кушелев, и когда приглашенная к дочерям бонна ему приглянулась (вполне может быть, что и пригласил-то за красоту), то свое расположение искренне и без колебаний почел благодеянием для нее, а что Каролина оказалась женщиною с характером, пригодным не только для воспитания детей, лишь его распалило. Лука Кушелев не привык поступаться своими прихотями, даром что был старше Каролины без малого лет на тридцать.
К тому времени, когда она появилась в доме, барин был ни вдов, ни женат, от жены жил отдельно, в родовом псковском именьице, поелику барыня Анна Дмитриевна не захотела жить с мужем из-за жестокого его обращения с крепостными (в свое время сама прижита была крепостной крестьянкой от барина, а потом привенчана, узаконена то есть), и не только ушла от супруга с тремя дочерьми, но и пожаловалась самому Бенкендорфу. Дело «О защите майорши Кушелевой от противузаконных поступков мужа ее» тянулось долго, что, однако, не мешало Луке Ивановичу приглашать дочерей, живших с матерью в Петербурге, к себе на лето погостить. По годам Каролина годилась барышням больше в подруги, чем в бонны. Когда барышни уехали в Петербург, она, уступив настояниям Луки Ивановича, осталась в имении за домоправительницу. Ну и вскорости пошли дети, коих местный священник крестил и записывал в книге сыновьями и дочерьми девицы Каролины Троскевич.
Елизавета из четверых родилась третьей.
Наталья Егоровна, так ее теперь величали, жила в доме не то хозяйкой, не то прислугой, но, если эта двойственность и тяготила ее, виду она не подавала, тем более что для своих, для домашних и для крестьян, была, без сомнения, хозяйкой, доброй барыней и заступницей от тяжелого барского нрава, что не смягчался с годами. В подобном же положении находились и дети. Лука Иванович наверняка их любил, но держал на дистанции и именовал не иначе как воспитанниками, чтобы, не дай бог, не уравнять с законными дочерьми. Это, впрочем, не мешало внимательно следить за их воспитанием, подбирать хороших учителей, а из-за границы, куда ездил лечиться, возвращаться всякий раз с новой наставницею для них — сначала это была англичанка мисс Бетси, потом француженка, весьма образованная. Потом появился Егор Ифаныч, музыкант-немец, весьма энергический сторонник спартанского воспитания, таскавший мальчиков по сугробам и обучавший игре на фортепиано, искусством которой владел недурно даже по мнению такого слушателя, как Модест Мусоргский. Дальняя родня и сосед, гостя в Волоке, с охотою слушал фуги Баха в исполнении, как он говорил, «горячего пруссака»… Вообще Лука Иванович Кушелев просвещение высоко ценил и Европу знал хорошо, не просто как путешественник-барин. Солдатом чуть не всю перемерил в походах против Наполеона. А петербургской библиотеке Луки Ивановича, где имелись тома на пяти языках, могли многие позавидовать, и от «воспитанников» он книг не берег. И о будущем их позаботиться не позабыл, обеспечил в завещании щедро. Но вот с матерью их не спешил обвенчаться даже и после смерти законной жены. Обвенчался лишь вследствие события чрезвычайного, а детей так и не узаконил, не «привенчал».
Чрезвычайность же события, что привело мать его четверых детей под венец, заключалась в том, что однажды глухою ночью в барский дом ворвались мужики.
Матушка Наталья Егоровна заградила им путь. Услыхала ночью возню и — к Луке Ивановичу. А над его кроватью уж топоры. Она — под них: «Вперед меня убивайте!» Мужики топоры опустили: «Ради тебя не убьем, но будь он проклят!» Только тут, при этих словах, когда уж убийцы его уходить повернулись, проснулся Лука Иванович и все разом понял.
С этой ночи то ли что-то сместилось в своенравной его голове, то ли, напротив, нестерпимо ему было чувствовать себя даже перед любимой женщиной должником, а должок нешуточный. И помещик Холмского уезда Псковской губернии Лука Кушелев вскорости повенчался вторым браком с девицею Каролиной Троскевич, приписанною к Курляндской губернии городу Газенпоту мещанкою.
Пятилетняя Лиза проспала сладким сном всю страшную ночь, узнала о тогдашнем событии много позже кончины Луки Ивановича (после той ночи прожившего еще года три).
Овдовев, помещица Каролина Кушелева дом вела в память мужа на прежнюю ногу, только что крестьяне посвободней вздохнули, а когда два года спустя объявили им волю, поняла, что Лука Иванович, крепостник неисправимой закваски, ушел вовремя. Впрочем, в жизни кушелевских крестьян перемен особых не наблюдалось. Лиза часто ходила в деревню вместе с матерью, лечившей больных. Эти крытые подгнившей соломой курные избы с подслеповатыми, без стекол, оконцами, с закопченными потолками, с некрашеными столами и скамьями… их соседство с барской усадьбой, прихотливо раскинувшейся на горе — где за домом с мезонином и флигелем, за фруктовым садом с оранжереями, гротом и родником спускался к речке Сереже тенистый парк, — очень рано задало Лизе загадки не детские. Положение в доме приближало ее к дворовым людям, добрые кухарки да горничные воспитанницу жалели. Так почему же одним людям и привольно, и сытно, и праздно, а другим людям голодно, трудно, безрадостно, стала спрашивать она и их, и себя. Отчего так?.. Справедливо ли так?.. Как с этим быть? Что делать? На исцарапанную недоуменными жизненными вопросами, на взрыхленную ими, на благодатную почву пал посев Чернышевского (и Тургенева, и Некрасова)… Не налегке она к ним подошла.
Для подданных Российской империи совершеннолетие наступало в двадцать один год, но и при этом неотделенные дети не имели возможности распорядиться по собственному усмотрению ни имуществом своим, ни самими собою. Жизнь соседской племянницы Анны служила наглядным тому примером. И потом, когда тебе только семнадцатый год, таким отдаленным представляется это совершеннолетие, что нет терпения, нет охоты, нет возможности ждать.
Чтобы убедить в этом Михаила Николаевича Томановского, не пришлось даже тратить ей красноречия, признанного в семействе. Благородный Михаил Николаевич без лишних слов предложил содействие. Хорошо знал Лизин характер, хоть непривенчанная, а Луки Ивановича кровь, не отступится от своего. И по-братски любя ее (да только ли по-братски?..), опасался, возможно, как бы она не ошиблась при ином своем выборе. И Наталья Егоровна, тоже любящая и умудренная жизнью, не перечила бесполезно, хоть, наверно, не о такой судьбе для дочки мечтала. С материнского благословения стала Лиза мышкинскою помещицею Томановской (сельцо против Углича числилось Мышкинского уезда) и, получивши назначенное Лукою Ивановичем приданое, укатила с супругом (или с братом, как принято стало называть подобных мужей) в путешествие свадебное — в Швейцарию…
Но пришла пора подумать и об остальном, что со щедрой руки батюшки Луки Ивановича ей причиталось.
И в доме майорши Каролины Кушелевой, в ожидании предстоящего с матушкой разговора глядя из окошка своей комнаты на знакомый до малого выступа строгий фасад Кадетского корпуса, в котором когда-то воспитывался ее своенравный отец, и по давней детской привычке радуясь Петербургу, воротившаяся из Женевы госпожа Томановская размышляла о том, как оставленное Лукою Ивановичем наследство, сотворенное тяжким крестьянским потом, выжатое, высеченное из кушелевских крестьян, как проклятое это дворянское имущество она обратит теперь на освобождение забайкальского узника и на станок для «Народного дела» и тем самым, в согласии с «Историческими письмами» Миртова (говорили, будто под этим именем скрылся сосланный из Петербурга ее земляк, математик и артиллерист Петр Лавров), возвратит его тем, кому оно по праву принадлежит. Неужто она, Елизавета Томановская, не в достаточной мере «критически развитая личность», чтобы хотя не позволить себе оставаться перед народом в долгу, чтобы вернуть по возможности все так, как делал это, к примеру, Герцен в продолжение многих лет своим вольным словом… Прижитая помещиком в сердечной любви, она, если вдуматься, и сама была Герцен, только имени такого нежного, как придумал отец Герцену, батюшка Лука Иванович не сумел Лизе дать.
Воля покойного Луки Ивановича была для матушки неоспорима. И когда дочь чуть не на другой день по приезде завела речь про наследство, Наталья Егоровна, верная себе, перечить не стала, только остерегла от необдуманных трат. «Как ни поверти, майн тохтер, но люче жить скуповато, чем мотовато». Лиза же, объяснив, что хочет пожить за границей, намерений своих все же матушке не открыла, может быть, первый раз в жизни: не артельную мельницу затевала теперь! Что до Лизиной доли, она заключалась в части дома, того самого, где они с матушкой находились, и, выходит, надо было с петербургским домом расстаться, на что матушка решиться сама не могла, а должна была посоветоваться с другими детьми. Так что дело было нескорым (как и предвидела Лиза), но приступить к нему матушка пообещала.
Пока же следовало обратить в деньги кое-что из приданого. С украшениями, и кольцами, и столовым серебром Лиза прощалась легко, как если бы они в самом деле были взяты взаймы, кроме денежного, не испытывала ко всему этому ни малейшего интереса. Бриллиантщик Карл Бер, что в доме Глазунова на Невском, и в Серебряном ряду под Думою купец Холщевников охотно обеспечили за это добро госпожу Томановскую (а стало быть, разумеется, не подозревая об этом, и издание Утина, и побег Чернышевского) достаточными на первое время средствами.
Утин воспользовался ее поездкой и для того, чтобы переправить в Россию экземпляры журнала. Просьба показалась Лизе само собой разумеющейся, без колебаний сунула сверток с листами в кофр и забыла о нем, пока (как и было условлено с Утиным) за ним не пришли. Однажды вернулась с покупками из Гостиного двора, а ее ожидает стриженая девица, я, говорит (в точности теми словами, как условились с Утиным), к вам за посылочкою от Наты. Передав сверток, Лиза заодно поинтересовалась у нигилистки (себя не назвавшей), правдивы ли слухи, будто среди петербургских студентов после долгого перерыва опять шевеление. Краем уха слыхала здесь, на Васильевском, но как-то неопределенно: какие-то сходки, какие-то будто бы требования… «Я ведь, знаете ли, намерена туда, к Нате вернуться, так им там, конечно, интересно все это». — «Да, что-то такое как будто бы происходит, — осторожно подтвердила девица. — Но сколько я знаю, все на почве академических дел. Что-то относительно пособий, касс взаимопомощи, кухмистерских… Конечно, после двухлетней тишины и кружкование кое-что значит…» — «Вы от выстрела два года считаете?» — подразумевая Каракозова, спросила Лиза. — «Понятное дело». — «Но этой, как вы говорите, двухлетней тишины разве еще весною первыми не нарушили женщины?» Гостья, разумеется, сразу поняла, о чем Лиза: ректор в Петербурге получил минувшей весною без малого четыреста заявлений от желавших слушать лекции женщин, и оставить подобное выступление незамеченным оказалось невозможно, тем более оно встретило поддержку либеральных профессоров. «Ну уж, если это в расчет принимать, — отвечала Лизе ее гостья, — то, по справедливости, эти прошения женщин отнюдь не одно и то же, что сходки студенческие. Ведь сходятся противу закона и требуют, помимо всего, права сходок и невмешательства полиции в университетскую жизнь!.. А вы, простите мне любопытство (она говорила с Лизою вежливо, как с чужой), тоже прошение подписали?» На что Лиза ей отвечала, что нет, ибо держится (в духе Миртова — Лаврова) того мнения, что, прежде чем образовываться за счет все того же замученного народа, необходимо возвратить ему хотя частью прежние вековые долги.
Задерживаться в Петербурге дольше, чем это было необходимо, Лиза не стала. С заметно округлившимся кошельком и ворохом новостей вскоре после рождества отбыла в Женеву, где ее (и ее кошелька) с нетерпением ожидали. Последнее, что успела сделать перед отъездом, — зайти в ателье Деньера на Невском у Полицейского моста, где «фотограф их императорских величеств художник Г. Деньер» (как значилось на вывеске возле двери), усадив госпожу на высокий стул в мастерской, застекленной, точно оранжерея, и накрывшись похожим на траурное покрывалом, долго целился в нее из фотографической пушки, а потом, заставив не шевелиться и не моргать, наконец запечатлел изображение: девичье лицо, нежное и в то же время строгое, с внимательными глазами; нос правильный, а щеки и рот еще сохраняют по-детски припухлость; глухой зубчатый воротничок темного платья не в силах закрыть шеи, голова посажена гордо, что еще подчеркнуто и прямою осанкой, и высокой прической с уложенной на затылке косой; словом, виден характер, — эти карточки оставила на память матушке и петербургским знакомым.
3
Из-за расхождения календарей пересечение русской границы напоминало прыжок. «По дороге в Европу — прыжок вперед, и это кое о чем говорит», — заметил при встрече в Женеве то ли в шутку, то ли всерьез Николя Утин. И так же, будто прыжком, Лиза сразу отдала ему обещанную на печатный станок сумму. Станок этот и даже помещение для него в расчете на Лизины деньги Утин заранее присмотрел. Оставалось расплатиться и вызвать из Парижа (о чем тоже было условлено заблаговременно) друга Антуана, наборщика, недавнего приверженца Бакунина, к нему охладевшего; это выяснилось минувшею осенью, когда их с Утиным познакомили в Берне. Слышали друг о друге давно, но прежде встретиться не случилось, зато теперь сошлись быстро, чему, должно быть, способствовала известная общность судьбы. И об этой общности Утин не преминул сразу же поставить в известность сестру Элизу (как стал называть Елизавету после ее возвращения из России), все в том же кафе «Норд» на улице Роны знакомя ее с Антуаном.
— Вам представилась редчайшая возможность лицезреть двух висельников сразу… и в дальнейшем сотрудничать с ними! Ибо друг Антуан, как и аз грешный, судом царским удостоен сей чести.
Антуана эта шутка позабавила в меру. Так же как Утина, его осудили заочно и также в связи с восстанием в Польше. Но если Утина за содействие, то его за участие. В Минской губернии, откуда был родом, он командовал партизанским отрядом, успешно действуя в течение целого года. Во французской его речи явственно слышался славянский акцент. На самом деле его звали Антоном, Антон Данилович Трусов, в Антуана он превратился уже в Париже, куда бежал из России.
Итак, наследство майора Луки Кушелева было пущено в ход, и, оттого что прыжком, Лизе сразу же полегчало, деньги батюшки Луки Ивановича обжигали… Утин не забыл и другого между ними условия («…одно другого не исключает…»), сказал, что уже начал искать подходящую мало-мальски возможность и, как только таковая представится, тут же даст знать Лизе, чтобы она была наготове.
А пока с возродившимся рвением принялись за новый номер журнала. Заполучив собственную типографию, странно было бы с этим не поспешить.
Рукописи, не находя выхода, копились с осени, все их требовалось привести в порядок. И печатню наладить как следует. Тут для всех находилось дело, нашлось и для Лизы, она окунулась в редакционные хлопоты.
— Вот это хорошо бы выправить… Это переписать… А это перевести, — просили ее.
И она с радостью бралась за любую работу, в редакции работы всегда хватало, она чувствовала себя счастливой, наконец-то попала в круг благородных людей и идей.
Главную статью в номер — об истории рабочего движения — подготавливал Утин. Разбирая множество разнообразных вопросов и обосновывая грядущую гибель «мещанского правящего миром порядка», приходил он и к очень важному выводу о солидарности, присущей историческим судьбам всех народов, обусловливаемой тем, что их развитие идет «аналогическим путем». Этой теме в журнале был отведен специальный «отдел Интернациональной ассоциации», с деятельностью которой редакция обещала знакомить русских читателей непременно. Для начала был намечен обзор успехов Интернационала во Франции и в Америке, и в частности сообщение о выходе в свет «замечательного и поистине демократического труда» одного из главных его основателей — первого тома «Капитала» Карла Маркса. Характеристика книге давалась такая: «Поучение, после которого у мещан пропадает охота сентиментальничать».
Самим издателям «Народного дела» подобные мещанские слабости едва ли были знакомы. На заваленном книгами и рукописями рабочем столе Утина рядом с черновиками статей о студенческих делах в Петербурге (где он связывал нынешние события, о которых судил по газетам и по рассказам — в том числе и «сестры Элизы», — с памятными ему самому волнениями 61-го года) лежала рукопись, утверждавшая прямо, что лучше гибель, которая «подвигает общее дело вперед», чем «отрупелое прозябание», когда «юные силы гибнут, растрачиваясь в разврате и пьянстве, стираясь… в казенной службе… это — жертвы бесплодные…».
На редакционном совете было взято за правило не выставлять имен авторов (подразумевалось, что статьи должны выражать общие воззрения). Единственное исключение в новом номере допустили для программного «Извещения», подписал его секретарь редакционного совета Антон Трусов. Известив об основании собственной типографии и предлагая печатать там пропагандистские листки и брошюры партии Народного освобождения в России, секретарь без обиняков заявлял о стремлении журнала стать органом всей этой сплоченной партии, «доработаться, при помощи свободного печатного слова… до окончательного ее сформирования».
Ради этого стоило постараться!
Призыв к сплочению встретил немедленный отклик — и не в юной какой-нибудь пылкой головушке, но в самом Александре Ивановиче Герцене. Бакунинское «Народное дело» народилось на свет безо всякого его участия, даже тайком от него, последовавшая затем ссора в редакции произошла так же. К тому же во втором, уже утинском номере журнал задел Герцена, и чувствительно. Были Герцену известны и неудачные переговоры о печатании с Чернецким, после того как отказался Элпидин… И вот, невзирая на все, в том же месяце мае, когда новый номер журнала наконец вышел в свет, Александр Иванович приехал в Женеву и сам предложил объединить типографии!
Утина в это время в городе не оказалось. По совету врачей он с женою перебрался в Кларан, в дальний от Женевы конец озера. Александр Иванович через Трусова переслал туда Николаю Исааковичу письмецо с изложением своего замысла, а также переговорил об этом с сотрудником «Народного дела», своим добрым знакомым. Утин без промедления отвечал Герцену, весьма уважительно, но достаточно твердо придерживаясь условия, не раз отвергнутого Александром Ивановичем при прежних безуспешных переговорах с «молодыми». Соединение могло осуществиться, на взгляд Утина, только в том случае, если Герцен передаст на общее дело «бахметевский фонд».
Лиза заинтересовалась, что это за фонд за такой. Антуан объяснил: саратовский помещик Бахметев поступил примерно так же, как Лиза, — отдал Герцену в распоряжение свой капитал на революционные цели. Однако Александр Иванович делить его со «щенятами женевскими» не хотел…
— А Бахметев согласен с этим?
— Так кто ж его знает… — пожал Антуан плечами. — Бахметев оставил деньги и был таков… Укатил себе на какие-то острова.
— Я разве так поступила?! — по-детски надулась Лиза.
Нет, она ни за что не хотела бы следовать подобному примеру, более того, опасалась очутиться в положении этакой барыни-благотворительницы: пожертвовать сумму и остаться от дел в стороне…
— И потом, если Герцен не хочет, какая нужда настаивать? Ведь мы покамест истратили не так уж много…
Стоя за наборной кассой, Антуан разъяснял терпеливо, что кроется за настойчивостью Утина, пусть Лиза не думает, что упрямство, или, хуже того, голый принцип. Нет, тут все обстояло сложнее. По сути, причина была та же самая, из-за какой раздался призыв «Народного дела» к сплочению, так живо принятый Герценом. И причина эта — вновь вспыхнувшая издательская лихорадка Бакунина, сопровождаемая заверениями, что у него теперь достаточно средств для пропаганды в России. Не о бахметевских ли деньгах шла речь, не на них ли замахнулся Бакунин вместе с новым своим сподвижником, весьма деятельным молодым человеком, только недавно прибывшим из отчих краев?!
С этим новым своим компаньоном — Лиза знала — Бакунин выпускал листовки одну горячее другой, утверждая, что надвигаются времена Стеньки Разина, и призывал молодежь спасаться от «университетского развращения» («Ступайте в народ! Там ваше поприще…»), а затем присоединяться к… разбойникам в лесах, в городах, в деревнях (ибо «разбойник в России — настоящий единственный революционер… без фраз, без книжной риторики»). Пропаганда же, за которой немедленно не следует дело, объявлялась бесцельной и даже вредящей (и в адрес «говорунов, кто не захочет понять этого», раздавались угрозы: «Мы заставим замолчать силой»).
Вот какие обстоятельства побуждали «Народное дело» призвать «приверженцев революционного дела» к сплочению, и они же вызывали беспокойство за бахметевский фонд. Согласись Герцен на утинское условие, это означало бы ясно, толковал Антуан Лизе, что под опасениями нет почвы.
Герцен Утину отказал… Это было, разумеется, его право, капитал был доверен ему, и решать, кто достоин оттуда черпать на пользу революционного дела, должен был не кто иной, как он, Герцен.
Самоуверенный молодой человек, покоривший Бакунина, появился в Женеве в марте.
Элпидин повествовал в кафе «Норд»:
— Раз слышу у себя в типографии звонок. Входит некий человек и спрашивает: «Который из вас Элпидин?» (нас двое было). Ответил ему. «Есть, — спрашивает, — у вас сальная свечка?» — «Ну, есть». — «Так дайте ее мне», — и тут сбрасывает сапоги и принимается натирать ноги, трет и шепчет, что пешком прошел верст пятьсот и мозоли набил. Потом вдруг говорит: «Что это вы, Элпидин, заварили кашу и не довариваете?» — «Про какую эту вы кашу?» — вроде не понял я. — «„Народное дело“, — говорит, — вы оставили? Почему из редакции вышли?» — «Ну, — думаю, — ты, брат, охоч роль начальства сыграть, а я от этого давно уж отвык, не вытолкать ли мне тебя взашей?» Решил, однако, дать ему урок учтивости. «Позвольте, — говорю, — узнать, с кем имею удовольствие…» А он в ответ скороговорочкой: «А не все ли равно, хотя бы, — говорит, — Столов, Сапогов или Свечкин, как ни зваться…»
Хотя молодой человек не только Элпидину представлялся разными именами, денька через два-три его фамилия стала известной завсегдатаям кафе «Норд» из подписи под листовкой, отпечатанной у Чернецкого. Обращенная к петербургским «братцам»-студентам, прокламация эта произвела впечатление на многих, и Лиза не была исключением. «Развив наши мозги на деньги народа, вскормленные хлебом, забранным с его поля, станем ли мы по-прежнему в ряды его гонителей?» — спрашивалось в листовке, и каков мог быть ответ порядочных людей, кроме единственного: нет, никогда!., и разве могли они не считать также, что следует «обобщить вопрос русской молодежи» в «вопрос Русской земли»?! Одно настораживало: история побега из Петропавловской крепости, сообщенная тут же, вызывала сомнения у тех женевских «эмиграчей», кто обладал собственным крепостным опытом. К тому же недавно приехавший из Петербурга Михаил Негрескул, товарищ Германа Лопатина и зять Лаврова, предостерегал от излишней доверчивости к этому человеку.
— В Петербурге многие относятся к Нечаеву с подозрением, — говорил он Утину, — будьте с ним осторожны.
И рассказывал истории о нем, головоломные и весьма настораживающие.
— Я и сам не склонен в его истории верить, — отвечал Негрескулу Утин, — но он утверждает, что послан сюда революционным комитетом… хотя не желает открыть, каким именно… темнит.
У них уже произошел разговор с этим озлобленным и упорным до одержимости человеком. Интерес его к Элпидину и к «Народному делу» был не случаен — он искал типографию. Тут не темнил. Необходимо, говорил, прибрать к рукам стариков, воспользоваться их авторитетом для влияния на молодежь, типографией и деньгами. Но не для размножения многоглаголящих доктринерских статей, пусть не думает Утин, что все эти рассуждения на темы революционных теорий могут хоть на минуту отвлечь его от настоящего дела. Нет! Необходимо народ взбунтовать, он сам поспел к этому — или поспеет не позднее чем через год, — Нечаев называл даже крайний срок революции, точную дату: 1870 года 19 февраля. Почему же именно 19 февраля? Так это же срок окончания установленных крестьянской реформой временнообязанных отношений с помещиками, этот день сразу же обострит обстановку, создаст поводы к беспорядкам. «Вашу руку, Утин, и двинемся плечом к плечу!» Его темные маленькие глаза горели апостольским огнем, но самое его предложение было оскорбительно, ибо показывало полное неуважение к воззрениям Утина. Разумеется, на подобной основе Утин не мог бы сойтись ни с кем.
А вот с Бакуниным и с Огаревым Сергей Геннадиевич Нечаев, похоже, сошелся. Разумеется, Утин не мог знать подробностей того, как это случилось. Но понять, чем именно прельстил стариков Нечаев, было не так уж трудно. От радости, что они могут через него завязать связи с новым поколением революционеров в России, от которой чувствовали себя оторванными и которой, через посредство этого юного «внучка», теперь, оказывается, могли сослужить службу, — от такой возможности пошла голова кругом. Чтобы это понять, не обязательно надо было в подробностях знать, как Огарев познакомил этого человека с Бакуниным, как охотно принял участие в их пропаганде и как изо всех сил старался привлечь к ней Герцена, расписывая ему (находившемуся в Ницце) достоинства «мужика-юноши»; и как настороженно отнесся к этим восторгам Герцен; и как, тотчас же по его приезде в Женеву, состоялись переговоры о передаче Бакунину и Нечаеву бахметевских денег (чутье Утина не обмануло!), и хотя Герцен высказывался против этого, по под нажимом старых друзей согласился на компромисс — передать «огаревскую» половину фонда (а на сердце, видно, скребло, если почти через два месяца в письме Утину уверял, что фонд цел); и как на нечаевскую легенду о русском революционном комитете Бакунин ответил легендою встречной — выдал Нечаеву документ от имени несуществующего русского отдела несуществующего Всемирного революционного союза, за номером документ, с подписью и печатью.
Ничего этого Утин толком не знал, однако Негрескул Утину твердо сказал:
— Все вранье. Никакого нет за ним комитета!.. Самое большее если просто кружок… И это еще не худшее из того, что возможно!..
Еще меньше, чем Утин, могла знать обо всем этом Лиза. Она видела Нечаева только издали, раза два-три, худого, малорослого, резкого в движениях, вечно судорожно грызущего свои ногти, с лицом припадочного… или великомученика. Но по мере того как прокламационная кампания разгоралась, столько разговоров вокруг слыхала о нем, что, казалось, его узнала.
Чахоточный Негрескул, противник Нечаева еще в Петербурге, направо и налево рассказывал, что Нечаев его обокрал, когда к нему заходил, унес, прохиндей, пальто и сюртук, а потом об этом его известил, угрожая, что не отдаст, коли Негрескул не перестанет на него нападать! Уверен, шельма, что за сюртук можно всякого купить с потрохами! Жена же Негрескула, дочь Лаврова, вспоминала этот визит с каким-то гипнотическим ужасом. «Никогда в жизни не испытывала ничего подобного! — восклицала она. — Какой-то особенный человек!»
Женевские знакомые Лизы честили этого «особенного» столь дружно и, судя по всему, справедливо, что она, соглашаясь с ними, увидела среди причин общего единодушия еще и такую, какая, кажется, ускользала от многих. Нечаев явно выглядел чужаком в их среде.
Нигилисты российские давно уже подразделялись на «салонных» и «бурых», она еще в Петербурге слыхала. Она и сама, со своим двоящимся между барской половиною и людской детством, случалось, ощущала свою буроватость… Нечаев же среди этих охваченных благородными стремлениями молодых людей был до крайности бур. Когда летом Утин дал ей прочесть свежеотпечатанную Чернецким брошюру «Катехизис революционера», не подписанную, но без сомнения выдававшую автора своим содержанием, Лиза окончательно это поняла…
Катехизис — это ведь, по-церковному, основа основ, догмат, изначальное учение о вере. Для нее, как и для многих ее знакомых, такою основою служил роман «Что делать?». Теперь же она читала… Впрочем, нет, не самую брошюру, ее она прочесть никак бы не смогла. Брошюру форматом для небольшого кармана, страничек в тридцать, она только подержала в руках, полистала, та была отпечатана на каком-то совершенно незнакомом для Лизы языке — ни германском, по-видимому, ни романском… шрифт латинский, а ни единого понятного слова… Утин прежде позволил ей убедиться в этом, а потом и утешил: это шифр, раскрыть его он не может, а может лишь дать прочесть перевод. Так вот, в переводе она читала вслед за приговором «поганому» обществу — «беспощадное разрушение»! — приговор себе и своим товарищам. В ряду категорий, на какие делилось обрекаемое на гибель общество, где иным назначалась смерть, а иным рабство, выкраивалась и такая: «доктринеры, конспираторы и революционеры в праздноглаголющих кружках и на бумаге». Их-де надо «беспрестанно толкать и тянуть вперед», результатом чего «будет бесследная гибель большинства и настоящая революционная выработка немногих»… Впрочем, истинный революционер, то есть тот, кому следовало, притворяясь, проникать во все слои, от купеческой лавки до Третьего отделения, опутывать, сбивать с толку, овладевать тайнами, он и сам — «человек обреченный»… «у него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено… революцией…». Это хоть как-то напоминало другого особенного человека — Рахметова и могло бы пробудить сочувственный отклик у Лизы, когда бы тут же не следовало новое деление на разряды, для своих же товарищей, причем «посвященному» на «не совсем посвященных» надлежало смотреть как на часть «революционного капитала, отданного в его распоряжение».
Ольга Левашова вскоре после появления Нечаева в Женеве уверяла Лизу, Нату Утину и Бартеневу, что ей знаком этот тип — еще по ишутинскому кружку. В женском окружении Утина («курятнике», по насмешливому определению злых языков) Ольга была самой старою нигилисткой, участвовала когда-то в переплетной и швейной, организованной на артельных началах кружком Ишутина, и, разумеется, всех там знала, не исключая и покойного Каракозова. Вообще Ольга во многом выводила Нечаева от Ишутина. Тот тоже любил напустить на себя туману. Спросят его, откуда такой взъерошенный, а он скажет: «Сейчас только от дела» или что-то в таком же духе. И еще любил повторять, что «все средства хороши». Да и прозвали его «генералом». А ведь при этом считал «Что делать?» учебником жизни и подражал Рахметову — старался сблизиться с мастеровыми, для чего странствовал вдвоем с Каракозовым по кабакам, и хотя на гвоздях не лежал и в бурлаки не нанимался, но вместе с тем же Каракозовым плавал на волжских пароходах в качестве водолива. А Каракозов-то просто многим напоминал Никитушку Ломова!.. Но верховодили там, по Ольгиным словам, не они, а человек с железною волей — Спиридов Петр Александрович, который сумел всех себе подчинить, однако, прознавши про замысел цареубийства, успел вовремя сбежать за границу. Николай же Ишутин был из бедняков бедняк, круглый год ходил в одних и тех же брюках бумажных и в застиранной синей рубахе, а зимою еще в полушубке нагольном, которого никогда не снимал, объясняя при том однообразие своего гардероба отнюдь не бедностью, но — любовью и близостью к мужику. На самом-то деле, по убеждению Ольги, он был именно бедностью своей изможден и озлоблен непрестанною, с первых школьных дней, борьбою за существование с более богатыми, сытыми, развитыми детьми.
— …Сдается мне, барышни, этот ваш злополучный Нечаев соединил в одном лице их обоих!..
У нее, похоже, верный был глаз, у Ольги. Дело было даже не только в том, что был Нечаев не менее гол и озлоблен, чем Ишутин, — главное, наверное, в том заключалось, что его изнутри пожирала ненависть не к правительству только, не к «баричам» даже, но к человеческой личности, злоба и презрение к людям вообще, как к врагам, так и к «друзьям-товарищам», более образованным, развитым, более духовно (и не только духовно) богатым, чем он. Ему с его жуткой негибкостью и нетерпимостью был доступен единственный способ возвыситься над ними — их унизить.
Это был не Рахметов, а нечто полярно противоположное, какой-то антипод его, адский, зловещий.
— Ну как, что скажете? — спросил Утин, входя в комнату к Нате, где Лиза, прочитавши брошюру, сидела над ней, охватив голову руками. — Согласны пойти за этими революционными людоедами на «бесследную гибель»?
— Ужасно, — сказала она, — неужто это Бакунин? Или Нечаев? Иезуитство какое-то! Счастье, что этого не прочтет Чернышевский!
— Но почему же счастье? — не понял Утин.
— С его развитием личности, с его «обыкновенными порядочными людьми», с его Лопуховым, невеста которого — любовь к людям!.. С его Рахметовым, наконец, этой высшей натурою, одержимою пламенной любовью к добру… Ему бы сделалось больно… вот почему! А ведь общая-то посылка, бог мой, как справедлива: «У товарищества нет другой цели, кроме полнейшего освобождения и счастья народа!..» И это еще страшнее, что она справедлива! Какова к этой цели дорога — способствовать развитию бед и зол, чтобы вывести народ из терпения! И этот призыв к соединению с лихим разбойничьим миром ради повсеместного и беспощадного разрушения!
— Жаль, нельзя против этого выступить, — вздохнул Утин. — Хоть и отпечатали это, но не расшифровали, не рассылают, припрятали до поры… Конечно, они столько уже наплодили публично, что старый индюк и без того опозорил свои седины. Лишь бы только стать коноводом! Какое падение, боже мой! Какое невежество, какое безобразное ухарство, какая клевета, наконец, полагать, что подобные произведения найдут отклик в России! Да это попросту значит издеваться над революционным делом. Прямая услуга властям предержащим!
Да, из России стали доходить вести, что рассылаемые Бакуниным и Нечаевым по почте листки не только пачками оседают в известном ведомстве, но нередко губят адресатов. «Ради бога, передайте Бакунину, — умоляли в одном письме из России, — чтобы он, если для него есть хоть что-либо святое в революции, перестал рассылать свои сумасбродные прокламации, которые приводят к обыскам во многих городах, к арестам и которые парализуют всякую серьезную работу…» Вдобавок очередное бакунинско-нечаевское издание прямо напало на ненавистное «Народное дело», обозвавши тех, «кто учится революционному делу по книгам», «революционными бездельниками», — ибо народ, совершив революцию, устроит, дескать, свою жизнь гораздо лучше, нежели по «теориям и проектам, писанным доктринерами-социалистами, навязывающимися народу в учителя». Для «не испорченного очками цивилизации народного глаза» очевидно якобы многое, что «непрошеным учителям» и не снилось. Поименно кому? Перечислить не постеснялись: Фурье с его фаланстерами, Кабе, Луи Блан… Чернышевский, наконец! А «Народному делу» еще раз посулили возмездие — «разными практическими средствами, которые в наших руках»!
Тут уж Утину невозможно было смолчать.
Казалось бы, еще так недавно призывал журнал к сплочению всех «приверженцев революционного дела». Теперь, увы, оно сделалось попросту невероятным. Прежде чем соединяться — на битву со злом и несправедливостью ненавистного окружающего порядка, — предстояло упорядочить собственные ряды. А сие, оказывается, тоже требовало борьбы, да еще какой! Окончательно убедила в том Лизу поездка ранней осенью в Базель.
4
Воскресный поезд из Женевы подкатил к перрону, и шумная стайка молоденьких женщин, выпорхнув из вагона, окружила встречающего поезд человека с белым билетиком на шляпе, условным знаком члена Базельской секции, хозяйки конгресса. Добрый этот человек ужасно конфузится таким неожиданным окружением, канонические три «К» здесь, в немецкой Швейцарии, соблюдаются еще строже, чем во французской… Однако на утинские вопросы он отвечает старательно. Конгресс откроется завтра в кафе «Националь», что от вокзала неподалеку. В зале, соседнем с тем, где будут проходить заседания, намечены семейные вечера, в них вместе с делегатами могут участвовать все желающие. «И даже, разумеется, дамы!..» Впрочем, гостей должны пригласить и на заседания, за исключением, вероятно, тех, где будут разбираться организационные дела Интернационала. «Сейчас же уважаемым гражданам не следовало бы терять времени, в особенности если они не хотят опоздать на праздник по случаю открытия конгресса».
И впрямь уже доносились отдаленные звуки марша — задолго до того, как на привокзальной площади появилось шествие со знаменами и духовым оркестром; направлялись за город, в сад-ресторан Томаса, как охотно объяснили женевским гостям, стоило им пристроиться в хвост колонны. На знаменах были вышиты названия базельских секций и какие-то подобия лучей восходящего солнца, а репертуар оркестра живо напомнил Лизе воскресные вечера Интернационала в женевском Тампль Юник — Храме единства, когда речи ораторов перемежались музыкой и песнями.
Первое, о чем стали спрашивать своих соседей и Утин, и Лиза, и остальные, — не видно ли в колонне Карла Маркса. Сами, как ни пытались, его узнать не могли, однако и ответа внятного не добились: соседи все оказались базельцы, делегаты же конгресса шли впереди, возле знамен и оркестра. Потом в загородном саду-ресторане, где делегатам устроили торжественную встречу, Утин пробился к бородатому старине Беккеру, делегату Женевы. Попросил показать Маркса. Увы, и Утина, и Лизу постигло разочарование — по нездоровью Маркс на конгресс не приехал. «Но в числе английских делегатов, — передал Утин слова Беккера, — несколько членов Генерального Совета, которые очень близки к Марксу».
- Разве в том дело, — сказала Лиза, — интересно было бы познакомиться с ним или хотя бы просто послушать его самого!..
На правах хозяина с речью к делегатам обратился председатель базельской секции. Ему отвечали по-французски, по-немецки и по-английски — учитель из Брюсселя, портной и плотник из Лондона, лионский ткач и, наконец, седой как лунь журналист из Кёльна, Стоявшие вокруг внимали ораторам дружелюбно и одобрительно, но если французскую речь с грехом пополам разумели, то уж худощавого плотника-англичанина не понял почти никто, и Лиза охотно переводила его слова о том, что Интернационал расширил кругозор англичан и показал тред-юнионам, что они могут служить для более высоких целей, чем конфликты из-за заработной платы.
Так вышло, что «стайка» утинская сблизилась именно с английскими делегатами, и дело было не только в том, что они могли объясняться на одном языке. Среди этих людей было несколько эмигрантов-немцев и даже швейцарец. Германа Юнга, часовых дел мастера и члена Генерального Совета, избрали председателем на конгрессе. Он был старым членом Интернационала и радовался тому, насколько Товарищество окрепло.
— Вы бы видели на прежних конгрессах, — говорил он, — помню, три года назад в Женеве все разбились на кучки, немцы в одном углу, французы — в другом. Здесь в Базеле этого уже нет и в помине! А репортеров сколько!..
Юнг и с трибуны пустился в воспоминания о первом конгрессе. Три года тому назад на него смотрели, как на сборище порядочных чудаков. Печать отзывалась о конгрессе пренебрежительно или даже высмеивала; да и друзья с сомнением отнеслись к провозглашенной программе.
— …Ныне, — продолжал Юнг, — наши принципы провозглашены повсеместно, печать обсуждает наши действия, иногда не слишком любезно; но ясно, что мы стали силой… Что бы ни случилось, мы слишком сильны, чтобы умереть от истощения, и слишком живучи, чтобы нас могли свести на нет полиция и преследования правительств… Пойдемте же рука об руку к нашей общей цели!
Вот этот-то призыв, изо всех, может быть, самый необходимый — идти к интернациональной цели рука об руку, — и повис в воздухе, подобно тому как произошло с призывом «Народного дела» к сплочению русских революционеров. Можно было только диву даваться: преградой к единству и тут стал тот же самый Бакунин!
Утин не пропустил, должно быть, ни одного открытого для публики заседания. Лизе же споры между ораторами показались не слишком интересны. Конечно, она понимала, насколько принципиален, к примеру, вопрос о земельной собственности, но в том-то и дело, что шпаги скрестились из-за другого. Будет ли в грядущей социальной революции прежде всего отменено право наследования, или же произойдет экспроприация частной собственности, что само по себе лишит наследование всякого смысла. Для говорливого и — что греха таить! — зажигательного в своих речах Михаила Бакунина, благодаря этому оказавшегося едва ли не в центре конгресса, именно право наследования почему-то стало вопросом жизни и смерти. Представители «мускульного» пролетариата, не слишком-то уверенно чувствовавшие себя на трибуне, были, казалось, зачарованы этим богом-громовержцем, извергавшим с трибуны громы и молнии красноречия. Утин, однако, помог Лизе проникнуть в истинную их суть, чем в немалой степени подпортил не оставлявшее ее в Базеле приподнятое настроение.
На «домашнем» фронте Бакунину сделалось тесно.
За разногласиями по таким, казалось бы, отвлеченным вопросам скрывалось, по словам Утина, стремление этого человека и здесь, как повсюду, играть первую скрипку. Он даже настаивал на переводе Генерального Совета из Лондона в Женеву! И что было поразительнее всего — для тех, кто, как Утин и Лиза, были знакомы с его русскими прокламациями, — ясно виделась пропасть между тем, что возглашалось им здесь и там. И это в особенности заставляло Утина насторожиться, он давно задумывался о связи «домашних» дел с европейскими. Двойственная игра Бакунина только укрепила его решимость отправиться на конгресс в Базель. Пусть не делегатом, а всего лишь на правах гостя.
Не имея по этой причине возможности выйти на трибуну конгресса, он вынужден был ограничивать себя застольными беседами на «семейных вечерах». Все же каждому из своих собеседников он старался поведать о действиях Бакунина на «домашнем» фронте.
Лишь однажды удалось выступить в Базеле публично — на торжественном банкете в честь окончания конгресса.
Окруженный своею женской компанией, Утин произнес спич во хвалу «нашим сестрам» и, указывая на заметную роль, которую начали играть женщины в российском революционном движении, убеждал в необходимости привлекать их к работе в Интернационале, потому как стремящийся к освобождению всего человечества Интернационал тем самым стремится к уничтожению столь пагубной для всего социального и политического быта народов эксплуатации одной половины человечества другою.
В этой речи застольной между прочим — к слову пришлось — Утин сказал о Бакунине как о своем соотечественнике и друге, слово вырвалось, должно быть, в пылу, потому что и в этом — женском — вопросе у них было общего мало, так что немного позднее он подошел к Бакунину и, глядя на огромного человека снизу вверх, как бы с извинением спросил:
— Вы не сердитесь на меня, не правда ли, что я неосмотрительно назвал вас своим другом?
B том, однако, что они были соотечественниками, сомневаться не приходилось. Равно как и в том, что Бакунин являлся единственным русским делегатом Базельского конгресса Интернационала. Правда, пока еще он представлял собой не Россию. Но тому, кого всерьез заботила мысль прочным образом связать дело народного освобождения в России с социально-революционным движением в Западной Европе, не следовало с этим медлить, ибо подобной идеей мог загореться Бакунин, и, кто знает, в каких видах он захотел бы воспользоваться ею… Опасность этого после Базельского конгресса должна была представиться Утину и его друзьям несомненной.
И еще одно обстоятельство омрачило праздничную поездку в Базель: воспоминания о Серно. Слишком свежа была горькая о нем память, трех недель тогда не минуло, как этот горячий, неуемный, дерзкий человек нашел на женевском кладбище вечное успокоение…
Уж если кому из русских женевцев и следовало участвовать в Базельском конгрессе, то по справедливости в первую очередь, конечно, Серно. Разумеется, и Утин, и друзья его по «Народному делу» весьма сочувственно относились к деятельности Международного товарищества и задумывались о необходимости как-то прочнее связать русское революционное дело с рабочим движением на Западе. При всем том они покамест не более чем сочувствовали и намеревались, тогда как бедный Серно действовал.
И вот воскресный декабрьский день на женевском кладбище. Сырой, пронизывающий до костей ветер с севера — биз, этот частый спутник здешней зимы, не испугал людей. Напрасно Лиза боялась, на открытие памятника Серно собралось довольно много народу.
Лиза его мало знала, последнее время он тяжко болел, да и вообще держался особняком, она могла судить о нем лишь по рассказам знакомых да по написанным им памфлетам, запальчивым, безжалостным, оскорбительно резким — против Герцена, против Нико Николадзе, — обижать людей он умел, но, странное дело, ему многое прощалось. У того же Александра Ивановича Герцена нашел приют в Шато де ля Буассьер уже после своего предерзостного памфлета. А Николя Утин его знал хорошо по Петербургу, еще со времен «Земли и воли», которой Серно тоже был активный участник — вместе со старшим братом своим, утинским тезкой. Когда Николая Серно-Соловьевича арестовали — в один день с Чернышевским, — Александр Серно-Соловьевич был за границей и приехать по требованию властей отказался, за что был заочно лишен всех прав, в том числе права возвратиться в Россию. Он нашел было пристанище и работу в «Колоколе», но затем возглавил бунт молодых против Герцена и, разочаровавшись в «праздной болтовне» эмигрантов, со свойственной ему резкостью порвал с ними и целиком отдался Интернационалу, работе в женевской секции, превратив таким образом в действие высоко чтимую им мысль Эдгара Кине, революционера 1848 года и историка 1789-го, эпиграфом взятую к памфлету против Герцена: «Высшее счастье человека — быть последовательным своим убеждениям. Только поступки человека важны…» Вся энергия эмигрантов тратилась на слова, слова, а тут, рядом, среди женевских работников бурлила жизнь.
В начале 68-го года Серно стал одним из вожаков стачки женевских строителей, в которой благодаря поддержке Интернационала рабочие одержали победу, и это, естественно, в немалой степени повысило авторитет Серно в женевских секциях. Впрочем задолго до стачки он получил от Карла Маркса из Лондона экземпляр «Капитала» — Маркс, оказывается, познакомился с памфлетом Серно и таким образом отозвался…
Все же то, что он отстранился от «домашних дел», не давало бедному Серно покоя, не раз признавался Утину в этом, и, озабоченный ими, это он убедил Утина минувшей зимою, когда дела в журнале были из рук вон плохи, до последней возможности не бросать начатого. А ведь уже слухи пошли о прекращении «Народного дела»… Так что тем, что журнал выжил, Утин был обязан не только сестре Элизе.
Серно мучился и оттого, что не поехал в Россию мстить за гибель брата и друзей. Спору нет, он поступил разумно — но логика не могла избавить от муки, хотя, конечно, одиночное мщение было бы недостаточно и бессильно; и, конечно, работая здесь в общем деле, можно отомстить этому проклятому порядку, потому что в Интернационале — залог уничтожения всего этого порядка. Говоря так, он убеждал не столь Утина, сколь себя самого.
Однако и деятельная работа в Товариществе принесла немало горечи с тех пор, как в Женеве появился Бакунин. Серно, с его прямотой, не скрывал своего отношения к этому человеку. А тот не только был принят, по рекомендации Элпидина, в Интернационал, он привел за собой целую свиту. Груз новых неудач оказался не под силу Серно… Ко всему прибавилась личная драма, что разыгралась здесь же, в Женеве, можно сказать, у всех на глазах. Ни Ната Утина, ни Ольга, ни Катя Бартенева нимало не сомневались, что это сильно убыстрило развязку. Сколько раз он повторял: «Но за единый мщенья миг, клянусь, я не взял бы Вселенной». В тяжелом душевном расстройстве несчастный Серно сумел вызнать у доктора, что надежды на выздоровление нет, — и, сбежав из больницы, разжег у себя в комнате на ночь железную жаровню на угольях…
Почти пять месяцев прошло после смерти Серно. С этого начал Шарль Перрон, стоя возле гранитной глыбы с врезанным в нее белым мраморным медальоном, надпись на котором ни Лиза, ни Ольга, ни Ната, простоявшие всю печальную церемонию бок о бок, никак не могли издали рассмотреть… Почти пять месяцев, такого срока нередко, увы, бывает достаточно, чтобы забыть человека. Но память об этом человеке не умерла! Сквозь фигуры галльского красноречия прорывалось живое чувство к безвременно ушедшему товарищу.
Слушая прочувствованные слова старого деятеля Интернационала, а потом Шеназа, председателя секции женевских каменщиков, напомнившего о роли Серно во время известной стачки, Лиза думала о прощальном письме Серно. Слыхала о нем от Утина. Когда он решился на последний в жизни поступок, в необходимости которого более не сомневался, то, убеждая друзей, написал о любви к жизни и к людям, и о том, что смерть, эти его слова запали Лизе в память дословно, «смерть — еще не самое большое зло. Намного страшнее смерти быть живым мертвецом». Вероятно, он был прав, несчастный Серно, и речи над его могилой на промозглом декабрьском ветру служили тому доказательством…
После каменщика заговорил Утин. От лица молодой русской партии он благодарил рабочих Женевы за память о человеке, всю жизнь свою положившем за народное дело, вместе с братом ушедшем юношей из привилегированного круга, чтобы смешаться с классом, который буржуа называют презренным. В сущности, говоря о Серно, Утин говорил не только о нем, и потому в особенности прочувствованно — и о себе, и, во многом, о Левашовой, и о Лизе, конечно, тоже…
— Он боролся в России под революционным знаменем «Земли и воли» и на Западе вступил в Товарищество, которое также хочет земли и свободы. Земли для тех, кто на ней трудится, а не для паразитов. Свободы истинной, опирающейся на равенство, а не так называемой свободы, которую проповедуют буржуа и которая состоит в праве эксплуатировать рабочих до смерти… Пусть же настоящая минута, — воскликнул Утин, — послужит союзу молодой революционной России и Интернациональной ассоциации рабочих!
Когда продрогшие слушатели начали расходиться, Лиза вместе с Ольгой и Натою получила наконец возможность подойти поближе к могиле и прочесть французскую надпись на камне:
Памяти
Александра Серно-Соловьевича
Интернационалисты Женевы
1838–1869
Надпись как-то странно была сдвинута к верху мраморного медальона, Лиза удивилась, а Утин объяснил, что внизу нарочно оставлено место — для русского текста.
— Камень — материал вечности, — сказал Утин торжественно. — И кто знает, может быть, в двух этих надписях увековечится сия минута как рожденье того союза, к какому мы так стремимся и о котором я давеча говорил…
У женевцев такая примета, что весна к ним приходит с первым зеленым листиком на старом могучем каштане, что стоит у остатков древней стены, окружавшей когда-то город.
Ранней весною в руки Утина попало очередное издание Чернецкого, брошюра под названием «Всесветный революционный союз социальной демократии. Русское отделение». Про мифическую эту организацию и Утин, и Лиза уже однажды слыхали — от Кати Бартеневой, по ее возвращении из Петербурга.
Уезжая туда ненадолго, она тем не менее намеревалась переделать множество всяких дел, и одним из главных было — обменяться мнениями с петербургскими друзьями по поводу соединения с Интернационалом. На взгляд Утина, ветвь Международного товарищества рабочих могла укорениться в России лишь при условии распространения рабочих союзов, примыкающих к Интернационалу. Эмигрантам при этом предстояло служить как бы узлом для связи между русскими революционерами и западноевропейским рабочим движением, — переняв его опыт, извлечь уроки для работы в России. Друзья в Петербурге отнеслись вполне одобрительно к этим планам и, чтобы их обсудить, свели Бартеневу со студентом-медиком, авторитетом в студенческой среде, чуть ли не всю весну проведшим в Выборгской тюрьме за участие в беспорядках. Человек этот, Марк Натансон, тоже встретил утинский план с большим интересом, хотя и усомнился в идее, будто бы передовому «мускульному» пролетариату Запада — этой почве Интернационала — в российском революционном деле соответствует пролетариат «мозговой», учащаяся молодежь из разночинцев, знакомая и с нищетой, и с побоями…
От Натансона Бартенева тогда и узнала про мандат «доверенного представителя русского отдела Всесветного революционного союза» — им потрясал, приехав из-за границы, Нечаев, а скрепляла сей документ подпись Бакунина. (В Петербурге, впрочем, в отличие от Москвы, нечаевская агитация не имела успеха, и одним из виновников этого был как раз Натансон, решительный противник нечаевских действий, что, однако, не уберегло его самого. Передавали, будто в руки жандармов попал какой-то пакет, отправленный Нечаевым на его имя. Когда Натансона увезли в Петропавловку, Бартенева еще была в Петербурге.)
Словом, все говорило за то, что не следует медлить с осуществлением плана. Во всяком случае, если нет намерения уступить идею Бакунину и Кº. К марту месяцу проект программы и устава Русской секции Интернационала был составлен.
Еще до этого и, пожалуй, еще до возвращения Кати Бартеневой (и уж, во всяком случае, до первого весеннего листика на могучем каштане) Нечаев опять появился в Женеве. Когда Лиза услыхала об этом от Утина, ей почему-то первым делом вспомнился ее прошлогодний приезд сюда в эту же пору, и Петербург вспомнился, и исчезающие при пересечении границы две недели… она много увидела и узнала в этот год, и хорошего, и дурного.
И прочла много, и обдумала, и поняла.
Тогда, год назад, братцу Михаилу Николаевичу да и себе самой она казалась знатоком Чернышевского, сыпала страницами наизусть «Что делать?», да и статей его вроде бы знала немало, но здесь, в Женеве, сведенные Элпидиным и Николадзе в тома сочинений, даже статьи воспринимались по-новому (правда, может, и оттого, что сама изменилась), а со многим вообще встречалась впервые. Прочла она все вышедшие тома; и книги «Исторической библиотеки» при «Современнике». И статьи Добролюбова, и Писарева — тоже прежде читанные, да, видно, не глубоко, без порядка. Лизино чтение направлял человек, для которого мысли авторов и история их статей во многом были собственной его историей, а сами авторы не казались некими «властителями дум», возвышенными, но несколько отвлеченными, а часто были хорошо знакомыми людьми, друзьями. Впрочем, что значит «направлял»? Менторства ни от кого бы не потерпела. Да Утин и не пытался ее наставлять. Советовать — да, кое-что растолковывать, комментировать, если хотите. И по-товарищески обсуждать, дискутировать даже, — с Лизой, с Натою, с Ольгою Левашовой. Для них для всех (за исключением Лизы) все это было кусочками собственной их жизни.
— Ведь как у нас в России учили историю? — говорил Утин. — Как прославление российского величия и доблестей, и притом не позднее Екатерины Великой. То же, что происходило в Европе, до переводов Чернышевского от публики было укрыто — в тумане, когда не вовсе в потемках. Вам, Лиза, уже, быть может, и трудно в это поверить, но тогда было именно так, ведь «Историческую библиотеку» Николай Гаврилович затеял года, должно быть, через два после конца Незабвенного.
При всяком намеке на ее молодость Лиза готова была вспыхнуть, как спичка, но в этом упоминании ничего обидного не почувствовала. В самом деле, когда Николай Первый приказал долго жить, Лизе было годочка четыре, тогда как Утину, например, четырнадцать.
А он тем временем продолжал рассуждать о значении истории как общего всему человечеству жизненного опыта, о том, что углубление в историю не было для круга Чернышевского случайным.
— Не знаю, известно ли вам, Лиза, что Николай Гаврилович и в крепости занимался Шлоссером, переводом тех томов «Всемирной истории», что посвящены революциям в Англии и во Франции. И, закончив шестнадцатый том Шлоссера, принялся за беллетристический рассказ… да, да, это было не что иное, как «Что делать?»! — дабы не терять времени даром, покуда дадут разрешение получить для перевода Шлоссера том семнадцатый…
— Уж не из того ли вы выводите рассуждения в «Что делать?» о «тайне всемирной истории»?! — воскликнула Лиза.
Да, он выводил их оттуда, и даже с политической экономией Милля находил явные связи в романе, хотя бы во втором сне Веры Павловны… Поистине Лизе впору было перечитывать и «Что делать?»! Ведь даже Рахметова Утин толковал в свете Шлоссера — как революционного вождя в противовес кромвелям и бонапартам!
В «Истории восемнадцатого столетия», какую Лиза читала, Утин, вослед Добролюбову, считал главным том пятый — о Французской революции.
— Между прочим, уже Шлоссер пишет о людях, хотевших через революцию составить себе карьеру!
Было понятно, кого Утин имел в виду в одном из бессчетных разговоров на эту нескончаемую тему, — когда Ольга Левашова стала «выводить» Нечаева от Ишутина.
Впрочем, сначала Утин просто отступил, по сравнению с Ольгой, ненамного назад, к Заичневскому. К Петру Заичневскому? Краем уха Лиза что-то слыхала о нем, не тот ли московский студент, из кружка которого вышла прокламация «Молодая Россия»?
— Ну конечно! — отвечал Утин. — «Довольно хороших слов, пора перейти к делу!» — об этом мы заговорили очень скоро после Девятнадцатого февраля, и едва ли не в то же лето явились прокламации — «Великорусс», «К молодому поколению», потом, весной шестьдесят второго, «Молодая Россия», ее привезли из Москвы, а, как назло, в Петербурге пожары, и как тут не поползти слухам о студентах-поджигателях, когда эта «Молодая Россия» прямо-таки жаждала огня и крови! И, кстати, прибывала к усилению казней, это-де ускорит революцию, и тогда — «бей, не жалея» всех, кто не с нами!
— Но это же точь-в-точь Бакунин — Нечаев!
— Да, даже фраза «Кто не за нас, тот против нас», можно сказать, почти содрана у Заичневского.
— А Николай Гаврилович? — спросила Лиза. — Он-то ведь еще был на свободе. Что он думал об этом?
— Он думал поспорить, намеревался ответить, даже название уже было — «К нашим лучшим друзьям», да арест помешал… Мы же успели свою прокламацию тиснуть — «Предостережение» — и в ней заявили, что дело революционеров не возбуждать резню, а быть с народом, когда он поднимется…
— Но ведь сейчас, Николя, вы же не повторите этого?!
— Конечно, эти годы и меня кое-чему научили. Но подготовительно работать для развития сознания в народе, согласитесь, не значит готовить резню!.. Вреда этот кровожадный призыв и тогда уже принес нам немало, оттолкнувши людей, а ведь мы как раз создавали «Землю и волю»… И требование царской головы тоже было в «Молодой России», так что Каракозов действовал, может быть, по тому же рецепту.
— Получается, Нечаев — за Ишутиным, а тот в свой черед — за Заичневским, — кивала Ольга, — очень может быть, что вы, Николя, правы.
Да, среда новых людей, в которую Лиза так стремилась войти и которая представлялась ей издали неким храмом высоких помыслов и благородных личностей, при ближайшем знакомстве оказывалась многоликой и разнородной. И невольно мысленно она возвращалась к пришедшему однажды в голову сравнению с Монбланом; в самом деле, величественные седины старика лишь с далекого расстояния поражали нетронутою белизной, а по мере приближения к ним явственно проступали морщины ущелий, пятна растительности, плешины лугов.
И все же жалеть Лизе не о чем было, жила напряженно и целеустремленно, как могла, помогала делу, народному делу. Правда, второе условие ее уговора с Утиным все еще не исполнилось, пока что не представлялось возможности, однако не было причины терять надежду, тем более что перед отъездом на зиму в Петербург Катя Бартенева твердо пообещала воспользоваться старыми связями, отыскать такую возможность.
Катя отправилась в Петербург, а Лиза осталась в Женеве… хотя у нее не менее, чем у Кати, была надобность наведаться к пенатам. Не потому, что могла лучше Кати справиться с женевскими поручениями, совсем нет, Катя, без сомнения, сделает все возможное, да только эту Лизину надобность никому не перепоручишь, самой надобно распутывать узел… если еще возможно. А поначалу таким все простым представлялось им с братцем Михаилом Николаевичем. Обман легче легкого, потому как из благих побуждений, да и в самом деле пустяк: поддакнуть батюшке в церкви, согласен, мол… согласна перед богом и людьми — и вот она, самостоятельность и свобода, строй по-новому жизнь, и благодарность братцу по гроб за великодушную помощь! И не просто спасибо и до свидания, нет, Швейцария, Монтана, санатория доктора Эн — наглядное воплощение ее признательности… Тут первое облачко между ними, тень облачка, некая двусмысленность, за которую, впрочем, умница Утин тут же уцепился в Женеве. Как она должна была поступить — уехать или же остаться подле братца в Монтане?.. У нее в том сомнения не было. А останься она, бедный братец обрадовался бы, конечно… Впрочем, виду не подал, что хочет этого: и гордость не позволяла, и по уговору оба вольны были в своих поступках… Она отвезла его в Углич, и он был ей благодарен за это, но еще более, верно, благодарил бы судьбу, когда бы и сама с ним осталась, чем возвращаться в Женеву… а коли уж возвращаться, то, может быть, вместе?.. Михаил Николаевич, разумеется, и об этом не заикнулся, не мог позволить себе стать для Лизы обузой, а стоило ей заикнуться, стал отнекиваться горячо. Ибо, возвратись они вместе, он действительно стеснил бы ее, и не только в средствах. Он, гордый человек, не желал пользоваться плодами собственного великодушия, она же держалась первоначального уговора. К тому же и доктор Эн, владелец санатории в Монтане, рекомендовал повторить курс лечения через год, и петербургский его коллега, с ним соглашаясь, подчеркнул, что, во всяком случае, не следовало бы откладывать повторение далее будущей весны, поелику весна для чахотки, как известно, наиболее опасное время… В нечастых своих письмах деликатный братец никогда не пожалуется на здоровье, и все-таки, получая их, Лиза всякий раз чувствовала укор, пусть невысказанный… Она-то держалась первоначального уговора, да держался ли он?.. Двусмысленность затуманивала ясные отношения, порою ей чудилось даже, что-то такое проскальзывало в его словах, из чего следовало, будто не они вместе с ним обманули окружающее общество, несправедливое и дурное, а он, братец, обманул ее тем, что смирил свое истинное к ней чувство, а смирил оттого, что в противном случае она ни за что бы с ним не венчалась… или он допускал, что у них повернется, подобно тому как у Веры Павловны с Лопуховым?.. Впрочем, может быть, ей мерещилось все… Михаил Николаевич, с его деликатностью и гордостью, не позволял ни намека, а коли проскальзывало нечто, то ему вопреки!.. Так или иначе, а надвигалась весна, о которой предупреждали доктора, — и об их рекомендациях, и о санатории доктора Эн Лиза напоминала Михаилу Николаевичу в письмах и раз, и два, а он словно бы мимо ушей пропускал. Убедившись в бесполезности уговоров, решила весною сама за ним ехать. В этом видела собственный долг. Но исполнить задуманного не удалось. Женевские заботы не отпустили.
С тех пор как в конце минувшего лета разлетелась между эмигрантов молва, будто Нечаев вернулся на родину (спрятавшись в уголь на тендере паровоза), до зимы о нем не было ни слуху ни духу, — пока вдруг не заговорили настойчиво о провале и об аресте. Его появление, однако, убедительно опровергло эти слухи, но в Женеве мало кто его видел, едва появившись, он опять скрылся, так что поползли новые слухи, теперь уже о том, что Нечаева разыскивает полиция будто бы по подозрению в каком-то убийстве, совершенном в России, а что сам он якобы умер внезапно. Слухи, легенды, тайны беспрерывно окутывали его имя. Утин относился ко всему этому крайне недоверчиво. Новое исчезновение бакунинского гомункулуса склонен был приписывать отсутствию в Женеве его наставника и гувернера. Сразу после Базельского конгресса Бакунин перебрался из Женевы в Локарно.
Чутье не подвело Утина и на сей раз. Двух недель не прошло, как Нечаев собственною персоной прекратил досужие разговоры о своей кончине. А вот слухи о полицейском розыске подтвердились. Русское правительство настойчиво требовало его выдачи. И опять его имя не сходило с языков женевских «эмиграчей». Одни выгораживали его, даже помогали скрываться, тогда как другие негодовали… Упорно заговорили про то, что в Женеву заслано много русских агентов, о чем Трусов Утина предупредил, а был он в этом вопросе дока. Имел к подобным личностям слабость. Скучал в женевской своей печатне, в кафе «Норд» с тоскою перебирал партизанские воспоминания и придумал-таки себе по нраву проект, которым поделился с друзьями: приобрести доверие у господ ташкентцев, для того чтобы, пользуясь этим, самому вступить в Третье отделение и там служить верою и правдою революционному делу!..
Но так совпало, что в эти же дни случилось событие, заставившее, по крайней мере на время, совершенно позабыть о нечаевских проделках и тайнах. В Париже скончался Александр Иванович Герцен…
В начале февраля к Огареву в Женеву приехала осиротевшая дочь Герцена Тата. И чуть ли не одновременно тайком от полиции (но не от братьев-«эмиграчей») объявился Нечаев, в типографии Чернецкого застучал по ночам печатный станок, выбрасывая из своих недр одну за другой все новые бакунинско-нечаевские прокламации: к офицерам русской армии и к войску, к украинцам и к «мужичкам и всем простым» людям русским, даже к мещанству и к женщинам (и все эти события Утин связывал в один тугой узел; по своему опыту знал, что пропаганда требует средств, и немалых, а Тата Герцен таковыми располагала).
Вот тогда в руки Утина и попала брошюра о русском отделении «Всесветного революционного союза» как лишнее напоминание: кто не хочет, чтобы его опередила бакунинская братия, не может долее откладывать свой проект.
Проект программы и устава Русской секции Международного товарищества рабочих следовало отправить на утверждение Генеральному Совету в Лондон. Утин предложил воспользоваться помощью Папаши Беккера; со старейшиной Интернационала в Женеве, революционером 48-го года и другом Маркса, он сблизился после Базельского конгресса, посвятил его в замысел Русской секции, и старик этот замысел одобрял. Было важно, чтобы в Лондоне никоим образом не спутали учредителей новой секции с Бакуниным.
8 марта Утин пришел к Беккеру с подготовленными бумагами, но не застал его дома и, оставив бумаги, написал, что, если Беккер проектом доволен, пусть даст небольшое рекомендательное письмо к Марксу, «которому мы передадим наш устав с просьбой быть нашим представителем при Генеральном Совете. Я пошлю ему все это немедленно…».
Старик все исполнил, не мешкая, через несколько дней бумаги вместе с его рекомендательным письмом были отправлены в Лондон на имя Германа Юнга, представлявшего в Генеральном Совете Швейцарию. Юнгу Утин и его друзья, между прочим, напомнили, как познакомились с ним на конгрессе в Базеле. Вложено было в пакет и письмо к Марксу — от имени группы русских, которая «только что образовала секцию Интернационала, так как великая идея этого международного движения пролетариата проникает также и в Россию».
Упоминалось в письме еще о том, что его авторы не имеют «абсолютно ничего общего с г-ном Бакуниным» и что намерены в ближайшем будущем выступить с разоблачением этого человека, под прикрытием проповеди политического и социального равенства мечтающего о личной диктатуре.
А Папаша Беккер, как обещал, подкрепил просьбу Русской секции дружескими словами.
Ответ от Генерального Совета получили в Женеве спустя две недели. Этого срока оказалось достаточно, чтобы Русская секция, программа и статут которой — как значилось в ответе — «согласны с общими статутами Международного Товарищества Рабочих», была единодушно принята в состав Интернационала.
И вот Лиза у Утина читает и перечитывает этот ответ, и там еще сказано:
«Я с удовольствием принимаю почетную обязанность, которую вы мне предлагаете, быть вашим представителем при Главном[1] Совете… Привет и братство. Карл Маркс».
5
В начале мая объявился в Женеве известный в российской революционной среде Герман Лопатин. Пришел к Огареву и, объяснив, что приехал с целью уладить дело с Бакуниным и Нечаевым, попросил собрать эмигрантов на общую «ассамблею». Сообщение Лопатина показалось Огареву настолько важным, что он тут же вызвал Бакунина из Локарно, известив, что в Женеве «переполох». Бакунин, однако, из-за безденежья не смог сразу приехать, а сотрудники «Народного дела» наотрез отказались встречаться с бакунинской «компанией»: всего за месяц до того между ними произошел решительный разрыв на почве Интернационала. Так что ни Утин, ни кто-либо из его друзей на «ассамблею» в пивную на Каружской дороге не явился, и тогда Лопатин сам пришел к Трусову в редакцию, и тот тотчас же разыскал Утина.
Они заспорили буквально с первых же слов. Суть несогласий заключалась в оценке Бакунина. Лопатин в нем видел заслуженного революционера, введенного в заблуждение, обманутого своим неразборчивым в средствах сообщником, попавшего в хитроумно расставленные ему сети, и, располагая вескими доводами, считал долгом своим открыть Бакунину глаза на истинное лицо Нечаева. Для Утина же, в особенности теперь, после недавнего раскола в женевском Интернационале, Бакунин с Нечаевым представлялись одного поля ягодами: лживые друзья народа, интриганы, ненасытные честолюбцы — в запальчивости он не выбирал выражений. И притом Бакунин опаснее!
— Чем? Действием не только на «домашнем», но и на интернациональном поприще, былым авторитетом. Что без Бакунина этот иезуит Нечаев? Нуль без палочки, как говорится. И вообще, ежели желаете знать, подставная фигура!
Горячий поначалу спор остыл под конец, покрывшись ледяною коркою вежливости. Оба, и Лопатин и Утин, одновременно поняли, что не сойдутся. Лопатин лишь счел своей обязанностью довести до сведения группы «Народного дела» факты о деятельности Нечаева в России. Все прежние россказни о его побегах, так же как о Комитете в России, которого он будто бы представитель, все это ложь и выдумки, а вот убийство студента Иванова, бывшего на его стороне, но позволившего себе усомниться в существовании Комитета и противоречить Нечаеву, — это, к несчастью, ужасная правда. И если случится еще встретить этого людоеда, пусть обратят внимание на его руки, на свежие шрамы на них: это Иванов искусал Нечаеву пальцы, пока тот душил его.
— Я думаю, что, зная об этом, вы более не станете смешивать с этим человеком Бакунина… хотя бы по той причине, что сами вы живы и здоровы, — сказал Лопатин Утину на прощанье.
Этот рассказ об искусанных пальцах убийцы произвел на Лизу впечатление почему-то более сильное, чем все остальное, переданное ей Утиным со слов Лопатина.
Когда произошел разговор между ними, ее не было в Женеве. Как раз вышел новый номер «Народного дела», и вместе с Владимиром Серебренниковым она отправилась по городам Швейцарии для рассылки оттуда экземпляров по почте в Россию. Это было живое, не бумажное, не конторское дело, Лиза обрадовалась ему. Придумали хитрость, так как сделалось очевидно, что письма из Женевы перехватываются царскими жандармами.
Но теперь ей снилось по ночам истощенное, в судороге, лицо с магнетическим взором: послушание или жизнь! Какое страшное утверждение власти над товарищами. Дай только волю, такой грудами трупов утвердит свой идеал. Читали же в «Народной расправе»: «…в течение известного числа дней, назначенных для переворота… каждый индивидум должен примкнуть к той или иной рабочей артели… не примкнувшая без уважительных причин личность остается без средств к существованию… только один выход — или к труду, или к смерти…»
Бог ты мой, думала Лиза, как все это не похоже на идиллические картины будущей жизни счастливых людей, представлявшиеся Вере Павловне! Не удивительно ли, что, видя свой образец в Рахметове и, стало быть, следуя за Чернышевским, эти «последователи» вдруг оказываются на другом полюсе. Но в какой момент, каким образом происходит искажение, а то и подмена революционного идеала? И когда на место Рахметова заступает Сергей Нечаев?.. Родион Раскольников?.. Не тогда ли, когда доброта вытесняется ожесточением, любовь к людям подавляется ненавистью, самоотречение — самоутверждением, а желание отдавать — желанием брать, и таким образом возвышенный и возвышающий идеал «Мы» окончательно сникает перед животной реальностью «Я»…
По совету Наты — а более под воздействием критики Писарева — Лиза вчитывалась в «Преступление и наказание» и по-новому понимала рассуждения Раскольникова о двух разрядах людей, из которых «необыкновенным» — «все дозволено», а за убийством старухи виделись неотвязные пальцы Нечаева: вот оно, «право разрешить своей совести перешагнуть»…
Серебренникова Лиза первый раз увидела на могиле Серно, молодой человек сказал тогда, при открытии памятника, что дело, ради коего жил Серно, невзирая на преследования, разрастается по России, — он почел своим долгом засвидетельствовать это публично, только что приехав оттуда. Петербургский медик-академист бежал за границу из Риги, куда его выслали за участие в студенческих делах. Поселился на первое время у Трусова, попросив нечто вроде убежища от Нечаева и Бакунина. Лиза собственными глазами читала письмо, где его вовлекали в их партию, доверительно делясь секретами (секретами полишинеля, впрочем), а в противном случае, если только посмеет отказаться, угрожали недвусмысленно смертью. Не мудрено, что он опасался западни. Из Петербурга же друзья писали Серебренникову, что после того, что наделала нечаевская банда (о чем в письмах повествовалось подробно), дело революции в России скомпрометировано, по крайней мере, на время, и что они, эти молодые люди, не желают иметь с Нечаевым и Бакуниным ничего общего.
…Занявши у Антуана денег, Серебренников ненадолго уехал в Париж. Когда вернулся, то, встреченный уже как товарищ, с горячностью примкнул к Русской секции. Его приняли единодушно, под именем Вольдемара Фруа, и как человека весьма деятельного решили выбрать секретарем, отдав на попечение все бумаги, переписку, связи с Россией. Вскорости он вызвал двух своих знакомых студентов из Цюриха, рекомендуя их в секцию. Утин стал возражать. Полем деятельности должна быть не Швейцария, а Россия, секция же не более чем соединительное звено, тут важно совсем не количество участников… Серебренников пробовал спорить, но Утина поддержали единодушно. Казалось, шероховатость между ними сгладилась без последствий…
Он был почти ровесником Лизе, а выглядел даже моложе, невысокий, курносый и по-детски губастый, с прямыми длинными темно-русыми волосами. Отношения установились самые приязненные, чуть шутливые, называла она его, во всяком случае, месье Вольдемар, в ответ получая мадам Элизу. Поездка совместная их еще больше сдружила… хотя, по правде говоря, был момент, когда в речах его, обращенных к Элизе, появилась некая двусмысленность, туманность в виде неясных и в то же время достаточно прозрачных рассуждений о настоящих мужчинах и настоящих женщинах и стремлении видеть ее, Элизу, именно таковою… Туман этот, впрочем, дочка Натальи Егоровны Кушелевой сумела разом развеять, что позволило им с Вольдемаром остаться по-прежнему на дружеской ноге как ни в чем не бывало. Но вскоре по возвращении, когда Вольдемар, уже в одиночестве, отправился в новый маршрут, Утин поинтересовался у Лизы, что она о нем думает, и по тону, каким он задал вопрос, Лиза почувствовала неладное.
— Энергичен, решителен… не жалеет себя для дела… а точнее, ни себя, ни других… И до крайности самоуверен! А что такое? Случилось что-нибудь, Николя?
С начала апреля Утину и его друзьям пришлось сражаться одновременно на двух фронтах — с бакунинской партией и с хозяевами. В Женеве вспыхнула стачка — грева, говорили «эмиграчи» на французский лад, — и Утин с утра до ночи участвовал во всех комиссиях, всех встречах с хозяевами и посредниками, редактировал воззвания и объявления, выступал на собраниях по вечерам и при этом не мог позабыть о своих обязанностях в газете женевских секций: регулярно заполнял в «Эгалите» все ее четыре страницы!.. Сотоварищи по Русской секции, как могли, помогали ему, иначе, наверное, пришлось бы забросить издание «Народного дела», а ведь только-только как будто бы стало налаживаться. И вот тут-то, в один совсем не прекрасный день, Утина огорошили доверительным сообщением, будто бы Нечаев в курсе всех его разговоров и дел, потому что, быть может, наиболее деятельный из утинских помощников просто-напросто к нему подослан.
Дал понять это Утину Михаил Сажин, также новое в Женеве лицо, хотя с историей самой обычной: то же участие в волнениях, та же ссылка, тот же побег за границу… оригинальным было одно — добежал до самой Америки, а в Женеву пожаловал уж оттуда…
Хочешь, Утин, поверь, хочешь, думай, что рассказ Сажина и есть замысловатая нечаевская ловушка, месть, обещанная Серебренникову. Впору было ото всего этого растеряться.
Лиза отказывалась поверить. Ну хорошо, Вольдемар не прочь был напустить флеру когда надо и когда не надо. Она объясняла это мальчишеством. Во всех городах, куда они с ним приезжали, его ждали на почте письма до востребования, получив их, он исчезал куда-то, отделываясь неясными фразами о связях с Россией. Однажды она даже обратила внимание на сходство почерков на конвертах, но как-то не придала этому значения… Да и что это сходство могло означать? Что письма писались одной и той же рукою? Инструкции от Нечаева?.. Или того хуже?! Но зачем же так часто? Правдоподобнее предположить, что письма были от женщины… показывая их, Серебренников прихвастнуть хотел, а то и вызвать ревность… правда же, Утин?
Тот и сам был бы рад от услышанного отмахнуться, когда бы Сажин не пересказал ему разговоры, которые ни одно постороннее ухо не могло слышать. От этакого как отмахнешься? Тут неясность оставлять невозможно.
Он собрал Русскую секцию обсудить положение.
Серебренников, как ни странно, тоже явился, хотя знал заранее, о чем будет речь. И не только от Утина. Сажин его прямо предупредил, что откроет Утину глаза, поскольку этих нечаевских методов одобрить не может.
Ни от чего отпираться Вольдемар не подумал. Да, он друг Нечаева и его верный товарищ. Да, он втерся в доверие к Утину, чтобы держать Нечаева в курсе всего, что здесь творилось и говорилось. Да, в поездках он тоже исполнял нечаевские поручения. Письма, которые он давал зимою читать? Ха-ха-ха, он их сам и писал, вместе с Нечаевым придумали этот ход, чтобы вызвать доверие, и, как видите, ход оказался удачным! Точно так же он писал сам себе письма, что потом получал по почте в других городах. Зачем? Показать Элизе, как много у него наладилось связей. Кстати, письма, какие он хранил в архиве секции как секретарь, тоже пролежали недаром. Пусть имеющий уши примет в расчет, что он мастер копировать почерки и в интересах дела не преминет воспользоваться своим мастерством. Что, не ясно, в каких интересах? Чтобы заставить замолчать кого следует… или, напротив, заговорить!
Он держался с обычной уверенностью и пояснял охотно, снисходительно даже:
— Представьте себе, однажды вам приносят с почты письмо. Вскрыв конверт, вы страшно удивляетесь, что оно написано вашей рукой и к вам самим. Поскольку вы уверены, что писем себе не писали, то догадываетесь, что кто-то подшутил над вами. Меж тем это вовсе не шутка, а предупреждение и угроза…
Для чего, наконец, он хотел ввести в секцию своих друзей? Неужели и это гражданам непонятно? Чтобы со временем, когда друзья составили бы в ней большинство, принять Нечаева и Бакунина, а несогласных — за дверь!
Один Утин да изредка Трусов задавали Серебренникову вопросы. Остальные, подавленные нежданным открытием, все его откровения (или издевки?) выслушивали в мрачном молчании.
Не сдержалась первою Лиза.
— Как вам не стыдно, Вольдемар, говорить нам все это в глаза? Ведь это же низко и подло, все эти ваши обманы, интриги, вы просто изменник, вот вы кто, шпион и предатель!
— И к тому же наглец! — поддержал ее Трусов. — Посмотрите на него, как он петушится! Как будто герой!
Побледнев от волнения, Серебренников повернулся к нему:
— И это говорите вы, Антуан? Да кто же здесь не знает о вашей мечте, о которой вы всем прогудели уши? Или это не вы надеетесь в третьеотделенцы податься, чтобы, всех одурачив, служить там революционному делу?
— Сравнил тоже! Это же вражеский лагерь!
— А вы здесь, со своей болтовней и бумажной деятельностью, вы настоящей революции не вражеский лагерь?! Вспомните, разве я первое время не убеждал вас открыто? Вы меня не послушались. Сами заставили прибегнуть к хитрости. Вот я вас и дурачил! Кто не за нас, тот против нас. Оставаться в золотой середине и при перестрелке гибнуть ни за что ни про что — бессмысленно. А ваши, мадам Элиза, слова: «низость», «подлость», «измена» — тьфу, жалкие дамские слезы. Для революционера нет таких понятий… Мы гордимся тем, что следуем им наперекор и презираем рассуждения о нечестности, о нравственности в этом подлом мире. Честно то, что полезно революционному делу, — и бесчестно все остальное!
Он почти цитировал нечаевский «катехизис»…
— Это верно, мы никогда не согласимся обманывать людей, привлекать их к себе измышлениями и угрозами. Мы не засылаем лазутчиков, — Утин старался говорить спокойно, но не мог. — Эти средства, которые, милостивый государь, вы с вашими учителями применяете якобы для революционных целей, вовсе не оправдываются ими, эти ваши гнусные средства способны испакостить и самые цели.
— Перестаньте, Утин, играть в слова. Не для того, чтобы болтать либерально, я здесь распинаюсь перед вами.
И он кинулся в схватку с открытым напоследок забралом:
— Это наша последняя попытка сблизить вас с настоящим делом! Итак, наши условия. Вы прекращаете свою игру в слова. Передаете в общее ведение «Народное дело» и типографию. Пристаете решительно к нашим рядам и вместе с нами переходите к действию!
— Вместе с вами троими?! Не морочьте нам голову хоть теперь. Никакого общего ведения у нас быть не может!
— В таком случае вы такие же собственники, как буржуа! Чем вы лучше?! И торчите себе в прихожей у Маркса и Беккера, коли нравится! Только помните: русские революционеры сумеют заставить вас пожалеть об этом!
Он выбежал, хлопнув дверью на прощанье.
6
Случается же в жизни такое.
Зашла как-то вечером к Утиным и увидела там племянницу петербургских соседей, теток Шуберт, сразу ее узнала, даром что теперь та была уже не одна, а с чернявым супругом-французом. Анна же растерянно щурила свои очи и улыбалась, словно силилась Лизу припомнить, даже назвала свое имя, когда Ната Утина принялась было представлять их друг другу.
— Неужели я так изменилась? — вспыхнула Лиза.
— Господи, как мир тесен! — заглаживая неловкость, заахала Ната. — Вы, стало быть, в Петербурге встречались? — И объяснила Лизе: — Анюта с Жакларом только что из Парижа, Виктору пришлось бежать от суда.
— Так все не ново! — добавил Утин, который когда-то сам бежал от суда, только не от французского, от российского.
Гостей расспрашивали о том, что творится во Франции, в Париже, угроза революции сделалась там ясна и сторонникам ее, и врагам.
— Слыхали хлесткую фразу Рошфора? Империя имеет тридцать шесть миллионов подданных — и столько же поводов для недовольства!
Открытие заговора бланкистов, аресты членов Интернационала — после баррикад в Бельвиле и подавления войсками стачек в Крезо и в Фуршамбо — все это еще более накаляло обстановку. На суде, начавшемся незадолго до отъезда Жакларов, — это был уже третий в Париже процесс Интернационала — говорилось, что число его членов достигло нескольких сот тысяч.
— Вы бы побывали в зале суда! Там сидело больше людей, чем в «Гранд-Опера», и почти все открыто выражали сочувствие обвиняемым!
И Анна восхищалась тем, как держались они на суде, эти мастеровые люди, — Шален, Альбер Тейс, Бенуа Малон…
— Но и молодые вели себя превосходно! Рабочий-ювелир Лео Франкель такую речь произнес! — продолжала она. — Конец я запомнила слово в слово: «Тем, кто воображает, что социальное движение можно остановить судебным процессом, я отвечу фразою Галилея: а все-таки она вертится! Союз пролетариев всех стран — совершившийся факт. Никакая сила не сможет его расторгнуть!»
— Процесс превратился просто-таки еще в одно многодневное публичное собрание! — пошутил Жаклар.
Последнее время в Париже бывало их столько, что ораторам — среди них и Жаклару — приходилось разрываться на части, чтобы повсюду поспеть: и в зал Тиволи, и в зал Мольера, и в залы Фоли-Бельвиль и Фавье… разве все перечислишь?! Впрочем, «публичного собрания» в Блуа, то есть суда над бланкистами, Жаклару, к счастью, удалось избежать. Теперь, когда миновала опасность, молодая чета была озабочена другою проблемой. Как узаконить свои отношения? В Париже не до того было, а здесь сделалось необходимым.
— Так это же просто! — сказала Ната. — Я тоже когда-то уехала из Петербурга следом за Николя, в здешней русской церкви мы преспокойно обвенчались.
У Жакларов, увы, не хватало нужных для вступления в брак документов, получить их Анне было совсем не легко. И пока мужчины продолжали громогласно обсуждать политические события, она вполголоса посвящала Нату и Лизу в перипетии собственной жизни, не без усмешки повествовала о планах освобождения из-под родительской власти, удавшихся лишь наполовину — для ее сестры Софы.
— …И даже не наполовину, а на одну треть, потому что с нами была еще кузина, а Софин муж, к сожалению, не был магометанин, чтобы жениться сразу на всех троих.
В рассказе Анны то и дело мелькало имя некоей Маши Боковой, видимо Нате хорошо известное, из-за которой якобы расстроился ее, Анны, фиктивный брак с каким-то Иваном Михайловичем, за что Анна эту Машу Бокову осуждала безусловно.
— Боюсь, что новый человек отступил перед старою женскою ревностью!
Заметив, что Лиза выслушала это вполне спокойно, Ната Утина всплеснула руками:
— Да вы понимаете ли, милочка, о ком речь? Ведь это история Маши положена в основу вашего святого писания! Да, да, конечно! В историю Веры Павловны и Кирсанова, и Лопухова!
И Ната прервала исповедь Анны рассказом о прототипах «Что делать?» и о том, как Ната Утина (тогда, правда, еще не Утина) и Маша Бокова (уже Бокова или еще не Бокова?) до скончания веков вошли в историю Петербургского университета, ставши первыми женщинами, переступившими университетский порог. Когда в пятьдесят девятом они явились в актовый зал на лекцию профессора Костомарова на историко-филологическом факультете, весь университет сбежался на них смотреть.
— Могу подтвердить под присягою как свидетель, — вмешался тут Утин. — Или, точнее, как соучастник, — и продекламировал из Щербины: — «Теруань де Мерикюры школы женские открыли, чтоб оттуда наши дуры в нигилистки выходили».
А Ната попросила Анну продолжить.
Так вот, после Софиной свадьбы, уступивши слезным мольбам, отец отпустил ее сопровождать молодых за границу. И до сего дня думал, что они живут вместе в Гейдельберге, где Софа изучает высшую математику. На самом-то деле, оставив сестру, Анна сразу же укатила в Париж знакомиться с тамошним социальным движением (а переписку с родителями хитро вела через Софу). Поскольку присылаемых из дому денег на такую жизнь не хватало, пришлось поступить на работу — наборщицей в типографию — и поселиться очень дешево в пригороде за Булонским лесом, в Пюто. Там она познакомилась и подружилась с Андре Лео, известною романисткой («статью о ней Писарева вы, конечно, читали?»), а потом с Бенуа Малоном, с Лафаргами («Поль Лафарг женат на дочери Карла Маркса Лауре») и вот с Жакларом…
— Обыкновенная, словом, история, только я думала, паспорта будет довольно, чтобы узаконить наш брак, а мне нынче здесь объяснили, что нужны еще другие бумаги. Как домой сообщить, ума не приложу…
Она была сильно удручена, но вдруг встрепенулась:
— Что я все о себе да о себе! Поди, наскучила, извините!
И взглянула на Лизу:
— А ты-то, соседушка, вы-то, голубушка, какими судьбами здесь?!
Меньше всего расположена была Лиза пускаться в откровенности на собственный счет. Что она могла о себе сообщить, да и с какой стати… Историю с наследством?.. С Томановским?.. Ни к чему. Тем паче, и главный ее замысел нуждался в сохранении тайны! Борьба с хозяевами — вот что ее теперь волновало, шесть недель борьбы с ними и с голодом! Она рассказала: на днях на ее глазах в редакцию «Эгалитэ» к Утину явилось несколько женщин. «Мы продаем последнее и все-таки голодаем! Все вздорожало, молока нет, овощей нет!..» И потребовали напечатать прокламацию, созывающую всех женщин на сходку. «Мы пойдем вместе с детьми к ратуше с красным знаменем и потребуем работы для наших мужей или хлеба для наших детей!»
— А листовку Интернационала вы видели? — спросила она петербургскую соседку.
Обращение Генерального Совета только что дошло до Женевы как ответ на депешу Папаши Беккера о поддержке.
…С самого начала стачки Утина выбрали в комиссию Беккера для переговоров, а Лиза внесла деньги в стачечный фонд и не осталась в стороне, когда стали устраивать общественную столовую для кирпичников и их семей, но в особенности горячо приняла идею завода на кооперативных началах. Быть может, здесь наконец суждено было осуществиться давнему ее замыслу — не мельница в Псковской губернии, так хоть в Женевском кантоне кирпичный завод! Предложение открыть его обсуждала в Тампль Юник настолько всерьез, что уже объявили о сборе средств на его устройство.
Лиза была уверена, что хозяева отступят, если появится у них такой конкурент.
Но денег пока, увы, не хватило. Работники же готовы были скорее переменить ремесло, чем возвращаться к хозяевам на прежних условиях.
И теперь, рассказывая все Анне, она возмущалась:
— Те не сделали ни шагу навстречу! Напротив! В афише, развешанной по всему городу, было публично объявлено, что если рабочие не явятся с повинной, то мастерские по всем строительным ремеслам будут закрыты через неделю. Требования же рабочих вы знаете чему буржуа приписали? Единственно проискам собравшихся в Интернационале агитаторов-иностранцев, которых-де необходимо изгнать из Швейцарии!
…Рабочие ответили на это громадным митингом в Храме единства. Столько народу разом Лиза еще никогда не видала. Две тысячи человек набилось в просторный зал, а может, их было и пять тысяч, как сосчитаешь? И каждое упоминание о подлой хозяйской афише вызывало в зале гул возмущения.
Но странное дело… впрочем, Анна, разумеется, прекрасно поймет эту странность — находясь среди наэлектризованной женевской толпы, Лиза ловила себя на том, что мыслями она в Петербурге — и не только в известном Анне доме на Васильевском острове, где по-прежнему хлопотала Наталья Егоровна… Не так давно до Женевы дошли известия о петербургских стачках. Чем кончилось, Анна, конечно, слыхала? За решеткой несколько десятков фабричных — потому что сочли заработную плату недостаточной для пропитания своего и семей своих. Там, в родимой стороне, потребовать прибавку было преступлением, за которое расплачивались кутузкой. Здесь же публичное собрание единодушно приняло протест против хозяйской афиши, в защиту законного права на справедливое вознаграждение… за труд, да еще в защиту права ассоциаций, и права убежища для иностранцев, и свободы труда, равной, для всех. Вот она — разница между положением здешних рабочих и бесправного русского труженика.
Сгоряча они чересчур обольщались здешними порядками.
Когда наконец хозяева согласились на переговоры при посредничестве женевских властей и уполномоченные уселись за стол, начались споры и препирательства. Хозяева не шли на уступки. Утин, участник всех этих прений, кипел, рассказывая о них. Впрочем, у него буквально не было свободной минуты. Друзьям казалось, что его роль в этой стачке подобна роли Серно в прошлой. Недруги же ехидничали, что «Утин и Кº» репетируют пьесу, которую надеются когда-нибудь разыграть в России. И о «прихожей Маркса и Беккера» вспоминали снова и снова…
Да и Лиза никак не могла выбросить из головы запальчивых слов Серебренникова. «Прихожая Маркса и Беккера»… Червячок сомнения не давал покоя. Следует ли, уподобляясь Серно, чуть ли не целиком отдаваться здешним делам, почти позабыв о «домашних»? Утин отмахивался: здесь дело, настоящее, нужное, а «дома», к сожалению, до такого еще ой как не близко!.. Петербургские стачки? Конечно, они для революционного дела очень важны и доказывают его настоятельность, да следует ли прибавлять им значение?! Он не спорил, что это ростки будущего, но какие еще слабенькие ростки…
Интересно, что об этом думает приехавшая из Парижа Анна?
Для Анны Васильевны нашлось в Русской секции серьезное поручение. Утин давно подумывал об издании перевода основных документов Интернационала, этакой русской библиотечки Международного товарищества рабочих. В виде приложений к номерам «Народного дела». Лучшего исполнителя, нежели подруга Жаклара, трудно было для этого сыскать. Литературная ее одаренность не вызывала сомнений, к тому же Анна проявляла довольно-таки основательное знакомство с произведениями Маркса, еще в России прочла по-немецки его работу «К критике политической экономии», эту предшественницу «Капитала», а в Париже — и самый «Капитал», первый том которого вскоре после выхода в свет автор прислал Жаклару. Кстати, под влиянием Маркса, похвасталась Анна, ее Виктор написал собственное сочинение по теории коммунизма (напечатали анонимно)…
В Женеве, чтобы заработать на жизнь, Виктор с утра допоздна бегал по урокам из одного конца города в другой и тем давал Анне возможность спокойно писать, избавляя ее от подобной же беготни. Теперь, после рассказов и пьес, она принялась за детскую сказку. А параллельно по поручению Утина переводила написанные Марксом Учредительный манифест и Общий устав Интернационала.
И все же всем сердцем и всеми помыслами она (как и ее Виктор) находилась в Париже. Вечерами, когда собирались к Утиным или в кафе «Норд», только и было разговоров: Париж, французы, война… А с той минуты, как Бенуа Малон сообщил, будто в Париже что-то затевается и готовится, Жаклары уже ни о чем другом не могли говорить, как об этом неясном «что-то» и о том, что надо возвращаться, невзирая на риск.
Как раз накануне войны Лиза приняла участие в судьбе Бенуа Малона. По процессу Интернационала ему присудили год тюрьмы, и Жаклары получили известие, что Малон не смог скрыться: кто-то внес за него залог. Едва услыхав об этом, Ольга Левашова с согласия Лизы тут же написала ему, что они возвратят эти деньги, пускай он смело бежит. Но Малон ответил отказом, держась того мнения, что в тюрьме лучше послужит делу, нежели в изгнании, ибо Интернационалу нужны свои мученики!..
Теперь и Анна заявила подругам:
— Недостаток в людях с головами и решительностью сейчас слишком ощутителен, чтобы думать о спасении своей кожи!
Ее Виктор уже хлопотал о подложном паспорте, ему было бы просто невозможно въехать в Париж под своим именем.
Куда как просто было Малону — полтысячи франков, и рукой подать до Женевы… Поди-ка выберись из-за Байкала!.. Девятый год пошел со дня ареста Николая Гавриловича. Назначенный ему каторжный срок подходил к концу, его должны были вот-вот перевести с каторги на поселение. Сколько раз объяснял Лизе Утин, что это намного облегчит задачу — «нашу с вами задачу». С тех пор как он рассказал ей историю двух «сморгонцев», просидевших в Рязани в ожидании тысячи рублей, чтобы отправиться за Чернышевским, и все лопнуло из-за безденежья, — с тех самых пор Лиза не раз повторяла ему, что, может быть, и сейчас кто-то где-то готов незамедлительно действовать и только ждет денег — ее денег! — и Утин не спорил с ней, соглашался. Только спрашивал: может быть, она подскажет, как их, этих людей, отыскать, как отсюда с ними связаться? Ведь Кате Бартеневой и в Петербурге прошлой зимою не удалось… И еще говорил: подождем окончания срока, уж недолго терпеть. И вот наконец настал долгожданный август семидесятого года. И опять подступился к Лизе, снова сделался самым важным отложенный было на время, отодвинутый другими событиями вопрос (никогда, впрочем, совсем не отпускавший ее и последний раз остро кольнувший в Шильонском замке, где недавно наконец побывала) — как помочь Чернышевскому.
И не к одной Лизе подступился.
Потому что, подобно Жакларам, заговорили о скором своем из Женевы отъезде — только в другую, чем Жаклары, сторону, в Петербург, — и Ольга, и Катя.
И второй раз передавая Кате Лизины деньги, Утин сказал ей:
— Свяжись с Павлом Ровинским. Это один из моих лучших друзей.
Но ни Катя, ни даже Ольга, не говоря уже о Лизе, как оказалось, ничего толком о Ровинском не знали, так что Утину пришлось им рассказать (что он сделал с охотой), как сошелся с ним по «Земле и воле» и как Павел проводил его до самой границы, когда он бежал из России.
— Так что, думаю, доверять ему можно, как мне.
С Николаем же Гавриловичем Павел Ровинский был знаком еще много раньше, по Саратову, с ним и с Ольгой Сократовной тоже, ей он крестный брат по отцу, и после ареста Николая Гавриловича находился при ней безотлучно, покуда она в себя не пришла.
— Вообще же Ровинский славист, филолог Казанского университета, этнограф и путешествует много, чуть не все славянские земли объехал, и, насколько я знаю, и это, наверное, самое главное для нас с вами, теперь собирается в путешествие по Сибири… Так что деньги, Лиза, не беспокойтесь, попадут в надежные руки!..
И подумав еще, он добавил:
— А откладывать далее я, признаться, не вижу смысла.
7
Александр Константинович, бывший поручик, не оставлял надежд на благосклонность Лизаветы Лукиничны. Встречались нередко — по случайности большею частью — то на улице, то в «Норде», то она вдруг услышит с террасы другого кафе, когда мимо идет:
- Лизавета Лукинична, голубушка! Дозвольте ручку!
— Совсем, Александр Константинович, сделались женевский рантье!
— Но, помилуйте, что в жизни лучше стаканчика вина? — широко разведет руками и прищелкнет каблуками гвардейски. — Единственно свидание с дамою!
— Свободный вы человек, позавидуешь прямо!
— Но, помилуйте, что в жизни дороже свободы?!
И, спросивши о Томановском, принимался ее корить, что вот всегда занята, вечно в хлопотах, куда-то спешит… между тем как молодость, красота — все проходит, как было написано на перстне царя Соломона, и между тем как иные люди готовы умереть за свободу…
При этом картинно ударял себя в грудь, а Лиза смеялась:
— Отчего же не умирают?
— Вай, — отвечал он вдруг с кавказским прононсом, — умереть каждый может, ты, душа моя, поживи!
Он был легкий человек, по крайней мере, таковым представлялся Лизе, легкий и добродушный, с ним было просто, и она даже радовалась ему и сносила от него нравоучения, каких ни от кого бы не потерпела.
— Ну что за утеха вам от того, сколько будет в здешнем кантоне маляр приносить жене франков, коли изведете себя на эти его проклятые франки, и себя, и свою красоту? И какая печаль, кто кому шею своротит: Бакунин Утину или Утин Бакунину… или им обоим убивец Нечаев?!
Возражать ему, всерьез объяснять что-то Лиза недолго пыталась. Потому как в любой момент он готов был свести все на шутку.
— Николаю Исааковичу Утину я сам добрый приятель, но в междоусобные свары «эмиграчей» не желаю вникать и не посоветую никому! И листков их читать не люблю, оттого что каждый прописывает панацею, как по-новому переделать жизнь, а на переделку жизни эту моей-то жизни не хватит, да и жизни того, кто писал, тоже. А я жить хочу, не переделывать, а жить, для того и на свет божий родился. А что человеку требуется, чтобы жить? Фурье требуется? Прудон? Бонапарт? Сами подумайте. Нет, красавица моя, нужен хлеб, нужна жена… и вино! Да, да, хлеб, чтобы существовать, жена для любви, красоты и продолжения рода и для веселья — вино!
Что было отвечать этому большому ребенку на его эпикурейские проповеди? Как-то Лиза напомнила слова Томаса Гуда: о, зачем так дорог хлеб и так дешево тело женщины!
— И опять социальная несправедливость! — догадался он. — И во всем виноват капитал! А волк зайца по справедливости ест? Я вот тоже заглянул в «Капитал», мудрейшая и скучнейшая, доложу вам, книга, разумеется, бросил, а вы, боюсь, до конца одолели?
И отвечал ей тоже стихом — из Байрона, из сонета к Шильону, повторял ей его упорно, всякий раз сетуя, что она никак не удосужится побывать в этом замечательно красивом месте. Сам готов, мол, любоваться им сколько угодно, а ее, в конце концов, просто обязанность, долг почтить память пламенного Бонивара.
И опять повторял из сонета: «Свободной Мысли вечная Душа, — всего светлее ты в тюрьме, Свобода!..»
Наконец она дала себя уговорить. В одно прекрасное утро они сели на пароход, чтобы плыть в противоположный от Женевы конец озера. И белый пароход, и суда возле пристани на якорях, и белые кафе и магазины за деревьями на набережной — ах, как, в самом деле, все было неправдоподобно красиво вокруг, а выше, над деревьями, черепичные крыши старого города обступали высокий собор. И все это медленно уплывало по голубой глади и отдавало сцену зеленым холмам со светлыми виллами и шале на склонах и у подножий и ослепительно серебристой главе старика Монблана вдали.
Даже мрачный средневековый замок, как утес, поднимающийся из голубых вод, цель их путешествия, был не просто мрачен, но, в свою очередь, исполнен пронзительной красоты (вполне оправдывавшей восторги Александра Константиновича). Ну конечно же здесь следовало ходить с томиком Жуковского или Байрона. Сырые стены темницы, и своды ее на колоннах, и кольцо от цепи Бониваровой — казалось, все хранит на себе следы не только мятежного женевского аббата, но и обоих поэтов.
«На лоне вод стоит Шильон; там, в подземелье, семь колонн покрыты влажным мохом лет. На них печальный брезжит свет…»
А сверху, из узких окон замка, какие открывались виды на голубизну озера и на зеленую долину Роны, уходящую к снежным горам — в ту сторону, куда она отвезла когда-то Михаила Николаевича. Красота мира собрана была здесь! Лиза соглашалась со своим спутником, но мысли ее (что поделать) и когда она спускалась в подземелье шильонского узника, и когда поднялась сюда, наверх, в средневековые залы, обращались в далекую даль от Шильона, к другому узнику.
Летом, в самый разгар стачки, в то время как хозяева отказывались от всякого соглашения и голод делался все более сильным их сообщником, они встречали каменьями и палками дозоры гревистов, а федеральные власти стянули к Берну войска, в напряженнейший этот момент Александр Константинович, встретивши озабоченную более обыкновенного Лизу на Корратери, вдруг принялся убеждать ее тут же отправиться смотреть редкое зрелище — запуск воздушного шара. Ребячество бывшего поручика показалось ей столь неуместно, что готова была возмутиться вслух, лишь увидев просительную его улыбку, сдержалась.
— Окажите честь, Лизавета Лукинична, неужто же вашим малярам повредит невинное развлечение? И когда выдастся другой случай увидеть такое?
Словом, Лиза променяла на редкое зрелище раскрытого на столе Прудона.
Когда добралась до заполненного людьми поля, посреди его постепенно вздувалась, расправляла морщинистые бока, на глазах поднималась все выше опутанная веревочной сеткой огромная груша. Здесь, как всюду, бывший поручик встречал знакомых. Раскланялся и с Огаревым, и с Тхоржевским, а стоявший подле них взъерошенный молодой человек подбежал к нему и быстро заговорил без предисловий:
— Упрекаю вас, князь, что вы обещали зайти ко мне ознакомиться с чертежами и все еще не сдержали слова. А ведь вы могли бы этим господам пояснить, какое прекрасное орудие я отдаю на пользу русской революции. Вы военный человек, князь, и легко себе можете представить в корзине такого же, в сущности, шара, как этот, — он махнул рукой туда, где готовая взлететь груша, окончательно расправив морщины, лоснилась крутыми боками, — представьте себе, князь, в его корзине этакий пушечный ствол, мечущий с воздуха на землю гранаты. Согласитесь, русская история могла бы пойти по-иному, если бы мое орудие проплыло над Сенатскою площадью 14 декабря!.. Но, поверьте, не поздно ее повернуть еще и сейчас!
И эта захлебывающаяся речь, и то, как он начал ее, словно продолжая только что прерванный разговор, — многое было необычно в этом взъерошенном человеке, и сам смысл, содержание его речи, и то, как, закончив ее, он тут же ретировался, исчез, не дожидаясь ответа, и даже то, как он к бывшему поручику обращался.
Но Лиза ничего не успела у Александра Константиновича об этом странном человеке спросить, потому что люди, удерживавшие покачивающуюся на длинных веревках грушу, вдруг разом, по команде, ее отпустили, и под восторженные крики толпы, точно гуттаперчевый мячик в воде, она всплыла ввысь, унося в подвязанной снизу корзине приветливо махавшего руками аэронавта, который, как говорили, взлетал уже на подобных шарах чуть ли не тысячу раз. Но едва знаменитый Годар превратился со своим шаром в еле различимую точку на небе и, подхваченный легким ветром, совсем скрылся из виду, толпа начала расходиться, и Лиза с бывшим поручиком в потоке людей двинулась пешком по направлению к городу мимо зеленых садов, в глубине которых прятались скромные, почти деревенские дома. Она принялась расспрашивать Александра Константиновича не о знаменитом аэронавте, а о том взъерошенном человеке и его воздушном орудии.
Александр Константинович только рукою махнул.
— А, это Лазарев, технолог из Петербурга, специально приехал в Женеву предложить Огареву свою утопию. Не воздушное орудие, а воздушный замок. Вам не показалось, что он… немного того? Впрочем, нищ, как церковная крыса, и рыскает в поисках средств на свой испытательный шар, составные части которого якобы уже начал строить. Так что в ваших возможностях, Лизавета Лукинична, приобрести его себе в полную собственность!
— Перестаньте! — вспыхнула Лиза. — Не люблю таких шуток!
— Прошу прощенья, но не советую, нет! Выброшенные деньги, ничего не получится, — обычное добродушие изменило бывшему поручику, — а коли бы даже и получилось?! Не дай бог попадет такое орудие к Нечаеву в руки — думаете, что хорошее выйдет?! Вон с Бакуниным, говорят, этот Лазарев уже вступил в переписку, хорошо, сам Михайло Александрович гол как сокол!
— Но ведь Лазарев этот, — проговорила Лиза в раздумье, — он ведь мог предложить свою идею и в Петербурге… военному ведомству, например…
— Дураков и там много, могли бы клюнуть…
— …Не предложил же! К Огареву, сами говорите, приехал!
— Как будто здесь не хватает своих утопий!
— С вами положительно невозможно говорить, сударь. Или вы хотите, чтобы я пожалела о сегодняшнем дне?!
— Никогда вам этого не позволю, сударыня. Но не верите мне, посоветуйтесь с Утиным, он вам скажет.
— Хорошо! — сказала с вызовом Лиза. — Но почему, наконец, этот человек величает вас князем?
Уж об этом пускай она у него у самого спросит, отвечал бывший поручик, пересиливая шум ледяных вод Арва, что срывались с низкой дамбы, к которой они подошли. Оттого, возможно, что на Кавказе князей что камней, у кого сто баранов, тот князь. А может быть и так: наболтали ему, будто бывший поручик в самом деле княжеский отпрыск.
Лиза тоже об этом слыхала.
— Так и есть, — согласился бывший поручик. — Род отца моего в самом деле князья, даже более того, к царскому дому грузин восходит. Только я-то не князь, а бастард… Голубая кровь Багратионов здесь смешалась с красной, крестьянской…
И он показал кулаки в прожилках.
Война многое изменила в Женеве.
Туча беспокойных и разноязычных корреспондентов и репортеров сновала через границу с Францией, отдавая, впрочем, предпочтение женевским отелям. Потом нахлынули бонапартисты. У красивого здания рекламного агентства на площади Бель-Эр целыми днями толклась пестрая говорливая толпа, жаждавшая военных новостей.
Но испортить женевцам их праздник цветов война все же оказалась не в силах. Неужели же вольные граждане должны были нарушать традицию из-за каких-то там франко-прусских сражений?!
От множества фонарей, плошек, газовых рожков на набережных, на мостах и дамбах, заполненных нарядной толпой, было светло как днем, и над темным зеркалом озера роились огни — от десятков лодочек, расцвеченных китайскими фонариками, а высоко, точно в воздухе шар Годара, парил силуэт парохода, обозначенный гирляндами ламп. Разумеется, бывший поручик не мог пропустить празднество. Вместе с Лизой они уселись в лодочку, и старик лодочник, по наружности морской волк, мерно захлюпал ложками весел, включаясь в сверкающий хоровод. Скрип уключин, всплески падающей с весел воды, музыка с палубы парохода… Неожиданно где-то вверху вспыхнул огненный шар, за ним другой, третий, и в ночном небе над озером расцвели три огромных цветка, три тюльпана или, может быть, розы, и осыпались искрами в закипевшую, как шампанское, воду, а тем временем новый букет родился в вышине.
— Как красиво!
— Как красиво! — отозвался эхом бывший поручик и вдруг добавил: — А где-то среди толпы бродит этот помешанный, этот Лазарев со своей неотвязною мыслью…
По дороге к пристани он им попался навстречу, как обычно взъерошенный и погруженный в себя, так что им удалось пройти незамеченными.
— Почему вы именно сейчас заговорили о нем?
— Посмотрел его глазами на это… Подумал, вот он сейчас представляет себе: вместо искр посыпались с неба осколки гранат…
— Вы несправедливы к нему.
— Погодите, уцепится за него Нечаев… а то племянничек Бонапарт! Я был на войне!
— Не желаете допустить, что он отдаст это свое орудие только совсем в иные руки?.. Скажем, такому человеку, как Рахметов?!
— Много ли это изменит, не знаю.
— А я знаю! Не хотите поверить мне, может быть, поверите, скажем, Писареву? Он как раз рассуждает о том, что необыкновенные люди становились иногда мучениками, но никогда — мучителями, потому хотя бы, что мучения не приносят пользы той идее, во имя которой производятся.
— Может быть, может быть, я Писарева не читал… Только вот Рахметова я что-то здесь не встречал, а с Сергеем Нечаевым и с Бакуниным Михайлой Александровичем лично знаком. И совсем мы их вспоминаем не к месту, ей-богу, не для праздника такой разговор! — И сам же, его продолжая, пожал плечами: — Как, не веруя в бога, поверить в Рахметова? Он столь беспорочен, что, боюсь, мог быть зачат не во чреве женщины…
— Так интересно, где же?
— В голове, в дистиллированной голове!
— Как вы можете?! — чуть не со слезами вскричала Лиза. — Уж этого я вам никогда не прощу! — и приказала лодочнику по-французски: — Немедленно гребите к берегу, мон шер!
8
По греве война нанесла жестокий удар.
В тот же день, когда по пути в Тампль Юник члены стачечной комиссии из криков газетчиков на улицах узнали, что Наполеон Третий объявил войну Пруссии, от федеральных властей из Берна пришла депеша с требованием окончить беспорядки — «во имя безопасности Швейцарии».
Прекращение гревы — при всем том, что кончилась она далеко не так, как хотелось, и лишения, какие пришлось ради нее претерпеть, во многом оказались напрасными, а надежды несбывшимися и что причины этого, не завися ни от самих гревистов, ни от их зримых противников, угрожали тем не менее зловещими переменами всем им вместе и каждому в отдельности, — несмотря на все это, прекращение гревы принесло Николаю Утину облегчение. Больше не нужно было с раннего утра и до поздней ночи воевать, выступать, убеждать, разъяснять что-то кому-то без перерыва и без конца в Храме единства и за стенами Храма единства. Утин не передышки хотел, но хоть какой-то возможности заняться делами «домашними». Не существовало для него больше такой антитезы: Россия или Европа. Только вместе, соединясь, рядом должны они были, по его разумению, идти к будущему, Россия и Европа. И его, Утина, детище, «Народное дело», единственный, в сущности, в эту пору орган вольного русского слова, призвано было сыграть немаловажную роль соединительного звена, так же как Русская секция, от которой женевская грева тоже Утина почти совсем отдалила.
И первое, что он сделал, воспользовавшись долгожданной свободной минутой, — засел за большое письмо в Лондон, начав с извинений за долгое молчание и с объяснений уважительных тому причин.
— Вы его, Лиза, конечно, прочтете, и вы, и все остальные, пока же могу вам сказать, что приходится сор вынести из избы, чтобы Маркс как наш представитель в Генеральном Совете мог понять обстановку, в какой мы действуем. Он должен и о Нечаеве знать, и о Вольдемаре нашем… познакомиться со всей этой зловредной путаницей интриг, мы-то с вами хорошо понимаем, как непросто в них разобраться, уразуметь, что главное не в этих головорезах!..
О Бакунине Утин не мог говорить спокойно.
— …Знаю, уже нашлись простаки, которые видят в нем жертву нечаевских козней, обманутого доверчивого младенца, совращенного с пути истинного, я уверен, он сам распускает подобные слухи в расчете на прекраснодушие простаков, на короткую память! Он оставлен в дураках, он в лучших чувствах обманут! У него-де раскрылись глаза. Произошли сдвиги в воззрениях! Уже, говорят, придумал теорию для сего случая. Какую? В другой раз об этом… Мы-то, слава богу, его раскусили: этому человеку, с его пустым ячеством, важна лишь собственная роль. Он порвал с Нечаевым, как только увидел, что эта братия прогорела в России, осуждена настоящими революционерами и ставка на Нечаева бита. Вот и все. Проще пареной репы. Увидите, вскоре он станет вовсе открещиваться ото всего, утверждать, как всегда, что был неправильно понят! И я об этом пишу Марксу, и что у нас имеются документы, которые позволяют публично Бакунина разоблачить… И еще я хочу спросить совета — в частности, правы ли мы, хотя у нас мало сил, ограничивая из осторожности число членов секции здесь, в Европе… и о том, как он смотрит на то, если кто-то из нас приедет к нему в Лондон поговорить. Не правда ли, один раз поговорить лучше, чем десять раз написать, вы согласны, Лиза?!
Европейские события, однако, приняли такой неожиданный оборот, что дела «домашние» снова оказались отодвинуты ими. «Мы желали бы одинакового поражения обоим противникам — и Бонапарту, и Бисмарку, — писало „Народное дело“, — мы желали бы, чтобы две армии, вместо битвы, протянули бы друг другу руки и поняли, что им не из-за чего биться…» Впрочем, накануне войны казалось, что вообще все ограничится «показыванием зубов», ибо никто не мог поверить, что решатся пустить в ход такие смертоносные средства, как, например, игольчатые ружья… Увы, в действительности все складывалось по-иному.
Спесивые наполеоновские генералы терпели одну неудачу за другой, месяца с начала войны не прошло, как французы понесли тяжелое поражение в Лотарингии, в Меце. Еще две недели — и разгром при Седане, капитуляция, император в плену, в Париже провозглашена республика — «быстрая смена декораций, быстрая смена одной неожиданности иною… громадное значение результатов, приносимых каждою новою неожиданностью», — такую оценку происходящему давал в петербургском «Вестнике Европы» некто И. Н., а женевские друзья Утина легко расшифровывали этот псевдоним как «Изгнанник Николай». С середины августа Утин в качестве военного корреспондента колесил по Франции и, со свойственной его перу бойкостью, строчил статью за статьей и под разными вымышленными именами отправлял конверт за конвертом в Петербург, на Галерную, 20 (где помещалась редакция «Вестника Европы»).
И Бакунин не остался в стороне от событий. В женевской Центральной секции Интернационала давно уже стоял вопрос об его исключении — «за то, — как сообщил Утин в своем подробном письме Марксу, — что вызвал раскол в Женеве». Из-за гревы решение затянулось, товарищеский суд смог собраться лишь в августе. Сам Бакунин на него не счел нужным явиться. Только месяц спустя промелькнул в Женеве проездом в Лион. Кое с кем из женевских друзей он успел поделиться своими планами, а уж от кого-то из них его новые замыслы дошли и до Утина. Неожиданности франко-прусской войны возбудили настоящую горячку в бакунинской буйной голове. В вызванном войною замешательстве он увидел благодатную почву для немедленного восстания и, буквально закидав письмами своих сторонников на юге Европы, где еще пользовался влиянием, через несколько дней после провозглашения в Париже республики кинулся в гущу событий — не военным корреспондентом, но участником и вожаком, по собственным его, дошедшим до Утина, словам, — на пан или пропал.
Местом действия он сразу же выбрал Лион — второй город Франции. Корреспондент «Вестника Европы» рассказал о Лионском восстании со многими подробностями — опустив, разумеется, запретное имя соотечественника. Пускай автор не находился там в дни восстания, к его услугам были газеты, депеши, а потом и рассказы участников. И оценка была трезва: «Гора родила мышь».
В Женеве же на обратном пути из Франции Бакунин более не появился. Впрочем, если бы даже и появился, его не узнал бы никто. Рассказывали, будто ему пришлось бежать не только по чужим документам, но еще изменивши наружность, так что кудри и борода остались в Марселе у тамошнего брадобрея, а сам Бакунин, посмотрев на себя в зеркало сквозь синие очки, заметил будто бы, что эти иезуиты заставили его перенять свой тип…
Зато объявился в Женеве лионский «главнокомандующий» Клюзере и в уютных женевских кафе занялся изобличением клеветников, обвинявших его в трусости и в измене. Он требовал формального суда над собою! В Лионе Клюзере стоял за ведение партизанской войны. И против бакунинского переворота. Участник гражданской войны в Америке, он хотел летучих отрядов, атак из лесов, он славился как отчаянная голова. Впрочем, и он недолго ораторствовал по женевским кафе — за ним приехали из Марселя, где готовили новую вспышку и нуждались в человеке, способном вести в огонь. О генеральских достоинствах Клюзере Лиза судить не бралась. Но, послушавши его речи, для себя оценила его несомненно: краснобай, позер, самохвал… И как бы они там в Лионе ни препирались с Бакуниным, все равно были одного поля ягоды.
Разодетые парижанки фланировали по женевским улицам (точно по Большим бульварам, как отметила Ната). Не одно кафе облюбовали для своих рандеву беглецы империи, хлынувшие после Седана; там они предавались мечтаниям о реставрации. За ними последовали изгнанники республики, подобные Клюзере, и офицеры с палками взамен шпаг — страсбургские пленные, отпущенные под честное слово. Да, Женева все заметнее меняла уже ставший для Лизы привычным облик. В отелях, в меблированных комнатах не найти было свободного места. И в излюбленном русскими эмигрантами кафе «Норд» тон стали задавать беженцы-французы. Для путешествий из России в охваченную войною Европу время наступило малоблагоприятное.
Невзирая на это, Лиза не оставляла попыток выманить братца Михаила Николаевича из угличского заточения. В сопровождении бывшего поручика побывала в Монтане, в санатории у доктора Эн, его авторитетом хотела подкрепить приглашение. Но Томановский упорно отмалчивался; даже когда изредка напоминал о себе, эту тему по-прежнему обходил стороною. Тем временем разъехались многие — в разные стороны. Жаклары — в Париж… Нико Николадзе — в Россию… От утинской «женской свиты» после отъезда Ольги и Кати остались лишь Ната с Лизою. Да и Утину как военному корреспонденту то и дело приходилось пересекать французскую границу, однажды его даже по недоразумению арестовали… И так немногочисленная, Русская секция насчитывала теперь всего лишь несколько человек, и вообще для Интернационала в Швейцарии наступили нелегкие времена. Сам Папаша Беккер, при всем своем опыте, жаловался, как много требуется труда, такта и ловкости, чтобы не дать расклеиться интернациональному делу. Чего греха таить, немалая часть как немецких, так и французских рабочих попалась на удочку тех, кто спекулировал на национальных чувствах…
Словом, положение было довольно печальным. По этой причине Лиза долго набиралась духу, прежде чем заговорить с Утиным о своем намерении съездить в Россию. За Томановским. А когда наконец решилась, Утин ее опередил: сам завел с нею речь о поездке, однако в другую сторону, в Лондон, — о поездке, еще летом задуманной и согласованной с Марксом, да все откладывавшейся с тех пор (Маркс тогда же ответил на утинское послание через Папашу Беккера, вместе с благодарностью за письмо и кое-какими замечаниями о Бакунине, передав, что, если кто-то из членов Русской секции приедет в Лондон, он будет этому очень рад).
От неожиданности она растерялась.
— Мне от секции в Лондон к Марксу?
Но кому же еще, принялся терпеливо втолковывать Утин. Пусть посудит сама. Ведь ни он, ни тем более Антуан ни за что не могут оставить своих занятий. Ольга с Катей уехали, так же как Анна Жаклар. Ната хворает… Да и разве Лиза не сумеет рассказать в подробностях о женевских делах, об известиях из России, о запутанном том клубке препирательств и групповщины, в каком вынуждена действовать Русская секция… да, к несчастью, вообще российские революционеры. Разве Лиза не сумеет дополнить живыми подробностями то письмо, которое ему передаст? И конечно же расспросить доктора Маркса, что он думает по поводу всех этих дел, и запомнить его советы?..
— Как всегда, Николя, вам в логике не откажешь, — отвечала на это Лиза. — Но, понимаете ли, я как раз собиралась в Россию… хотела посоветоваться с вами.
Он не вправе помешать ее планам, заметил, выслушав ее, Утин; но, независимо ни от чего, быть может, разумнее еще несколько повременить?.. Пусть посудит сама: и для болезни, как известно, в горы лучше ехать поближе к весне, а быть может, и европейская обстановка вскорости прояснится; за это время она десять раз успела бы побывать в Лондоне, разве не так?.. Напоследок Утин даже пошутил, чтобы подбодрить Лизу (она, правда, и сама быстро совладала с собой, тем более что в словах его о Томановском увидала резон; а главное, утинское поручение было серьезным делом, поступком!..).
Он же вот что сказал:
— Как ответил Чернышевский на насущный вопрос «что делать?», вы ведь, Лиза, не правда ли, знаете наизусть? В Лондоне вам предстоит услышать от Карла Маркса ответ, в сущности, на тот же самый вопрос.
Утин был совершенно уверен, что она со всем этим справится превосходно.
Из «Записок Красного Профессора»
«В Институте Красной Профессуры, созданном для ускоренной подготовки марксистски образованной партийной интеллигенции, собралось нас без малого человек сто, большинство партийцы и недавно из армии, многие в гимнастерках, в шинелях. Выбор цикла (отделения) не вызвал у меня колебаний: ни философом, ни экономистом я стать не хотел. Хотел быть только историком (и с добродушием относился к подсмеиванию сокурсников с других циклов, прозвавших нас „гробокопателями“). С самого начала я никогда не воспринимал историю как нечто мертвое, отжившее, не имеющее отношения к сегодняшним событиям. Напротив, казалось, что в прошлом, если хорошенько в него всмотреться, увидишь зачатки того, что происходит на наших глазах, — и это поможет разглядеть в происходящем ростки будущего.
История — связь времен… Много позже я узнал, как объяснил Горький отношение Ленина к истории: он „так хорошо знал историю прошлого, что мог и умел смотреть на настоящее из будущего“. По сути дела, это было именно мое ощущение, лишь изложенное в более ясной форме. Итак, в выборе цикла я не испытывал сомнений. Сложнее оказалось выбрать по себе семинар. К кому записаться — к Михаилу Николаевичу или к Николаю Михайловичу, на русскую историю к Покровскому или на всеобщую к Лукину?.. В конце концов остановился на первом и у него в семинаре, готовя доклад о Чернышевском, опять натолкнулся на забытую, казалось, Дмитриеву.
Программа семинара Покровского по истории России включала в себя, по словам Михаила Николаевича, „все то, что не разработано буржуазными историками“, главным образом по новому времени, с конца прошлого века. Слушатели, получив тему, готовили свои доклады по первоисточникам. Библиотеки далеко не всегда могли нас выручить. Мы стали завсегдатаями книжных лавок и книжных развалов на Сухаревке и под Китайской стеной, и на Смоленском рынке, расползшемся почти до Кудринской; и однажды, роясь в богатствах знакомого букиниста, я наткнулся на любопытную книжицу с длиннющим названием: „Об объявлении приговора Чернышевскому, о распространении его сочинений на французском языке в Западной Европе и о многом другом“.
Переводчик сочинений Чернышевского на французский язык некто Тверитинов в своих воспоминаниях (изданных в девятьсот шестом) рассказывал о члене Парижской Коммуны Малоне как о большом почитателе Чернышевского и о том, что это был результат влияния одной русской, которая много говорила о нем. Малон „в своей книге, — писал в связи с этим Тверитинов, — восторженно отзывался об Elise Dmitrieff, т. е. об Елизавете Дмитриевне Томашевской“. И добавлял, что другой старый коммунар восклицал всякий раз, слыша ее имя: „О, мой бог, как она прекрасна!“
Все, что я раньше узнал об этой женщине, мигом всплыло в памяти. В библиотеке Румянцевского музея, или просто в Румянцевке, как мы ее называли, в каталоге я нашел ту книгу Малона, о которой шла речь, и уже на следующий день мог прочесть (мучительно, со словарем переводя с французского), что „молодая русская, которая подписывалась Elise Dmitrieff… хотела объединить в активную Лигу работниц Парижа, чтобы оказать Коммуне ценную помощь и создать точку опоры для освобождения женщин. Она начала с объединения нескольких женщин… Маленький комитет решил основать клубы женщин. Эти клубы имели успех. Комитет принял название „Центрального комитета союза женщин“. Пропагандисты все умножались… Призывая к преданности делу революции и настаивая в Коммуне, чтобы им дали оружие и опасные посты, они пропагандировали социальные идеи Интернационала, образовывали ячейки обществ работниц… образовали отряды гражданок… и на все места сражений посылали отряды санитарок…“.
Одно отступление, без которого нелегко обойтись. О Румянцевке — хоть несколько слов.
В величественной тишине ее парадного зала наше бурное время не то чтобы отступало, тушевалось, но — становилось в строй, в шеренгу за временами прошедшими, изо дня в день как бы наращивая собою предмет исторического познания с его весьма зыбкою гранью между историей и современностью. И на высоких, белой балюстрадой обрамлявших зал хорах, где размещались столы для научных работников, безраздельно овладевала нами столь необходимая и желанная сосредоточенность. Даже графский герб над барельефом Румянцева-Задунайского с мечом и свитком в руках, гласивший „Не только войска“, не вызывал у нас классовой вражды, поскольку мы черпали знания из коллекции, собранной его отпрыском и ныне возвращенной законному владельцу — народу, то есть нам.
…Вместе с книгой Малона я обнаружил тогда же в каталоге Румянцевки книгу о судебном процессе в Москве в 1877 году и, памятуя указание в книге о Коммуне Дюбрейля, стал искать среди подсудимых Давыдова, но такого, увы, не нашлось. Зато там действовал человек с похожей фамилией — Давыдовский, которого защищал адвокат Томашевский (!) и жена которого, г-жа Давыдовская, выступая в качестве свидетельницы по делу своего мужа, произвела на присутствующих сильное впечатление как своею внешностью, так и речью. Из ее показаний, так же как из речи адвоката, явно следовало, что она замужем за Давыдовским не так уж давно. По выработавшейся привычке я сделал из речи адвоката выписку: „Этот человек (т. е. Давыдовский) достаточно испытал, и для него настала пора отдохнуть в семейной жизни. Выбор его падает на Елизавету Лукиничну Тумановскую…“
Пожалуй, сказал я себе, настал момент разобраться в том, что же все-таки мне известно об этой женщине. И я записал на листе чистой тетрадки:
„Elise Dmitrieff — Елизавета Дмитриевна Томашевская — Давыдова или Давыдовская — Елизавета Лукинична Тумановская“.
„Четыре или пять фамилий… не многовато ли для одного человека?“ — одолевало меня сомнение, но, с другой стороны, разве не удивительно было, при всех расхождениях, это четкое повторение одного имени? Элиза, Елизавета… Я надписал это имя на обложке тетрадки и — решив, как только выкрою время, прояснить пока что единственный „поддающийся“ вопрос: что имела в виду Луиза Мишель, говоря о „женщине из Кордери“, принялся за свою семинарскую тему о Чернышевском.
Не будучи первым исследователем этой темы (а взгляды на Чернышевского были в то время более чем противоречивы), я вслед за Покровским считал, что каждый историк излагает тему по-своему. Чтобы выбраться из запутанного лабиринта исторических фактов, необходима нить Ариадны, и Михаил Николаевич не уставал повторять, что этою нитью может служить только классовый подход. Не претендуя на точность истории как науки, он утверждал, что всякий историк изображает ту сторону прошлого, какая ему самому виднее; пусть другие изобразят другие стороны.
Впрочем, по сравнению с резкой формулировкой Покровского: „История есть политика, опрокинутая в прошлое“ — мне лично более по душе пришлась развернутая метафора Петра Лаврова (цитирую по его статье „Противники истории“):
„Установление фактов истории в самом обширном смысле есть именно повторение судебного процесса. Только… слова „суд идет“ не влекут за собой никогда окончательного приговора. Постоянно заседает этот суд в продолжение столетий. Постоянно ждет он новых свидетелей и выслушивает их всех; ждет новых улик и посылает одно поколение экспертов за другим, чтобы тщательно рассмотреть и исследовать эти улики, ждет новых адвокатов… ждет новых председателей… Историческое жюри произносит только один приговор, который один и научен: „Факт был, и такие-то элементы в нем достоверны, такие-то… вероятны, такие-то установлены быть не могут“. Приговор „виновен“ или „не виновен“ произносит не история как наука. Его произносит общественный идеал каждого живого общества над своими предшественниками, во имя того понимания истины и справедливости, которое присуще этому новому идеалу“.
Агитационно упрощенная формула Покровского, непосредственно связывавшая науку с политикой, легко объясняла и оправдывала, скажем, двуличие того историка при дворе византийского императора Юстиниана, который одновременно писал две истории своего времени — официальную и откровенную. Приговор же от лица общественного идеала, при заранее декларируемой относительности, представал в моих глазах приближением к истине: общественный идеал моего поколения выражал себя в классовой точке зрения. Юстинианов историк Прокопий с его беспринципностью был в среде историков-марксистов невероятен.
Когда выдалось наконец время на повторное внимательное чтение воспоминаний Луизы Мишель, мне еще раз встретилось искомое мною „Кордери“ — оказалось, это название площади в Париже. Для памяти я себе выписал: „Когда, около 71-го года, люди всходили по пыльной лестнице дома Corderie du Temple, где собирались секции Интернационала, то казалось, что поднимаешься по ступенькам храма. Это и был храм, храм всеобщего мира и свободы“. А недолгое время спустя я прочел у Валлеса в романе из эпохи Парижской Коммуны: „Знаете ли вы площадь между Тампль и Шато д'О… Этот пустынный треугольник — площадь Ла-Кордери… Здесь пустынно… Но с этой площади… может прозвучать сигнал… которого послушаются массы… Здесь происходят заседания Международного общества рабочих… здесь собрались члены Интернационала…“
…Не следовало ли из этого, что, если „Елизавету“ называли „женщиной из Кордери“, значит, она была как-то связана с Интернационалом?..»
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
После долгого плавания сквозь пронизывающий туман кэб причалил наконец в Северном Лондоне к двухэтажному дому на Мейтленд-парк-род у самого входа в парк. За те несколько шагов, что отделяли ее от дверей, Елизавета Лукинична успела вспомнить позднюю осень в родном Волоке — эти голые черные ветви в промозглом тумане были точь-в-точь такими, как над милой сердцу Сережей на крутом берегу за господским волокским домом… У дверей, однако, к ее услугам был, по-английски, молоток на цепочке. Она решительно постучала по дубовой панели.
Прямая высокая женщина впустила ее в прихожую.
— Я бы хотела видеть мистера Маркса, — на очень правильном английском проговорила Лиза.
Женщина оглядела ее с головы до ног.
— Доктор Маркс очень занят.
Она ответила по-английски, но с немалым трудом. И снова, второй раз за несколько минут, Лиза подумала про Волок — говор этой женщины живо напомнил ей матушку Наталью Егоровну, которая на всех языках говорила с явным немецким акцентом. «Доктор Маркс ошн санит».
Без видимых усилий Елизавета Лукинична перешла на немецкий:
— У меня письмо к доктору Карлу Марксу.
— От кого, простите?
— Из Женевы… от друзей Иоганна Филиппа Беккера.
Услыхав это имя, женщина милостиво улыбнулась и протянула руку:
— Присядьте, пожалуйста, я передам письмо.
— Но я бы хотела повидать доктора Маркса…
— Присядьте, пожалуйста, — повторила повелительно женщина и отправилась с письмом по лестнице наверх.
Большая лохматая собака, безмолвно наблюдавшая эту сцену, потянулась было следом за нею, но на третьей или на четвертой ступеньке передумала и возвратилась вниз, к двери.
Итак, в ожидании ответа, Елизавета Лукинична Томановская сидела в передней у Маркса — в прямом смысле, а не в том, обидном, какой вложил когда-то в эти слова разъяренный своим провалом Вольдемар Серебренников, а рядом собака рывками втягивала воздух в ноздри, принюхиваясь к незнакомке. Подавляя волнение, Лиза не успела еще как следует осмотреться, как там, наверху, из двери, за которою скрылась женщина, на лестничную площадку вышел сопровождаемый ею коренастый человек, рядом с нею особенно широкоплечий, с огромной, несоразмерной даже с шириною плеч головой. Таково было, во всяком случае, первое впечатление, и, покуда он к ней спускался, Лиза поняла, от чего это впечатление происходило — от пышной шевелюры и не менее пышной окладистой бороды.
— Наша добрая Ленхен умеет нагнать на человека страху, — говорил между тем, спускаясь по лестнице, Маркс, — но вы на нее не сердитесь, мадам Элиза, я не знаю женщины добрее, чем Ленхен.
Судя по тому, что обратился он к ней по имени, он успел просмотреть письмо и заговорил по-французски — на языке, на котором писал к нему Утин.
Он помог ей раздеться и провел к себе в кабинет.
Комната эта обилием книг, газет и бумаг тут же напомнила Лизе утинскую, но была много больше и соответственно куда больше книг и бумаг вмещала, шкафы с книгами и бумагами стояли у стен по обе стороны камина и напротив окна, и еще два заваленных ими стола стояли перед камином и перед окном. Книги лежали и на камине, рядом со спичками и коробками табаку.
Усадив гостью, хозяин кабинета и сам сел в деревянное кресло к рабочему столу посреди комнаты и, попросив позволения, раскурил трубку, пустил под потолок синее облачко, с усмешкой спросил:
— Вы ожидали увидеть почтенного старца лет эдак под сто, признайтесь честно? Но ведь и вы куда более юны, чем я бы себе мог представить. Так что мы оба ошиблись, и притом — в лучшую сторону, по крайней мере, если верить Гёте, или, точнее, гётевскому Мефистофелю.
И он процитировал на родном языке:
Поближе к поколенью молодому! Там в середине спор вовсю кипит.В его наружности угадывалось какое-то сходство с Бакуниным, — быть может, из-за шевелюры и бороды; во всяком случае, Лиза стала сравнивать их — и сравнение выходило не в пользу Бакунина. Она не нашла в Марксе этой неприятной монументальности, подавлявшей окружающих, этой бакунинской псевдозначительности. Доктор Маркс показался ей добрым и, судя по смеющимся горячим глазам, очень искренним человеком.
Прочитав еще раз, теперь уже при ней и более внимательно, письмо со штампом в заголовке «Международное Товарищество Рабочих. Русская ветвь», он попыхтел трубкой, убедился, что она погасла, и снова раскурил, и вновь заговорил на французском:
— Я весь внимание, милая мадемуазель Элиза, но, прежде чем вы приступите к возложенному на вас поручению, позвольте сказать вам, что этот «дух групповщины», на который сетуют ваши товарищи, он характерен для эмиграции… ее вечно сотрясают раздоры. Когда нет живого дела, начинается сведение счетов. Только связь с родиной спасает от этого… как написано тут в письме… неплохо… от «ребяческой игры в революцию… для народа, но без народа».
— Состояние русского общества, увы, ныне совсем не то, что во времена Чернышевского, — сказала гостья. — И печальное положение, о котором пишет вам Утин, объясняется рядом причин, — исполняя поручение, она старательно, тоном школьницы, их перечислила и тогда оставила этот тон, — вот только в студенческой среде какое-то шевеление, — и то, едва оно началось, возник Нечаев… Мы вам писали летом. Честолюбец Бакунин толкал его на всякие комбинации, лишь бы играть видную роль… Скажите, пожалуйста, каков ваш взгляд на Бакунина?
— Я скажу вам об этом. Но прежде хотел бы от вас услышать, как развивались события дальше… У меня здесь бывал Герман Лопатин и много говорил об этом деле, но он из Женевы уехал в начале лета, так что о полном разрыве Бакунина с Нечаевым сам узнал уже из вторых рук… Вы лично знакомы с этим… прохвостом?
— Нет, он прятался, но мне его показали. Такой, — она вдруг перешла на немецкий, — малорослый, белесый, глаза, как буравы, запавшие щеки и судорожно сведенный рот. Как Бакунин мог с ним связаться? При всех своих качествах все-таки старый революционер… Из-за их сговора революционеры вообще в русском мнении во многом компрометированы! Но вы обещали сообщить свой взгляд на Бакунина, — напомнила Лиза.
— Мне кажется, ваши друзья его раскусили…
— Наша секция родилась, можно сказать, из борьбы с ним!
Выполняя просьбу собеседника, она рассказала о последних перипетиях бакунинско-нечаевской эпопеи, и тогда Маркс встал из-за своего стола и заговорил. Он никоим образом не поучал, просто раздумывал вслух, приглашал слушателя — в данном случае Лизу — к соучастию в этом раздумье. Если что и было в нем от пророка, то только внешность — борода, шевелюра.
— Что я думаю о Бакунине?.. Как теоретик он нуль. Его программа — это надерганная отовсюду мешанина, где главная догма — воздержание от участия в политическом движении — взята у Прудона, другая догма — отмена права наследования как исходная точка социального движения — сен-симонистская чепуха… Что же касается прошлых революционных заслуг Бакунина… Я знаю его давно. Прежде всего, он не меньший мастер рекламы, чем Виктор Гюго, которого Гейне назвал не просто эгоистом, но — гюгоистом, — Маркс посмеялся, вспомнив едкий каламбур давнего своего друга. — Я ведь летом ответил вашим друзьям на их вопрос о Бакунине. Единственно похвальное, что можно сообщить о его деятельности во время революции, — это его участие в дрезденском восстании в мае сорок девятого года. Так что, милая фрейлен, поговорим лучше о вашем учителе Чернышевском!
Последнюю фразу Маркс произнес по-русски: «Паковарым лутче о фаш ущител Тчернишевски» — на ломаном русском, но тем не менее вполне понятно. И заговорщицки добавил уже на английском:
— Говорить по-русски — это единственный для нас с вами способ остаться непонятыми мисс Женни, — он указал на черноволосую молодую женщину, неслышно вошедшую в комнату во время его филиппики против Бакунина. — Моя старшая дочь… Элиза Томановская, русская леди, — представил он их друг другу.
О том, что это его дочь, он мог и не говорить, довольно было взглянуть на них рядом, чтобы понять это.
— Очень приятно, — сказала с поклоном Женни. — Но, кажется, вы затронули ту единственную тему, в которой Мавр не может обойтись без резкостей.
— Так к дьяволу ее, эту тему! — с веселой готовностью отозвался Маркс. — Итак, Чернышевский. К стыду своему, я сравнительно недавно открыл для себя это имя благодаря Серно, из его брошюры, а потом и из писем. Я что-то не понял, вы читали брошюру Серно?
— Это было первое, что я прочла, приехав в Женеву из Петербурга…
— Для нас тут долгое время единственным русским революционером, если не говорить о Бакунине, представлялся либеральный помещик Герцен — кстати, приятель Бакунина… И вдруг оказывается, что выросло совершенно новое поколение — Чернышевский, Добролюбов… Что вы о них знаете? Среди моих первых учебных пособий в русском были книги и Герцена, и Чернышевского, его замечательная критика политической экономии Милля. Трудное чтение — язык слишком сильно отличается от знакомых мне языков, а в мои-то годы все это не так просто… но результат стоит усилий! Замечательно оригинальный мыслитель, быть может единственный в таком роде, его превосходные работы доказывают, что и ваша Московия начинает участвовать в общем движении века. Помнится, я писал об этом вашей группе в Женеву. Расскажите же о Чернышевском — если можно, по-русски. Ведь мой русский, — он снова перешел, на русский язык, — феть мой русски натобится мне тля рапоты нат «Капиталь», — он перевел эту фразу для дочери и пояснил: — во втором томе я исследую вопрос о земельной собственности, для этого необходимы материалы по разным странам, и притом первоисточники.
— Знакомы ли вы с трудом Гакстгаузена, в котором описаны земельные отношения в России? — спросила Лиза, чувствуя себя все более непринужденно. — Этот прусский чиновник, путешествуя по России, надо отдать ему справедливость, описал их подробно…
— Под первоисточниками я подразумеваю в первую очередь документы, статистические сборники. Что тут сделаешь без знания языка? Россия же в этом смысле особенно интересна — пореформенная Россия, огромная крестьянская страна, только вступающая на капиталистический путь. Ваш визит тем более приятен, что предоставляет редкую возможность поупражняться в этом экзотическом для нас языке.
— Я уже говорила, что никогда Чернышевского не видала. Но Утин был к нему близок.
Выполняя просьбу, Лиза заговорила по-русски, по возможности короткими и простыми фразами, чтобы лучше быть понятой, — теперь уже тоном учительницы, а не ученицы, — о том, как вскоре после крестьянской реформы, которую в народе окрестили обманной, когда волнения крестьян прокатились по стране, разрозненные революционные кружки (главным образом студенты) объединились в тайное общество — в его названии отразилась главная нужда народа — «Земля и воля». До ареста руководил этим Чернышевский. Братья Серно-Соловьевичи были членами Центрального Комитета. А позднее в комитет вошел Утин.
Но русское общество (продолжала Лиза) знало Чернышевского не по этой, скрытой ото всех деятельности, а по явной, публичной — по статьям в «Современнике». Когда же там появился написанный в крепости роман «Что делать?», то он буквально потряс читающую Россию, в особенности молодую.
— Я сама переписала этот роман от руки — не из журнала даже, а с уже переписанного экземпляра, слово в слово, от начала и до конца, да сколько было таких переписчиков! А ведь книга толстая, переписывать недели две.
Свой учительский тон она оставила так же скоро, как прежде оставила ученический, — увлеклась, стала рассказывать о Чернышевском — и о себе, потому что, не будь «Что делать?», разве так сложилась бы ее, Лизы Кушелевой (да и только ли ее), жизнь?!
Маркс задумчиво вытряс пепел из трубки, набил заново табаком, раскурил, обламывая спички.
— …Я перечитала едва не всего Чернышевского — надо сказать, я вообще довольно много читала, хоть, пожалуй, и без разбору — росла в деревне, в помещичьем доме, от уездного городка полсотни верст, а у батюшки библиотека… Заберешься в эту полную книг комнату, — она огляделась, — почти как ваша… зажжешь свечи — и до полуночи… У Чернышевского все и глубоко, и умно, и оригинально, и, как вы говорите, доказывает, что и Московия примыкает к движению века. В самом деле, это Чернышевский указал на применимость западных теорий к нашему народному быту и на социалистические основы крестьянской общины и тем самым, в сущности, подготовил своих последователей к сотрудничеству с Интернационалом… Все так, но, клянусь богом, не попадись мне сначала в руки «Что делать?» — не одолеть бы мне ни за что ни глубины, ни ума его. Ведь знаете, какой подзаголовок у романа? — «из рассказов о новых людях». А разве они окружали провинциальную барышню в Псковской губернии?.. Впрочем, прошу прощения, я отвлеклась, едва ли моя история вам интересна, но, клянусь богом, не будь этой книги, не сидеть бы мне сейчас перед вами, а автор ее, быть может, не оказался в Сибири. Он сколько лет уже в Нерчинской каторге… за шесть тысяч верст от Петербурга… и назначенный по приговору срок уж прошел, а он все еще там… Если бы я только могла хоть чем-то помочь этому человеку!..
Она чуть было не начала рассказывать о попытках освободить его — и о собственных своих надеждах и планах, но вовремя спохватилась. Да и что, собственно, могла сообщить? Что некто Ровинский обещался некоей Кате Бартеневой попытать счастья?..
— Россия должна была бы гордиться таким гражданином, — заметил Маркс. — Вместо этого — в благодарность — гражданская смерть!
— И все-таки, если бы не книга о новых людях, он не имел бы и половины последователей в русской молодежи. Нигилисты! Как будто Тургеневу они обязаны этой кличкой — какие же они нигилисты, «всеотрицатели», — обыкновенные порядочные люди нового поколения… на той высоте, на которой стоят они, должны стоять все люди… Потому-то и не мог найти в них опору Нечаев — что у них может быть общего с Нечаевыми… А их отношение к женщине? Она сразу заметила, приехав в Женеву, — в тамошних секциях одни мужчины; как во всем Интернационале, она не знает, но в Женеве именно так.
— Да и в других секциях приблизительно то же самое, Прудон еще дает себя знать, — согласился, откашливаясь, Маркс. И, как бы извиняясь, добавил:
— В этой проклятой лондонской сырости мы оба, и Женни и я, никак не справимся с хворями…
— А вот у нас в Московии в нигилистах немало женщин, и наша Русская секция наполовину женского полу. А почему это так? Вы не задумались над этим? — спросила она и сама же ответила, что не случайно они так и записали в своей программе, что их дело относится ко всем угнетенным без различия пола и что Интернационал, стремящийся к освобождению всего человечества, тем самым стремится к уничтожению эксплуатации одной половины человечества другою… — Пожалуйста, я скажу, почему это так важно для нас, — потому что у нас перед глазами пример новых людей Чернышевского.
Не познакомься она с ними в четырнадцать лет, не полюби их, не захоти стать похожей на них, что ее ожидало? Участь старших сестер? Вся надежда — удачно выйти замуж. Нет, спасибо, увольте, ведь ей-то уже известно, что нужно для того, чтобы стать счастливой. «Развитие, развитие!.. — говорит Чернышевский. — В нем счастье!»
— …Если бы общество не подавляло женский ум, не убивало его, не отнимало бы и средства, и мотивы к развитию, смею вас уверить, история человечества намного ускорилась!
— О! — сказал Маркс, и глаза его сверкнули не без насмешливости, это было, по-видимому, наиболее стойкое их выражение. — Я вижу, милый друг Элиза, в вас заложен талант агитатора! Но едва ли следует расточительно тратить его на нас. Более того, в лице мисс Женни вы найдете горячую единомышленницу, хотя она не читала этого романа вашего обожаемого Чернышевского. Да и я, разумеется, сторонник равноправия женщин, и давний, ибо считаю, что общественный прогресс может быть точно измерен по общественному положению прекрасного пола… в том числе и дурнушек, — прибавил он. — Последнее, по счастью, не имеет отношения к присутствующим!
И он заговорил про первое — исторически — классовое угнетение, что совпало с порабощением женского пола мужским и произошло давненько… еще в догомеровские времена.
— …И каждый, кто немного знаком с историей, знает, что великие общественные перевороты без женского фермента невозможны!
Трубка его без конца гасла. Очередной раз поднеся к ней огонек, он снова взял в руки письмо Утина:
— Если судить по возложенным на вас поручениям, вы поживете еще здесь, и мы будем иметь возможность обсудить это более обстоятельно.
Он еще раз глянул в письмо.
— Что касается дел женевских, о которых здесь сообщается, то Женни сведет вас с Германом Юнгом, секретарем Генерального Совета для Швейцарии… И в знакомстве с английским рабочим движением она вам тоже поможет, не правда ли, Женни? Может быть, свяжешься с Эппльгартом?
И, поднимаясь вслед за Елизаветой Лукиничной, блеснул ироничными глазами, крепко пожал ей руку:
— Очень рад был познакомиться и надеюсь, вы нас здесь не будете забывать. Женни об этом позаботится, не правда ли, Женнихен?
Уже очутившись на улице, на туманной Мейтленд-парк-род, под впечатлением от только что происшедшего разговора Лиза вдруг отчетливо поняла, что ответа на вопрос «Что делать?», которого ожидал Николя от этого человека, она не получила… А ведь как необходимо было поскорее справиться с утинским поручением!..
2
Женнихен Маркс опекала молодую русскую леди, как о том попросил отец, с охотой, со старанием. Не откладывая, представила ее и Герману Юнгу, и Эппльгарту, хотя, к удивлению Женни, знакомить гостью ни с тем, ни с другим не понадобилось. Элиза по Базельскому конгрессу помнила их обоих.
И Эппльгарт, и бывший председателем в Базеле Герман Юнг, как ни странно, тоже ее узнали, она даже почувствовала себя польщенной. Юнга предстояло посвятить в подробности швейцарских дел, и по вопросам, которые он изредка задавал по ходу рассказа, она без труда поняла, что Юнг знаком с обстановкой. И в оценках своих не расходится ни с Утиным, ни с Папашей Беккером.
Поручение к Роберту Эппльгарту было иного рода, и, разумеется, доктор Маркс не ошибся, направляя ее именно к нему: едва ли кто-нибудь мог лучше исполнить высказанную в письме Русской секции просьбу поближе познакомить мадам Элизу с организацией рабочих союзов и общественной жизнью, нежели член Лондонского совета тред-юнионов и их официальный представитель в парламенте.
Женнихен весьма сожалела, что не может сопровождать Элизу по мастерским, по рабочим собраниям, куда водил ее старательный Эппльгарт. Давал знать о себе перенесенный осенью тяжкий плеврит. Здешнему климату, увы, и Лиза недолго противилась, стала покашливать, особенно по ночам, томясь от бессонницы, а к вечеру, как правило, чувствовала себя ослабевшей, будто после тяжелой работы. Так что тоже волей-неволей сделалась домоседкой, много читала. Лишь когда выдавался погожий денек, старалась этим воспользоваться.
Именно в такой вот денек младшая сестра Женни Элеонора, или, по-домашнему, Тусси, взялась показать миссис Элизе город.
Маршрут Лиза предоставила выбрать своей спутнице. Они проехали по длинной Оксфорд-стрит с ее бесчисленными витринами, потом повернули на Риджент-стрит, а у Квадранта — на Пикадилли, и мимо сурового дома герцога Веллингтонского, и колоннады у входа в Гайд-парк, и мимо еще каких-то красивых и знаменитых сооружений, доехали до площади Ватерлоо, где Тусси, конечно, не без умысла, показала Лизе русские трофейные пушки у памятника Крымской войны и статую сестры милосердия Флоренс Найтингейл («вот женщина, которой поклоняется наша Мэмхен», — сказала Тусси). Минуя Вестминстер и серую, совсем не парадную набережную Темзы, через Сохо, мимо колонны Нельсона вернулись наконец к Тотенхем-корд-роуд, и на протяжении всего пути пятнадцатилетняя Тусси (впрочем, близился день ее рождения, и она спешила прибавить себе лишний год) верещала без умолку, отвлекаясь от достопримечательностей. Наружностью Тусси мало походила на сестру — белокурая, с задорным улыбчивым личиком, которое нисколько не портил великоватый нос. В этой столь необычной в глазах Лизы семье никто не называл друг друга по имени. Как только уселись в кэб, Тусси, точно примериваясь к своей роли гида, весело и стремительно рассказала миссис Элизе обо всех этих прозвищах. Большинство придумал сам Мавр, великий до них охотник и вообще ценитель острого словца. Так вот, она, Тусси, была также Кво-кво — китайский принц, а Женни — Кви-кви — император Китая. Их средняя сестра, Лаура, которая замужем и живет со своим Лафаргом во Франции («вот кто у нас красавица!»), — она зовется Мастер Какаду — по имени портного из какого-то старого романа; вполне заслуженное, между прочим, для этой модницы прозвище!
О Лауре Лафарг Лизе рассказывала в Женеве Анна…
— Я вам не наскучила своими десятью милями семейных историй? — спрашивала между тем Тусси и поясняла, не дожидаясь ответа: — Когда я была совсем маленькой, Мавр ходил с детьми гулять, и дорогой — по словам сестер, я этого не могу помнить, — рассказывал сказки, на ходу их придумывая. Это уж точно, это могу сама подтвердить — потому что сказка о волшебнике Гансе Рекле, которую он придумывал уже для меня, продолжалась из месяца в месяц… Так вот, когда на прогулке сказка кончалась, сестры приставали к нему, чтобы он рассказал еще хотя бы «одну милю»!.. Сестры утверждают также — спросите хоть Женни, — что в молодости он был великолепной лошадью. Они запрягали его в стулья и катались по всему дому… ха-ха!
Милая Тусси получала от поездки явно не меньшее удовольствие, чем Элиза. А ей, при этой живо нарисованной картине — бородатый доктор Маркс возит на стульях счастливо смеющихся дочерей — вдруг привиделся батюшка Лука Иванович в своем неизменном турецком халате. Первый раз, пожалуй, после отъезда из России так явственно представила себе родной дом, братьев с сестрами, батюшку… Но вообразить Луку Ивановича не то что «великолепной лошадью», даже просто рассказывающим сказку своей «воспитаннице» — это было свыше ее возможностей. Хорошо помнила чувство страха, который сковывал ее всякий раз, когда батюшка пытался ее приласкать. Слава богу, это случалось нечасто. Куда чаще слышала жалобы дворовых людей на крутой барский нрав. Ее не стеснялись, для них она была дочкой Натальи Егоровны, матушки-заступницы… На улицах громадного чужого города, слушая беззаботную девичью болтовню, она испытывала запоздалую зависть к дочерям доктора Маркса…
Женни была много старше, чем Тусси, и не удивительно, что, в отличие от младшей сестренки, она производила впечатление человека зрелого. Весь дом носил на себе отпечаток ее увлечений. Горшки с цветами самых разных сортов и расцветок были подвешены к стенам комнат, в прихожей, на лестнице, — словом, повсюду «висячие сады Семирамиды», по определению Женни-старшей, госпожи Маркс. Попадать в домашнюю оранжерею с промозглой лондонской улицы было истинным наслаждением. Сколь всерьез относилась к этому своему увлечению Женни, можно было судить хотя бы по тому, что семена по ее просьбе присылали даже родственники из Капштадта. Капштадт, Капштадт? Лиза не вдруг сумела сообразить, где это, и Женни разрешила ее сомнения, напомнив о мысе Доброй Надежды… Да и интерес к Чарльзу Дарвину и его новому учению смыкался для Женни с «висячими садами». Она штудировала и самого Дарвина, и немецкие и английские книги с изложением его теории и, по собственному признанию, становилась все более фанатичной его последовательницей… Но если ботанический отпечаток накладывали на дом увлечения Женнихен, то в зоологии сказывались интересы Тусси. «Зверинец» находился на ее попечении — собака по имени Виски, неизменно встречавшая Лизу внизу у дверей, и целое семейство кошачье… В том, верно, и заключался секрет этого дома, что каждый из домочадцев вносил в «ассоциацию» посильную лепту, и — по «Коммунистическому манифесту»! — свободное развитие каждого являлось условием свободного развития всех.
«Дети должны воспитывать своих родителей», — не без усмешки говаривал, по словам Женни, ее отец. Слышал бы батюшка Лука Иванович!
По примеру отца Женни любила вспомнить к месту какое-нибудь изречение. Но, в отличие от отца, отдавала предпочтение одному-единственному мудрецу — ее кумиром был Шекспир. Казалось, она знала его чуть не всего наизусть, и драмы, и сонеты. Книги Шекспира и о Шекспире, его портреты и иллюстрации к его пьесам составляли в ее комнате целую галерею. Часть иллюстраций в рамках была сделана ею самою.
И музыка была не чужда ей. На стареньком фортепиано в гостиной Женнихен недурно исполняла любимых своих композиторов — Генделя, чьи произведения считала революционными, великого Бетховена.
Элизу она попросила подобрать несколько мелодий из «Руслана и Людмилы» и из «Жизни за царя».
— Герман Лопатин, — сказала Женни, — обещал мне прислать партитуры Глинки.
— Я бы сама сделала это с удовольствием, — охотно откликнулась Лиза, — и сделаю, как только вернусь из России. Надеюсь вскоре съездить туда.
— Бог мой, как бы я хотела побывать там тоже! — воскликнула привязанная болезнью к дому Женни.
По самостоятельности суждений Женни казалась Лизе как нельзя более отвечающей типу новых людей Чернышевского. Одно, правда, ставило в тупик — крестик на шее, золотой, на зеленой ленточке, можно ли было представить себе, скажем, Веру Павловну с этим крестиком… верующей? Лиза, подумавши, вывела: вполне даже можно. Ведь Мерцалову Алексею Петровичу, тайно повенчавшему Веру Павловну с Лопуховым, духовное звание не мешало быть хорошим знакомым Лопухова, а жене его принять от Веры Павловны мастерскую и успешно повести в ней дело, — то есть находиться среди новых людей, принадлежать к их типу. Разрешив таким образом на первых порах свое недоумение, все же при случае, когда речь зашла о религии — а о чем только не заходила у них речь длинными вечерами у камина, — Лиза спросила о крестике.
Женни искренне рассмеялась, когда ее сочли приверженной к христианству. Звонким хохотом отозвалась на это и Тусси — и не преминула тут же разъяснить значение золотого крестика на зеленой ленте. Женни же сказала словами Шекспира: пора чудес прошла, и нам подыскивать приходится причины всему, что совершается на свете… Это был польский повстанческий крест в память восстания 63-го года — против российского имперского гнета, — подаренный Женни одним из бывших повстанцев; зеленая же лента служила опознавательным знаком фениев — повстанцев ирландских против имперского гнета Британии…
— Вы, может быть, слышали минувшей весной о статьях некоего Джона Уильямса в защиту фениев в парижской «Марсельезе»? Здесь они наделали довольно много шуму… Так вот, — Тусси торжественно указала на Женни, — позвольте вам представить мистера Уильямса!
В ответ на удивленный жест Лизы Женни только пожала плечами:
— Разве вы сами, Элиза, не участвуете в швейцарских делах? В этой знаменитой греве женевских строителей? Ну так вот… Наш отец любит говорить, что он — гражданин мира и действует там, где находится… — она вдруг опять засмеялась, — а Тусси, она у нас едва не с пеленок пустилась в политику.
— Как это так? — не поняла Лиза.
И сестры со смехом принялись вспоминать забавную историю, как десятилетняя Тусси, после того, что Мавр рассказал ей о гражданской войне в Америке, стала писать письма президенту Линкольну с советами, как поступать в военных делах.
— Мавр брал у меня эти письма, чтобы отправить, по почте, — заливалась Тусси, — и я долго была уверена, что являюсь советником американского президента, пока недавно собственными глазами не увидала эти свои произведения, хранимые с тех пор в ящике стола!
И опять веселое воспоминание милых сестер укололо Лизу, грех, конечно, но она невольно старалась представить себе на месте батюшки Луки Ивановича их отца, ей-богу, она бы не хуже Женни могла помогать ему в работе — и переписывать набело рукописи, и делать выписки или вырезки из газет… Не потому ли так и тянуло ее в этот дом, что в необыкновенной его атмосфере она ощущала себя едва ли не четвертою дочерью доктора Маркса?! На рассказы же о нем она отвечала рассказами отнюдь не о Луке Ивановиче, но о человеке, которого в глаза не видала, но которого только и могла считать духовным своим отцом. О нем и его новых людях, о женщинах в первую очередь, ибо он, как и его герой Лопухов, был, разумеется, «панегирист женщин».
Дочери Маркса слушали с большим интересом, это и их задевало за живое, в особенности Женни. Не случайно же она собирала книги о выдающихся женщинах всех времен — от древнего Востока до Великой французской революции. Ими-то, главным образом, и зачитывалась у себя Лиза в хмурые лондонские дни.
Возвращая прочитанную книгу, прежде чем взять другую, она живо обсуждала ее с Женни, и от романов мадам де Сталь или мемуаров мадам Лафайет разговор возвращался к той теме, которую с доктором Марксом Лиза, понятно, не решилась бы обсуждать, а с Женни эта тема возникала сама собою.
— Умри, но не давай поцелуя без любви! — горячо повторяла Лиза за Чернышевским. — Но это еще не все, далеко не все! Разве вы не знаете, Женни: когда любящие соединяются, как быстро подчас исчезает поэзия любви. Не так у новых людей! Они смотрят на жену, как смотрели на невесту, потому что знают, что она свободна в своем выборе и вольна уйти. И, признавая за нею эту свободу, возвышают тем самым и ее, и свое чувство к ней.
И Лиза цитировала:
— Любовь в том, чтобы помогать возвышению и возвышаться… Только тот любит, у кого светлеет мысль и укрепляются руки от любви… Только тот любит, кто помогает любимой женщине возвышаться до независимости… Только с равным себе вполне свободен человек!
— Я слышала: Мавр высоко ценит Чернышевского как мыслителя, экономиста, философа, — не без волнения говорила Женни. — А он, оказывается, к тому же истинный поэт, ваш Чернышевский!
— Поэт? Да, да, конечно. Но, думается, он более чем ученый и более чем поэт. Вот послушайте, что написал о нем признанный поэт, — она произнесла это слово с ударением и стала читать по-русски стихотворение, только недавно услышанное в Женеве от Утина.
Николя вспомнил его к слову, когда Лиза передала ему так задевшие ее высказывания бывшего поручика о Рахметове, и очень удивился, что Лиза этого стихотворения не знала. А она заставила его повторить и записала.
Не говори: «Забыл он осторожность! Он будет сам судьбы своей виной!..» Не хуже нас он видит невозможность Служить добру, не жертвуя собой… Его еще покамест не распяли, Но час придет — он будет на кресте; Его послал бог Гнева и Печали Рабам земли напомнить о Христе.Голос Лизин прервался, Женни, которая не поняла по-русски ни слова, почувствовала ее боль и не стала торопить с переводом. Немного погодя Лиза сама принялась передавать строку за строкой по-французски — может быть, оттого что слушательница ее считала этот язык более сердечным:
«Жить для себя возможно только в мире, Но умереть возможно для других!»— Кто написал это?!
— Не знаю… Эти стихи никогда не печатались, да и вряд ли могут быть напечатаны — в России. Передавали их, как водится, изустно, — Лиза помолчала немного. — Я думаю, они довольно давние, ведь час, о котором сказано как о будущем, на самом-то деле уже много лет назад наступил… теперь-то, если так говорить, он уже восемь лет на кресте!..
И, говоря так, думала, что, может быть, эти долгие годы подошли к концу благодаря незнакомому ей человеку, Ровинскому, думала, что Ровинский должен был добраться или вот-вот доберется до места и, кто знает, может быть, счастье уже улыбнулось ему?!
3
Нельзя сказать, чтобы лондонская жизнь оказалась уж такой беспокойной, нет, напротив, по сравнению с тем, что было в Женеве, Елизавета Лукинична могла себя почувствовать на отдыхе в этом громадном, мрачноватом, вечно сыром, всегда чем-то озабоченном, дымящем, грохочущем городе. Но, странное дело, в действительности отдыхала, наслаждалась душой лишь в одном-единственном месте, и этим единственным местом, оазисом в густонаселенной пустыне, этим праздником души стал для нее дом Маркса. В том, что утинское поручение оказалось не таким-то простым и легко исполнимым, была своя хорошая сторона!
Когда она узнала, что в гостеприимном этом доме деятельно готовятся к рождественским праздникам, ей более не пришло в голову разрешать по этому поводу какие-либо религиозные сомнения, как это случилось с крестиком Женнихен.
Уже накануне, в сочельник, дом был напитан такими ароматами, что встретивший Лизу, по обыкновению, у дверей лохматый пес Виски выглядел совершенно ошеломленным. Принимаемая как своя, Лиза была допущена к священнодействию в подвальном помещении, по-английски занятом кухней, где все женщины во главе с госпожою Маркс или, точнее, во главе с несгибаемой Ленхен (при участии Мэмхен) дружно крошили миндаль, нарезали апельсинные и лимонные корки и, замешивая все это вместе с яйцами и мукою, сотворили завтрашний пудинг.
Лиза должна была явиться всенепременно, хотя бы по той причине, что ей за этим столом предстояло, как весело объявила Тусси, представлять свою Россию и за себя, и за Германа Лопатина, тоже сдружившегося со всем семейством (Женни даже утверждала, что прямо-таки влюблена в него, в его ясную голову и острый язык) От Лопатина только что пришло по почте письмо с сожалением, что, увы, он не сумеет воспользоваться приглашением, поскольку ему неожиданно пришлось покинуть гостеприимные острова.
Огорченная (впрочем, ненадолго) Тусси, таким образом, окончательно лишилась единственного своего ученика по английскому языку, пустившегося, как сообщил он в письме, в собственные приключения, вместо того чтобы спокойно читать о чужих. Что это были за собственные приключения, не известно было ни Тусси, ни Женни, ни даже, по их словам, Мавру, на их расспросы отвечавшему лишь, что Лопатин уехал на континент.
За рождественский стол, совершенно английский, при зажженных свечах и камине, вокруг непременной индейки и широких графинов с темно-красным напитком вместе с обитателями дома уселись друзья — щеголеватый Энгельс с молчаливой женою-ирландкой и малюткою Пумпс, знакомый Лизе по Базелю Лесснер, еще несколько гостей.
Как при всяком дружеском застолье, разговоры были оживленны и не слишком-то упорядоченны. От похвал кулинарным шедеврам вдруг переходили к последним новостям из осажденного пруссаками Парижа, и тогда все прислушивались к тому, что думает по этому поводу Фред Энгельс, чей военный авторитет считался настолько непререкаемым, что, с легкой руки Женни, его стали называть Генералом.
Заикавшийся, по уверениям друзей, на двадцати языках, Фред Энгельс, обращаясь к Елизавете Лукиничне по-русски, просил звать его Федором Федоровичем и по разным поводам затрагивал русские темы; доктор Маркс охотно поддерживал их, что было, разумеется, не просто знаком вежливости по отношению к Лизе, но показывало интерес к этим темам. Впрочем, и серьезность этого интереса вовсе не отягощала праздничного застолья, сопровождавшегося и шутками, и тостами, и пением, и танцами.
Как ни интересно и легко было за этим столом, Лиза все-таки чувствовала себя чуточку настороже — не от тех ли обсуждений российских проблем, какие то и дело вспыхивали возле нее или, может быть, из-за нее. Назавтра она как бы заново повторяла себе именно эту часть разговоров — если уж не для того, чтобы тут же найти ответ на утинские вопросы, то хотя бы ради будущего пересказа в Женеве. Остальное же, как менее существенное, пропускала.
Доктор Маркс говорил:
— В период революции сорок восьмого года и монархи европейские, и буржуа видели в царе всея Руси единственного спасителя от пролетариата, только еще начавшего пробуждаться.
Энгельс вполне соглашался:
— Да, помнишь, Мавр, как в «Новой Рейнской газете» мы призывали к революционной войне против царизма? Нам было ясно, что это единственный действительно страшный враг!
Потом Энгельс вновь вернулся к этому разговору:
— С тех пор, разумеется, немало воды утекло, пореформенная Россия не та, что при Николае… и все же это по сей день резерв реакции. Но, к счастью, есть обнадеживающие признаки: русский медведь просыпается.
И выстраивал доводы: финансы в состоянии плачевном, налоговый пресс отказывается служить, сельское хозяйство в полном запустении, крестьяне обобраны…
— Отмена крепостного права, — поддержал его доктор Маркс, — в сущности, лишь ускорила процесс разложения. Предстоит социальная революция!..
— Каков будет результат этой революции — вот главное, — с увлечением воскликнула тут сама Лиза. — Нам кажется, что гнет, давящий русский народ, в сущности, одинаков с гнетом, под каким задыхается пролетариат Европы, и важно, что в народе русском издавна живет тяга к осуществлению тех великих начал, что провозглашены Интернационалом, — к общинному владению землей и орудиями труда.
— Община? — поморщился Энгельс.
— Знаешь, Фред, — сказал доктор Маркс, — милая Элиза, так же как ее друзья, последовательница Николая Чернышевского. Если принять во внимание те условия, в каких протекало духовное развитие этого оригинального мыслителя, приходится удивляться не тому, что в его сочинениях встречаются слабые места, а тому, как они редки.
— Но в том, что касается освобождения женщины, я надеюсь, вы их не усматриваете?! — не слишком логично возразила на это Лиза.
Все равно ответа для Утина не находилось и в этих разговорах — она слышала мнения, получала советы, поддержку… но готовых решений у этих людей не было ни для кого, даже у них не было, и, значит, надеяться на такое наивно, рецептов попросту не существует в жизни, если только подходить к ней вдумчиво и всерьез.
А на Лизины слова отозвалась Женни-младшая:
— О, Элиза доказала мне, что ее Чернышевский не только мыслитель, он поэт и пророк! «Только тот любит, кто помогает любимой женщине возвышаться до независимости!.. Только с равным себе вполне свободен человек!»
— Я готова это повторять хоть тысячу раз! — вспыхнула Лиза.
— Да, Фред, мы с Элизой затрагивали и эту тему, — заметил тут доктор Маркс. — Но, к сожалению, я незнаком с мыслями Чернышевского об этом, быть может, ты?
— Увы… Но фрейлен, простите, фрау Элиза может судить сама, насколько они отвечают тому, что думаем мы. В самом деле, что мы подразумеваем под равноправием женщины? Женнихен, это твой конек…
— Ах, как ты сухо говоришь об этом, — воскликнула, однако, госпожа Маркс, едва дослушав рассуждения дочери об экономических причинах домашнего рабства женщины. — Почему не сказать попросту: люди станут наконец соединяться по любви!
«Чернышевский разве говорил не о том же?» — подумала Лиза; а Энгельс, передразнивая воображаемых оппонентов, сказал:
— Вы, коммунисты, хотите ввести общность жен…
— Кричат нам буржуа хором… — подхватила Женнихен.
— Они цитируют «Коммунистический манифест», — пояснила Тусси.
— …Но, в сущности, под ханжескими покровами таков именно буржуазный брак!
— «Как в грамматике два отрицания дают одно утверждение, так и в брачной морали две проституции сходят за одну добродетель», — Маркс процитировал Фурье.
— Вот в том-то и дело. Действительное же равноправие в браке будет гораздо больше способствовать единоженству мужчины, нежели многомужеству женщины.
— Впрочем, новое поколение мужчин и женщин, которым никогда не придется связывать свою судьбу друг с другом из каких-либо иных побуждений, кроме подлинной любви, само дознается, как поступать… и уж как-нибудь выработает собственное мнение о человеческих поступках, свою мораль!
Из архива Красного Профессора
Письмо Е. Томановской К. Марксу (в Лондоне 7 января 1871 года).
«Милостивый государь!
Прошу извинить меня за мой запоздалый ответ; вчерашнее утро было занято… а вечером, как обычно, я чувствовала себя плохо… выхожу лишь в редких случаях (например, в ближайший вторник пойду на митинг, устраиваемый г-ном Бизли)…
Благодарю Вас за рецепт на хлорал и в особенности за ту доброту, с которой Вы заботитесь о моем здоровье. Конечно, я вовсе не хочу разрушать его, но, откровенно говоря, не люблю лечиться. Во всяком случае, если уж обращаться к врачу, то я бы хотела, чтобы это была женщина.
Что касается альтернативы, которую Вы предвидите в вопросе о судьбах общинного землевладения в России, то, к сожалению, распад и превращение его в мелкую собственность более чем вероятны. Все меры правительства — ужасающее и непропорциональное повышение податей и повинностей — имеют своей единственной целью введение индивидуальной собственности путем отмены круговой поруки. Закон, изданный в прошлом году, уже отменяет ее в общинах, население которых составляет меньше 40 душ (мужских; женщины, к счастью, не имеют души); официальная и либеральная пресса нисколько не стесняется громко кричать о благодетельных, по ее мнению, последствиях этого мероприятия. И действительно, столь прекрасное начало много обещает.
Я позволяю себе послать Вам номер „Народного дела“, в котором разбирается этот вопрос, полагая, что у Вас, возможно, нет полного комплекта этого журнала.
Вы несомненно знакомы с вышедшим в 1847 г. трудом Гакстгаузена, в котором рассматривается система общинного землевладения в России. Если у Вас случайно его нет, то прошу сообщить мне об этом. У меня есть экземпляр на русском языке, и я могу тотчас же послать его Вам.
Этот труд содержит много фактов и проверенных данных об организации и управлении общин. В статьях об общинном землевладении, которые Вы теперь читаете, Вы увидите, что Чернышевский часто упоминает эту книгу и приводит из нее выдержки.
Я не хочу, конечно, посягать на Ваше время, но если в воскресенье вечером у Вас найдется несколько свободных часов, то я убеждена, что Ваши дочери будут так же счастливы, как и я, если Вы проведете их вместе с нами.
Прошу передать от меня привет г-же Маркс и принять уверение в моем искреннем уважении.
Елизавета Томановская.
P. S. Жму руки мадемуазель Женни и Тусси. Извините за мое длинное письмо».
Примечания Красного Профессора:
Письмо (на французском языке), обнаруженное среди бумаг Маркса, не имеет даты, и установить, когда оно было написано, удалось по газетному объявлению об упоминаемом Елизаветой митинге.
Номер «Народного дела» (№ 2 от 7 мая 1870 г.), о котором говорится в письме, открывался статьей о крестьянской реформе и общинном землевладении. Сохранился экземпляр (возможно, именно посланный Елизаветой) с пометками Маркса. Они содержат резкую критику теоретических построений автора статьи. Судя по письму, беседы с Марксом уже сказались на взглядах Елизаветы: в ее рассуждениях нет характерной для «Народного дела» уверенности в несокрушимости общинного землевладения.
По-видимому, Маркс читал в это время сборник статей Чернышевского из «Современника» за 1859 г.; насколько внимательно он это делал, свидетельствуют его пометки. Глубокое знание этих статей, трудов Гакстгаузена обнаруживает и Елизавета. И как не обратить внимание на тон письма, серьезный, уважительный и в то же время исполненный достоинства, — разговор ведется почти на равных! Надо полагать, что Маркс после первых же бесед оценил свою юную знакомую, как она того заслуживала…
4
— Я предпочитаю шута, который развеселит меня, опыту, который меня опечалит!
Так заявила однажды Лизе Женнихен в пылу спора. Слова из «Как вам это понравится», из обожаемого ею Шекспира, и сказано было в пику Лизе, не пожелавшей отправиться на вечеринку. Главное, несправедливо по отношению к самой себе. Среди друзей по колледжу, собиравшихся иногда и у нее дома, были, на Лизин взгляд, уж чересчур легковесные молодые люди. Веселилась компания от души, тому Лиза была свидетельницей… но многие ли в ней принимали близко к сердцу, ну, например, судьбы фениев, столь важные для самой Женнихен?.. Впрочем, стоило Лизе заметить ей это, Женнихен рассмеялась и с гримаской сказала, имея в виду своих приятелей и приятельниц: пусть задумаются хоть на минутку. Очевидно, сама знала им цену.
…Шестнадцатилетняя Тусси (уже с полным правом державшаяся наравне со всеми, ибо день рождения, слава богу, минул) достала тогда небольшого формата альбом в картонном пестром переплете и предложила присутствующим… исповедаться. Самым странным для Лизы показалось то, что никто этому предложению не удивился, напротив, все поддержали Тусси. Игра в исповеди распространилась по Лондону, точно эпидемия гриппа; с недавних пор, по уверению Женнихен, книжки с исповедями затмили все прочие альбомы.
Все дружно поддержали Тусси, но кто-то тут же придумал, как усложнить игру: отвечать на вопросы не в альбоме, а на отдельных листках, и притом анонимно, чтобы все ответы потом зачитать вслух — и определить, на фанты, где чей.
Так и поступили. Наморщив лбы и прикрывши свои листки от нескромного взгляда, все зашуршали карандашами, и на несколько минут в комнате воцарилась сосредоточенная тишина, какой позавидовали бы учителя в колледже.
Вопросы оказались вовсе не шуточными, приходилось задумываться едва ли не над каждым, Лиза кончила, верно, самой последней; Тусси дожидалась ее листка, собрав уже все остальные, чтобы отдать их старшей сестре для огласки. И Женнихен голосом трагедийной актрисы, не успевшим еще остыть от шекспировских страстей — перед тем досталось декламировать за проигранный фант, — принялась передавать сочинения иных авторов, и от этого несоответствия, которое чтица еще и выпячивала нарочно, ответы изощрявшихся в остротах юношей звучали тем более комично и тем более слащаво — сентиментальная чушь барышень. Авторы, во всяком случае, определялись безошибочно, что вызывало общий восторг, но, по мере того как подступала очередь ее собственная, Лизе все меньше нравилось участвовать в этой забаве, слишком отнеслась к ней искренне и серьезно. Впрочем, надо отдать справедливость маленькой Тусси: ее ответы тоже были большей частью серьезны (что, однако, и не позволило в них обмануться). Тусси ценила превыше всего правдивость и смелость, ее девизом было стремиться вперед, и хотя счастье представлялось ей в виде шампанского, несчастье в виде зубной боли, а антипатия в виде холодной баранины, любимым своим поэтом она назвала Шекспира, любимым героем — Гарибальди, а героинею — леди Джен Грей. И все же, когда Женнихен взяла в руки Лизин листок (и Лиза, естественно, тут же его узнала), она, нарушая правила игры, попросила вернуть листок, не читая, потому-де, что ей стало что-то не по себе, и она просит прощения за то, что прерывает веселье и вынуждена откланяться. Разошедшаяся компания как-то разом притихла от Лизиной речи, будто разгадала уловку, а Женнихен, исполнив, не мешкая, просьбу, спросила, не нужно ли проводить Элизу до дому, за что Лиза поблагодарила ее и, извинившись еще раз и пожелав всем веселиться по-прежнему, сказала, что с ней это случается от духоты и на свежем воздухе все пройдет как обычно.
Размолвки, к счастью, между ними не произошло. Но спустя какое-то время Женнихен все же спросила у Лизы, не была ли причина ее тогдашнего недомогания отчасти иной, чем она объявила. Почему она заподозрила это?
— В самом деле! — подхватила с нетерпением Тусси. — Хорошо ли быть такой скрытной особой! Пожалуйста, расскажите, Элиза, что такое вы тогда написали. А может быть, я сейчас достану альбом, и вы все же откроетесь перед нами?!
Лиза в ответ погрозила ей пальцем:
— Но уж сначала мне Тусси расскажет о своей любимой Джен Грей, как давно обещала!
А Женнихен Лиза ответила, вполне в ее духе, словами драматического персонажа, не из Шекспира, правда, а из русского Грибоедова:
Когда в делах — я от веселий прячусь, Когда дурачиться — дурачусь, А смешивать два эти ремесла Есть тьма искусников, я не из их числа.— Ну, — сказала в ответ Женнихен, — ваш Чацкий, он немного пурист, а под этим, согласитесь, люди зачастую прячут пренеприятное свойство — ханжество.
Она взяла у сестры альбом и перелистала его.
— В нашем доме многим именно это свойство внушает наибольшее отвращение… Например, Энгельсу. Надеюсь, Элиза, Фреда Энгельса вы не станете упрекать в легковесности? Между тем вот его «исповедь». Он больше всего ценит в людях веселость, а в женщинах привычку класть вещи на место и считает несчастьем визит к зубному врачу…
— Элиза, милая, — не выдержала Тусси, — умираю от любопытства узнать ваши ответы!
— А леди Джен Грей?
— Клянусь, расскажу все, что знаю!
— Хорошо, — сдалась Лиза, — мне вспомнить нетрудно, ведь я отвечала всерьез.
На первое место она поставила тогда (и, стало быть, вообще ставит) чистоту сердца и помыслов, благородство в мужчинах, независимость в женщинах, своею же отличительною чертою считает верность, а счастье видит в свободе. Готова, пожалуй, простить тщеславие, но ненавидит лживость, поклоняется как героям Лопухову и Вере Павловне и, разумеется, самому Чернышевскому, и любимые имена ее Николай и Вера, а любимое изречение: только с равным себе вполне свободен человек…
— Теперь очередь леди Джен, да? — с готовностью предложила довольная услышанным Тусси.
5
И все-таки самой частой темой разговоров в этом доме, ставшем для Елизаветы Лукиничны столь желанным и добрым, была не предположительная судьба русской общины, и не мученическая судьба Николая Чернышевского, и не проблемы политической экономии, и не будущее равенство женщин, и даже не настоящее положение в Интернационале, хотя все это тоже могло оказаться в центре внимания. Такой главной темой в пору лондонского житья Лизы, безусловно, стали события, связанные с франко-прусской войной. Под впечатлением от этих событий Лиза приехала в Лондон, от всей души желая — вместе с Утиным и другими друзьями — одинакового поражения и Бисмарку, и Бонапарту.
Но одерживал верх, без сомнения, Бисмарк. Отложив все другие дела, в том числе и работу над продолжением «Капитала», Маркс повел широкую кампанию в поддержку Французской республики. Положение было весьма сложным. Сама республика родилась на развалинах Седана. Император попал в плен, империя рухнула. А каждое новое поражение на фронтах отзывалось демонстрациями и волнениями рабочих. Недвусмысленно предпочитая прусское завоевание победе республики с «красноватым оттенком», буржуазные политики искали сговора с Бисмарком. Не теряющие остроумия парижане окрестили республиканское «правительство национальной обороны» правительством национальной измены.
В декабре французская армия предприняла несколько безуспешных попыток прорвать блокаду Парижа. Маркс эти притворные маневры именовал платоническими. Когда Лиза приехала в Лондон, Женнихен цитировала Бланки: Париж дурачат видимостью обороны и ведут от обмана к обману, покуда голод не заставит его сдаться. Из доходивших до Лондона парижских газет, из сообщений английских корреспондентов можно было составить печальную картину осажденного города. Но парижский народ не хотел сдаваться.
Не только из газет узнавали обо всем этом в доме у Маркса, но и от многочисленных посетителей и гостей. «Наш дом, — сообщила Женнихен Лизе, — вроде улья, наполнен французскими эмигрантами». И не всегда легко было Лизе понять, где кончаются политические новости, где начинаются весточки от друзей — или о друзьях.
При первой их встрече Женни была сильно встревожена известием об аресте Флуранса в Париже. А спустя несколько дней — подобная же весть из Берлина: в тюрьму брошен Либкнехт, милый Лайбрери, как по-домашнему звала его Женнихен с детства. Правда, эта новость вызывала не только тревогу за Лайбрери, но и гордость: он поплатился за то, что, верный интернациональному долгу, вместе с Бебелем проголосовал в рейхстаге против военных кредитов.
…О бланкисте Флурансе, одном из вождей парижского восстания 31 октября, при Лизе не раз вспоминали Жаклары. Замечательный человек. И Женни открыто им восхищалась, могла говорить лишь в степени превосходной: рыцарь, храбрец, одаренный, обаятельный, энциклопедически образован… необычайное сочетание человека действия и ученого!
— Вот посмотрите, Элиза, что Флуранс написал в наш альбом, — просила Тусси.
И Лиза читала: лучшее в людях отвага, а худшее — угодничество, любимое занятие Флуранса — вести войну с буржуа, с их богами, королями, героями, а любимый герой — Спартак, и за счастье Флуранс почел бы жить простым гражданином в республике равных.
Прошлую весну он провел в Лондоне, бежав после неудачной попытки поднять восстание против Бонапарта, — и Мавру пришелся по душе; а с Женнихен они попросту подружились, она увидела, что Флуранс прям и остер, как его шпага, которая не залеживалась в ножнах подолгу.
— Ах, как я хотела бы оказаться рядом с таким человеком! — воодушевленная рассказом Женнихен, призналась Лиза, тем самым в свою очередь воодушевляя ее продолжить рассказ.
Ни моря, ни границы, ни горы не могли остановить этого человека. Для него существовали только угнетатели и угнетенные. Он готов был отдать жизнь за освобождение ирландских фениев, и это благодаря ему увидели свет статьи «Дж. Уильямса» в их поддержку. В горах Крита он воевал против турок, голодал и замерзал вместе с повстанцами, был тяжело ранен. А в каких только тюрьмах он не сидел! — в Афинах, в Марселе, в Неаполе, не говоря о Париже!.. И вот теперь его схватили по приказу тех самых республиканских правителей, которые были обязаны ему своим спасением в день восстания 31 октября!.. Женни буквально не находила себе места, пока наконец в последние дни января не пришла долгожданная весть: народ чуть ли не силой отбил заключенных тюрьмы Мазас, Флуранс на свободе! Это был праздник в доме у Мейтленд-парка… Но и после этого с обсуждения парижских событий неизменно начинались здесь все разговоры.
То Тусси выбежит навстречу Элизе к дверям с сообщением о «Красной афише» в Париже. То горько-насмешливо комментирует Женни провозглашение в Версале Германской империи. То чуть не с порога разбирается очередной военный обзор Энгельса в лондонской «Пэл Мэл» — он печатал их там регулярно с начала войны и не раз предугадывал развитие военных действий. С тех же пор как сумел предсказать разгром при Седане, его иначе в доме не называли как Генерал. До последних дней января он не думал, что положение Парижа безнадежно, но, увы, вынужден был изменить свое мнение. Правительство «национальной измены» капитулировало.
Маркс считал: если бы Франция употребила время перемирия на то, чтобы реорганизовать армию, придать наконец войне действительно революционный характер, новогерманская прусская империя могла бы еще получить совершенно неожиданное крещение палкой. А Энгельс писал в «Пэл Мэл», что в таком случае война должна стать войной не на жизнь, а на смерть, подобной войне Испании против Наполеона. Но в том-то и дело, что правители Франции куда больше, чем пруссаков, боялись собственного народа.
В полуголодном и разоренном войной городе опять закипало и выплескивалось на улицы возмущение. Демонстрации вокруг Июльской колонны на площади Бастилии не прекращались несколько дней, тех самых дней, когда готовилось подписание позорного договора с Бисмарком. Передавали, будто Бисмарк требовал разоружить парижскую национальную гвардию, на что пруссакам было предложено войти в Париж и сделать это самим. Под такою угрозой ЦК национальной гвардии призвал народ к сопротивлению.
Подробности всех этих событий можно было узнать от Женни в любое время дня и ночи.
— Вы никогда не были в Париже, Элиза? Ах, как я хотела бы очутиться там сейчас! — говорила она, превозмогая приступы кашля; она снова слегла с плевритом, так и не сумев как следует окрепнуть после того, как проболела всю осень. — На вашем месте я бы ни минуты не теряла в этом промозглом Лондоне! Только, ради бога, не поймите меня превратно… Нам будет очень не хватать вас, милая Элиза, мы будем скучать о вас…
— Я оставлю вам свое фотографическое изображение на память, — отвечала Лиза с улыбкой: и сама уже чувствовала, что пора…
Поскорее бы рассказать обо всем в Женеве и отправиться наконец за братцем Михаилом Николаевичем, этот долг тяготил, ее настояния оставались по-прежнему без ответа… И, быть может, действительно прислушаться к словам Женнихен? Поместить братца в санаторию доктора Эн — и к отважному гражданину Флурансу в бурлящий Париж, где накануне подписания договора в руке венчающего Июльскую колонну Гения свободы появилось красное знамя, гвардейцы братались с солдатами, а толпа кричала: «Да здравствует мировая республика!»
6
До девятнадцатого марта, когда в доме у Мейтленд-парка узнали о том, что взрыв в Париже — совершившийся факт, Лиза, конечно, не успела осуществить своих намерений.
— Половина Парижа в руках мятежников! — с восторгом зачитывала Женни из лондонской «Дейли ньюс». — Красный флаг на колонне Бастилии… Воззвание Тьера: повстанческий комитет, члены которого представляют коммунистические учения, грозит предать Париж разграблению!..
Двадцать первого Маркс предложил Генеральному Совету выразить свое сочувствие парижскому движению. А в либеральном «Стандарте», обычно весьма умеренном, Лиза с Женни могли прочесть в этот день, что «какие-то двадцать хулиганов низшего разбора» — полные хозяева Парижа и что «Красная республика» под их господством. Правда, с бранью мирно соседствовало такое описание города назавтра после восстания (Женни прочла вслух):
— «День был чудесный, и Елисейские поля, улица Риволи и Пале-Рояль были заполнены обычной воскресной толпой… Даже в кварталах, ощетинившихся штыками, не заметно никакого возбуждения…»
Это вовсе не было редкостью, что доходившие до Лондона сведения противоречили друг другу.
Сообщалось, что правительство Тьера бежало в Версаль, что покинули город и верные ему остатки войск, а ЦК национальной гвардии объявил себя новым правительством. Сообщалось и о создании коммун в провинции — в Лионе, Марселе, Сент-Этьенне, Тулузе. Но как сообщалось!.. Лондонским членам Интернационала приходилось на митингах объяснять сбитым с толку рабочим, что же все-таки происходит в Париже.
«Национальная гвардия — вооруженные рабочие, — говорили они, — сорвала предпринятую реакционерами попытку переворота». И повторяли слова, якобы сказанные парижским консьержем: «Посмотрите, мадам, что это за правительство! Это смешно. Все простые люди!.. Рабочие!..» Слова эти приводились в брюссельском еженедельнике «Интернационал» в письме из Парижа, и автор письма (некий Л. Пьер; позднее Лиза узнала, что это еще один псевдоним ее земляка Петра Лаврова) вполне с ними соглашался. Более того, считал, что тут и заключена вся «оригинальность движения последних дней… Это то, что придает им интерес в глазах каждого социалиста, каждого члена Международного товарищества рабочих».
— Решено: я еду в Париж! — объявила Элиза.
Тусси захлопала в ладоши.
Женни уже поднималась с постели, но приступы кашля и тошнотворная слабость никак не отпускали ее.
— Конечно, поезжайте, какой разговор, еще успеете в свою сонную Женеву! Ах, когда бы не проклятый плеврит!
— Но в Женеву мне очень нужно заехать… И не такая уж она сонная! — обиделась Лиза.
— По сравнению с Парижем? «Сносить ли гром и стрелы враждующей судьбы — или напасть на море бед и кончить их борьбою?!» Проклятый плеврит! У вас есть там знакомые? Как жаль, что Лаура с Лафаргом в Бордо! Перед началом осады уехали к его родителям с малышом…
— Вы полагаете, Женни, я смогу там чем-то помочь? Я встречалась с Анной Жаклар, с Малоном…
— Я дам вам письмо к Флурансу! Кстати, Мавр говорил, что на днях туда возвращается Огюст Серрайе, вы его знаете. И кажется, собирается Юнг… поезжайте вместе.
На другой день в комнату к Женни заглянул доктор Маркс.
— Направляетесь в Париж, фрау Элиза? Если не секрет, чем вы намерены там заняться?
— Там наконец перешли от слов к делу! Неужели я не смогу оказаться полезнее, чем в Женеве?!
— Кого вы в Париже знаете?
И заметил, услышав все о тех же Жакларах и Малоне:
— Даже для начала не густо…
Присел было, чтобы продолжать разговор, но тут дочь вмешалась:
— Ты, кажется, отправился на прогулку, судя по костюму, ты же знаешь, Мавр, как тебе это необходимо, или уже забыл, что сказал доктор?
— Стоит ли воспринимать чересчур всерьез милого шотландца? Хотя, впрочем, от свежего воздуха еще никому не делалось хуже, вы согласны, Элиза?
— Обычно около часу дня за Мавром заходит Фред Энгельс, — Женни тоже обратилась к ней, — но стоит ему почему-либо не зайти, как сегодня, начинается увиливание…
— Ну, хорошо, хорошо, ваше императорское величество!
— То-то же, — погрозила пальцем дочь, или Император Кви-кви. — А если вам хочется побеседовать, может быть, Элиза составит тебе компанию? Я бы на ее месте сделала это с восторгом… Может быть, так и поступим, Мавр? В сущности, я уже почти в состоянии…
— Пожалуйста, потерпи еще, Женнихен, неужели ты не устала болеть? А вот если общество хворого старика не отпугнет молодую леди…
— Итак, Париж, — проговорил Маркс, едва они вышли вдвоем на живописную дорогу, бегущую то вверх, то вниз по склонам мимо серых пока лугов и обширных садов, все еще оголенных и мокрых, открывавших редкие строения в своей глубине. По российским меркам это напоминало осень, здесь, в Британии, именовалось весной. Не удержавшись, Лиза спросила о направлении, без малейших колебаний выбранном ее спутником, и он почти удивился этому пустячному вопросу, отвлекшему его от рассуждений на важную тему. Для него маршрут был привычным: от Мейтленд-парка на северо-восток, в Хайгет, потом налево в Хэмпстед, а оттуда обратно домой — «кругосветка» протяженностью, по русскому счету, верст десять, повторяемая изо дня в день… за исключением разве тех, когда удавалось увиливание, о котором упомянула Женни.
— Итак, Париж, — повторил Маркс в задумчивости. — К сожалению, на расстоянии трудно составить себе точное представление о том, что там происходит. При таком недостатке сведений не приходится брезговать самыми малопригодными источниками, выуживать факты даже из низкопробной стряпни. Можно лишний раз убедиться, чего стоит правдивость «добропорядочной» печати. Вы, должно быть, знаете, хотя бы от Женнихен, что настряпали эти бульварные бумагомараки против Товарищества. Я только тем и занят, что рассылаю опровержения их мюнхгаузиад.
…Чему, собственно, удивляться? Эксплуататоры, удерживающие власть, используя национальные противоречия, видят в Международном Товариществе своего общего врага. Все средства годны, чтобы его уничтожить. После этого как же нам верить тому хламу, что сообщается о движении парижан?! Правда, даже лондонское газетомарание дает возможность понять, что это восстание всего, что есть живого в Париже. Началось оно не 18 марта. В этот день оно одержало первую победу. Началось же со дня капитуляции, ибо национальная гвардия — вооруженный народ — де-факто управляла с этого дня Парижем… На возражения, что они никому не известны, делегаты, составившие ЦК, знаете, как ответили? — доктор Маркс даже приостановился, чтобы насладиться блеском этих слов. — «Так же неизвестны были двенадцать апостолов»! И, главное, ответили своими делами — переход власти к самим массам, вот что произошло в Париже!
…Жаль только, не подтвердились до сего дня слухи о том, что национальная гвардия намерена идти на Версаль, — нельзя, нельзя терять времени!.. Увы, они во многом наивны, задавая вопрос, неужели буржуазия, их предшественница на революционном пути, не понимает, что наступил черед освобождения пролетариата. Но они уверены в осуществимости этого! И вот даже «Дейли ньюс» уже пишет, что те, кто готов сражаться и умирать за республику, — почти сплошь социалисты!.. тогда как Тьер добивался от Бисмарка германской оккупации Парижа!.. Разумеется, мы получаем и письма… — продолжал доктор Маркс, — но надежных корреспондентов немного, а кроме того, по нынешнему положению, далеко не все отосланное доходит… На днях, правда, в Париж возвращается Огюст Серрайе. Он, конечно, будет писать, но надо учитывать, что на него обрушится бездна всякой другой работы в тамошних секциях Интернационала. Там сильно влияние прудонистов, слишком долго держались от политики в стороне. Собирается недельки на две в Париж и хорошо вам знакомый Маэстро… Да конечно же Юнг, часовых дел маэстро, человек превосходный, но, увы, не без слабостей, как, впрочем, и все мы. Но, во-первых, его поездка еще не решена твердо, а во-вторых, эти его маленькие слабости обычно снижают достоверность сообщаемых им известий… Поэтому, если бы вас, Элиза, не слишком обременило это поручение, отправлять оттуда корреспонденции Генеральному Совету… и плюс к тому — парижские газеты, какие удастся, вы ведь знаете, они сюда плохо доходят, вы оказали бы Товариществу важную услугу.
Прогулка продолжалась уже довольно долго, остались позади холмистые луга Хэмпстеда с их рощицами и зарослями дрока, излюбленное лондонцами место летних пикников, известное и нелондонцам — по «Пиквикскому клубу» Диккенса. В праздники тут всегда народ, но и в будни кто-то обычно любуется видом на Лондон и даже на далекий Виндзорский замок, если нет тумана. Тусси показывала все эти достопримечательности Элизе и говорила о фантастическом плане провести отсюда подземные трубы, чтобы по ним стекал в город живительный воздух Хэмпстеда… тот самый, ради которого доктору Марксу, с его прокуренными легкими и больною печенью, приходилось совершать эти «кругосветные» путешествия. Следя за его мыслями, Лиза на сей раз не смогла полюбоваться окрестностями; едва ли и заметила, что «кругосветка» подходит к концу, когда твердо пообещала исполнить поручение Генерального Совета в Париже.
Сказать о своем намерении заехать в Женеву, не говоря уже о России, у нее попросту не повернулся язык. В конце концов, две недели, о которых шла речь, ничего не меняли ни для Утина, ни для Михаила Николаевича, тогда как в парижских событиях могли решить все. И кто знает, быть может, именно там найдет она наконец ответ на вопрос «Что делать?»… ответ практический!
— В таком случае по приезде свяжитесь с Малоном и Жакларом сразу же, но, пожалуй, не только с ними, — отозвался на ее согласие доктор Маркс. — Чем шире будет доступный вам круг наблюдений, тем более достоверной окажется видимая вами картина. Кого бы я мог порекомендовать еще? Флуранса?
— Женни обещала уже написать к нему.
— Ну конечно! Варлена… старый член Товарищества, организатор Парижской федерации, всегда в гуще событий… безусловно, фигура крупная, и уже далек от Прудона… но мог бы уйти еще дальше и не связываться по дороге с Бакуниным…
— Я помню Варлена по Базельскому конгрессу.
— Активен там также Франкельчик, — продолжал он, усмехнувшись в бороду, — так его называет Энгельс, в действительности он Лео Франкель, венгерский эмигрант, тоже давний член Товарищества; одно время жил здесь в Лондоне… несколько склонен теоретизировать, без особых к тому оснований, но простим ему этот недостаток, милая Элиза.
Ей вспомнились рассказы Анны Жаклар:
— Это, кажется, он на процессе Интернационала в Париже заявил, подобно Галилею перед инквизиторами: а все-таки она вертится!
— О, я вижу, вы и без моих рекомендаций не заблудились бы в революционном Париже!
Из «Записок Красного Профессора»
«Года три прошло, должно быть, или даже четыре, прежде чем я вновь открыл тетрадку с надписью „Елизавета“. По окончании института (срок нашего обучения ограничивался тремя годами) новоиспеченные „красные профессора“ разлетелись по местам назначения. Но друг друга из виду не выпускали. На обсуждениях встречались, на совещаниях и дискуссиях, а то и на печатных страницах. Развернешь свежий номер журнала — в оглавлении целая группа сокурсников…
Я вел педагогическую работу на рабфаке и в школе профдвижения, а потом на факультете общественных наук в университете. Изложение курса общей истории, пусть и не особенно подробного, позволяло последовательно развертывать перед слушателями (а одновременно и перед самим собою) многовековую картину развития человечества и даже разрешать методологические вопросы, неизменно занимающие аудиторию: что есть история, какова ее связь с современностью. Я старался представить предмет истории как обобщение гуманитарных наук, как раскрытие закономерностей общественного развития — разумеется, с классовой точки зрения. Говорил, наконец, о воспитательном значении истории: она расширяет кругозор, побуждает к размышлениям и оценкам действий исторических личностей и борющихся между собой классов, углубляя тем самым наше понимание самой животрепещущей злободневности. И, к слову, вспоминал о неудаче однажды возникшего среди историков-„икапистов“ замысла организовать семинар по „теоретическому изучению современности“ — в какой-то мере в противовес углублению в прошлое. Замысел оказался мертворожденным именно потому, что исследование прошлого, верно нацеленное, само в значительной степени является „теоретическим изучением современности“.
Как исследователь я специализировался на русском революционном движении XIX века.
Работал я по-прежнему большей частью на хорах Румянцевки и, естественно, не мог пропустить ни одной новинки, тем более такой, как воспоминания Сажина (Росса). Воспоминания обнимали шестидесятые — восьмидесятые годы („мой“ период!) и включали в себя главу о Коммуне, во многом повторяющую газетную статью, когда-то, в незапамятные времена, читанную мною вместе с Любой Луганцевой… Однако здесь, в книге, Сажин вспомнил таинственную „Елизавету“ еще и в другом месте, и это его сообщение содержало нечто весьма важное для меня.
Я тут же переписал на карточку (чтобы потом положить ее в давно не открывавшуюся тетрадку):
„Среди членов Коммуны интернационалисты составляли… меньшинство, в котором Сераллье и Франкел[2] были приверженцами Маркса и вели с ним переписку; кроме этого Елизавета Дмитриевна… была специально прислана из Лондона, между прочим, для информации…“
Примерно в ту пору образовалось в Москве Общество историков-марксистов. „Там, где мы можем, мы должны создавать свои научные учреждения, — говорил М. Н. Покровский. — Глупо было бы, держа свои руки в карманах, предоставлять работать чужим“. Мы стали регулярно собираться на доклады и дискуссии на Волхонке, 14. Общество необходимо было как для сплочения молодых сил, так и для помощи тем старым историкам, которые стремились перейти на марксистские позиции. Направлял работу, конечно, М. Н. Покровский, активен был и Н. М. Лукин.
После очередного заседания я заговорил о „Елизавете“ со своим бывшим сокурсником, работавшим в Институте Маркса и Энгельса. Спросил его мнение о сообщении Сажина. И услышал в ответ любопытнейшую новость: недавно к ним в институт от наследников одного московского адвоката поступило собственноручное письмо Маркса, в котором он просит своего русского знакомого профессора права Ковалевского обратиться к этому адвокату, Танееву. Речь идет о защите в суде некоего человека, чья жена (Маркс ее называет „одна русская дама“ и „наш друг“) не может найти в Москве адвоката за отсутствием денег. По словам Маркса, дама, оказавшая большие услуги партии, решила последовать за своим мужем, которого считает невинным, даже если его сошлют в Сибирь… Ко всему мой сокурсник добавил, что и в протоколах Генсовета Интернационала, фотокопии с которых институт недавно получил из Британского музея, есть упоминания о некоей „русской леди“, и если учесть, что протоколы велись по-английски, а письмо Ковалевскому написано на французском, то очень может быть, что „дама“ и „леди“ — одно и то же лицо! „Как датировано письмо?“ — спросил я его. — „Январем 1877 года“. — „А процесс, по которому проходил Давыдовский, — почти закричал я, торжествуя, — начался 8 февраля!“ Это выглядело почти доказательством того, что под „одной русской дамой“ Маркс подразумевал мою „Елизавету“!.. Правда, адвокат Танеев не выполнил просьбы, но мало ли что могло ему помешать… При расставании мой товарищ обещал посмотреть повнимательнее, что именно сказано в протоколах Генсовета о „русской леди“.
При следующей встрече он протянул мне выписку из них в переводе на русский:
„(Заседание Совета 2 мая (1871 г.).
…Гражданин Юнг заявляет… из Парижа… русская дама писала, что она ведет активную пропаганду среди женщин, устраивает каждый вечер многолюдные митинги и что формируется женский отряд… В него записалось уже около 5000 женщин. Ее же здоровье настолько ненадежно, что, как ей кажется, она не переживет этой борьбы…“
Похоже было, что „Елизавета“ действительно информировала Интернационал о том, что происходило в Париже… Не это ли Маркс впоследствии оценил как большие услуги, оказанные ею партии?.. „Подожди, не спеши, — прервал мои соображения товарищ. — У нас в двадцать втором вышла книжка об Интернационале, написанная бакунистом Гильомом… Не встречалась тебе?“ — „Нет, по-моему, не встречалась“. — „А жаль“, — сказал он и протянул мне еще одну карточку:
„…Некая госпожа Дмитриева, знакомая Утина и Маркса… известная в кружках под именем гражданки Элизы, была фанатической поклонницей Маркса и не называла его иначе как современный Моисей. Зимой 1870/71 г. она провела в Лондоне несколько недель, а затем вернулась в Женеву…“
Пожалуй, больше не было оснований сомневаться, что коммунарка Элиза Дмитриева была тесно связана с Интернационалом и что именно в ее судьбе в трудный для нее момент принял участие Маркс.
„А что известно тебе про названного здесь Утина?“ — спросил меня мой товарищ. — „Утин, Утин… Землеволец шестидесятых годов… „Молодая эмиграция“… борьба с Бакуниным…“ — добросовестно припоминал я. „И, пожалуй, главное, — он добавил, — Русская секция Интернационала, действовавшая в Женеве“.
Это было на стыке наших с ним интересов. Недавно вышедшую книжку Горохова, о которой он заговорил, я листал. В ней давался подробный обзор издававшегося в Женеве под руководством Утина журнала „Народное дело“, чьи позиции определялись, по сути, взглядами Чернышевского, хотя самим издателям зачастую представлялись марксистскими. В это время Общество историков-марксистов как раз готовилось к столетнему юбилею Чернышевского, и нам пришло в голову подработать совместный доклад о Русской секции в Женеве, тем более что Гильом вспоминал о Дмитриевой именно в связи с тамошней борьбой Утина и его друзей против бакунистов.
Прочитав теперь уже со всем тщанием работу Горохова (увы, довольно путаную), я нашел, можно сказать, прямо обращенные к нам слова о том, что по мере выявления новых исторических материалов сделается возможным осветить еще не ясные вопросы, в частности о составе Русской секции (там названы были лишь Утин, Трусов и неведомая m-me Olga). Пока же, действуя сообща, мы договорились с руководителями Института Маркса и Энгельса дать объявление о нашей — теперь уже нашей! — „Елизавете“ в центральном органе „Правда“.
16 декабря 1928 г. газета поместила письмо в редакцию от имени института — с просьбой ответить на вопросы о „Елизавете Лукиничне Тумановской, по мужу Давыдовской, известной в революционных кругах под фамилиями „Дмитриевой“ и „Томашевской“, — ко всем, кто мог сообщить какие-либо сведения о ней“».
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1
По-хозяйски расхаживали по вагонам военные патрули, по-хозяйски проверяли документы у пассажиров, но ее ни разу не потревожили, а щеголеватые офицеры-пруссаки, подкручивая усы а-ля император Вильгельм, учтиво желали мадам благополучного путешествия и прищелкивали каблуками. Она суховато благодарила и отворачивалась к окну, за которым раскрывала перед нею свои нежные пейзажи Северная Франция. Вопреки ожиданиям до Парижа она добралась без каких-либо осложнений.
На площади Северного вокзала люди возбужденно толпились у расклеенных по стенам листов под заголовками «Французская республика, свобода — равенство — братство».
«Граждане! Ваша Коммуна учреждена, — щурясь от весеннего солнца, читала Елизавета. — Голосование 26 марта санкционировало победу революции».
Она читала о расстроенной войною промышленности, прерванном труде, парализованной торговле и о том, что все это необходимо исправить, но покачивающиеся головы впереди стоящих закрывали от нее текст, и поэтому она воспринимала его урывками:
«Ныне преступники… возбуждают к гражданской войне… не брезгуют… клянчить помощи у неприятеля… Граждане!.. судьба в ваших руках… народные избранники… исполнят свой долг».
И подпись: «Парижская Коммуна. Ратуша, 29 марта 1871 г.».
Но странное дело. Невзирая на суровую тревожность этих торжественных слов, люди вокруг в своих блузах и кепи были настроены весьма благодушно, чтобы не сказать беспечно, по каким-то едва уловимым приметам Елизавета верно это подметила. И первое ощущение не обмануло.
Правда, извозчик, нанятый ею до Батиньоля, по-своему определив классовую принадлежность мадам, заломил с нее десять франков и, пробуя вызвать на разговор, причитал дорогой, что вот, мол, господ приходится все больше отвозить на вокзал, хотя, видит бог, Коммуна добрых граждан не обижает, а прибывают в Париж мало. Но Елизавета не поддержала беседы, только спросила, как с провизией в лавках, и этого оказалось достаточно, чтобы извозчик определил в ней иностранку, и тогда она совсем замолчала.
Тем временем миновали бульвар Клиши с его уютными площадями, болтливый парижанин на козлах многоречиво оповещал о них пассажирку — Пигаль, Бланш, Клиши, и подкатили к дому, на карнизе которого, как над афишей Коммуны, было крупно выведено: «Свобода — равенство — братство». Елизавета отыскала двери к мэру, откуда навстречу ей выходили какие-то люди, а какие-то другие вошли вместе с ней.
С бычьей грацией и в то же время с истинно парижской галантностью бородатый Малон вскочил ей навстречу из своего кресла, однако не узнал ее, и ей пришлось просить у мэра аудиенции тет-а-тет. В боковой комнатке она напомнила ему об их встрече в Женеве и передала привет из Лондона. Он с горячностью пожал ей руку и извинился за то, что должен ее на минуту оставить.
— Сейчас я освобожусь… Впрочем, увы, ненадолго. Перед вами член Парижской Коммуны!.. — Как бы оправдываясь, добавил: — Кстати, сюда обещал подойти Серрайе.
— Серрайе уже здесь?
— Да, утром приехал…
Забывчивость Малона ничуть Елизавету не задела. С их встречи в Женеве два года минуло.
Не через минуту, как обещал, но все же скоро Малон вернулся.
— Ах, как жаль, что вы не приехали на день раньше! Вы бы увидели провозглашение Коммуны, поверьте, это было незабываемо! Вся площадь Ратуши в красных флагах, море знамен! Когда оркестры национальной гвардии грянули «Марсельезу», все батальоны, построенные на площади, весь народ, запрудивший и площадь и соседние улицы, женщины на крышах домов, мальчишки верхом на скульптурах, на плечах, а то и на головах статуй, двести тысяч народу подхватили нашу великую песню, давно не слышанную за эти месяцы поражений, и загрохотали пушки! У нас у всех был один громовой голос и одно огромное сердце!
— Как прошли выборы? — отдав дань красноречию члена Коммуны, по-деловому спросила Елизавета. — В Лондоне ждут известий.
— Прекрасно! — воскликнул Малон. — Я никак не ожидал, что так будет — из восьмидесяти четырех человек шестьдесят пять наших! Убежденных сторонников революции восемнадцатого марта! И почти половина из них — сторонники Интернационала. Я ведь было выступил против выборов, сомневался в успехе, но, к счастью, ошибся… Ах, простите, милая, мне пора в ратушу, — но тут он вдруг заметил ее саквояж возле стула. — Вы что, прямо с вокзала?! Отсюда неподалеку, я вам советую, близ бульвара Сент-Уэн, меблированные номера, Серрайе вас проводит, да, да, он пришел, и у него есть дела в Батиньоле. А завтра вечером я прошу вас в кафе, — он назвал адрес, — мы там соберемся с друзьями, я должен вас познакомить. Салют и братство!
Рябоватый худой Серрайе подхватил ее саквояж, и они отправились на бульвар Сент-Уэн. Они виделись в Лондоне всего за несколько дней до отъезда, но преимущество человека, раньше жившего в Париже, уже сказалось. За полдня, проведенные в городе, он многое узнал и успел заразиться здешним энтузиазмом. Правда, едва ли он мог себя чувствовать здесь совершенно как дома. Сын французского эмигранта, Серрайе с детства жил в Англии и только в прошлом году был направлен в парижский Федеральный совет — для связи и в помощь.
— Я уже написал своей Женни… сиречь мадам Серрайе, — пояснил он со смехом, — чтобы приезжала сюда с малышом, Малон обещал нам заведывание приютом у себя в Батиньоле, сейчас иду посмотреть и приют, и квартиру. Прошу ее сообщить Мавру, что здесь все идет отлично, Париж в наших руках, единственное, что еще не двинулось, — это открытие мастерских.
Он не умолкал всю дорогу, не особенно нуждаясь в ее ответах, она только согласно кивала, в сущности, это вполне отвечало корреспондентской задаче… Но то, что Серрайе знал, он сам был способен сообщить в Лондон; однако на первых порах он мог ей помочь здесь освоиться. А кроме того, открытие мастерских занимало и ее, и, узнав о заминке, Елизавета перебила своего спутника:
— А кто занимается этим делом?
— Мастерскими? С сегодняшнего дня — Комиссия труда, промышленности и обмена. Там наши почти все — знакомые вам Малон, Франкель, потом Тейс, Клавис Дюпон, Эжен Жерарден, Авриаль…
— Нет, я знаю из них одного Малона.
— Не беда, узнаете и других. Но помните наш разговор в Лондоне? Здешняя федерация отменно пестра. Сколько усилий пришлось положить на то, чтобы объединить их, чтобы взяться по-настоящему за работу! Когда в прошлом году я приехал сюда, я не мог найти ни секций, ни Федерального совета, все члены Товарищества были разбросаны по разным полкам. А Варлен заявлял, что не следует впутывать Интернационал в политику, а Малон выступал на выборах в общем списке с буржуазией… Нет смысла сейчас говорить о подробностях, но вы не должны этого забывать. Хотя почти все они рабочие люди и борцы с капиталом, Прудон и Бланки им куда лучше знакомы, чем Маркс. Исключение составляют немногие…
— Кто же именно?
— Франкель, Варлен… Но, бесспорно, сейчас главное то, что Париж в наших руках! Даже во Втором округе, этом логове реакционеров, за Огюста Серрайе — в мое отсутствие — подано три тысячи семьсот голосов! Понимаете это? Пускай выбран не я, а торговцы, это все равно замечательно. Кстати, вы, может быть, тоже что-нибудь напишете в Лондон, есть оказия, в нынешних условиях этим не следует пренебрегать.
Она так и поступила, едва войдя в комнату, куда их с Серрайе проводила хозяйка. Торопясь, написала записку на имя Германа Юнга: доехала благополучно, видела Малона и Серрайе, а дела идут хорошо. Уже отдав письмецо и распрощавшись с Огюстом, вдруг вспомнила, что забыла указать свой собственный адрес. Правда, сама еще не успела узнать его.
Приведя себя в порядок с дороги, она послала за газетами. Гарсон притащил целый ворох. Она тотчас же погрузилась в чтение, не теряя ни часу, слишком мало времени было в ее распоряжении. Две недели пролетят незаметно. Внимательно изучила список членов Коммуны в поисках знакомых имен. Но их было немного — знаменитый Бланки, Варлен, которого она помнила по его помощи женевским гревистам, да и по Базельскому конгрессу (и не могла не отметить его популярности среди парижан — Варлен был избран в Коммуну сразу от трех округов). Еще отважный Флуранс — борец за республику равных, письмо к нему от Женнихен Маркс она привезла с собой. Кто еще, не считая Малона? Известный с сорок восьмого года старик Делеклюз. Вот, пожалуй, и все. Об остальных она не слыхала.
В ожидании вечера, встречи с Малоном и его друзьями, весь следующий день она провела на ногах. Пешком отправилась в ратушу, чтобы повидать Флуранса. Путь лежал через площадь Клиши, рю Амстердам, площадь и авеню Опера, мимо Пале-Рояля и Лувра. Навстречу ей или обгоняя ее проезжали переполненные повозки с сундуками, баулами, картонками, чемоданами, и люди на тротуарах плевались им вслед. Возле какого-то дома собралась толпа — месье беглец хотел вывезти мебель, а ему не давали. «Мошенник! Вор!» — раздавались крики. А мальчишка-газетчик на углу кричал: «Купите заговор господина Тьера против республики!» Кое-где разбирали баррикады, когда их только успели соорудить? Или, может быть, сохранились с осады?.. Город был настроен празднично, магазины открыты, кафе полны. И удивительное дело, хотя не раз надо было спрашивать дорогу, в этом незнакомом городе Лиза не чувствовала себя чужой.
Наконец широкая рю Риволи открыла перед нею площадь Ратуши, ту самую, которую так живописал Малон, вспоминая день провозглашения Коммуны. На сей раз не было на ней ни флагов, ни ликующих, как позавчера, толп, ни женщин на крышах, ни мальчишек на статуях. Но и пустынной нельзя было назвать эту широкую площадь перед огромным мрачноватым зданием с длинными рядами окон, многочисленными башенками и статуями в нишах. У подъездов стояли, непринужденно болтая, караулы вооруженных гвардейцев, мимо них взад-вперед проходили неторопливые люди, перекидывались с часовыми словечком-другим.
Лиза направилась к главному входу, и часовой в дверях не хуже прусского патрульного офицера, каких она насмотрелась в дороге, молодцевато щелкнул каблуками, едва она остановилась перед ним.
— Что угодно мадам?!
Ей было угодно повидать члена Коммуны Гюстава Флуранса.
— Коммуна Парижа заседает, — торжественно сказал часовой, — а публика, к сожалению, не допускается на заседания. Мадам придется обождать перерыва.
И увидев расстроенное ее лицо, прокричал внутрь здания через открытую дверь:
— Папаша Эжен, не знаешь, Флуранс здесь?
Ничего не оставалось, как выбирать между Флурансом и Малоном, дожидаться одного можно было лишь ценою опоздания к другому. В конце концов, что случится, если знакомство с Флурансом она перенесет на денек?..
В указанное Малоном кафе Лиза явилась точно в назначенный час.
Ее проводили в боковую комнату, где уже собралось несколько человек.
— А, милая Элиза, — шумно приветствовал ее Малон, — позвольте вам представить мадам Леони Шансэ, писателя, журналиста, известную всему Парижу под именем гражданина Андре Лео…
— Не только Парижу, — поправила Елизавета. — Роман «Скандальный брак» я прочла еще в Петербурге.
— И его высоко оценил Писарев в «Отечественных записках», — в тон Елизавете сказала высокая белокурая дама из глубины комнаты.
— Анна?!
На сей раз неожиданность встречи — впрочем, меньшая, чем прошлым летом в Женеве, — не помешала им расцеловаться. А Виктор Жаклар поцеловал Лизе руку.
Малон отметил:
— Вот видите, оказывается, и вы известны в Париже. Остается вам объяснить, по какому поводу мы здесь собрались.
И он протянул ей пахнущий типографской краской газетный лист. «La Sociale»[3] — было напечатано на листе, — газета политическая, ежедневная, вечерняя, № 1, 31.III.1871.
— Обратили внимание на дату? Завтра парижан осчастливят новой газетой, и вот ее издатели и редакторы: Андре Лео и Анна Жаклар!
— Добавьте к этому редакторов «Папаши Дюшена», они вот-вот должны подойти, — сказала Андре Лео.
Большего нельзя было желать. Кто лучше вездесущих журналистов мог знать обстановку в Париже, кто охотнее, чем они, мог о ней рассказать? Лиза почувствовала благодарность к Малону за то, что он позвал ее сюда.
Малон же, просматривая газетный лист, громогласно возглашал оттуда отдельные фразы:
— Чем объяснить, что ты бессмертна, социальная революция?.. Великая революция 1789 года уничтожила иго феодального строя… Но ему на смену пришел другой феодализм, еще более ужасный и жестокий… Я говорю о промышленном феодализме… На этот раз социальная революция произойдет в интересах городских рабочих!.. Долой эксплуатацию человека человеком! Долой хозяев и наемный труд!..
А Елизавета тем временем на правах давней приятельницы пыталась расспросить Анну Жаклар — в первую очередь о том, чем объяснить эту праздничность под самым носом у неприятеля. Но и Анна хотела ее расспросить — о Марксе, над переводами из которого трудилась еще в Женеве.
Между тем Малон рассказывал Виктору Жаклару, как в ратуше появился Верморель, которого до вчерашнего дня не было в Париже:
— Мы с Лефрансэ глазам своим не поверили, когда увидели его на лестнице. Он был в Лионе и с трудом пробрался через многочисленные посты, заметая следы от шпиков. «Зачем вы ввязались в нашу драку?» — «Я знаю, мы можем погибнуть, — отвечал Верморель. — Обстоятельства ужасны. Но слишком легко прикрыться пессимизмом и сложить руки. Как ни тяжелы условия, надо попытаться одержать победу…»
— Он поступил честно, но где в его словах оптимизм? — усмехнулся Жаклар.
— Вермореля избрали в Коммуну от нашего Восемнадцатого округа, от Монмартра, где Виктор командир легиона, — вполголоса пояснила Анна Елизавете.
А на ее вопрос о, казалось бы, неуместном веселье взялась отвечать Андре Лео:
— А кто сказал, что революция должна быть мрачной? Теперь, после выборов, даже этот карлик Тьер не найдет предлога для гражданской войны. Парижский народ победил! Он законно взял власть в свои руки! Разве это не основание для веселья? И вообще — надо знать парижан! А версальцы? Они те же французы, пускай даже в большинстве деревенщина. Но Жак-Простак не станет стрелять в своих братьев, даже Тьер его не заставит. Они не посмеют!
Андре Лео была душой этого общества. И когда Вильом, один из редакторов «Папаши Дюшена», пришедший один, без своего друга Вермерша, позволил себе усомниться в заслугах женщин перед революцией, утверждая, по стопам Прудона, что их дело — семья, Андре Лео тут же взорвалась, как граната:
— А кем была, по-вашему, совершена революция? Вы забыли восемнадцатое марта, месье?! Ведь гвардейцы на Монмартре преспокойно проспали свои пушки! Разве солдаты не начали уже спускать их с горы? Разве не женщины их окружили, побросав очереди за хлебом? Слава богу, парижанки встают ни свет ни заря. Разве не они хватали лошадей под уздцы и цеплялись за колеса орудий? Разве не они стыдили солдат и упрекали? Не они заставили их обниматься с гвардейцами? Что бы вы делали сейчас, месье Вильом, если бы не эти женщины на Монмартре?
Она была известным еще со времен империи борцом за права женщин — ее романы были этому посвящены. Правда, стоило Лизе увидеть ее с Малоном, как невольно припомнился анекдот о них, любимый Бакуниным… кто же ей рассказал?.. впрочем, не все ли равно кто. В романе «Скандальный брак» благородная барышня влюбилась в рабочего Мишеля и выходит за него замуж. Автор, хотя и не барышня, была дамою незамужней и захотела устроить собственную судьбу, как в романе, для чего упрашивала друзей отыскать ей Мишеля в жизни. Но сколько ее с рабочими ни знакомили, всякий раз она говорила, что нет, это не Мишель. И лишь при встрече с Малоном воскликнула: «Oui, c'est Michel!» — что в устах Бакунина должно было звучать особенно забавно, поскольку Мишелем звали его самого…
Шутки шутками, а Писарев увидел в ней достойную преемницу Жорж Занд. И когда Вильом в ответ на ее вопрос, что бы он делал сейчас, если бы не женщины на Монмартре, смеясь, поднял руки, Андре Лео тут же взяла под свою опеку Елизавету.
— Завтра же я познакомлю вас с супругами Алликс, с Луизой Мишель на Монмартре, где они вместе с Анной работают в женском Комитете бдительности, с Натали Лемель, с Поль Менк… с кем еще, Бенуа? — обратилась она к Малону, но оказалось, что он незаметно исчез.
Вместо него отозвался Виктор Жаклар:
— Малон отправился в ратушу и просил его извинить.
— Но я ведь сюда ненадолго, недели на две, спасибо, — сказала Елизавета. — Правда, сегодня, бродя по Парижу, удивительное дело, я вовсе не ощущала себя посторонней… чужой.
— Чужой? В этом городе есть враги — но чужих здесь нет! Вы слышали, что венгерец избран членом Коммуны? А вот это вы слышали? Как Комиссия, на которую была возложена проверка выборов, ответила на вопрос, могут ли иностранцы быть допущены в Коммуну, — Андре Лео схватила со стола какой-то листок. — «Принимая во внимание, что знамя Коммуны есть знамя всемирной республики… — Вы поняли: знамя всемирной республики!.. — Комиссия считает, что иностранцы могут быть допущены в Коммуну, и предлагает утвердить избрание гражданина Франкеля»!
Они засиделись в кафе допоздна и все-таки дождались Вермерша. Эжен был явно расстроен. Он принес печальные новости: вслед за Лионом и Крезо Коммуна пала в Тулузе и в Сент-Этьенне.
— Значит, держится только Марсель? — шепотом спросила Елизавета у Анны.
— Еще как будто Нарбонн.
— Я даже не знаю, где это.
— Городок на юге, недалеко от Марселя.
2
В маленькую книжную лавку на Монмартре, на крутой улочке неподалеку от площади Пигаль, Елизавету привела Анна Жаклар. Оказалось, здесь можно найти любую газету или брошюру последних недель. Хотя Андре Лео готова была немедленно исполнить свое обещание — ввести ее в круг активных деятельниц Коммуны, Елизавета хотела прежде всего разобраться в происходящем. Это был ее долг. И за первые два дня кое-что успела, а на третий, с помощью Анны, смогла представить себе как будто более или менее верную картину здешних событий.
Она отобрала в книжной лавке пачку парижских газет и, изложив на бумаге собственные впечатления, стала искать, каким бы способом все это переправить в Лондон. Простейший и, казалось бы, самый надежный — по почте — начисто отпадал. На почтамте на улице Жан Жака Руссо, куда Елизавета обратилась по совету все той же Анны, с трудом достучавшись в запертые двери, член Коммуны и член Интернационала исхудалый, взъерошенный Альбер Тейс встретил ее не слишком приветливо. Разве мадам не слышала, что этот прохвост Тьер еще 19 марта распорядился отрезать Париж от Франции, перехватывать всю почту — не пропускать ни газет, ни писем ни из города, ни в город? Собственно, Коммуна направила сюда Тейса только накануне вечером; и когда, вместе с Верморелем, он явился в сопровождении батальона гвардейцев, оказалось, нет ни марок, ни штемпелей, ни гроша денег — все вывезено в Версаль. Только почтовые кареты, приготовленные во дворе, не успели уехать, и делегат Коммуны всю ночь просидел на почтамте как сторож. Не без злости оповестив об этом Елизавету, он, впрочем, тут же ее обнадежил, пообещав, что дня через два работа наладится: сбежало начальство, а почтальоны остались! «Я думаю, мы сможем отправлять почту, минуя ищеек Тьера, откуда-нибудь из занятых пруссаками предместий, скажем из Сен-Дени, так что вы оставьте свое письмо. А газеты не могу обещать. Советую поискать оказию, так будет вернее…»
Вдвоем с Анной они направились с этой целью на площадь Кордери, неподалеку от ратуши. Дорогой, возле площади Опера, Анна заговорила о недавней демонстрации на этом месте:
— Этих щеголей, этих лощеных франк-филеров с револьверами в карманах и со стилетами в тросточках собралось здесь, должно быть, около двух тысяч. Они двинулись с криками «Долой Комитет!», «Да здравствует порядок!», и вы знаете, кто их возглавил? Не угадаете! Сенатор Второй империи барон де Геккерен-Дантес, тот самый!
— Убийца Пушкина? Он жив? — удивилась Елизавета.
— Да, и жив, и здоров, и я познакомилась с его дочерью… племянницей жены Пушкина. Вы же знаете, ведь они с Дантесом были женаты на сестрах. Так вот, я своими глазами видела в комнате мадемуазель Леони книги Пушкина и его портреты, она переводит на французский его стихи, поклоняется его гению… Нас с ней познакомила Вера Воронцова, родня Гончаровых. Веру я знаю с детства, с Калуги, мы ведь жили там когда-то. Так вот, Вера мне говорила, что Леони враждует с отцом и повторяет слова Лермонтова о нем: «Не мог понять в сей миг кровавый, на что он руку поднимал!..»
Лиза выслушала рассказ Анны довольно спокойно хотя бы по той причине, что поэту Пушкину предпочитала публициста Писарева.
Спросила все же:
— Но он же глубокий старик?
— Дантес? Когда они стрелялись, ему было лет двадцать пять… значит, теперь что-нибудь около шестидесяти, должно быть…
За разговором незаметно подошли к ратуше. Тут, вспомнив неудачную попытку повидать Флуранса, Лиза спросила о нем — и опять Анна отозвалась с живостью, так не вязавшейся с обычной ее сдержанностью. Заговорила об этом человеке почти в таких же восторженных словах, как Женнихен Маркс.
Можно было только диву даваться, неужели это та самая генеральская дочь, что в Петербурге едва удостаивала ее кивком… да и в Женеве, похоже, с трудом признала. Но на этот раз Анна всячески показывала свое к Лизе расположение.
Она снова вернулась к Вере Воронцовой:
— Мы с нею встретились совершенно случайно, столкнулись на улице, можно сказать. Знаете, что ее сюда привело? Жажда послужить народу — на лекарском поприще… приехала изучать медицину, — но, представьте себе, здесь тоже мало кто считает это занятие подходящим для дамы! Кстати, в скором времени я жду сюда и сестру с мужем, вы, Лиза, может быть, слышали, что Софа учится математике в Гейдельберге… Теперь она намерена продолжить учение в Париже.
На третьем этаже мрачноватого дома близ рынка Тампль, в треугольнике площади Кордери, в шумном помещении Интернационала, где происходило очередное какое-то заседание, похожий на студента юноша, единственный здесь, очевидно, кто в нем не участвовал, выслушав Елизавету, посоветовал обратиться к… Тейсу. Узнав же, что она прямехонько от него, развел руками: тогда, может быть, к Лео Франкелю, поскольку он, как и Тейс, секретарь Совета для заграницы. Но искать его следует в ратуше, где заседает Коммуна, или, может быть, в здании министерства общественных работ, там Комиссия труда, промышленности и обмена.
Лео Франкель, чье имя — Франкельчик! — в числе немногих названное ей в Лондоне Марксом, она уже успела столько раз услышать за эти дни, оказался невысоким темноволосым молодым человеком в кепи. Едва она объяснила ему цель своего прихода, он без лишних слов протянул руку из своего министерского, обитого зеленым шелком, кресла, в котором буквально утопал:
— Где ваше письмо?
Услышав, что письмо она оставила на почтамте Тейсу, а теперь озабочена отправкой газет, указал на письменный стол:
— Вот чернила и ручка. Напишите, пожалуйста, еще одно, честное слово, это не помешает, тем более что его сегодня же увезут из Парижа. С газетами, конечно, сложнее… Но это так важно — держать Маркса в курсе здешних событий, что постараемся послать и газеты.
Он чем-то напоминал Николя Утина, особенно когда безо всякой связи с предыдущим спросил:
— А каковы ваши планы, гражданка…
— Элиза, — подсказала она. — Извините меня, но я занята ужасно…
Он мягко улыбнулся, тогда как большие внимательные глаза изучали ее.
— Боюсь, вы меня неправильно поняли. Я спрашиваю именно о том, чем вы заняты здесь и чем хотите заняться.
— Ну, пока что я осматриваюсь, чтобы известить Лондон…
— А потом, когда осмотритесь?
— Я сюда ненадолго.
— Простите, а вы откуда?
— То есть как? — она удивилась. — Я же вам сказала: из Лондона.
— Нет, а вообще?
— Что, на англичанку я не похожа?
Он пожал плечами.
— …Я из Русской секции, из Женевы. Вообще, стало быть, из России.
— Здесь столько работы, — по-товарищески сказал он. — Теперь, когда революция совершена… совершена рабочим народом, можно взяться на деле за осуществление наших принципов. А что это значит: заложить фундамент социальной республики? Без пышных фраз, возвышенных, но туманных, которыми мы, увы, нередко грешим… С чего начинать освобождение труда, вы задумывались над этим? Так вот, мудрить нечего, сама жизнь подсказала. Знаете, сколько в Париже бездействует брошенных владельцами мастерских, где рабочие остались без работы и, следовательно, без заработка? Надо срочно пускать мастерские в ход, без хозяев, на кооперативных началах, объединив рабочих в товарищества — вот что подсказывает жизнь! А работницы? Их мужья и братья не вернулись с войны — погибли, попали в плен, застряли в солдатах, и сегодня половина парижских трудящихся — женщины. Разве им не нужны кооперативные мастерские? И не наше ли дело им в этом помочь? Ах, гражданка Элиза, каждый человек с головой у нас на вес золота — к посланнице Маркса это не может не относиться. Прошу вас, подумайте. В конце концов, разве вам не понятны слова Дидро о самом счастливом человеке?! Самый счастливый тот, кто дает счастье наибольшему числу людей! — И, выбравшись из кресла, спросил: — Куда можно зайти за газетами?
— Не беспокойтесь, пожалуйста, я сама принесу…
— Через два часа за ними зайдут.
В этот вечер Елизавета с чистой совестью напомнила Андре Лео о ее предложении. Та обрадовалась напоминанию:
— Завтра я выступаю в клубе святого Николая-на-Полях. Оттуда мы заглянем к Алликсам. Будьте там в половине двенадцатого. Это в округе Тампль, спросите церковь Сен-Николя-де-Шан; вы, Элиза, конечно, уже слышали, что народ стал собираться в помещениях богослужебных?.. Но не только это меняется. Знаете, какая на завтра назначена для обсуждения тема? Долг и обязанности Коммуны! Не борьба с властью, а поддержка власти — вот какая произошла перемена! Сами увидите, приходите, жду вас.
Возле большой церкви святого Николая было по-воскресному людно. На площади перед церковью явно обозначались два встречных потока. Благообразные степенные обыватели в воскресных костюмах и шляпах семьями чинно расходились с утренней службы, а шумные, большей частью молодые люди, среди них много женщин и национальных гвардейцев в кепи, спешили на собрание клуба. И странное ощущение охватило Лизу в таинственном полумраке высокого, торжественного, еще пахнущего благовониями помещения, где святые со стен безмолвно взирали на оживленную толпу парижан, не только не ломавших перед ними шапок, но вроде бы вовсе и не замечавших некоторой странности обстановки — настолько, что кто-то накинул на распятие красный шарф.
Человек с кафедры, откуда обычно читались проповеди, объявил — и голос его гулко отлетал от высоких стен храма:
— Лишь при помощи публичных собраний мы оказались в состоянии осознать и защитить свои права. Только на публичных собраниях мы можем разобраться в событиях, которые переживаем. Мы просим вашего присутствия и содействия, чтобы каждый гражданин точно знал о том, что происходит, знал, по какому пути он должен идти.
Слова его были покрыты гулом одобрения. Народу все прибавлялось. Люди не только сидели на скамьях, но и толпились в проходах. Многие женщины были с детьми на руках.
Председатель дал слово следующему оратору. Слушая его и потом остальных, Лиза вновь и вновь повторяла про себя сказанное неделю назад Марксом: переход власти к самим массам — вот что произошло в Париже! Она видела это своими глазами.
Наступила очередь Андре Лео. Придерживая длинную юбку, она уверенно вступила на кафедру. Ее шумно приветствовали — знали и по речам в клубах, и по хлестким статьям (а кое-кто, надо думать, и по романам тоже).
— Возможно ли совершить революцию без участия женщин? — вопросила она. — Первая революция, правда, назвала их гражданками, но дала ли им свободу и равенство? Если бы всю историю, начиная с 89-го года, изложить под заголовком «История непоследовательности революционеров», то женский вопрос был бы чуть ли не главным в этой книге! Революционеры сумели оттолкнуть от себя половину своей армии, которая рвалась в бой, и более того — толкнуть ее в неприятельский лагерь, под иго попов. Разумеется, республиканцы не хотят, чтобы женщина оставалась под этим игом, чтобы действовала против них… но освободить ее из-под ига мужчины? Нет, этого они не желают! Но я заявляю: такой расчет неоправдан! У бога одно громадное преимущество перед мужчиной: он остается неизвестен, а это позволяет ему быть идеалом. И выход из замкнутого круга один: ломка его, революция без каких-либо ограничений!
Речь Андре Лео понравилась Елизавете, но была все же в ней та пышность, о какой упомянул Лео Франкель накануне… Она, конечно, умела выступать — и немного упивалась этим своим умением. «Мудрить нечего» — так, кажется, сказал Елизавете Франкель, это было ей ближе.
Не успел подняться на кафедру очередной оратор, как в притихшем зале послышался словно бы отдаленный гром. Кому это там салютуют? Кто-то поблизости от Елизаветы высказал предположение: может быть, это предместья салютуют Парижу?.. Или какое-то недоразумение? Но в наступившей тишине явственно рассыпалась картечь, а затем раздалось два оглушительных залпа. Люди повскакали с мест и бросились к дверям. Сомнений не оставалось. Они напали! Они посмели!
Елизавета и Андре Лео выбежали из церкви вместе со всеми, и тут же их подхватил поток людей, бегущих по улицам в западном направлении, в сторону площади Звезды — пальба раздавалась оттуда.
Народ стекался на площадь Звезды со всех ее лучей-улиц. С западного луча, с авеню Великой Армии, ведущей к воротам Нейи, на площадь въезжали повозки с раненными в бою федератами, и при виде этих повозок площадь содрогалась от крика:
— В Версаль! В Версаль!
И вот уже, раздвигая толпу женщин, детей, стариков, минуя Триумфальную арку, пошли на авеню Великой Армии ощетинившиеся штыками батальоны с красными знаменами, и грохот пушек по мостовой заглушал бой барабанов.
3
Горькую правду о том, что произошло за его стенами, Париж узнал утром 5 апреля.
…В тот вечер Андре Лео поспешила в редакцию. А Елизавета вместе с новыми знакомыми по клубу (с этими простыми работницами чувствовала себя куда свободнее, чем с самоуверенной Андре Лео или даже с Анной) чуть не до полуночи оставалась неподалеку от Триумфальной арки, с жадностью ловя новости и обсуждая их, и провожая все новые отряды национальных гвардейцев. Слухи были тревожны. Не пруссаки — французы пролили французскую кровь, французы расстреливают парижан! Говорили также, что строятся баррикады, а на крепостных стенах устанавливают пушки. Почему только теперь, недоумевала Елизавета, почему не раньше! Но гвардейцы шагали бодро, с пением «Марсельезы». А вездесущие мальчишки прыгали возле них, распевая куплеты на злобу дня:
К оружью! Дружно на Версаль. Поднимем на штыки скорей Козявку Тьера и его друзей!И когда гвардейцев спрашивали, довольно ли у них патронов, те уверяли, как бы отвечая на недоумение Елизаветы, что им не нужны патроны, так как армия за республику, и они идут брататься с солдатами.
Когда наконец женщины решились разойтись по домам, Елизавета почувствовала, что у нее нет сил добираться к себе в Батиньоль. Аделаида, шляпница, жившая неподалеку от площади Звезды, приютила ее на ночь у себя.
Утром снова весь Париж был на улицах. Толпа у Триумфальной арки будто не расходилась. Ребятишки карабкались по выступам барельефов, стараясь разглядеть, что там на широкой улице Великой Армии и вдали. Там облака дыма, говорят, это над воротами Майо, что выводят к Нейи… «Знаете ли вы, какое это местечко! Лавочки, мастерские, веселые кабачки и княжеские парки!»
С той стороны подходят к Триумфальной арке — в обратном, чем накануне, направлении — гвардейцы, усталые, оборванные, пыльные. На них набрасываются с вопросами.
«У нас не было патронов!» — «Мы не ели сутки». — «Нас предали!»
Не успевают гвардейцы пройти, как над местом, откуда они появились, вспухает белое облачко. Кто-то тут же определяет: картечь!..
Но вот навстречу, со стороны Батиньоля, появляются новые батальоны с возгласами «Да здравствует Коммуна!». Они бурно приветствуют курьера, что мчится от ворот Майо, крича о победе: «Флуранс в Версале! Тьер арестован!»
И вечерние газеты сообщили: Флуранс уже в Версале.
Эти известия радостны, но вместе с тем для Елизаветы досадны — почему она тогда, возле ратуши, не дождалась Флуранса, кто знает, может быть, великодушный рыцарь не отказался бы взять ее в свой отряд и, чем жадно ловить малейшие слухи оттуда, она, опаленная порохом, сейчас была бы с ним рядом в Версале!
Однако радость, похоже, преждевременна: те, кто бежал из предместий, приносили совсем иные новости. Да и грохот канонады долетал — с запада, со стороны Нейи, и с юго-запада, от Исси, и с юга, от Шатийона. И по Елисейским полям, требуя оружия, прошел под красным знаменем отряд волонтерок.
Тем временем какие-то женщины расклеивали по стенам призыв «группы гражданок» к женщинам всех классов: «Отправимся в Версаль, пусть Париж использует последнюю возможность достичь примирения…»
Откликаясь на этот призыв, несколько сот парижанок собралось на площади Согласия. Но, видя, что для задуманного марша народу все-таки маловато, решили отложить марш до завтра.
К восьми часам вечера Елизавета опять была возле церкви святого Николая, именно в этот час в будние дни церковь становилась клубом. Вчерашние спутницы, и среди них Аделаида, тоже пришли сюда. Никто ничего не знал толком, но каждая приносила с собой хоть какую-то новость. «Нынче утром жандармов в Нейи отбросили за церковь, и какой-то мальчишка под градом пуль водрузил на ней красное знамя!» Особенно волновал рассказ о маркитантке по имени Маргарита. В бою при Медоне, не обращая внимания на картечь, она спасала раненых — перевязывала, вытаскивала из-под огня. Почти у каждой из слушательниц в боях участвовал муж, брат, любимый. Каждая готова была встать на место вчера еще неведомой Маргариты. А вот в том, идти ли завтра с колонной женщин в Версаль добиваться примирения, не было единодушия. Конечно, все слышали от своих бабушек или матерей, что женщины Великой революции отправились с Центрального рынка в Версаль и привели в Париж пленного короля. Но — напоминали противницы шествия — они тогда двинулись на Версаль с пушками!..
Ночью во всех кварталах били тревогу, снова шли вооруженные отряды с криками «На Версаль!». Но днем длинная колонна женщин с красным знаменем, с маленькими флажками на груди, с барабанщиками и трубачами, под звуки «Походной песни» все же двинулась с площади Согласия на Версаль — потребовать от Тьера, чтобы правительство не посылало больше бомб на Париж.
К счастью, национальные гвардейцы успели вовремя оттеснить женщин от ворот. А версальские бомбы, которыми ворота Сен-Клу обстреливались, окончательно рассеяли эту колонну вместе с надеждами на примирение.
И уже слух о гибели генералов Дюваля и Флуранса зашелестел по городу.
А утром пятого парижане и парижанки, возможно даже, что в первую очередь именно парижанки, передавали друг другу ужасные подробности того дела, на которое с такою беспечною удалью уходили второго вечером провожаемые ими бравые парни.
Елизавета узнала это все от Малона, забежала к нему пораньше, чтобы застать дома, и увидала, что он очень мрачен.
Произошло вот что.
Из ворот Парижа гвардейцы выступили тремя колоннами. Шагали радостно и беззаботно. Уверенные, что солдаты не станут стрелять, даже мимо форта двигались открыто, без предосторожностей. И когда, подпустив их поближе, пушки с форта ударили в самую гущу колонны, — оставляя убитых, она тут же в беспорядке распалась: головные части прибавили шаг, а идущие сзади повернули обратно. На выручку бросился отряд Флуранса, но его в свою очередь внезапно атаковала конница жандармов, — и как ни отчаянно отбивались коммунары, те из них, кого не изрубили жандармские сабли, оказались отрезанными от Парижа. Две другие колонны тоже попали под орудийный обстрел и после упорного боя вынуждены были отойти. Но четвертого Дюваль был захвачен в плен и расстрелян.
Малон, вместе с другими членами Коммуны, услышал об этом вечером от полковника Шардона. Стоя перед Коммуной в мундире с красным шарфом, пришедший с позиций великан плакал, как ребенок, рассказывая о гибели Дюваля. О судьбе Флуранса Малон не мог ничего сказать. Слухи доходили самые разноречивые…
Что было делать?
Задаваясь таким вопросом, меньше всего Елизавета имела в виду свои обязанности корреспондента. С этим все было понятно и просто. А вот что ей следовало делать, как поступать в разгоравшейся борьбе парижского люда? Здесь перешли наконец от слов к делу, и, можно сказать, на ее глазах переход этот был скреплен кровью. С чем, с чем, а уж с нерешительностью здешний люд не был знаком, не колебался, не взвешивал, не раздумывал, что делать и как поступать, — шумный, взбудораженный, простосердечный, легковерный и отважный, не больно-то рассудительный, мало ей знакомый, но никак не чужой, он действовал! — быть может, и необдуманно, и без подготовки должной, под влиянием минуты, по воле сердца… но как бы она хотела быть заодно с этим людом и в нем раствориться, вот так же действовать естественно, как дышать. Видно, она из тех, кому много легче исполнять свой долг, нежели биться над задачей, в чем именно он заключается. Мучимая неотвязным вопросом — достойным Чернышевского! — по дороге в клуб, в Тампль, Лиза прочла неподалеку от Кордери только что вывешенное воззвание ЦК национальной гвардии:
«Рабочие, не обманывайтесь! Идет великая борьба между паразитизмом и трудом… Если вы устали коснеть в невежестве и прозябать в нищете; если вы хотите, чтобы ваши дети сделались людьми, пользующимися плодами своего труда, а не животными, выдрессированными для мастерской и для казармы; если вы не хотите, чтобы ваши дочери… становились орудием наслаждения в руках денежной аристократии; если вы не хотите, чтобы разврат и нужда толкали мужчин в ряды полиции, а женщин к проституции; если вы хотите, наконец, царства справедливости, будьте смелы, рабочие, восстаньте, и пусть ваши сильные руки низвергнут презренную реакцию…»
4
Днем 6 апреля, ярким, весенним, хоронили погибших. Малон, Андре Лео, Анна, Елизавета заранее отправились к госпиталю Божон. В мертвецкой над незакрытыми еще гробами плакали женщины, дети, старухи.
Юноша, почти мальчик, казалось, только уснул.
— Бедняжку проткнули саблею в грудь, — сказала Андре Лео.
Флуранса не было среди мертвецов, и она объяснила причину:
— Эти негодяи так обезобразили его, что боятся отдать тело.
Ей уже было известно, как погиб великодушный Флуранс. Подавленный происшедшим, отказавшись отступать вместе с остатками своего отряда, несмотря на уговоры гвардейцев, он вдвоем с адъютантом остановился на ночлег в небольшом домике на берегу Сены. Флуранса захватили спящим. Когда его вывели на крыльцо, к нему подскакал жандармский офицер и, поднявшись в стременах, одним страшным ударом сабли раскроил ему череп…
Здесь, возле переполненной мертвецкой госпиталя Божон, эта дикая сцена вовсе не казалась преувеличенной или неправдоподобной. Лиза теребила в руках сумочку, где лежало так и не дошедшее до адресата письмо Женнихен к этому благородному, самоотверженному, отважному гражданину республики равных… Ах, почему не дождалась она перерыва в заседании Коммуны у дверей ратуши? Ах, почему не оказалась с ним рядом?! Впрочем, разве это изменило бы что-нибудь в судьбе Флуранса… даже если б она заслонила его! Только, может быть, в ее собственной…
Погребальная процессия потянулась от госпиталя Божон по бульвару Виктора Гюго через город на кладбище Пер-Лашез. Запряженные восьмерками лошадей в красно-черном убранстве, катафалки, утопая в венках, медленно плыли по Большим бульварам. Впереди, за горнистами, шли шестеро членов Коммуны, их знаки отличия были заметны издалека: красные розетки с золотой бахромой на груди и особенно красные шарфы с золотыми кистями через плечо. Малон, Делеклюз, Пиа, остальных Елизавета не знала. Следом вдовы, сироты, родные… и тысячи, десятки тысяч людей с непокрытыми головами и цветками бессмертника в петличках. Пронзительно и печально звучали траурные оркестры, мерно отбивали такт по обтянутым крепом барабанам барабанщики. Черные полотнища свисали с крыш домов, из окон, откуда выглядывали люди; люди стояли на тротуарах, обнажая головы, когда шествие приближалось; на перекрестках группы федератов примыкали к нему, офицеры, пропуская вперед колесницы, салютовали им саблей. Но вот какой-то человек на церковных ступенях то ли забыл, то ли не захотел снять шляпу, и тут же гвардеец, подскочив к нему, резким ударом сбил ее с головы, так что она покатилась вниз по ступеням. Никто не засмеялся, не нарушил скорбной торжественности обстановки.
Часть колонны, где находилась Елизавета, влилась, как в воронку, в кладбищенские ворота, но расслышать речи над могилами было невозможно. Да, собственно, говорилось немного — в этот горестный миг даже признанным ораторам парижан изменило привычное красноречие. Она потом от Малона узнала, что сказал старик Делеклюз. Он просил не проливать слез над геройски павшими братьями, но поклясться продолжать их дело и спасти свободу, Коммуну, республику. И, оглядывая бескрайнее море народа, спросил, у кого еще повернется язык заявлять, что Коммуна — это кучка заговорщиков. И потребовал справедливости — для вдов и сирот, для великого города, взявшего в свои руки будущее человечества.
Невзирая на каменную усталость, несмотря на тяжелую горечь этого дня, Елизавета с кладбища отправилась в клуб. До Тампля добралась уже затемно.
Первое, что услыхала здесь, под гулкими сводами, была громкая ругань Аделаиды.
— Эти дуры, эти идиотки, эти подстилки буржуйские призывают нас разойтись по домам! — кричала она, размахивая газетой. — Какая наглость! Пусть сами прячутся в свои норы. У кого не грудь, а коровье вымя, пускай те последуют их примеру!
— Тебе что. А будь у тебя сын или муж, ты бы не так говорила, — пробовала возражать незнакомая Елизавете женщина.
— У меня там не муж, у меня там мужья! — распалялась Аделаида под общий смех. — Горе им, если струсят! А ты думаешь, если открыть ворота версальцам, ты своих мужиков под юбку попрячешь? Милосердия ждешь? Может, отбиваешь поклоны?
Жизнь бурлила под сводами церкви, та жизнь, с которой распрощался Флуранс, и тот мальчишка, пронзенный саблей, и все другие, кого в последний путь проводил сегодня Париж. Елизавете удалось наконец протиснуться к спорящим. Увидав ее, Аделаида хлопнула по газетному листу широкой ладонью:
— Читала этих писак?!
«Крик народа» — газета Жюля Валлеса. Получив ее в руки, Елизавета попыталась разобрать в сумраке текст: «Гражданки, мы шли в Версаль, мы хотели остановить пролитие крови… Нам не удалось выполнить задачу примирения… Мы вынуждены на время разойтись… Вернемся к нашим семьям или объединимся в отряды для обслуживания госпиталей… Будем поддерживать дух наших национальных гвардейцев и ухаживать за ранеными… Гражданки, наша попытка останется, как протест… Расстанемся же со словами: да здравствует республика! да здравствует Коммуна!..»
— Ну что скажешь? — наступала Аделаида.
— Скажу, что вижу противоречие: то ли расстанемся, то ли объединимся… Видно, они сами не знают, что делать.
— Уж не заодно ли ты с ними?! — заподозрила Аделаида.
— А ты сама, ты знаешь, что надо делать?
— Что надо делать? Защищать Коммуну и мстить за убитых! На бастионах, на баррикадах! Если нам не достанется ружей, мы вывернем булыжники из мостовой! Победить или умереть!
— Я тоже думаю так, — согласилась Елизавета. — Еще больше крови прольется, если народ будет опять побежден.
Все заговорили разом:
— Вот ты образованная. Объясни, почему газеты печатают письма каких-то матушек Ришар, дрожащих за своих великолепных балбесов? Почему не напечатают того, что говорит Аделаида, что думаем мы?
— А что она говорит? Про мужей да про вымя коровье?
— Чтобы напечатали ваши мысли, надо их записать!
— Вот ты ученая, ты и пиши!
— Сегодня напишешь, приноси сюда завтра! Обсудим, подпишем — и на заборы, на стены: знай парижанок!
Едва добравшись к себе в Батиньоль, она разложила на столе белый лист бумаги. Но не было сил. Поплыли перед глазами похоронные дроги, и застучали в ушах барабаны, и зашаркали тысячи ног по мостовой, а благородный рыцарь Флуранс все падал и падал, обливаясь кровью, с расколотым черепом, этим вместилищем храбрости, и энциклопедических знаний, и революционных иллюзий, — рядовой гражданин в республике равных, с которым ей уже не познакомиться ни-ко-гда. И она почти явственно ощущала бешеный, смертельный удар сабли — как топором по полену.
Она написала одно заглавие: «К гражданкам Парижа!» — и свалилась в постель.
Утром, не сварив даже чашки кофе, продолжила:
«Чужеземец ли предпринял опять нашествие на Францию? Нет, эти убийцы народа и свободы — французы… Наши враги — привилегированные существующего социального строя, все те, кто всегда жил нашим потом и жирел нашей нуждой… Мы хотим труда, но чтобы самим пользоваться его плодами. Не надо эксплуататоров, не надо хозяев… Труд и благосостояние для всех… жить и работать свободно или умереть в борьбе!.. Гражданки, настал решительный час! Надо покончить со старым миром!»
Дочь Интернационала, она не могла не сказать и о том, чего, быть может, желала сильнее всего — что поднимается не одна Франция — «даже Германия… потрясена и опалена дыханием революции… даже в России, едва гибнут защитники свободы, как на их место появляется новое поколение, готовое в свою очередь бороться и умереть за республику и социальное переустройство». Она не забыла об ирландских и польских борцах за свободу, и об испанских, и об итальянских. «Не указывает ли это постоянное столкновение между правящими классами и народом, что дерево свободы, целые века увлажняемое потоками крови, принесло наконец свои плоды?»
«Гражданки, примем решение объединиться, поможем нашему делу!.. К воротам Парижа, на баррикады, в предместья… — если негодяи, расстреливающие пленных и убивающие наших вождей, дадут залп по толпе безоружных женщин, тем лучше! И если оружие и штыки разобраны нашими братьями, у нас останутся еще булыжники с мостовой».
— А у тебя, оказывается, талант! — восхитилась Аделаида вечером, в клубе, когда Елизавета принесла свое произведение.
Почти все одобрили будущую афишу, хотя без поправок не обошлось.
— Вот там, где сказано: «Гражданки, решительный час!» — хорошо бы добавить: «Гражданки Парижа, потомки женщин Великой революции!»
— И вот тут, где «матери убедятся», — надо сказать, как они не хотят терять тех, кого любят, даже ради общего дела…
— И еще — надо собрание назначить: кто с нами заодно, завтра же пускай приходят сюда!
Голоса несогласных тонули в одобрительном гомоне.
— В конце концов, кому не нравится, те не подпишут!
— А фамилию? Где тут ставить?
— Может, просто подпишем: «Группа гражданок»?
На том сговорились. И еще решили сложиться по пять — десять сантимов, кто сколько может, на печатанье в типографии. Для работницы, получающей два франка в день, в особенности бездетной, это было вполне посильно. Отпечатать поручили Аделаиде с Елизаветой, тем более что она еще по дороге в клуб заскочила в редакцию «Сосиаль» и попросила в этом помочь.
Около полуночи обе посланницы от «группы гражданок» отправились в типографию на улице Круассан, где Анна Жаклар обещала их ждать. Расставаясь, условились с женщинами из разных кварталов рано утром встретиться на этом же месте, на улице Тампль, чтобы раздать отпечатанные афиши для расклейки по всему городу.
Анна действительно ждала их, и притом не одна. Вместе с нею их встретил могучего телосложения парень, вспыхнувший, точно деревенская девушка, когда Анна представляла его. Стеснительность не вязалась с богатырскою внешностью, зато имя соответствовало ей вполне.
— Геркулес, наборщик, — сказала Анна и протянула руку. — Так где же ваш текст?
— Я лучше продиктую, — сказала Лиза. — А то тут неразборчиво…
Геркулес встал за наборную кассу. Цвет лица у него не менялся, но руки, несмотря на размеры, летали над кассою быстро и ловко, и вот уже, легко подняв пудовую форму, он понес ее к машине, и та стала выбрасывать оттиск за оттиском, листок за листком. Трое женщин подхватывали и складывали эти остро пахнущие листки. По мере того как продвигалась работа, Геркулес почему-то мрачнел.
— Чем вы опечалены? — спросила его Лиза, когда кончили печатать.
— Вот уже женщин призывают к оружию, — недовольно пробурчал он, указывая на листки. — А я все тут… — И вдруг погрозил кулачищем. — Ну и покрошу же я их, когда наконец туда попаду!
Днем восьмого апреля парижане толпились у афиш, подписанных группой гражданок.
«…К оружию!.. Гражданки Парижа, потомки женщин Великой революции, настал решительный час… К воротам Парижа, на баррикады, в предместья… Победить или умереть!..»
А спустя три дня, когда воззвание появилось в газетах, к нему было добавлено приглашение на собрание в «Большое кафе наций», все на ту же улицу Тампль, возле клуба.
5
В эти дни город заговорил о Домбровском. Его назначили комендантом Парижского укрепленного района взамен Бержере. Бывшая, как обычно, в курсе всех новостей Андре Лео рассказывала, что этот польский эмигрант, командир повстанцев 63-го года, на днях явился в ратушу и предложил свои услуги. Новое назначение, понятно, обрадовало далеко не всех, многие высказывали недовольство смещением прежнего коменданта (в первую очередь он сам и верные ему батальоны). Однако Коммуна не могла простить злополучного похода, да и других неудач. Бои уже шли в Нейи, на расстоянии ружейного выстрела от крепостного вала Парижа.
И Андре Лео, и Анна связывали с новым генералом Коммуны большие надежды. Ведь первое, что он предпринял, было — контрнаступление! Увы, о том, как оно развивалось, приходили разноречивые вести, хотя Париж теперь слышал грохот не только версальских, но и своих семифунтовых пушек.
Даже Андре Лео терялась в догадках.
— Ничего невозможно понять, что там делается!
Она твердо решила побывать на месте событий, и Анна вызвалась ее сопровождать — где-то рядом с Домбровским сражался со своим легионом Жаклар, — Анна не могла подавить тревогу за мужа.
— Я отправлюсь с вами, — сказала Лиза.
Сообщить в Лондон достоверные сведения о военных событиях она считала своим долгом.
Омнибус остановился близ улицы Мариньи. Дальше надо было идти пешком — разумеется, при условии, если удастся преодолеть кордон национальных гвардейцев.
Ширь Елисейских полей была гнетуще пустынна. Заперты лавки, закрыты ставни; зато все ворота, согласно приказу, распахнуты настежь, чтобы никто не мог за ними укрыться.
Лишь у дверей аптеки волновались люди. Говорили, будто туда отнесли раненную осколком женщину. В самом деле, нет-нет да и слышался посвист снаряда. Дымки разрывов вспухали над Триумфальной аркой. У домов на тротуарах группами расположились гвардейцы, составив ружья в козлы. Кто лежал, кто прогуливался, кто играл в пробки.
Топот отряда по мостовой настиг трех спешащих женщин. Ружья на плече, котелки за спиною. Рядом с капитаном шагает молодая гражданка во фригийском колпаке, с револьвером за поясом.
Андре Лео, Анна Жаклар, Элиза пристроились в хвост отряда. Андре Лео не умолкает. Она все пытается рассказать своим спутницам о Домбровском, с которым знакома лично и надеется повидаться в Нейи. Гражданин этот уже несколько лет в Париже — побег из царской тюрьмы оказался удачен. Впрочем, наполеоновская империя готова была выдать беглеца, даже впутала его в покушение на Александра Второго… Республике Домбровский предложил создать польский легион для защиты Парижа, но его не послушали, так же как не послушали после 18 марта, когда он сразу же призывал атаковать Версаль…
— Кстати, так же как и Жаклар! — добавляет Анна.
Увы, Лиза не успевает сообщить спутницам, что о том же настойчиво говорил в Лондоне доктор Маркс — «промедление смерти подобно!», — близ Триумфальной арки разговоры прерываются криком сержанта.
— Берегись! — кричит он под свист снаряда.
Гремя штыками и котелками, отряд дружно бросается на мостовую. От взрыва вылетает из углового дома дверь, а сверху из распахнувшихся окон сыплются разбитые стекла. Отряхиваясь, Лиза, Анна и Андре Лео вместе с отрядом пересекают площадь Звезды. Пустынна и площадь. У Лизы же перед глазами она совершенно иная, затопленная толпою — как это было второго вечером, когда батальоны уходили в поход на Версаль под бой барабанов и без патронов, уверенные, что идут брататься… Многих в самом деле ожидало братание — увы, не с солдатами, со смертью.
Впрочем, и сегодня площадь обезлюдела только на первый взгляд. Под сводом Триумфальной арки, как под навесом, по-прежнему, как тогда, толпятся любопытные — парижане остаются парижанами! Оборачиваясь, Лиза видит, что барельефы арки, в особенности обращенные к той стороне, куда направляются она и ее спутницы, и отряд, за которым они шагают, — выщерблены, повреждены. Даже не обязательно останавливаться, чтобы это заметить.
Улица Великой Армии, ведущая от арки к воротам Майо, к Нейи, в которую тогда, в тот вечер, как в воронку, втягивало браво шагавшие батальоны, вся усыпана осколками бомб, которые не успели подобрать вездесущие мальчишки, кусками стекла, обломками черепицы, ветвями деревьев. Пробитые стены домов, в особенности обращенные к западу, напоминают швейцарский сыр. От станции Большого Пояса, как называют парижане окружную железную дорогу, остались одни развалины. Навстречу то и дело проносят носилки. Из-под пологов высовываются окровавленные края тюфяков.
Такие носилки — с задернутым пологом — стояли на тротуаре и возле очередного кордона гвардейцев. Немолодой сержант, посмотрев бумаги Андре Лео и объяснив дорогу к штабу, проговорил на прощанье:
— Позволю себе посоветовать гражданкам. Прежде чем отправляться туда, загляните за этот полог.
Андре Лео решительно отдернула холщевые занавески — и отпрянула в сторону. За мгновение, пока края занавесок еще не сомкнулись, Лиза успела разглядеть из-за ее спины словно бы опрокинутую икону богоматери — распластанное на тюфяке тело женщины с ребенком… с тельцем ребенка на груди… Мгновение ужаса не заставило, однако, на пороге цели отступить от задуманного.
Возле штаба Домбровского прямо на тротуаре расположился отряд пропыленных, небритых, ожесточенно жующих гвардейцев. Их лейтенант оказался знакомым Андре Лео.
— Мы три дня провели в беспрерывном бою, — говорил он со злостью, жадно запивая куски мяса вином, — и ничего не имели во рту, кроме хлеба и сала!
И все-таки даже у оголодавших гвардейцев настроение было явно приподнятое, потому что в эти три дня они не столько отбивались от красноштанников, сколько били их. О событиях этих дней Андре Лео и ее спутницам поведали в штабе. Там, в ожидании Домбровского, они провели несколько часов. Андре Лео непременно хотела поговорить с ним самим.
Домбровский с Жакларом возвратились в штаб вместе, сопровождаемые еще несколькими офицерами. Появление Жаклара обрадовало не только Анну. Без него ничего из этой встречи не получилось бы.
Едва кивнув на приветствия, быстрый и решительный Домбровский тут же потребовал удалить женщин с аванпостов и больше не пропускать их сюда.
Андре Лео не могла, разумеется, смолчать.
— Мы вас уважаем, генерал Домбровский! Но знаете ли вы, что в Париже без женщин не было бы революции?!
И она объяснила ему то, что привыкла объяснять с трибуны парижанам и парижанкам — о 18 марта, гвардейцах, проспавших свои пушки, и о женщинах Монмартра, отбивших их у солдат, о непоследовательности революционеров и о революции без ограничений для женщин.
Домбровский, бледный от усталости и нетерпения, оставался вежлив, но непреклонен, и тогда Лиза хладнокровно заметила ему, что, будь у него в батальонах хотя бы достаточно маркитанток, гвардейцам не пришлось бы, наверно, сражаться с подведенными от голода животами.
Он внимательно посмотрел на нее, кивнул и… предложил приступить к делу немедля, так что ее от этой стремительности взяла оторопь, а ответила за нее Анна, сказав, что волонтерок и среди парижанок довольно, а вот именно Лиза как раз ненадолго в Париже.
— Мы, — заявила она, — готовы ухаживать за ранеными, Виктор подтвердит вам, он сам говорил об этом.
Жаклар действительно подтвердил, что на укреплениях и аванпостах могли бы с успехом действовать перевязочные отряды — в каждом один или два хирурга, и при них санитарки…
— Понятно, — добавил Жаклар, — если найдутся хирурги, свободные от предрассудков.
Как бывший студент-медик, он себе хорошо представлял эту касту.
— Несколько женщин уже сдали экзамены при Медицинской школе! — воскликнула Андре Лео. — Раз у них хватило смелости овладеть этими вратами знаний, она не изменит им на службе гуманности и революции!
— Еще есть акушерки, — добавила Анна.
А Лиза сказала:
— Боюсь, гражданин Домбровский, вам неизбежно придется командовать и женскими ротами, поскольку на улицах Парижа развешен призыв женщин к оружию.
— Я не желал бы дожить до этого! — с солдатскою прямотой отчеканил генерал Коммуны и после краткой паузы спросил: — А вы, гражданка, прошу прощения, не из России?
— Неужели меня выдает акцент?
— И, должно быть, поклонница Чернышевского?
— Да… — она снова оказалась в некоторой растерянности, этот человек своей быстротой опять ставил ее в тупик. — А откуда вы знаете?
Кажется, первый раз за все время он усмехнулся:
— Догадаться, право, нетрудно.
И продолжил на чистом русском:
— Мне не раз доводилось слышать Николая Гавриловича еще в Петербурге.
— Вы знакомы с Николаем Гавриловичем Чернышевским?!
— Но что же в этом такого необыкновенного, сударыня?
— И вы петербуржец?!
— Никоим образом… но там учился — и бывал на собраниях, где Николай Гаврилович выступал.
Этот неожиданный разговор о Чернышевском под обстрелом версальских пушек в предместье Парижа прервала Андре Лео, не понявшая по-русски ни слова и требовавшая перевода.
Извинившись, Лиза перешла опять на французский.
— Странно в таком случае, месье, встретить в вас гонителя женщин.
— Напротив, мадам, я выказываю им свое уважение, оберегая от кровавого ремесла. Война, увы, есть война!
— Это не просто война, это — революция!
Вовлечь себя в новые споры он не позволил.
— Она, к сожалению, не оставляет лишней минуты для столь приятной беседы, — сказал любезно. — Если позволите, я попрошу Жаклара проводить вас.
— Один лишь вопрос, гражданин, — попросила Андре Лео. — Для газеты «Сосиаль». Как вы оцениваете военное положение Парижа?
— У нас один способ обороны, — ответил он. — Это нападение!
И со словами «Салют и братство!» скрылся за дверью штаба.
На обратном пути к воротам Майо Андре Лео уговорила Жаклара свернуть к большой баррикаде неподалеку от штаба, на улицу Перонне. Говорили опять о Домбровском, только рассказчик сменился. Теперь эту роль взял на себя Виктор Жаклар, Андре Лео не противилась.
Окончив в Петербурге Академию генерального штаба, молодой офицер получил назначение в Варшаву. А там возглавил тайную подготовку к восстанию и разработал его план. Однако был схвачен еще до того, как восстание началось. И получил — уже после разгрома — пятнадцать лет каторги, но бежал по дороге в Сибирь и в конце концов объявился в Париже…
— Так он, наверно, должен быть хорошим знакомым нашего Антона Трусова! — заметила Лиза Анне.
Жаклар не дал себя перебить:
— Не знаю, о Трусове ничего сказать не могу… А вот что знаком был Домбровский не только с вашим уважаемым Чернышевским, но и с самим царем Николаем, — об этом своими ушами от него слышал! Когда царь посетил их Кадетский корпус, то в беседе с воспитанниками так умилился толковым ответам и выправке маленького Ярослава, что подхватил его на руки — и тут же бросил, услыхав, что кадетик из поляков, шляхтич…
— Коммуна отнеслась к нему по-другому! — воскликнула Андре Лео. — До вас уже дошло обращение о Домбровском? Коммуна назвала его солдатом Всемирной республики!
К баррикаде Перонне подошли в минуту затишья. Обстрел прекратился. Жаклар невольно переменил тему, вспомнив забавную историю о каком-то огороднике из Нейи, попавшем между двух огней и буквально телом своим хотевшем прикрыть разбитые пальбою с обеих сторон парники.
— Жак-Простак, — сказала на это Андре Лео, — всегда на стороне того, кто дороже заплатит на рынке!
Но тут настала очередь Анны встретить знакомых гвардейцев — рабочих типографии на улице Круассан, где печаталась «Сосиаль». Конечно, Андре Лео их знала не хуже, просто первой их заметила Анна. Несмотря на затишье, лица были мрачны. И причина этого разъяснилась тотчас же. Анна только спросила, почему не видно среди них Геркулеса, пояснив Лизе, что могучий наборщик наконец-таки добился своего и отправился на позиции. Увы, оказалось, парню не суждено было долго воевать. Только что перед их приходом его унесли на носилках, получил осколок в живот.
— Ранен?
— Убит!.. — покачал головою гвардеец.
А его товарищ добавил:
— Хороший был парень. Но уж больно большой. Нести его было не так-то легко, поверьте, гражданка!
12 апреля Андре Лео писала в «Сосиаль»:
«Я видела у ворот Майо батальон, который провел три дня в непрерывных боях вне городских укреплений; он не имел другой пищи, кроме хлеба и сырого сала… Разве не обидно, что храбрецы, героизм которых возбуждает в нас восхищение и которые имеют право рассчитывать на самую горячую благодарность с нашей стороны, в двух шагах от нас терпят нужду во всем необходимом?.. Наши женщины исполнены энтузиазма. Большинство из них страдает от бездействия. Им недостает только организации.
Пусть же генерал Клюзере немедленно откроет запись в трех бюро: вооруженного действия, помощи раненым, походных кухонь. Женщины толпами повалят туда, счастливые, что могут использовать святой огонь, которым горят их сердца…»
6
В назначенный вечер яблоку негде было упасть в просторном зале Ларшэ, что в «Кафе наций», и публика выглядела непривычно для центральных кварталов, эти простоволосые женщины парижских окраин, работницы и жены рабочих, что первыми без долгих раздумий отозвались на призыв защищать Коммуну. Что мы можем сделать? Что мы должны делать?! Ухаживать за ранеными? Они были готовы, санитаров не хватало в войсках федератов и больницы были переполнены. Кашеварить в походных кухнях? Это было необходимо, их мужья и братья, возвращаясь с бастионов, жаловались на пустые желудки, а много ли навоюешь на воде да на хлебе, а кроме того, кто лучше парижанок усвоил ту истину, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок?! Эти женщины не чурались любой работы, хоть баррикады строить, да только мужчины — ох, уж эти мужчины! — смели думать, что обойдутся без их помощи. А сами без них шагу не ступят! Разговор выносило за рамки неотложных дел.
— Кто больше страдает от теперешних неурядиц, от дороговизны, от прекращения работ? Не они, а мы! В первую очередь мы, женщины! А когда они кричат о равенстве, о свободе, о братстве, эти эгоисты имеют в виду только самих себя! Даже тем, в ратуше, им нужны подданные хотя бы одного женского пола. А какое же может быть настоящее освобождение, когда половина рода человеческого останется угнетена, верно я говорю, гражданки?!
— Прошло то время, когда они нам кричали: «На кухню, бабы!», — это высказалась Аделаида.
Елизавета ее перебила:
— Если мы хотим заняться организацией отрядов для походных госпиталей или женских рот, готовых в минуту опасности строить баррикады и даже драться на них рядом с нашими братьями, — она опасалась как бы собрание не расплылось в чувствах, горячих, но не знающих берегов, — если мы хотим действовать, надо действовать заодно. Нам нужны комитеты в округах, нам нужны помещения для них. Гражданки, предлагаю обратиться к Коммуне — пусть мужчины попробуют нас не признать!
В ответ раздались рукоплескания и крики:
— Пусть только попробуют! Мы им покажем!
Тут опять закричала Аделаида:
— А вы знаете, кто сочинил воззвание «группы гражданок»? Это она. Это Элиза! У нее талант! Пусть теперь напишет обращение к Коммуне. Послезавтра вечером опять соберемся — обсудим. Довольно тебе двух дней?
Неделею раньше она бы ни за что не поверила, что способна столько говорить и писать. А двумя неделями раньше могла бы поверить, что просто забудет, как ненадолго согласилась поехать в Париж?! Но две недели прошли (всего две недели!), и теперь она искренне удивилась бы напоминанию, что было действительно так. Но никто ничего не напомнил, о ее намерениях мало кто знал, а кто знал, у того были свои дела, поважнее. Так же, впрочем, как у нее в эти дни, после того как воззвание «Группы гражданок» появилось на стенах парижских домов…
И вот уже снова все в сборе, на этот раз в мэрии округа Тампль. Елизавета зачитывает собственного сочинения «Обращение Центрального женского комитета к Исполнительной комиссии Совета Коммуны»:
— «Принимая во внимание, что все обязаны и имеют право сражаться за великое дело народа — за революцию… что в единении — сила… что в победе в этой борьбе, имеющей целью… полное социальное обновление… гражданки заинтересованы так же, как и граждане…
(Этот чеканный слог — из Устава Интернационала, она помнит его наизусть: „Принимая во внимание, что освобождение рабочего класса должно быть завоевано самим рабочим классом…“)
— …что массовое убийство защитников Парижа… возмущает массу гражданок и побуждает их к мщению; что очень многие из них решили… сражаться и победить или умереть в бою…»
И парижским работницам этот слог пришелся по нраву, они дружно хлопают Елизавете и охотно ставят свои подписи под просьбой к Коммуне, — «во внимание» ко всему изложенному способствовать объединению гражданок Парижа.
Последней подписывается она сама.
Привычно начертав латинскими буквами; Elisabeth, рука вдруг останавливается в нерешительности. Написать Tomanowska — значит наглухо захлопнуть перед собой дверь в Россию. Никто из тех, перед кем эта дверь оставалась хотя бы вполовину отворена, не раскрывал публично своих имен, прибегая в случае надобности к псевдонимам: Бартенев — Нетов… Нико Николадзе — Никифор Г… Жаль, загодя не припасено у нее этакое лжеимя. Разумеется, можно бы подписать Ivanoff, или Petroff, или даже родовитым каким-нибудь — что тут мудрствовать лукаво, да в голове мелькнуло иное. То ли смуту парижскую чем-то сцепило с исторической русской Смутой, то ли убиенный младенец, полыхнув ужасом из-за открывшейся на миг занавески, напомнил неожиданно и все не давал позабыть окровавленный древний стоглавый Углич, только в голове отчего-то мелькнуло — лже-Дмитрий, — и потом уже следом: лже-Дмитриева, разве была минута задуматься над причиной, что заставила руку четко вывести подпись: Dmitrieff.
Так или иначе, но, едва оторвав перо от бумаги, она объявляет:
— Делегатки, поставившие свои подписи от вашего имени, передадут обращение в ратушу завтра же!
— Что будем делать дальше? — спрашивает своим громким голосом Аделаида, она уже освоилась с ролью председательницы. — Предлагайте, гражданки!
Предложение, не заставившее себя ждать, неожиданно для Елизаветы.
— Давайте споем! — молодой, звонкий голос. — Песню горячих голов. Например, Ça ira![4]
И тут же с задором выводит куплет:
На фонари аристократов, Их перевешать всех пора! Ah, çа ira, çа ira, çа ira!Елизавета подпевает довольно уверенно, как будто бы знает эту песню, да только откуда она ее может знать? Другое дело — зал, он уже подхватил и мелодию, и слова, зал поет и немного пританцовывает при этом свою кадриль, первую песню Великой революции, служившую ей гимном до появления «Марсельезы»: «Дело наладится, дело пойдет!»
И вдруг Лиза понимает, откуда, — и холодок пробегает у нее по спине. Да ведь эту песню напевала, сидя за шитьем, Вера Павловна в «Что делать?»!
Здесь, в восставшем Париже, она снова думает о Чернышевском. Какая цепочка связала парижский квартал Тампль на берегу Сены с далеким забайкальским поселком на берегу неведомой речки?!
…Мир деспотизма, умирай, Пусть равенства наступит рай! Ah, çа ira, çа ira!..Маленькая, уже немолодая женщина пробилась к Аделаиде и Елизавете.
- Çа ira, гражданки, — говорит она. — Дело пойдет! Но давайте выясним, есть здесь кто от Первого округа, от Лувра?
— Есть!
— А от Второго?
Так она называет все двадцать округов Парижа, и выясняется, что половина, даже больше, чем половина, их представлена в этом зале.
— Это Натали Лемель, — объясняет негромко Аделаида, — ты что, ее не знаешь?
А маленькая Натали, завершив перекличку, предлагает:
— Раз вы решили, гражданки, представительницы почти всего Парижа, создать серьезную организацию и готовы сражаться, примите название — Союз женщин для защиты Парижа! И поручите подготовить к следующему собранию устав своего Союза! Дело пойдет, гражданки, çа ira!
Все согласны с маленькой Натали, и Аделаида объявляет как само собой разумеющееся:
- Çа ira! Элиза Дмитриева сделает это для нас, гражданки!
7
Однажды вечером Анне удается залучить Лизу к себе, благо живут Жаклары совсем невдалеке от нее, на Монмартре. Крюк невелик.
Она поднимается в их квартиру с опозданием против обещанного, появлением своим прерывая беседу, которая, впрочем, тотчас возобновляется, а она до крайности поражена этой полузабытой картиной мирно беседующих в уютной гостиной людей.
Здесь, конечно, Андре Лео со своим избранником Мишелем — Малон с присущей ему бычьей грацией отшучивается от насмешек Жакларов, именующих его то батюшкою, то падре, то посаженным отцом. На правах помощника мэра он недавно сочетал Анну с Виктором в батиньольской мэрии законным браком.
Виктор, судя по виду, только что с бастионов или, может быть, даже с позиций — осунувшийся, еще чернее обыкновенного. Молодая русская со строгой прической, по имени Вера, совсем незнакома Лизе, но догадаться нетрудно, это о ней рассказывала, в связи с бароном Дантесом, Анна. И мужчину студентской российской наружности с небольшими светлыми усиками, с гладко зачесанными длинными волосами и пристальным взглядом Лиза видит впервые. Он представился Ковалевским, но фамилия эта ровным счетом ничего не сказала. Впрочем, все эти люди в момент Лизиного появления обречены на покорную роль публики. Даже Андре Лео. Вниманием завладела, и как будто надолго, совсем молоденькая темноволосая женщина, круглолицая, с большими близорукими глазами и необычайно живым лицом. По нему непрестанно пробегали какие-то тени, блики, гримаски, точно облака по петербургскому небу в ветреный день ранней весны. И оттого, должно быть, Лизе не сразу удалось уловить нечто очень знакомое в нем. Наконец она узнала в этом непрерывно меняющемся лице не только петербургское небо, но и Первую линию на Васильевском острове, соседский с Кушелевыми дом. Да, да, разумеется, это Софья, ученая сестрица Анны, но как изменилась, совсем взрослая! Тогда понятно, кто такой Ковалевский… Вот у них-то сложилось точь-в-точь, как у Веры Павловны с Лопуховым, действительно по Чернышевскому… оттого, его «крестники», они и вместе повсюду. У нее, у Лизы, с бедным Михаилом Николаевичем так не случилось…
Но рассказ, которым заслушались, вовсе не о Петербурге.
— На сей раз мы с Ковалевским заранее решили: объедем Версаль стороной. У нас ведь уже был опыт! В куда более благоприятное время пытались проехать в Париж легально, а что получилось? Везде отказ, до самого Бисмарка дошли. Знаете, что сказал Ковалевскому победитель-канцлер? «Это зависит не от меня!» Он, видите ли, человек слова, обещал Жюлю Фавру никого не пропускать без его разрешения — это сразу-то после перемирия! Пришлось нам тогда пробираться тайком… Вот мы и теперь поступили в точности так же…
Тогда, месяца два назад, едва проведав о перемирии, они кинулись выручать бедную Анну. Каких только ужасов не наслышались об осажденном Париже! Но Анна не только оказалась жива и здорова, она наотрез отказывалась уезжать от своего Виктора, пришлось Ковалевским возвращаться в Берлин одним — и тут из Парижа новые пугающие вести!.. Каким образом им удалось столь счастливо миновать линии прусских войск, их и самих искренне удивляло. Шли пешком, потом наняли лодку и, рискуя попасть под обстрел, незамеченными переправились через Сену… Так или иначе, но вот они здесь, невредимы и целы, и факт этот, при всей своей удивительности, тем не менее неоспорим.
Отнюдь не второстепенное во всей этой истории лицо, Ковалевский не принял, однако, участия в последовавшем ее обсуждении. Здесь, в бурлившем Париже Коммуны, его занимали куда более основательные, по его разумению, темы, о них-то он вполголоса заговорил с Верой Воронцовой. Медичка, пожалуй, более остальных могла оценить интерес Ковалевского. Нет, не только судьба отпущенной родителями из Петербурга под его присмотр свояченицы влекла его в Париж, но также собрание вымерших позвоночных, беспризорная коллекция погибшего в осаду профессора. Проглотив с утра две чашки кофе, он убегал на другой конец города в Ботанический сад, где в музее естественной истории на рю Кювье, в академической тиши, до вечера погружался в материалы раскопок, более озабоченный судьбою костей ископаемого предка лошади и многотысячелетнею эволюцией ее стопы, нежели быстротечными событиями современности. На эволюционной шкале времени что значил один месяц революционной Коммуны?..
И Софья Васильевна Ковалевская тоже повела речь о науке. Только, в отличие от Владимира Онуфриевича, не о задачах своей математики, но о том, каких трудов ей, женщине, стоило доказать свое право на эти занятия перед профессорами: в Гейдельберге, в Берлине… начала уж подумывать, не воспользоваться ли советом, когда-то полученным в Петербурге, — переодеться мальчиком, чтобы пройти на лекции в университет…
Если и Веру Воронцову такой поворот беседы затронул куда сильнее, нежели блестящие эволюционные гипотезы Ковалевского, сама нечто подобное испытала и в Петербурге, и в Париже, куда привела ее тяга к медицине, то уж об Андре Лео и говорить нечего. Она ринулась было провозглашать свои революционные воззрения на равноправие женщин, когда Малону удалось расшевелить необычно молчаливого Жаклара. Лиза не встречала его после памятного похода в штаб Домбровского. Сколько дней прошло? Всего-то с неделю. Но за эту неделю Жаклар изменился, пожалуй, больше, чем со времени их знакомства в Женеве… Ничем уж не напоминал того художника или студента, за которого его принимали тогда. Он был мрачен, устал и как-то тяжело спокоен, подавленный ходом событий. Только под вечер пришел на побывку домой из Нейи.
Отбросить версальцев за Сену Домбровскому так и не удалось. Сколько ни просил, почти не получал ни смены, ни подкреплений, тогда как силы врага день ото дня нарастали, и притом все время вводились в бой свежие силы. Пришлось оставить замок Бэкон, там на каждого из защитников приходилось по двадцать солдат… Потом отдали Аньер. Версальцы ничем не брезгуют: переодеваются в форму национальных гвардейцев, поднимают красные флаги, подают ложные сигналы, будто сдаются в плен… Все жесточе бои и в самом Нейи. Каждый дом, каждый сад по многу раз переходит из рук в руки…
— Кто дерется выше всяких похвал, так это наши артиллеристы, — продолжал невеселые свои сообщения Жаклар, — но и они ничем не прикрыты от навесного огня осадных орудий…
— Артиллерия Парижа — это социальная идея! — вдруг как лозунг провозгласила Андре Лео.
— Но едва ли одно это позволит Парижу уравновесить всю остальную Францию, как вы, гражданка, недавно утверждали в своей газете, — с неожиданной резкостью ответил Жаклар.
— Теперь-то мы все понимаем, что поднять провинцию необходимо, — Лиза попыталась предупредить спор. — Мне кажется, и Андре Лео, и Малон доказали это своим обращением к жителям деревень. «Брат!.. Наши интересы одни и те же…» — согласитесь, это уже совсем не то, с чего «Сосиаль» начала! Жаль только, что с запозданием и что все-таки не сама Коммуна обратилась к крестьянам. Кстати, составляют ли вообще такой манифест?
Ответил на это член Коммуны Малон. Только что принята декларация, от лица Парижа Коммуна обращается ко всей Франции, и, стало быть, к крестьянину тоже.
— Завтра вы все прочтете. Там раскрывается смысл революции, прямо сказано, что она означает: конец милитаризма, бюрократизма, эксплуатации, привилегий. Декларация должна стать достоянием Франции!
…Далеко за полночь, распрощавшись с хозяевами, вышли на полную весеннего благоухания улицу. Крутыми улочками спускались втроем по направлению к Батиньолю — Андре Лео, Елизавета Дмитриева, Малон, им было почти по пути.
Откуда-то снизу, из ночной темноты, донеслись глухие, неясные звуки, точно спящий у подножий монмартрских холмов город тяжело заворочался во сне. Потом с запада долетели хлопки орудийных выстрелов.
— Артиллерия Парижа — это социальная идея! — вспомнила Лиза. Что бы там ни говорили, Андре Лео все-таки была мастером фразы, революционной фразы, этого у нее не отнять; Париж воздавал ей должное по справедливости. А обращением к жителям деревень Лиза просто восхищалась. Многие места повторяла наизусть, и, расставаясь со своими спутниками, произнесла на прощанье еще одну фразу оттуда:
— Революции будут происходить до тех пор, пока они не осуществятся.
Из архива Красного Профессора
Выдержка из письма Н. Утина К. Марксу
Женева, 17 апреля 1871 г.
«Дорогой гражданин Маркс!
Я позволяю себе обратиться непосредственно к Вам, чтобы узнать, нет ли у Вас сведений о нашем молодом и драгоценном друге, г-же Элизе Томановской? С тех пор как три недели тому назад она написала мне несколько строк о своем намерении поехать с Юнгом на две недели в Париж, я не имею от нее никаких сведений… Вы были так добры и так тепло относились к ней, поэтому мне нет надобности скрывать от Вас, что мы очень опасаемся, как бы отвага и энтузиазм Томановской не привели ее к гибели, а эта утрата была бы исключительно прискорбной… Ведь нас и без того очень мало, чтобы в нужный момент послужить общему делу в России!..»
8
Вот она сказала об идее Жаклара — перевязочные отряды, а из зала ей крикнули, где же можно найти такого медикуса, чтобы согласился на это? Тут же какая-то женщина рассказала, как ее прогнали с позиций: не бабье, мол, дело, копаться в ранах, «ты женщина или мясник?!». И началось: «Они хотят оставить нас под своей пятой!» — «Что спрашивать с национальных гвардейцев, когда даже сам Прудон заявил, что женщина относится к мужчине, как два к трем, и потому, мол, должна подчиняться!»
Зал хохочет, ест, пьет, кормит младенцев, курит. А Елизавета кидает в его ненасытное чрево слова, слова о том, что женщина на поле битвы должна прибавлять мужчине и силу, и веру, что только в общей борьбе можно выковать братство между женщиной и мужчиной.
— Коммуна покончит с эксплуатацией одной половины человечества другою!
Уже изучила парижанок настолько, чтобы знать, что без звонкой фразы их трудно воспламенить. Да и дружба с Андре Лео не пропала даром. К тому же оказывалось, парижское красноречие ей самой не чуждо.
Чтобы действительно «дело пошло», необходимо привлечь к нему как можно больше гражданок в каждом из округов. Сегодня в Бельвиле, завтра в Гобелене, послезавтра в Опера — из вечера в вечер она на собраниях в округах, а их двадцать в Париже. Предлагает, организует, вербует и говорит, говорит, говорит — в залах театральных и школьных, гимнастических и казино, в пассажах, просторных, как вокзалы, и под гулкими сводами церквей. Когда высокая, стройная, в темном платье, оттенявшем бледность лица, своей быстрой походкой она поднималась на трибуну, зал притихал, любуясь гражданкой Элизой. Все больше народу собиралось послушать ее, и, конечно, не только женщины… «Они видят больше, чем слышат», — подшучивала над мужчинами маленькая Натали Лемель. Иногда перед сотней, а иногда и перед тысячей слушательниц, в окружении гимнастических снарядов или божественных ликов, Елизавета не устает говорить о походных госпиталях и кухнях, о санитарных летучках и сооружении баррикад, она старается говорить по-деловому, но волей-неволей возникают общие темы.
— Гражданки! — произносит с очередной трибуны она. — Вы, работницы, угнетены, но настал день расплаты. Завтра вы будете сами себе господа! Мастерские будут вашими, вместе с орудиями труда, вместе с прибылью — результатом ваших стараний. Пролетарки, вы возродитесь к новой жизни. Хрупкие женщины, вы станете хорошо питаться и одеваться, превратитесь в сильных матерей и дадите могучую расу!.. Коммуна покончит с эксплуатацией одной половины человечества другою. И когда она даст возможность всем гражданам зарабатывать себе на хлеб, когда более сильные мужчины перестанут отбивать у нас работу — тогда наши дочери будут избавлены от жалкой участи матерей, от зарабатывания на хлеб в пятую четверть дня, как называют в Париже эту гнусную торговлю собою, эту унизительную необходимость обездоленных.
Отзываясь на эти слова, как на выстрел, вдруг по-птичьи вскрикнула в зале гражданка в ярком платье и шляпе, выдающих ее ремесло, протянула к трибуне руки:
— А куда мне деваться? Где она, эта работа? Или Коммуна знает, как напоить ребенка завтрашним молоком? А не может дать заработок хотя бы два франка, пускай возьмет нас на жалованье национальных гвардейцев! Или, думаете, парижанка с панели дерется хуже хваленой Луизы Мишель?!
О Луизе Мишель рассказывают чудеса. Натали Лемель хорошо ее знает и жалеет, что Елизавета до сих пор не встретилась с нею. Но встретиться с Луизой сейчас трудно. Одна из организаторов женских комитетов в Париже во время осады, эта бывшая учительница и поэтесса участвовала еще в выступлении 22 января. И с первых дней Коммуны на позициях вместе со своим батальоном. Об ее отваге пишут газеты, но в городе она не бывает, даже ранение не заставило ее покинуть форт Исси, батальон. Эта гражданка не призывает к борьбе, она борется…
От накуренных залов, от длинных речей, от вечных сквозняков Елизавету по утрам лихорадит, и вот, как сейчас, накатывают приступы кашля, мучительные до слез, порою заставляя даже вспомнить судьбу бедного братца… Откашлявшись, она может наконец ответить той женщине в ярком:
— Разве вы не слыхали о Декрете шестнадцатого апреля? Что Коммуна уже начала пускать в ход брошенные мастерские? А скоро станет для безработных женщин открывать новые, в каждом округе… Кстати, на Монмартре и в здании Законодательного корпуса мастерские уже работают. Завтра же пойдем туда вместе!
Хорошо, когда она добирается до своего жилища на бульваре Сент-Уэн, на границе Батиньоля с Монмартром, к полуночи — если добирается вообще. От усталости валится с ног, иногда даже нет сил сбросить платье. С того дня, как женский Союз появился на свет, нет ни минуты отдыха. Ведь ее первоочередная обязанность поддерживать связь Союза с Коммуной и ее комиссиями… Не так-то просто приучить мужчин Коммуны к тому, что Союз женщин для защиты Парижа и помощи раненым — серьезная организация, что, если Коммуне понадобятся желающие помогать в госпиталях, а в случае нужды и на баррикадах, пусть Коммуна обратится к Центральному комитету Союза. В согласии с разработанным Елизаветой уставом, он «заседает без перерыва». Центральный комитет — это делегатки от комитетов округов, и «присутствие во всякий час дня и ночи одной трети членов ЦК плюс один обязательно». Елизавета бывает там чаще всего ночью — дня попросту не хватает.
Ее уже знают в Париже. На улице встречные говорят ей «Бонжур, Элиза», подходят, чтобы посоветоваться, рассказывают о себе. Сколько судеб раскрылось ей, сколько женских историй услыхала она в эти дни от шляпниц, модисток, картонажниц, прачек, портних, красильщиц, солдатских вдов, многодетных матерей, разбитных маркитанток, девиц с улиц Пти-Карре и Сент-Оноре… Вот и эта, по дороге в мастерскую Коммуны, в Законодательный корпус, тоже успела поведать свою жизнь, рассказать о том, как решилась на свое ремесло, чтобы прокормиться и прокормить… А Коммуна, если она лишила ее заработка, а другого не дает, может, гражданка ей посоветует, как тогда жить?..
Аделаида, та не спрашивала совета. Просто сообщила, как всегда, громогласно, что по примеру Луизы Мишель записывается в батальон. И добавила (не умеряя, разумеется, тона), что на месте Элизы поступила бы так же. «Шаспо и митральеза, ружье и пушка теперь убедительнее слов!» На какое-то мгновение Лизе показалось, что, может быть, Аделаида и в самом деле права. Сейчас, когда за городскими стенами решалась судьба Парижа, судьба Коммуны, не вернее ли всем последовать за Луизой Мишель?! А эти прокуренные залы и залпы красноречия, это налаживание мастерских — словом, социальный вопрос — отложить на потом… Ей-ей, она почувствовала бы облегчение, взяв в руки шаспо! Да только будет ли оно у Коммуны, это «потом»?.. Нет, отговаривать Аделаиду не стала, но ей возразила: шаспо не само стреляет, а пролетариям мало той цели, что у шаспо! С тех пор они не видались, и голос Аделаиды не громыхал больше. Говорили, будто она воюет где-то на западе, под началом Домбровского (в то время как батальон Луизы сражался на юге). Для себя Елизавета твердо решила: если версальцы ворвутся в город, ее место будет на баррикадах, но до тех пор работа в Союзе женщин, по крайней мере, не менее важна для Коммуны, чем служба национального гвардейца. Даже такого, как Луиза Мишель…
9
Разумеется, не одной Элизе Дмитриевой внимают парижанки — гражданки Коммуны — на своих собраниях, в своих клубах. Много выступают и давно известные Парижу Андре Лео, Поль Менк, Натали Лемель, и блистательная австриячка Рейденрет в своем костюме зуава с двумя револьверами за поясом, в лакированных сапогах, уполномоченная Союза женщин в округе Вожирар, и красавица полька Кавецка-Лодойска с такими же револьверами за поясом и в наряде не менее броском — гусарская малинового бархата куртка, шаровары, полусапожки с золотыми кистями. Далеко не все эти пламенные оратрисы представляют Союз женщин. Наряду с Союзом и его окружными комитетами действуют Наблюдательные комитеты округов, и Общество солидарности женщин, и Республиканские женские комитеты, и клубы — «Избавление», «Черный шар» и другие. Казалось бы, чем больше людей и чем больше объединений людей выступает под флагом Коммуны, тем лучше для дела Коммуны, тем активнее «дело пойдет», во всяком случае, так считают многие в Коммуне. Но не Елизавета Дмитриева. На этой почве с Андре Лео доходит до открытой стычки.
Поводом послужила афиша (повторенная потом в газете «Крик народа»), в которой гражданки Монмартра объявляли о своем решении предоставить себя в распоряжение Коммуны, чтобы организовать походные госпитали в действующем войске. Подписано было членами Наблюдательного комитета гражданок Монмартра (того самого, что прежде возглавляла Луиза Мишель), в их числе Андре Лео. Елизавета со своей прямотой без обиняков расценила это заявление как предательство, как удар в спину Союзу, тем более что следом появился и открытый призыв ко «всем гражданкам, желающим помогать Коммуне» принять участие в этом деле.
— Неужели мы не в состоянии понять, что нельзя допускать столкновений между партиями, — возмущалась Елизавета. — Неужели нас ничему не научили те истории, что произошли между Центральным Комитетом национальной гвардии и Коммуной вначале? А раздоры между советами легионов, их командирами и мэриями в округах? А неразбериха в военных делах, все эти приказы и контрприказы? Все это многовластие, за которое Коммуне пришлось и еще приходится так дорого расплачиваться? Зачем же, гражданки, нам в своем Союзе повторять эту путаницу? Нельзя быть сразу и мельницей, и печью — так, кажется, говорят французы? Разве мы сумеем чего-нибудь добиться, если будем терпеть такой хаос? Нам нужны госпитали, мы должны помогать раненым, — но, поймите, сообща, не вразброд! Единение сердец — это прекрасно, но для общественного блага необходимо единство усилий!
Елизавету дружно поддержали. ЦК Союза женщин, заседавший, согласно уставу, «во всякий час дня и ночи», потребовал объяснений от своего члена, и Андре Лео скрепя сердце согласилась, что они правы, после чего ЦК оповестил (через ту же газету «Крик народа») «всех членов Союза, что гражданка А. Лео, объяснив мотивы, которые побудили ее поставить свою подпись в постороннем нашему Союзу комитете, заявила, что не имеет более отношения к упомянутому комитету и подтвердила, что желает остаться в Союзе женщин».
Казалось бы, инцидент исчерпан. Но увы… Андре Лео признала свой промах именно скрепя сердце. Не прошло и нескольких дней, как она отправила в редакцию «Крик народа» решительнейшее письмо. А в нем печатно высказалась против смешивания «вопроса личности или отдельной группы с вопросами общего характера» — мол, в конце концов, резолюция, под которой она подписалась, ведет к той же цели, что и действия Союза женщин. Поэтому она и не думала якобы брать назад своей подписи: «подписалась без раздумья» и всегда будет подписываться «вместе со всеми теми, кто в этот критический момент, героический и небывалый, добивается торжества революции».
Ах, сколь великодушной выглядела такая позиция, как бы парящая над самолюбиями и групповыми распрями, являющая широту принципов и воззрений, не то что спрямленный подход предводительниц Союза. Но стоило вдуматься, к чему могли привести подобные несогласованные действия, становилось ясно: лишь к новой неразберихе и разнобою, и без того чрезмерным, — вот именно этим, а отнюдь не ущемленными якобы интересами Союза определилось отношение Елизаветы и к Андре Лео, и к ее выходке.
Нет, видно, не случайно она в свое время была близка к бакунистам, если опять отдавала предпочтение «единению сердец» перед «единством усилий»! А быть может, сказывалось и влияние ее Мишеля — Малона, при всех своих замечательных качествах, как-никак — одного из основателей бакунинского Альянса…
Вывод напрашивался сам собой: пути расходились.
10
Над крышами Парижа, постепенно уменьшаясь, проплывал зеленый воздушный шар — начал действовать отряд аэронавтов, — Коммуна решила прибегнуть к воздушной почте, чтобы прорвать блокаду. Эти полеты Лизе нетрудно было себе представить, вспомнить только просторное поле в предместье Женевы и стремительно уменьшающуюся фигурку знаменитого аэронавта, машущего сверху восторженной толпе… Пусть то была игра, зрелище, праздник — таким же точно способом можно распространять воззвания Коммуны, газеты, листовки, чтобы Франция наконец услышала голос Парижа.
Вместе с другими прохожими Елизавета проводила аэростат долгим взглядом, покуда он не истаял вдали в высоте, и опять пожалела о том, что невозможно отослать с ним весточку в Лондон — как направишь шар по точному адресу?.. Вот обращение к крестьянам — другое дело! Ей же можно было надеяться только на счастливый случай.
И такой случай представился на другое утро, ибо, вернувшись домой, как обычно, за полночь (хорошо, что вернулась, ведь собиралась остаться на заседании Комитета), обнаружила в дверной щели записку с просьбой быть дома в десять часов утра и с приветом от Ниту. Так называл иногда себя в целях конспирации Утин — произнося свою фамилию навыворот.
Утром в назначенное время, минута в минуту, явился незнакомый Елизавете господин. Назвался редактором из Базеля и помимо поклона от Николя передал, что Николя и его друзья очень беспокоятся о ней: «знают вашу отвагу и энтузиазм и поэтому боятся за вас».
— Николя, — продолжал гость, — сам сюда собирался, но переменил намерения.
— Но почему же?
— Не один он был готов подкрепить свою пропаганду — действием, даже жизнью, — но опасались больше повредить делу, чем помочь, если бы все головы полетели от одного удара… Посоветовались с лондонскими друзьями… Николя просил передать вам, что у них действует комитет помощи Парижу, из Женевы они пытаются поднять главные города провинции.
— Кто же в этом комитете? — поинтересовалась Елизавета и с горечью добавила: — Неужели это все, что они могут?!
— Не могу вам сказать, кто именно, но — члены Интернационала, — отвечал гость и, уже собираясь прощаться, между прочим сказал, что, к сожалению, торопится — по делам в Лондон.
Елизавета встрепенулась:
— Может быть, вас не затруднит захватить с собой письмецо?
— Мне доставит удовольствие оказать услугу прелестной даме!..
— Куда удобнее принести?
— О, не тревожьтесь, я зайду с удовольствием сам. Если позволите, — он щелкнул крышкой брегета, — в два часа пополудни.
Из «Записок Красного Профессора»
«Изучение всех сторон предмета, хоть и недостижимое полностью, предостерегает от ошибок и омертвения… На ученом, историке лежит двойная ответственность — ответственность перед современниками, для которых он доверенное лицо, посредник между ними и их собственным прошлым, хранитель общественной памяти, и ответственность перед теми, в чье время он погрузился, кто давно и безвозвратно ушел и потому беззащитен. Жертвы исторической несправедливости не единичны. К ним принадлежит, по всей видимости, и Николай Утин, в чем я убеждался по мере выявления материалов о нем.
Увы, исторические материалы вовсе не ищут раскинутых историками сетей. Канув на дно Леты, этой мифической реки времени, они покрываются слоями наносов, прячутся под корягами, и — если позволительно продолжать параллель — выудить их удается далеко не всегда и уж во всяком случае не тогда, когда требуется согласно институтскому плану.
Должно было пройти еще несколько лет, прежде чем я смог познакомиться с приведенным выше письмом Утина Марксу об Элизе (от 17 апреля 1871 г.). К столетию же Чернышевского мы могли только пересказать во многом несовершенную работу Горохова о Русской секции Интернационала, что было бы в свое время достаточно для поступления в ИКП, но для ученых „красных профессоров“ и бессмысленно, и несерьезно. Перечисленные Гороховым (при всех недочетах его книжки) вопросы, „пока остающиеся без ответа“, по сути дела, послужили отправной точкой многолетнего исследования Б. П. Козьмина. Нам же от скоропалительного доклада пришлось отказаться, но интерес к теме, поскольку она касалась „Елизаветы“, разумеется, не остыл — и не только мой и моего товарища интерес. Большую статью о ней опубликовал в „Летописях марксизма“ ленинградский историк И. С. Книжник-Ветров, а время от времени выпадал и на нашу долю улов. Так, помимо письма Утина, обеспокоенного судьбою отважной Элизы в Париже, в эпистолярном архиве Института Маркса и Энгельса было выявлено и другое, более позднее его письмо, датированное декабрем 1876 г. Содержание письма ясно говорило, что обращение Маркса к профессору Ковалевскому с просьбою помочь одной русской даме, „оказавшей большие услуги партии“, явилось косвенным ответом именно на это утинское послание. Затем (правда, много позднее) обнаружилось еще и письмо Русской секции Марксу с рекомендацией посылаемой в Лондон Элизы Томановской… Словом, мало-помалу повороты ее судьбы прояснялись. И одновременно — во всяком случае, для меня, — как на фотобумаге, опущенной в проявитель, проступала фигура ее друга и наставника Николая Утина.
В русском революционном движении конца 60 — начала 70-х годов Утин находился в числе наиболее близких Марксу людей. Активнейшим деятелем проявил себя Утин на Лондонской конференции Интернационала (сентябрь 1871 г.), выступая по многим обсуждавшимся вопросам, как международным, так и связанным со Швейцарией и с Россией, и неизменно поддерживая точку зрения Маркса (не пропустившего, кстати, ни одного заседания конференции). Выслушав сообщение Утина о нечаевском деле, конференция предложила ему опубликовать отчет. Подготовленный Утиным доклад о Бакунине для Гаагского конгресса (1872 г.) сыграл весьма существенную роль в исходе сражения за Интернационал.
В ближайшем окружении Маркса восхищались „энергией, железной трудоспособностью и умом“ Утина (как писала жена Маркса Беккеру). В бакунинском же стане он нажил себе злейших врагов, сводивших с ним счеты даже после его смерти, искажая его роль и значение в революционном движении и распуская о нем всевозможные сплетни, вплоть до обвинения в связях с царской охранкой. Эти сплетни оказались настолько живучи, что, узнав о нашем интересе к Русской секции, нашлись доброхоты, предостерегавшие нас от увлечения сомнительной личностью Утина. Поистине — клевещи, клевещи, что-нибудь да останется.
В. Н. Шульгин, член коллегии Наркомпроса и профессор истории, занимавшийся Чернышевским, рассказывал, как расспрашивала его об Утине Надежда Константиновна Крупская, встречавшая Николая Исааковича в ранней юности.
„Утин эмигрировал в 1863 году, — вспоминает В. Н. Шульгин. — Вернулся в Россию в 1880 году. Как? Нет ли в этом возвращении чего-то позорящего? Вот что, видимо, беспокоило ее.
Я еще подробнее рассказал Надежде Константиновне об обстоятельствах возвращения Николая Исааковича Утина. Он отошел от революционного движения… но никого не предал…“
С трудом оправившись после нападения бакунистов в Цюрихе, и без того измученный многими недугами (Маркс, зная об этом, помогал ему найти хороших врачей), Утин подал заявление о помиловании и разрешении вернуться в Россию. Это, разумеется, исторический факт. („Надо думать, — пишет Горохов, — что на уход Утина из революционного движения немало повлиял своего рода бойкот, которого придерживались по отношению к нему все русские течения из-за его борьбы с Бакуниным“.) Однако при учете всех обстоятельств это не дает еще оснований для обвинений в отступничестве, какие позволил себе, в частности, Горохов (не говорю уже о вышеупомянутой клевете), и не может зачеркнуть полутора десятилетий активной революционной борьбы».
11
Едва за посланцем Утина, базельским редактором, захлопнулась дверь, Елизавета, отложив все другие дела, уселась за стол. Чувствовала себя перед лондонскими друзьями в долгу.
«Париж, 24 апреля 1871 г. Милостивый государь! — начала без раздумий. — По почте отправлять письма невозможно: всякая связь прервана, все попадает в рук версальцев…»
Сообщив о многих — Огюста Серрайе и своих — попытках отправить письмо, от объяснений вынужденного своего молчания перешла к существу дела. Точнее, хотела было перейти, но не удержала упрека: «Как вы можете оставаться там в бездействии, в то время как Париж на краю гибели?»
Горечь усталости и разочарования — «как вы можете?!» — в этом упреке Елизаветы. И лишь следом — по делу: «Необходимо во что бы то ни стало агитировать в провинции, чтобы она пришла нам на помощь». Как будто в Лондоне не понимали, что это единственная надежда — распространение революционного движения на всю Францию! Но откуда ей было знать, что Маркс, даже почти разуверясь в победе Коммуны, прикладывал массу сил, чтобы разрушить ту «стену лжи», которую воздвигли версальцы. Все возможности Интернационала были пущены в ход. Не зная этого, Елизавета продолжала из города, который, как казалось ей, находился на краю гибели: «Парижское население (известная часть его) героически сражается, но мы никогда не думали, что окажемся настолько изолированными» (опять, пусть неявно, упрек!..). И дальше, по-дружески, искренне: «Вы знаете, что я пессимистка и не ожидаю ничего хорошего, поэтому я приготовилась к тому, чтобы умереть в один из ближайших дней на баррикадах. Ожидается общее наступление».
Услышь она эти слова произнесенными вслух на парижской улице, заподозрила бы в них непростительную слабость, а то и предательство… но с друзьями можно позволить себе откровенность — и вот вырвалось… Так же как жалоба на нездоровье («Я очень больна, у меня бронхит и лихорадка») — перед тем, как приняться за рассказ о своих делах:
«Я много работаю, мы поднимаем всех женщин Парижа. Я созываю публичные собрания. Мы учредили во всех округах, в самих помещениях мэрий, женские комитеты и, кроме того, Центральный комитет. Все это для того, чтобы основать Союз женщин для защиты Парижа и помощи раненым. Мы устанавливаем связь с правительством, и я думаю, что дело пойдет. Но сколько потеряно времени и какого труда мне это стоило! Приходится выступать каждый вечер, много писать, и моя болезнь все усиливается. Если Коммуна победит, то наша организация из политической превратится в социальную, и мы создадим секции Интернационала. Эта идея имеет большой успех, и вообще интернациональная пропаганда, которую я веду с целью показать, что все страны, в том числе и Германия, находятся накануне социальной революции, весьма одобрительно воспринимается женщинами. Наши собрания посещает от трех до четырех тысяч женщин. Несчастье в том, что я больна и меня некому заменить…»
По-видимому, она справилась со своей меланхолией, поскольку продолжила бодро:
«Дела Коммуны идут хорошо… — но запнулась и трезво добавила: — Только вначале было допущено много ошибок…»
Примеров этому не приходилось искать: ЦК национальной гвардии не сразу уступил власть Коммуне; к крестьянам не обратились вовремя с манифестом; назначили военным делегатом — фактическим главнокомандующим — Клюзере, несмотря на всю агитацию против него.
«Но Малон уже рвет на себе волосы оттого, что не послушался меня. На днях Клюзере будет арестован…» — последнюю фразу из предосторожности написала по-английски: мало ли что может приключиться с письмом…
Перо попалось какое-то жесткое, царапало бумагу, раздражающе скрипело и оставляло кляксы.
Суть письма она, однако, подытожила с твердостью:
«На мой взгляд, делается все, что возможно».
А закончила следующим образом:
«Я не могу говорить об этом слишком подробно, потому что боюсь, как бы прекрасные очи г-на Тьера не заглянули в это письмо, — ведь еще вопрос, попадет ли благополучно в Лондон податель этих строк, швейцарец, редактор из Базеля, который привез мне вести от Утина.
Я сижу без гроша. Если Вы получили мои деньги, постарайтесь их с кем-нибудь переслать, но только не по почте, иначе они не дойдут. Как Вы поживаете? Я всегда вспоминаю о всех вас в свободное время, которого у меня, впрочем, очень мало. Жму руку Вам, Вашей семье и семье М…» Имена порой называла полностью, а то сокращала до одной или нескольких букв: Клю(зере), Ут(ин), Ж(аклар). Имя Маркса на всякий случай зашифровала от «прекрасных очей», написала «семье М.» — и «М.» подчеркнула жирно. «…Что поделывает Женни?
Если бы положение Парижа не было столь критическим, я очень хотела бы, чтобы Женни была здесь: здесь так много дела. Лиза».
Перечла написанное. Противоречиво, нет спору. Впрочем, те, кому предназначено письмо, сумеют понять, чем вызвана эта противоречивость: отчасти это умышленно, для отвода все тех же «прекрасных очей г-на Тьера»… да и некогда править. Вообще-то хоть из-за грязи не мешало бы перебелить… Вместо этого еще втиснула между строк на первой страничке — мелко-мелко, чтобы уместилось, — между горьких строк, перед признанием в пессимизме: «Тем не менее мы до сих пор сохранили все наши позиции. Домбровский сражается хорошо, и Париж действительно революционно настроен. В продовольствии нет недостатка».
И к тому торопливо добавила постскриптум, за отсутствием места поперек листка пересекая написанное прежде:
«С Малоном и Серрайе я встречаюсь редко; каждый из нас слишком занят…»
И, вложив листки в конверт, надписала на нем условный адрес:
«Герману Ф. Юнгу, 4, Чарльз-стрит, Клеркенвелл, Лондон».
Адресат, конечно, незамедлительно передаст письмо по назначению, Марксу.
12
После собраний ее окружали плотным кольцом. Волонтерки называли свои имена, чтобы она записала. Другие же продолжали дискуссию.
— Ты мне вот что скажи, гражданка. Не будь у меня троих галчат, я бы не думала, с одинокими все ясно. А нам как быть? Муж в батальоне на крепостном валу получает полфранка — а при Баденге слесарем получал пять! Да я шила… плохо, хорошо, франка полтора набегало. А нынче клиенты — фьють! А Коммуна полтора месяца обещает… Чем нам рты у галчат затыкать? Обещаниями?
Что ответишь женщине, если она требует работы, потому что ее муж, сын, отец не может семью прокормить? Что до сих пор длятся приготовления, да и обсуждения тоже, что все еще подбирают помещения и людей: закройщиц, конторщиц, хранительниц складов? Решение открыть во всех округах муниципальные мастерские уже почти месяц как принято. А сколько открыто? Или, может быть, отвести ее за руку, как ту гражданку с панели? Такими поступками дел не наладишь. У Коммуны полно забот, да какая нужда толковать парижанкам, что главное решается сейчас за крепостными валами? Будто сами не знают… Елизавета пересказывает разговор, подслушанный вчера в омнибусе. Две женщины возвращались из траншей, со свидания с мужьями. Одна была в слезах, другая ее утешала, говоря, что не верит, что можно погибнуть, защищая такое хорошее дело. «Но даже если наши мужья не вернутся, — сказала она, — Коммуна обещала заботиться о нас и наших детях». Коммуна действительно обещала — и парижанки верят, что она сдержит свое обещание, но есть-то галчата каждый день просят, и не один раз на дню!
И кто-то уже кричит с надрывом:
— Коли при Коммуне еще хуже, чем при Баденге, на что такая Коммуна?!
Не буржуа, не предатель — парижская прачка или швея.
Натали Лемель, куда лучше Елизаветы знавшая, как живут эти люди, объясняла: в Париже фабричных работниц не так уж много. Не мало, конечно, у Бессо, у Дюзотуа, но несравненно больше надомниц, поденщиц, все эти прачки, цветочницы, портнихи. А при Баденге заработки их были такие, что в семье не могли дождаться, пока наконец подрастут дети, пойдут на работу…
«При Баденге» — означало в годы империи, при Наполеоне Третьем. Лизе уже не раз приходилось слышать эту презрительную его кличку.
— При Баденге знаешь какой был закон? Не принимать на фабрику младше восьми лет! А у тех, кому еще нет двенадцати, чтобы рабочий день не больше восьми часов… Ну-ка, вспомни себя в восемь лет! И если после этого женщины требуют от Коммуны работы — это их законное право!
Что бы она делала без своей Матушки Натали — как стала называть Натали Лемель, разделившую с ней работу в Союзе. Практические хлопоты, обеспечение лазаретов, госпиталей, походных кухонь и даже организацию мастерских взвалила на себя хрупкая Натали, подыскивала помещения и заказы, раздобывала продукты и бинты. Если у кого и был хоть какой-то опыт в подобных делах, то именно у нее. В молодости она занималась книготорговлей, потом вместе с Варленом основала потребительский кооператив «Котел». «Мармитки», дешевые столовые, пользовались большим успехом у рабочего люда и находились под влиянием Интернационала. Натали Лемель была его давним членом. Участвовала она и в создании федерации кооперативов, так что при Коммуне опыт Матушки Натали, безусловно, был очень ценен.
А пока Матушка Натали разбивалась, чтобы наладить хоть несколько мастерских, по всему Парижу собирала для них мастериц, сама Елизавета с настойчивостью требовала действий от Лео Франкеля. Не он ли первый завел с ней разговор о том, что слов сказано достаточно, настала пора дела.
Этот уравновешенный щуплый человек, чем-то напоминавший Утина и в то же время резко от него отличавшийся, быть может в первую очередь именно этой своею уравновешенностью, внушал к себе доверие. Внимательность больших темных глаз, умение выслушать, несуетная убедительная речь — все складывалось в некое впечатление надежности.
Начитанный, как профессор, этот мастеровой-ювелир точно драгоценные камни, вправлял в свою речь изречения Шиллера и Эзопа, энциклопедистов и поэтов и при том оставался деловитым, целеустремленным. «Если нет цели, не делаешь ничего, и не делаешь ничего великого, если цель ничтожна», — повторял он за Дидро и делал великое конкретно: добивался от Коммуны ограничения продолжительности рабочего дня, запрета ночного труда, отмены штрафов и вычетов из заработной платы рабочих. Он называл это — закладывать фундамент социальной республики и, будучи избран делегатом труда и обмена, по сути министром труда, заявил проголосовавшей за него Коммуне, что принял мандат, не имея другой цели, кроме защиты пролетариата.
Елизавета еще раньше торопила Комиссию труда и обмена с открытием мастерских. Теперь же прямо отправилась к делегату Коммуны. Не с пустыми руками — с «Меморандумом» Союза женщин. Накануне они с Матушкой Натали придирчиво обсудили составленный Елизаветой «Меморандум».
«Поскольку наблюдается угрожающий рост нищеты, ввиду прекращения всякой работы, — писала она, — возникает опасение, как бы женская часть населения не вернулась, вследствие непрерывных лишений, к пассивным и более или менее реакционным настроениям, воспитанным прежним социальным строем; такой возврат был бы пагубным и опасным для интересов революции».
В «Меморандуме», в сущности, содержался подробный проект перестройки женского труда — Елизавета изменила бы своей натуре, если бы ограничилась общими рассуждениями. Мало того что предлагалось организовать кооперативные мастерские, поручив это дело Союзу женщин. Проект был деловит и конкретен, чем пришелся по душе Франкелю. Она предусмотрела самые практические вещи — источники средств, и порядок, в каком их расходовать, и как определять себестоимость, и как организовать управление мастерскими, и систему заказов, и списки профессий. Что касается продукции — реальной, нужной, изготовление которой можно было начать хоть завтра, — над ее подысканием не приходилось ломать голову. Коммуна нуждалась в военном обмундировании — и ЦК Союза женщин просил о заказах и ссудах.
Но в то же время Елизавета показала бы себя плохой ученицей Маркса и Чернышевского, если бы думала лишь об узкой практичности. Важно было, что в проекте предвиделась пора, когда отпадет нужда в военных мундирах. А главное, конкретные шаги — и об этом говорилось впрямую — должны были послужить освобождению труда, обеспечению рабочим управления их собственными делами, наконец, вступлению их в Интернационал. При создании свободных производственных ассоциаций, объединяемых в федерацию под началом Союза женщин, главное было — по мнению Союза, высказанному Елизаветой, — дать работницам работу и при этом «обеспечить продукт труда самим производителям», вырвать труд из-под «ига капитала».
Франкелю даже изменила обычная его уравновешенность.
— Просто гениально, Элиза! — воскликнул он, когда прочитал это, и, заметив ее недоумение, подкрепил свой восторг авторитетом Дидро: гений живет во все времена, но люди — его носители — немы, пока необычайные события не воспламенят массу. — Сами посудите, разве социальная революция не такое событие?!
И еще он добавил, что революция выявляет гений из массы, словно опытный ювелир-гранильщик. Чтобы разглядеть в сыром сколке будущий граненый алмаз, мастеру без воображения не обойтись. Но опора этому воображению одна: мастерство. Как прекрасно сказал Шиллер: недостаточно одного непосредственного вдохновения; требуется вдохновение образованного духа!
С Малоном и Серрайе Елизавета виделась редко — о том и лондонским друзьям написала. А с Франкелем встречалась все чаще. И прежде в Комиссии труда и обмена соглашались вполне, что Коммуна должна проявить величайшую заботу о семьях мужественных пролетариев, смелых граждан, подставляющих свою грудь под пули, но дискутировали: временные это должны быть меры, вынужденные войной, или же они «должны пережить породившие их обстоятельства». Последователей Прудона тревожила нравственная сторона. Работа женщин не на дому, а в мастерских? Это, по их мнению, противоречило нравственности!.. Разве время было спорить об этом?..
Но вот «министром труда» стал Франкель — и руководительниц Союза женщин вызвали наконец на улицу Сен-Доминик-Сен-Жермен, где рядом с Комиссией труда и обмена заседали представители рабочих союзов. Вообще-то Франкель держался того взгляда, что нужна общая организация рабочих и работниц. Но большинство мужчин сражалось за Коммуну — в создавшихся условиях необходимо было позаботиться о работницах, на этом настаивали Натали Лемель, Елизавета Дмитриева и Алин Жакье, брошюровщица в типографии, представлявшая в ЦК Союза женщин округ Пасси.
Не благотворительности пришли они просить, отнюдь нет, и им удалось доказать свою правоту.
Спустя несколько дней Лео Франкель выступил на заседании Коммуны.
Обсуждался декрет о возврате заложенных в ломбарде вещей, вся парижская беднота была кровно заинтересована в этом. В трудную минуту многие прибегали к закладу, а выкупить свои вещи потом удавалось далеко не всегда. И вот Коммуна собиралась сама выкупить и бесплатно вернуть заложенную одежду, белье, мебель, книги, рабочие инструменты.
Франкель, однако, возразил сторонникам этой меры. Нет, он выступал не против нее, лишь обратил внимание членов Коммуны на кратковременность ее действия. Работа — вот что необходимо женщинам Парижа, чтобы справиться с нищетой, это даст им куда больше, чем возврат вещей из ломбарда.
— Слушая делегата финансов, заявившего, что он может располагать суммой в восемь — десять миллионов для выкупа закладов, я задал себе вопрос, не сделаем ли мы гораздо больше, доставляя работу женщинам… В самом деле, не пройдет и двух недель после выкупа вещей из ломбарда, как нищета будет та же…
И он сообщил Коммуне, что Комиссия труда и обмена намерена открыть мастерские, — так не лучше ли употребить деньги на это, чем на выкуп вещей. На что Журд, делегат финансов Коммуны, сидевший во Французском банке на мешках с золотом и дрожавший за каждое су, отвечал, что одно не исключает другого и «всегда найдется сто тысяч франков в неделю на организацию женского труда».
Наконец настал день, когда Матушка Натали привела Елизавету на открытие мастерской.
В большом зале, парадном, торжественном, где собирались сытые, довольные жизнью, разодетые люди на светские рауты или балы, среди скульптур, гобеленов и живописных полотен с изображением охотничьих и батальных сцен, полторы тысячи простоволосых женщин в блузках шили мешки по заказу Коммуны. Работу распределяла высокая красивая девушка с красной перевязью через плечо. Конечно, полторы тысячи — небольшая часть от шестидесяти тысяч парижских работниц. Конечно, шитье грубых мешков — не самая искусная и интересная работа… Но она необходима Коммуне! И женщины получат за нее плату — ее раздают каждый вечер. Коммуна платит за мешок по восемь сантимов, а прежний хозяин сколько бы заплатил?..
Эта картина общего труда, столько раз виденная в воображении, вызывает в памяти — который раз здесь в Париже — дорогие Лизе образы. Пусть рождены они далеко отсюда — этим женщинам они не чужие. Не прерывая нужной Коммуне работы, Елизавета Дмитриева пересказывает парижанкам почти наизусть чуть не целые страницы незнакомой им книги неизвестного им автора — о том, как устроилась мастерская… — затем, чтобы прибыльные деньги шли в руки тем самым швеям, за работу которых получены.
«…Добрые и умные люди написали много книг о том, как надобно жить на свете, чтобы всем было хорошо; и тут самое главное, — говорят они, — в том, чтобы мастерские завести по новому порядку…»
Сосредоточенны лица слушательниц, молодые и пожилые, цветущие и увядшие, мелькают в сноровистых руках иглы, суровые нитки привычно поддаются зубам, а Елизавета хочет еще рассказать им сны Веры Павловны, как привиделась ей во сне в поле девушка, у нее было много разных имен, настоящее же ее имя было — Любовь к людям… И еще тот сон, когда картины тысячелетий пронеслись перед Верой Павловной — от древних времен, когда люди были как животные, но потом они перестали быть животными, когда мужчина стал ценить в женщине красоту и настало царство Астарты, древне-финикийской богини, когда мужчина обратил женщину, чью красоту оценил, в свою рабыню. А потом, по мере того как мужчина становился более развит, он начал поклоняться женщине и ее красоте — но только как драгоценности, как источнику наслаждений. В этом царстве Афродиты, богини греческой, человеческого достоинства еще не было в женщине… Однако проходили века, и воцарилась христианская непорочная Дева, пред чистотою которой смирялся мужчина — но любил ее и готов был, как рыцарь, умереть за нее, покуда не прикасался к ней. Став женою его, она делалась его подданной…
— …Разве вы этого не испытываете на себе, гражданки?!
Но вослед за Астартой, Афродитой и Девой явилось во сне Вере Павловне царство новое, светлое, царство светлой красавицы, свободной женщины. Она вобрала в себя, соединила в себе, унаследовала от Астарты — наслаждение чувств, от Афродиты — упоение красотою, благоговение чистотою — от Девы, но все это вместе оказалось выше, чем было, полнее, сильней, потому что появилось в светлой красавице то, чего не было у прежних цариц, — равноправность с мужчиной, а стало быть, и свобода. Только с равным себе вполне свободен человек!
Так передавала Елизавета Дмитриева, она же Элиза Томановская, она же Лиза Кушелева (много имен было у нее…), то жительница Петербурга, то Женевы, то Лондона, то Парижа, то русская, то француженка (уж не ее ли это настоящее имя было — Любовь к людям?..), — так передавала она дорогие ей мысли парижским швеям в мастерской Коммуны, во многом похожей на ту мастерскую, какую завела в Петербурге героиня романа Чернышевского. Но, увы, отдаленный гул канонады врывался зловеще и неумолимо в этот почти осуществившийся наяву сон.
Версальская артиллерия бомбардировала окраины Парижа.
13
Пушки били по крепостным валам, обрушивались на прилегающие кварталы, сносили крыши домов, разламывали мостовые. Весь Париж прислушивался к нарастающей канонаде — но только не мэрия Десятого округа. Здесь канонаду напрочь заглушили женские голоса, после того как делегатка рабочих кварталов Бельвиля прибежала с известием о какой-то листовке — утром обнаружили работницы на дверях мастерской.
— Реакционерки! Имеют наглость заявлять от нашего имени! От женщин Парижа! — выкрикивала на заседании своего женского ЦК делегатка Бельвиля, не отдышавшись с дороги. — «Женщины Парижа взывают к великодушию версальцев»! Тьфу! Изменницы проклятые! Капитулянтки!
Когда она немного угомонилась, Элиза Дмитриева попросила рассказать о листовке повразумительнее или просто ее прочитать — отчего женщина тотчас взвинтилась снова:
— А где я ее возьму, вырожу тебе, что ли?! Бумажонку тут же сорвали и растоптали. Вот так настоящие парижанки желают примирения любой ценой!
Подходили делегатки из других округов, принося новость о таких же листовках. Похоже было, что за ночь по всему городу умудрились расклеить. И во многих местах разъяренные женщины их срывали.
Возмущало особенно самозванство: какие-то буржуазки позволили себе бить поклоны версальцам от лица женщин Парижа — стало быть, от каждой из них тоже! — такую беспримерную наглость нельзя было оставлять безнаказанной. И что это, интересно, за очередная «группа гражданок» подписала листовку? Уж не те ли опять, что месяц назад подбили парижанок отправиться в поход на Версаль и чуть было не подвели под обстрел? Просто счастье, что так тогда кончилось благополучно… А ведь тоже о примирении хлопотали!..
Так или иначе, становилось ясно, что дело нешуточное. Момент выбрали не случайно. Глубокие траншеи версальцев все ближе подползали к городским стенам. Только что был смещен и арестован, как и предвидела Елизавета, военный делегат Коммуны Клюзере. Его заменил энергичный полковник Россель, кадровый офицер. Между этими людьми было мало общего, но замена не принесла облегчения на подступах к городу. В обстановке все растущей опасности сама Коммуна оказалась расколотой, точно версальская пушка угодила прямо в нее. «Большинство», «меньшинство» — новые понятия вошли в обиход. Со своим проектом соглашения между Парижем и Версалем носилась буржуазная Лига республиканского союза прав Парижа. Газеты Парижа — те, что поддерживали Коммуну, — осуждали соглашателей, призывали к борьбе с изменниками, скрывающимися под личиною миротворцев. И тут эта неведомая «группа гражданок» со своей позорной листовкой…
Принесла ее с собою конечно же мудрая Матушка Натали, почти целехонькую, лишь надорванную по краям, — намеренно старалась не повредить, чтобы показать товаркам эту, якобы их собственную, мольбу о пощаде, о перемирии любой ценой «во имя родины, чести, человечности». Гнусные предательницы, они еще позволяли себе пачкать такие слова, взывая к великодушию версальцев!
Нет, недостаточно было растереть эту пакость под каблуками. Этим смиренницам и самозванкам необходимо было немедленно дать отпор — заступиться за честь парижских женщин! — и кому, как не их Союзу? Элиза должна ответить мерзким капитулянткам. Кто же, как не она?!
«Во имя социальной революции, во имя прав на труд, равенство, справедливость, Союз женщин решительно протестует против позорной прокламации, обнародованной позавчера анонимной группой реакционерок», — так, вернувшись к себе в Батиньоль, начала она. И представила себе шесть месяцев страданий во время осады, холодную, голодную зиму, долгие ночные очереди за куском хлеба или конины — то, что знала по многим рассказам, и как бы сызнова пережила шесть недель Коммуны — «шесть недель исполинской борьбы с коалицией эксплуататоров», тех самых, что довели до такого унижения и разорения гордый город труда. Слившись с ним, растворившись в нем, ощущая себя его нервом, его душой, его голосом, выводила она на бумаге слова — естественно, как дыша.
Взывать к великодушию подлых убийц? Требовать примирения между свободой и деспотизмом, между народом и его палачами?! «Нет!.. — от лица парижских работниц заявляла она. — Примирение теперь было бы равносильно измене… отказу от освобождения рабочего класса… прозревшие благодаря страданиям, глубоко убежденные, что Коммуна несет в себе зачатки социального обновления, женщины Парижа докажут, что и они способны проливать кровь на баррикадах, на укреплениях и у ворот Парижа… Да здравствует Всемирная социальная республика! Да здравствует труд! Да здравствует Коммуна!»
В ту же ночь Елизавета отнесла этот текст в Национальную типографию. Теперь уже печатников не приходилось отыскивать, как месяц назад… Подписанный ею — вместе с Матушкой Натали, Алин Жакье, портнихой Марселиной Лелю, представлявшей в ЦК Одиннадцатый округ, и батиньольской прачкой Бланш Лефевр — Манифест ЦК Союза женщин появился 6 мая на стенах домов.
А назавтра как бы неожиданным откликом на манифест прозвучало для Елизаветы приветствие парижским коммунарам от рабочих Женевы.
«Что бы ни случилось, братья и сестры Парижа, — говорилось в помещенном „Официальной газетой“ Коммуны приветствии, — ваше дело не погибнет, ибо это дело международного освобождения рабочих, и мы выполним свой долг, всегда и всюду добиваясь тех же целей, продолжая всегда и всюду ту же борьбу…»
И под этим обещанием, под этой клятвой, завершавшейся так же, как Манифест женщин, здравицей в честь Коммуны и революции пролетариев, среди знакомых, но уже отдалившихся от нее, как бы подернутых дымкой имен Елизавета прочла имена Николая Утина и Антона Трусова и, прочтя, обрадовалась, точно встрече с друзьями.
14
И все-таки на одну ночь она перенеслась в Петербург. В помыслах, разумеется, не наяву… Наяву большую часть той ночи провела в госпиталях, начав с госпиталя Божон, того самого, откуда вскоре после приезда в Париж прошла с похоронной процессией через весь город. С тех пор как она искала тогда Гюстава Флуранса среди убитых, она не была здесь, да и не устраивал больше Париж таких пышных проводов своим защитникам. Многое стало будничнее и привычнее за полтора месяца боев у городских стен — в том числе гибель людей.
Чем больше снарядов обрушивалось на городские укрепления и окраины, чем ожесточеннее становились бои на подступах к Парижу, тем теснее становилось в палатах и все больше ощущался недостаток докторов, фельдшеров, санитаров. Не хватало бинтов, не хватало лекарств, не было даже санитарных карет — их успели угнать версальцы. Старый революционер Трейяр, поставленный Коммуной во главе управления лазаретами, делал все, что мог, и даже больше, чем мог, взамен многих сбежавших призвал на выручку врачей-добровольцев и, разумеется, рассчитывал на помощь женского Союза по уходу за ранеными. Сама жизнь заставляла Папашу Трейяра признать влияние Союза без оговорок…
Новая больница «Божий дом», куда Елизавета направилась из Божона, находилась возле собора Парижской богоматери. Надеялась встретить там Анну. Вместе со своей ученой сестрицей и Верой Воронцовой она должна была дежурить в эту ночь. Собственно, именно ученую сестрицу, Софью, торопилась повидать Лиза, поскольку та, по словам Анны, собиралась вместе со своим Ковалевским возвращаться ради научных занятий в Берлин. «Они рассчитывают, что Коммуна продержится еще месяца два», — объясняла Анна. Не следовало упускать редкую оказию переправить письма с этими «крестниками» Чернышевского — и в Лондон, и домой в Петербург… Но первое же, что увидела Лиза в больничном вестибюле, отвлекло ее от цели. Невозможно было пройти мимо белой афиши, возвещавшей о новых порядках в новом доме.
Приказ, подписанный стариком Трейяром, гласил: необходимо «увековечить память тех, кто жил и умер за народ, отстаивая благородные цели и высокие идеалы социализма и братства». Предлагалось переименовать в «заведениях, подведомственных управлению» все палаты, залы и коридоры. Исполнительность нового директора больницы (он недавно был назначен Коммуной) являла себя в первом же коридоре. Имя святого затерли известкой, а поверх навели красным: «Коридор Прудона». Оттуда Елизавета повернула в «Коридор Бланки», а с Анной повстречалась в конце «Коридора Барбеса».
Волонтерок нетрудно было отличить от больничных сестер и сиделок. Среди черных, до пят, монашеских одеяний блузки и платья тотчас бросались в глаза. В «Божьем доме» за больными и ранеными ухаживали послушницы-августинки из расположенного поблизости монастыря, и, судя по некоторым добавлениям к их туалету, новый директор нашел с ними общий язык. Помимо нарукавных повязок с красным крестом их черные одеяния украшали красные бантики, шарфики, ленточки. А ведь в клубах требовали замены монашек, одна гражданка даже кричала, что их надо в Сену за то, что травят и морят раненых…
Если не считать появления простреленного в грудь гвардейца, ночь выдалась сравнительно спокойной. Беднягу принесли откуда-то из-под Исси. Теперь центр боев переместился с западного участка обороны на южный. Самые сильные стычки происходили там. Больничный омнибус, каждый вечер под пулями прорывавшийся в форт Исси, возвращался оттуда переполненный ранеными. А убитых вывозить было не на чем и не было возможности хоронить. По рассказам, тюремные камеры форта набивали трупами до потолка.
Волонтеркам все это сообщили сиделки-монашки. Обращались те главным образом к Вере, — видно, уже успела себя показать; естественно — наиболее умелая, Анна с Софьей у нее в ассистентках. К ним теперь присоединилась и Лиза. В свое время Софья без большого усердия отнеслась к занятиям в Медико-хирургической академии и теперь не переставала сокрушаться об этом.
Да, вырвавшись из-под родительского крыла в Петербург, она оказалась в кружке нигилистов, куда ввел ее «брат», и сразу же начала посещать лекции в Медико-хирургической академии у Ивана Михайловича Сеченова…
— Это муж Маши Боковой? — названное Софьей имя воскресило у Лизы в памяти рассказ Наты Утиной.
— Вы знаете Бокову?!
— Как Веру Павловну Розальскую только…
— Как Веру Павловну Лопухову, — поправила Софья.
А Вера Воронцова спросила:
— Не известно ли каких-нибудь новостей о судьбе Николая Гавриловича?
— Мы бы у вас хотели об этом узнать, — заметила Анна. — Вы, Лиза, когда последний раз наведывались в Петербург?
— Два года назад, на рождество…
— Ну и мы с Софьей два года тому как оттуда….
— Ведь срок Чернышевскому еще прошлым летом вышел, — сказала Вера.
— Вот в том-то и дело!..
— А что, интересно, как вы думаете, знают у нас там что-нибудь о Коммуне? — спросила Анна.
— Разумеется, знают! — воскликнула Софья. — Брат еще в Берлине цитировал рассуждения «Русских ведомостей» о последствиях разгорающегося пожара, если власть захватит партия красных республиканцев, способная навести трепет на собственность!
А Вера Воронцова сказала, что своими глазами видела письмо из России, будто в Петербурге немало явилось приверженцев Коммуны и даже распускают среди студентов листки о начале мировой революции, которая-де, облетев из Парижа все мировые столицы, побывает и в нашей мужичьей избе!
— Уж не выздоравливает ли публика от того отвращения, что вызвала в ней нечаевщина, — не то спросила, не то предположила вслух Лиза. — А коли так, то не благодаря ли, хоть отчасти, Коммуне…
И как будто бы безо всякой связи поинтересовалась, не обращаясь напрямик ни к одной из своих собеседниц:
— Не знаком ли вам, по случайности, человек по имени Павел Ровинский?..
Но вместо ответа на свой вопрос услышала вопрос Софьи.
Выглядывая в окно, где на фоне ночного неба темными тенями проступали крылатые силуэты химер на громаде собора, Софья спросила:
— Неужели мы с вами вправду жили бок о бок в Первой линии, на Васильевском острове? Вы можете сейчас в это поверить?!
15
На улицу вышли группой, вместе с Франкелем, продолжая на ходу досказывать то, чего не успели на заседании. Покончив с обязанностями делегата Коммуны, Лео, как и другие ее члены, обычно спешил на позиции, за городские укрепления, — исполнить свой долг национального гвардейца. Но тут заговорились допоздна, отправляться в батальон уже не имело смысла. Дорогой группа мало-помалу распалась, и где-то возле площади Опера они остались вдвоем, Элиза и Лео.
— Присядем, — увидев незанятую скамью на бульваре, предложил он и достал из внутреннего кармана конверт: — Я хотел бы, чтобы вы познакомились с этим…
Письмо было из Лондона, Франкелю и Варлену. От Маркса. Маркс сообщал, что в провинции начинается брожение, но движение, к несчастью, носит слишком местный и «мирный» характер. Сетуя на то, что Коммуна много времени тратит на мелочи и личные счеты, он призывал наверстать потерянное время, скорее сделать все необходимое за пределами Парижа, в Англии или в других странах. Он предупреждал, что решающий удар по Коммуне может быть нанесен версальцами после окончательного заключения мира, призывал к осторожности, так как Пруссия предоставит версальцам все возможности для того, чтобы облегчить им скорейшую оккупацию Парижа.
— Не думаю, что нужно афишировать нашу переписку, — сказал Лео, — но вам, Элиза, следует знать, что вопреки всем препонам, а отчасти и благодаря нашим с вами усилиям в Лондоне достаточно ясно представляют себе обстановку… и делают для нас многое.
Она просмотрела письмо еще раз, прежде чем возвратить.
— Понимаю, — сказала. — Значит, надо писать туда чаще!
На это он улыбнулся:
— Вы способная ученица, никогда в вас не сомневался.
Уходить не хотелось — ни ей, ни ему. В этот дивный по-летнему вечер казалось, будто на парижском бульваре… рождественские елки! А это каштаны светлыми свечами соцветий напоминали их в полумраке — во всяком случае, Лизе.
Глядя на слабо освещенную синеватым газом громаду пышного здания напротив, Лео сказал:
— Вы знаете, я ведь был в этом дворце. Больше всего меня поразила там парадная лестница, даже ее перила. Этот нежный, полупрозрачный, как бы освещенный внутренним светом, алжирский оникс… Вы, пожалуй, и не заметили бы его.
Теперь настала ее очередь улыбнуться:
— Ваша профессия дает себя знать… И, боюсь, не в одних таких наблюдениях. Ваша точность и четкость, и, если хотите, надежность, наконец-то я догадалась, откуда в вас это. Вы внушаете к себе доверие как ювелир, вы и ваши слова. Но что привело вас к Товариществу? К Коммуне? Я, когда услыхала, что вы ювелир, сразу вспомнила бриллиантщика с Невского проспекта, которому продала свои украшения перед отъездом… Ну и ну, думаю, что могло привести этого человека к Коммуне?! Потом-то узнала, что мастеровой-ювелир и бриллиантщик петербургский далеко не одно и то же! И все-таки!
— С не меньшим основанием можно задать этот вопрос вам, дорогая Элиза. Но не делал этого и не делаю, хоть и до меня доходило, будто вы из русских помещиц, или это неправда? Разными путями приходят к мысли о несправедливости существующего порядка. А ювелир за своим верстаком — не только в ремесленной мастерской, как в моем родном Будапеште. Знаете, сколько рабочих в здешней фирме «Кристофль» на улице Бонди? Без малого полторы тысячи! Да, я зарабатывал, прямо скажем, по-княжески здесь, в Париже. И по тридцать франков в день, и по сорок! И это за три, от силы за четыре часа, так что оставалось время и для работы в Интернационале, и для статей в немецкие рабочие газеты. А желаете знать, благодаря чему? Все благодаря спросу на бляхи при дворе его величества! Профиль великого дядюшки мне по ночам снился и орел напыщенный с этим девизом, тыщу раз гравированным мною: «Честь и родина»… Сам великий канцлер Почетного легиона не держал столько крестов, сколько я!.. Какие драгоценности проходили через эти руки! Вы спросите, можно ли не задуматься, когда берешь в руки, к примеру, алмаз, что стоит оправить камень — больше его никогда и не взять, и не увидеть ни блеска его, ни мерцания, как не видел больше добытого им оникса горняк из алжирских копей или мастер-гранитчик, строитель этого дворца!.. А владеть и любоваться этими бриллиантами белой, синей, зеленой воды, — он увлекся, его речь потеряла обычную неторопливую уравновешенность, а большие глаза заблистали сами, точно черные камни, — этими кольцами, ожерельями, колье, диадемами станут люди, приобретшие их из прихоти за прибавочную стоимость, выжатую из моих братьев по классу, — ведь я не только задумывался, я искал ответа на свои мысли и находил — в книгах. Прав Дидро: люди перестают мыслить, когда перестают читать. И глаза мои отмечали все это, а щека не забывала хозяйской отметины — пощечина горела на ней еще с будапештской поры. И когда я понял, что в этом мире рабочему человеку уготована роль ягненка из эзоповской басни, я сказал себе: нет, Лео, это не для такого, как ты!
— А что там случилось у Эзопа с ягненком? — спросила Лиза.
— Ну как же! К ручью пришли напиться волк и ягненок. Волк сказал, что ягненок мутит ему воду, хотя тот стоял по течению ниже. Напрасно ягненок пытался доказывать, что ручей не может течь вверх — ничто не могло его спасти, раз волк приготовился его съесть и только искал предлога!..
…Они вдыхали живительный воздух этого вечера, и бульвара, и разговора, этого оазиса среди вечного напряжения, в каком жили, — и когда наконец расстались с бульваром, не нашли в себе сил сразу распрощаться друг с другом. Продолжая разговор, добрели до ее дома, и, пожелав министру Коммуны доброй ночи, его спутница произнесла:
— Я бы с радостью предложила вам чаю, но, извините, время позднее, да и устала я очень.
Эта фраза вылетела как-то сама собою, не однажды говоренная ею, правда, не повторявшаяся давно. Она, как ножницами, отстригала иной раз чересчур бесхитростные надежды, ведь по приезде в Париж поначалу не часто удавалось возвращаться без провожатых, во всяком случае, пока не оказалась под защитою слуха, связывающего ее с Малоном (о чем ее тогда со смехом оповестила Андре Лео). Мужчины Коммуны оставались французами и, при всей своей обращенности к социальной идее, ни за что не желали поверить, что юная, красивая, свободная, она могла оставаться одинокой в эту упоительную весну. Что ж, Малон так Малон, пусть служит его имя в Париже точно так же, как имя Утина послужило в Женеве…
Но министр Коммуны в ответ на ее слова только замахал руками:
— Какой там чай за полночь! Приятных снов, Элиза, салют и братство!
«Если мы, чей принцип — социальное равенство, ничего не сделаем для рабочего класса, то я не вижу смысла в существовании Коммуны». Так заявил перед Коммуной Лео Франкель. От ее имени он поручил двум членам Интернационала обследовать условия труда там, где шили обмундирование для национальной гвардии. Что же выяснилось? Интендантству Коммуны оно обходилось теперь дешевле, чем раньше, поскольку поставщики, выхватывая друг у друга заказы, сбивали цены!.. При этом жертвовали в первую очередь, конечно, не собственной прибылью, а оплатой рабочих… Даже работницы кооперативных мастерских (чего стоило их создать, никто не знал лучше Елизаветы и Натали) оказались беззащитны перед волчьими законами рынка. Безработица, отсутствие того «мощного импульса», который должны были получить расстроенная за время войны с пруссаками промышленность, «прерванный труд, парализованная торговля» (как это обещала Коммуна в своем первом декрете и о чем Елизавета прочла в день приезда в Париж), — все это ухудшало положение и тех, кто еще не лишился работы. Расценки неуклонно снижались, заработки падали, рабочие громко протестовали: им труднее и труднее становилось сводить концы с концами.
О результатах обследования Франкель докладывал Коммуне в сложной обстановке — после бегства военного делегата Росселя. Но красок не смягчал: «Эксплуататоры пользуются народной нищетой, а Коммуна так слепа, что содействует подобным махинациям!..»
На сей раз Коммуна не стала медлить. Согласно принятому декрету отныне при заключении договоров следовало отдавать предпочтение кооперативным рабочим ассоциациям, которые будут сами участвовать в составлении договора; и уж, во всяком случае, минимальная зарплата должна обязательно быть заранее обусловлена. Опыт ясно показывал: объединения рабочих в пределах одной мастерской, по Прудону, недостаточно для защиты их интересов. Необходимо соединять кооперативные товарищества в союз… И Франкель, и Елизавета это сознавали, разногласий между ними, к счастью, не было, действовали сообща.
Если еще тлела искорка надежды, она погасла окончательно после отставки Росселя.
О его письме-обвинении Елизавета узнала не со слов друзей, как узнавала о многих событиях в Коммуне, — она, как любой парижанин, могла ужаснуться, прочитав собственными глазами в газетах заявление военного делегата Коммуны. Он объявлял себя «неспособным нести далее ответственность за командование там, где все рассуждают и никто не хочет повиноваться».
«…Чтобы извлечь из этого хаоса организацию, дисциплину и победу… для меня существуют лишь две линии поведения, — продолжал военный делегат, — или уничтожить препятствия на моем пути, или удалиться. Я не уничтожу этих препятствий, так как они в вас и в вашей слабости, а я не хочу покушаться на народный суверенитет. Я удаляюсь и имею честь просить вас дать мне камеру в Мазасе».
Со слов же друзей Елизавета узнала, что, несмотря на просьбу о тюремной камере, тем же вечером Россель бежал из-под стражи — в то время как Коммуна обсуждала его дело.
Да, уже не оставалось иллюзий относительно исхода борьбы. Но бежать, спасая свою шкуру?! Дезертирством из национальной гвардии женщины возмущались на каждом собрании, готовы были сами вылавливать трусов, этих крыс, что прячутся по домам, как по щелям, да еще нагло смеются над теми, кто подставляет головы под пули. Дезертирство военного делегата нельзя было не осудить. Но точно так же нельзя было не понять причин ужасного поступка. Сколько раз Елизавета сама пыталась «извлечь из этого хаоса организацию»… в сущности, чуть ли не все, что она делала, было направлено к этой цели. Смерть на баррикадах не страшила ее, об этом еще в Лондон писала. Но близость развязки диктовала другое. Следовало торопиться! Во что бы то ни стало довести начатое если не до конца — это уже, судя по всему, не удастся, — то по крайней мере до какого-то ощутимого результата, закрепить то немногое, что достигнуто, чтобы опыт, социальный опыт этих лихорадочных, вдохновенных, кровавых недель пускай уже не для Коммуны, так хотя бы для будущего не пропал даром, надо было торопиться, лихорадочно торопиться — лишь бы успеть!..
Еще до того, как Коммуна утвердила декрет о минимальной зарплате, Союз женщин собрал в мэрию Десятого округа, где заседал его ЦК, наиболее умелых работниц — обсудили, что предпринять, чтобы «активизировать и перестроить труд женщин Парижа». А действовавшая при делегате Коммуны Франкеле Комиссия по обследованию и организации труда — как раз в день бегства Росселя — поместила в «Официальной газете» объявление об общем собрании представителей ото всех рабочих корпораций. «Особенно призываем мы гражданок, чья преданность социальной революции является таким ценным подспорьем… — говорилось в извещении. — Пусть труженицы различных профессий — бельевщицы, прачки, шляпницы, цветочницы, модистки и другие — объединяются в синдикаты и направляют своих представителей в Комиссию…»
Через несколько дней на этом собрании Натали Лемель и Алин Жакье были выбраны в исполнительное бюро Комиссии, а Центральному комитету Союза женщин поручили организацию женских профессиональных союзов, да и все дело обеспечения работой безработных парижанок. «Меморандум», составленный Елизаветой, претворялся в жизнь… Тут же — следовало торопиться! — окружные комитеты Союза стали регистрировать безработных, не исключая и тех, у кого не было даже десяти сантимов заплатить членский взнос в Союз. А день или два спустя — торопились! — по городу расклеили афишу: Союз женщин созывал всех работниц Парижа в помещение биржи для образования «синдикальных палат» — объединений работниц одной профессии, которые в свою очередь пошлют делегаток для создания «Федеральной палаты работниц» — их общего профессионального союза. «Извлекая из хаоса организацию», Элиза Дмитриева твердо держалась намеченного пути… «Обращаться за всеми справками, — говорилось в афише, — в ЦК Союза женщин, организованного и действующего во всех округах». И рядом с подписями руководительниц Союза (Лемель, Жакье, Дмитриева и другие) афишу скрепляла подпись делегата Коммуны Франкеля.
Какая дерзость, какая революционная дерзость собрать в этот мрачно-торжественный зал парижскую голытьбу, да к тому ж еще женского пола, чтобы предать анафеме капитал в его собственном храме! Как, должно быть, были ошарашены вчерашние биржевики, точно тени болтающиеся без дела на широких лестницах помпезного здания, вздыхая по былым операциям, по туго набитым бумажникам, при виде всех этих блузок и юбок. Чего только не перевидали на своем веку его стены! Создавались и рушились состояния, вознося на Олимп одних толстосумов и опрокидывая в небытие других… Но его величество капитал никогда еще до Коммуны не оставался на парижской бирже в накладе.
А в этот день, или, точнее, вечер, в среду 17 мая 1871 года, здесь речь идет о союзе работниц, в устав которого Элиза Дмитриева предлагает прежде всего записать, что каждый член этого объединения «уже тем самым является членом Международного Товарищества Рабочих»… Она твердо держалась направления, обозначенного ею в письме в Лондон: превратить Союз из политической организации в социальную, ей виделась целая система соединения пролетарок всех стран: мастерская — синдикальная палата — Федеральная палата — Интернационал… Уж в том, что она бережет силы при осуществлении своих планов и замыслов, никто не посмел бы упрекнуть Елизавету. Откуда только они брались, эти силы? Мучительный затяжной бронхит не устоял перед благотворным щедрым солнцем парижской весны — и перед двадцатилетним организмом… Но знакомый еще по Женеве человек, встреченный здесь случайно, едва узнал ее, настолько она изменилась за эти несколько месяцев (а на самом деле, скорее всего, за несколько парижских недель)…
Чтобы завершить объединение, новое собрание работниц было назначено на воскресенье 21 мая на площади Лобо, в зале празднеств мэрии Четвертого округа — по совпадению, именно там, где месяцем раньше завершили организацию Союза женщин.
16
Собрание 21 мая назначали с таким расчетом, чтобы участницы могли потом попасть на концерт в Тюильри. Приходилось отдавать дань парижским нравам, которых Елизавета не могла еще ни понять до конца, ни принять. Эти концерты в пользу вдов и сирот в королевском дворце, в том самом зале, где какой-нибудь год назад блистал драгоценностями императорский двор и восседал на троне Баденге и откуда он бежал со своей камарильей, становились прямо-таки традицией Коммуны. Впрочем, как заметила Андре Лео, эти стены видели фигуры и покрупнее. Что Наполеон «Малый»! Здесь жили последние Людовики и Наполеон Первый, здесь заседал Конвент… На одном из концертов Елизавета была, но, понятно, не с Андре Лео — прямо с заседания ЦК утащила Матушка Натали.
По аллеям, освещенным красными фонариками, мимо задрапированной красным открытой эстрады они прошли во дворец. Коммуна переживала, быть может, один из самых критических моментов, а здесь огромный, двусветный, сверкающий позолотой карнизов, залитый огнями свисающих с потолка люстр зал был полон народу, и длинные галереи вдоль стен тоже были полны. Повсюду виднелись мундиры национальных гвардейцев. Платья женщин были скромны, украшенные лишь полученными при входе значками в виде фригийских колпаков. Бросались в глаза шарфы членов Коммуны. Многие из них пришли на этот концерт. Перед началом оркестр сыграл «Марсельезу», затем поэты читали революционные стихи, певица Морио исполнила «Республиканскую песню», а певица Розали Борда вышла на сцену опоясанная красным шарфом и показала целый спектакль.
Пока она поет песню, уже прославившую ее, из-за кулис ей передают свернутое знамя, и она, продолжая петь свою «Чернь», развертывает красное полотнище и медленно окутывает им себя. Эта женщина с распущенными по открытым плечам волосами, в красном одеянии — как символ Коммуны, и весь зал с восторгом подхватывает за ней припев, голос Елизаветы тоже в могучем хоре, растворяется в нем, вместе со всеми ощущает она себя частичкой «черни» Парижа, крупицею общей силы, песчинкой в смерче, каплей в море:
Так это чернь? Я к ней принадлежу!Побывав на тюильрийском концерте, Елизавета готова была признать его пользу не только для вдов и сирот. И все-таки беспечность вечернего Парижа, над площадями которого темноту то и дело прочерчивали огненные полосы версальских снарядов, не могла ее не удивлять. Впрочем, не только вечернего. Целые дни кипела Пряничная ярмарка за Сент-Антуанским предместьем на площади Трона, пасхальная ярмарка с тысячелетней историей. Кружатся карусели, подлетают к небу качели, циркачи зазывают в свои балаганы, и те самые женщины, которые накануне требовали на собрании в своем клубе нагнать страху на версальцев и контрреволюционеров, — эти самые кровожадные мегеры, как называют их версальцы, простодушно ахают над смертельным номером акробата, взвизгивают на качелях. Ну а вечерами ломятся от народа театры — цены на билеты снижены! — и парижане надрываются со смеху на комедиях и водевилях, а после спектаклей толпа заполняет бульвары и кафе, и близкие разрывы снарядов мало кого тревожат.
Елизавете трудно привыкнуть к нравам Парижа.
И она не в силах понять, как это Коммуна, наравне с мерами по обороне города, по борьбе с врагами, по рабочему самоуправлению, может обсуждать — и, по словам Лео Франкеля, не менее бурно — декрет о театрах, с которым, пожалуй, можно бы и повременить до более спокойной поры.
Она заговорила об этом с тем женевским знакомым, с которым случайно столкнулась при выходе из Тюильри.
— Париж остается Парижем, — развел руками Александр Константинович, бывший поручик, но добавил, что человеку, давно не бывавшему здесь (а он как раз давно не бывал и только на днях приехал), бросаются в глаза перемены.
Неожиданно для себя самой Лиза обрадовалась встрече. По дороге к своим меблированным номерам, куда бывший поручик, разумеется, отправился ее провожать, принялась расспрашивать о житье-бытье, о знакомых. Целый век, казалось, минул, как уехала из сонной Женевы. В ее, Лизиной, жизни события громоздились одно на другое, а там, во всяком случае, по картине добрейшего Александра Константиновича, не случилось почти ничего. Разве что колония русская захирела заметно, Утин, можно сказать, лишился своей женской свиты, что, естественно, поубавило Александра Константиновича к нему интерес… ну а в утинские конспирации, коли Лизавета Лукинична забыть не изволила, он и прежде не особо мешался. Но какой-то там комитет у них тайный образовался для поддержки Парижа, на собраниях только и разговоров что о Коммуне, разумеется, все за нее, даже приняли громкое обращение («Да, я знаю, — перебила его Лиза, — женевское обращение, оно у нас напечатано было»); между собою же все обсуждают, следует ли отправляться самим в Париж или правильнее для интернационального дела оставаться каждому на своем месте, чтобы не потерять все головы разом…
— Но все-таки что они просили вас передать? — несколько задетая таким тоном, опять прервала его Лиза. — Как напутствовал вас Николя Утин?!
— А как он мог напутствовать, коли ни одной живой душе не известно было, куда я собрался? Как-никак человек свободный.
— Но простите, почему же вы в таком случае здесь, человек свободный, в столь, — она было замялась, — в столь неподходящее для свободного путешествия время?
— Я — за вами! — выпалил бывший поручик.
Она от изумления точно споткнулась.
— То есть как это так, — обернулась круто к нему, — за мною?!
— Не сердитесь, позвольте вам объяснить, послушайте старого вояку…
Как только версальские газеты с письмом Росселя дошли до Женевы — а поместили они письмо целиком, не скрывая злорадного торжества, — Александр Константинович понял, нетрудно было понять, — дни восстания сочтены, и немедля собрался в дорогу. А приехавши, стал искать Лизавету Лукиничну Томановскую и ко дню, как на публичном собрании в клубе услыхал наконец Элизу Дмитриеву, успел уже убедиться в собственной правоте. Да и долго ли — в здешней-то обстановке! Париж вновь осажден. Неприятель вплотную стоит у крепостного вала, приготовился к штурму. Укрепления рушатся под двойным огнем: ближним — штурмовых батарей и дальним — с фортов. Развалины у ворот Майо он видел своими глазами. Бастионы сползли во рвы, туннель завален, пушки лишены прикрытия… спору нет, они пока еще отвечают огнем на огонь, там черный от копоти матрос палил сразу из двух пушек — не увидел бы сам, не поверил бы, что такое возможно! Но не менее удивительно и то, что чужак, иностранец, сумел побывать на укреплениях. Это, Лизавета Лукинична, много о чем говорит!.. Как и то, что позади городской стены не существует внутренней линии обороны, он, во всяком случае, не обнаружил ни малейших следов…
Она слушала «старого вояку», как он того попросил. Не мешала ему высказаться до конца. А когда он умолк, сказала:
— Слава богу, вы все это объяснили не по-французски. Иначе следовало бы поставить вас… к стенке!
— Но это, клянусь вам, святая правда!
— И к тому же, увы, не новость, — проговорила она спокойно.
— Господи, Лизавета Лукинична, посмотрите же на себя, что с вами сталось, извели себя, одна кожа да кости, да лихорадка в глазах… как у Томановского Миши точь-в-точь! Пожалейте себя, — он буквально взмолился, — ну что вам до здешних безумств? Неужели у французов без вас своей крови не хватит?!
— И это я уже слыхала от вас в Женеве! Но не вы ли, милейший князь, помнится, там же выражали готовность умереть за свободу?! У вас есть возможность сдержать слово. Обратитесь к Домбровскому, у него на вес золота каждый опытный офицер. Или, думаете, он хуже вашего представляет себе обстановку?
— За свободу? Пожалуй… но только и от царя, и от Бакунина, и, кстати, от Делеклюза! — ее насмешливое обращение ничуть не задело его, о Домбровском же он как будто и не расслышал. — Ото всех губителей жизни — и от преобразователей ее тоже… Ведь без жизни свобода — что бокал неналитый. Нам отпущено так немного…
Потом вдруг спросил:
— Вы знакомы с Домбровским? В молодые годы мы с ним тоже на Кавказе встречались, — и внезапно переменил направление разговора, видно, вспомнив женевские споры: — А ведь тут, пожалуй, и свои бакунины, и нечаевы объявились, не так ли? Пиа Феликс, тот же Россель, Клюзере?.. А Рахметова, вами возлюбленного, вы увидали наконец во плоти в Париже?
— О покойном Гюставе Флурансе вы слышали, князь? — на вопрос вопросом ответила Лиза.
Поднялись на Монмартр, к бульвару, что отделяет его от Батиньоля, и тут, возле дома, она протянула бывшему поручику руку.
— Доброй ночи. Я бы с радостью предложила вам чаю, но, извините, время позднее и устала я очень.
Александр Константинович не стал, разумеется, отвечать на слова Лизаветы Лукиничны двусмысленностями, подобными той, что готов-де открыть ей секрет, как забыть об усталости и поздней поре (случалось выслушивать и такое). Напоследок спросил лишь о Томановском, на что Лиза только махнула рукой: какие, мол, известия могут быть здесь, в Париже, одно совестно, что не выбралась до сих пор отвезти его снова в Альпы…
— Разве это ваша обязанность? — удивился бывший поручик. — Вы ему обещали?
— Я привыкла отвечать добром на добро…
— Что терзаться… — он вздохнул. — Вы же знаете, Томановский не жалости у вас ищет, а того, чего нет у вас для него… и не для него одного, — и докончил, как выпалил: — Вы постриглись в революционерки, как будто в монашки!
— Какая нелепица! — до этого не додумывались даже французы… продолжать разговор в таком духе она решительно не захотела: — Доброй ночи вам, сударь!
А он приложился к ручке и миролюбиво сказал:
— Вы дадите мне знать, когда соберетесь? А я подожду. Я без вас, Лизавета Лукинична, не уеду.
— Вам придется, князь, надолго задержаться в Париже…
И вспомнила про Ковалевских, приезжавших за Анной. Они уехали, полагая, что Коммуна продержится еще месяца два.
— Если вы такого же мнения, то, поверьте, заблуждаетесь вместе с ними, — заметил он на прощанье и попросил не называть его князем.
В воскресенье, после собрания в мэрии Матушка Натали опять повела ее на тюильрийский концерт. По зеленым аллеям прогуливались одетые по-весеннему парижанки.
Основательницы женского профсоюза Парижа отправились туда шумной компанией… Опять федераты с ружьями у дверей, опять величественный Зал маршалов, красный бархат портьер, лозунги: «Народ! Золото, которое струится в изобилии по этим стенам, добыто твоим потом!», а под лозунгами — портреты полководцев, славы Франции. Этот воскресный концерт превзошел размахом все предыдущие. Собралось, говорили, шесть тысяч человек. Опять блистали Морио, Розали Борда, и многотысячный хор подхватывал «Марсельезу». А под конец на дирижерский помост поднялся офицер с саблей на боку и объявил напряженно внимавшему залу:
— Граждане! Тьер обещал войти в Париж вчера. Тьер не вошел и не войдет! Я приглашаю вас сюда в следующее воскресенье на следующий концерт в пользу вдов и сирот Коммуны.
Увы, он жестоко обманывался, этот бравый офицер. В тот самый момент, когда он, поигрывая саблей, произносил свою краткую речь, передовые части версальцев вступали в Париж.
Из «Записок Красного Профессора»
Тетрадь моя с надписью «Елизавета» постепенно заполнялась, даже потребовала продолжения после того, как стали приходить ответы на публикацию обращения в «Правде».
«…Могу сообщить следующее:
Настоящая фамилия „Тумановской“ — Кушелева. Тумановская — как и Дмитриева — конспиративный псевдоним, это я знаю наверное, так как в 1874―1875 гг. по возвращении своем из-за границы Елизавета Лукинична Кушелева недолгое время жила в Петербурге и часто посещала мою мать Екатерину Григорьевну Бартеневу, с которой в Женеве была близка по работе в I Интернационале…
Бартенев Григорий Викторович».
Сведения эти во многом подтвердило, дополнило, а отчасти исправило письмо Ф. Томановского, племянника Елизаветы Лукиничны по мужу.
Урожденная действительно Кушелева, она была, по его словам, замужем дважды; первый раз за Михаилом Николаевичем Томановским (То, а не Ту!); до замужества жила с матерью-вдовой в Петербурге в ее собственном доме, а с мужем — в имении возле г. Углича в с. Красном. К этим новым для нас фактам Федор Николаевич Томановский присовокупил фотокарточку своей тетки в возрасте 19 — 20 лет. М. П. Сажин (Арман Росс), которому карточку показали, подтвердил, что изображена несомненно Дмитриева.
Когда я встретился с Сажиным (еще раньше), то он рассказал, что она была высокой, очень красивой и очень эффектно выступала на собраниях, одетая в черный свободный плащ, полы которого раскрывались «по мере воодушевления во время речи» и всем видны были красный шарф под ним и на поясе маленький револьвер. Содержание ее речей, полагал Михаил Петрович Сажин, было ей внушено Бенуа Малоном, с которым, по уверению Сажина, она была «интимно близка». Я, однако, был уже знаком к тому времени с показаниями о Дмитриевой перед версальскими следователями, в которых, например, утверждалось, что она была любовницей «Урскина, председателя Женевского комитета Интернационала» (под неведомым Урскиным, скорее всего, имелся в виду Утин); свидетельство Сажина вызывало немногим больше доверия.
Хотя вторая тетрадь о «Елизавете» заполнялась сравнительно быстро, все же многие из заданных в «Правде» вопросов оставались без ответа. И. С. Книжник-Ветров решил с подобной же целью воспользоваться услугами газеты «Известия». На эту публикацию пришли отклики еще от нескольких племянников Елизаветы Лукиничны. Из их писем следовало, что Кушелевы — Псковской губернии, сообщалось много интересных подробностей о семье. Кое-что из этих сведений удалось проверить и дополнить в архивах. Впрочем, некоторые родственники были поражены неожиданным открытием совершенно неизвестной им стороны жизни Елизаветы Лукиничны. Надежда же на то, что, может быть, отзовется она сама или одна из ее дочерей, к сожалению, не оправдывалась…
А такая надежда не оставляла нас долго.
Ведь согласно справочнику «Вся Москва» за 1917 год, потомственные дворянки Давыдовская Вера Ив., Давыдовская Елиз. Лук., Давыдовская Ирина Ив. проживали по адресу Малая Серпуховская ул., д. 31. Елизавете Лукиничне не было тогда еще семидесяти лет, дочерям же только перевалило за сорок…
О сибирской жизни Елизаветы Лукиничны рассказала старая народница Мария Осиповна Шебалина, к которой И. С. Книжник-Ветров обратился по совету ее товарища-народовольца. Сотрудница музея Кропоткина в Москве, М. О. Шебалина в середине 90-х годов служила фельдшерицей в с. Заледеево в 20 верстах от Красноярска и близко сошлась с семьей Давыдовских. Они жили в небольшом собственном доме возле церкви. Елизавета Лукинична с ее темными глазами и волосами выглядела весьма молодо для своих лет. Все домашнее хозяйство лежало на ней, сама ухаживала за лошадью, за коровой. Много внимания Елизавета Лукинична уделяла своим взрослым уже дочерям, особенно их образованию. Учила их больше всего языкам и, вероятно, астрономии. Случалось, она целые ночи проводила во дворе, на морозе, изучая звезды, и отчасти по этой причине многие в селе считали ее особой чудаковатой.
Была этому и другая причина: рассказы Елизаветы Лукиничны об участии в Парижской Коммуне и о том, что она являлась помощницей Маркса, не вызывали доверия у местных политических ссыльных, Шебалину заранее предупреждали о сомнительности этих рассказов. И, при всей своей приязни к Елизавете Лукиничне, Шебалина, так же как и другие, не могла ей поверить… Быть может, этим недоверием со стороны ссыльной колонии и объяснялась замкнутость Елизаветы Лукиничны?.. Ведь она-то сама искала сближения с политическими.
Раз в неделю, по средам, через село проходили партии ссыльнокаторжных. А во вторник вечером Елизавета Лукинична отправлялась к этапному двору узнать, не пригнали ли кого из знакомых… Так она пыталась повидаться со своим знакомым по Парижу М. П. Сажиным (Россом), но ее не допустили на свидание с ним. Она много писала, и, возможно, это были воспоминания о ее прошлой жизни… (Краевед Владимиров, во всяком случае, утверждал, что она заверяла их подлинность у красноярского нотариуса. Какова судьба этих воспоминаний? Вот бы что отыскать-то!..) Интересна и многозначительна еще и такая деталь: в доме, где жила Елизавета Лукинична в Красноярске, через какое-то время после ее отъезда обнаружили подпольную типографию (о чем краевед Владимиров сообщал И. С. Книжнику-Ветрову).
И все-таки нашелся по крайней мере один человек, который поверил этой женщине. Человеком этим, возможно, был писатель Антон Павлович Чехов. Елизавета Лукинична могла встретиться с ним, когда (в конце мая 1890 года) он проезжал через Красноярск по дороге на Сахалин.
Какие основания если не утверждать, то, во всяком случае, с известной вероятностью допускать это?
В архиве Чехова сохранилось и было опубликовано письмо от О. Л. Книппер, посланное ему из Москвы в Ялту 21 сентября 1899 года (на него обратил внимание Д. К. Кунстман, уроженец села Волок):
«Ваша protégée Томановская телеграфировала, что вызваны они в Петербург, благодарит за хлопоты, etc.».
Эту публикацию сопроводили, увы, безнадежным примечанием: «Томановская — сведений об этом лице не удалось добыть». Предположение, что это была Елизавета Лукинична, таким образом, не более чем правдоподобная гипотеза… Сомнение вызывает хотя бы то, что уж очень долгий срок прошел с момента возможной их встречи с Чеховым — 9 лет! Но можно привести доводы и в пользу такой гипотезы. Не исключено, к примеру, что Чехов с Елизаветой Лукиничной вовсе не встречался, а узнал о ней со слов своих знакомых Шанявских.
Отставной генерал Шанявский по совету профессора Ковалевского (того самого, знакомого Марксу) в девятьсот пятом году завещал в дар городу Москве дом и деньги для Народного университета — ставшего знаменитым своею демократичностью университета Шанявского. Разбогател генерал в Сибири и на Амуре, после отставки занявшись золотодобычей в компании с Сабашниковым (отцом братьев-издателей).
С супругами Шанявскими Чехов встречался зимой 1897/98 года в Ницце. От генеральши-золотопромышленницы он и мог услышать историю Елизаветы Лукиничны — вполне вероятно, что генеральша Лидия Алексеевна была знакома с нею по Красноярску. Доказательства? Кроме косвенных есть по-видимому и прямое. В архиве Шанявских сохранилось письмо, датированное 1911 годом, автор которого Е. Кушелева благодарит Лидию Алексеевну за приглашение на праздник по поводу закладки здания Народного университета и выражает надежду вскоре повидаться в Москве… (Следовало бы, конечно, для достоверности провести графологическую экспертизу — сравнить это письмо Кушелевой с сохранившимися письмами Томановской времен Коммуны.) Но если все это так, то Чехов хлопотал за свою «протеже Томановскую» в течение года-полутора, а это уже похоже на правду…
Увы, познакомившись с принесенными мною письмами, эксперт отказался от попытки прояснить дело. Мало того, что разрыв во времени между письмами слишком велик, они ведь еще были написаны на разных языках. Это и не позволяло разрешить задачу. И тут я вспомнил: в архиве, в следственном деле ее мужа, однажды мне встретилось показание Елизаветы Лукиничны следователю, по сути незначительное, но написанное ею собственною рукой! Вскоре фотокопия этого текста лежала перед экспертом.
«Институт судебных экспертиз. Заключение специалиста.
Исследованию подлежит рукописный текст письма от 24.VII.1911 г., выполненного от имени Е. Кушелевой, начинающегося со слов „24-ое июля 1911 г. С. Остафьево“ и заканчивающегося словами „Глубокоуважающая Вас Е. Кушелева“.
В качестве сравнительного материала представлены: свободные образцы почерка Е. Л. Дмитриевой в протоколе (подлиннике) № 16 от 3.XI.1873 г., выполненного на русском языке, начинающегося со слов „В декабре 1871-го года…“ и заканчивающегося словами „по первому мужу Томановская“, 2 фотокопии писем, выполненных на французском языке… Примечание: другие образцы почерка Дмитриевой Е. Л. не могут быть представлены.
При оценке результатов сравнительного исследования установлено, что совпадения признаков устойчивы, существенны и составляют индивидуальную совокупность признаков, достаточную для вывода…
Вывод. Рукописный текст письма от 24.VII. 1911 г. выполнен Дмитриевой (Кушелевой, Томановской, Давыдовской) Елизаветой Лукиничной…»
Таким образом, вполне вероятно, что в архивах осели документальные «следы» чеховских хлопот за «протеже Томановскую» — и еще ждут прочтения.
17
Толпа растекалась от Тюильри во все стороны, улица Риволи была, как обычно, оживлена, но чем-то отличался этот вечер от обычных вечеров; выйдя на улицу, они не сразу сумели понять, чем именно, но скоро поняли: тишиной, отсутствием далекого гула, на фоне которого проходила вся жизнь. Канонада замолкла, и непривычная пронзительная тишина пугала, заставляла Елизавету с Натали почти бегом возвращаться к ратуше.
В обычной толчее было не больше беспорядка, чем всегда. Здесь, в самом сердце Коммуны, никто толком не знал, что же именно произошло. Совет Коммуны заседал в Зале мэрий. Никого из знакомых — ни Малона, ни Франкеля, ни Серрайе — повидать не удалось. Один офицер рассказал, однако, что только что с Делеклюзом говорил комендант наблюдательной вышки у Триумфальной арки, который будто бы сообщил военному делегату (и повторил потом, от него выходя), что действительно случилась паника у ворот Отей, но ворота не отданы, а если и ворвалось сколько-то версальцев, то они отброшены. И вообще — сменивший Росселя десять дней назад делегат убежден, что уличная борьба была бы только на руку Коммуне.
Немного успокоившись, Елизавета и Натали направились из ратуши в «свою» мэрию за ворота Сен-Мартен. Было, должно быть, часов десять вечера — как ни долог день в конце мая, уже стемнело, — когда в помещение ЦК Союза женщин влетела Алин Жакье, делегатка Пасси.
— Гражданки! — от быстрого бега она задыхалась. — Гражданки! Версальцы в Париже!
У ворот Отей она видела их своими глазами, теперь они должны быть уже в центре Пасси.
По мирно засыпающим улицам снова бросились в ратушу. Заседание уже кончилось, члены Коммуны разошлись, а дежурный офицер принялся успокаивать гражданок: военный делегат отправляет в Пасси подкрепления…
— Почему не ударяют в набат?! — возмутилась Алин Жакье. — Надо трубить общий сбор!
— Дайте гражданам выспаться, — отвечал офицер, улыбаясь. — Утро вечера мудренее.
Ничего не осталось, как разойтись до утра по домам.
Елизавете по пути с Аглаей Жарри, делегаткой Батиньоля. Они проходят по ночным спящим улицам мимо шепчущихся на бульварах парочек и, перед тем как расстаться, решают все же завернуть в мэрию Семнадцатого. Там они застают неожиданную картину. В полутемном Зале празднеств женщины из батиньольского Комитета бдительности во главе с Андре Лео жгут в камине бумаги своего комитета.
— Непонятно, что происходит, но, боюсь, версальцы в Париже! — Андре Лео была взволнована не на шутку. — Малон вместе с Жакларом уехали в генеральный штаб. Если слухи подтвердятся, на рассвете ударят в набат.
Она отвела Елизавету в сторонку.
— Жаклар очень мрачно настроен. Как инспектор укреплений он уверен, что у городских стен версальцев не удержать — бастионы разрушены, многие батальоны покинули позиции еще вчера и даже позавчера.
— А внутренняя линия обороны? — вспомнив слова бывшего поручика, спросила Елизавета.
Андре Лео махнула рукой.
— Вы что, не знаете этой истории с баррикадной комиссией папаши Гайяра? Он отгрохал такие дворцы, что ему попросту отказали в деньгах. Послушайте, Элиза, вы так молоды и так… заметны в Париже… Словом, оба, и Бенуа и Виктор, просили вам передать: приготовьтесь к тому, чтобы скрыться. У вас теперь в рабочих кварталах столько подружек… Уходите, немедленно уходите из своей меблирашки! И больше туда не возвращайтесь!
— Это что, добавление от себя? — с вызовом спросила Елизавета. — Покорно благодарю!
Андре Лео сдержалась.
— Вы еще не видели крови. Те, кому не жалко своей, французской, неужели, вы думаете, пощадят чужую?!
С насмешкой она пересказала этот разговор Аглае Жарри: мадам, видно, трусит.
Но Аглая вдруг обняла ее за плечи:
— А почему бы не переночевать у меня? В самом деле, Элиза, зайдем к вам за вещами. А там видно будет… Ну ее к черту, вашу хозяйку!
Набат поднял их еще до рассвета. Били колокола всех церквей. Спускаясь к воротам Сен-Мартен навстречу спешащим к своим батальонам гвардейцам, они увидели прокламацию Делеклюза:
«Довольно милитаризма! Довольно штабных военных с нашивками и позолотой на всех швах! Место народу, бойцам с голыми руками!.. Народ ничего не понимает в искусных маневрах, но, имея ружье в руках и мостовую под ногами, он не боится никаких стратегов…»
Значило ли это, что генералов Коммуны больше не существует? И можно ли было просто так согласиться с этим?!
На площади перед мэрией выстраивал свои батальоны начальник Десятого легиона Брюнель, только вчера выпущенный из тюрьмы. Он был как раз из тех немногих офицеров Коммуны, кто, подобно Домбровскому, знал толк в «маневрах» и не раз с успехом проявил эти свои знания и до и после 18 марта (а в тюрьме провел с неделю по сомнительному обвинению в самовольной сдаче Исси). Теперь он готовился занять оборону на площади Согласия, за «дворцами», которые успел соорудить папаша Гайяр.
В здешней мэрии обстановка была поспокойнее, чем в Батиньоле.
Обменявшись с товарками по Союзу неутешительными новостями, Елизавета заявила твердо:
— Разойдемся по своим округам, гражданки, чтобы подготовиться к решительным боям. Но вечером давайте все же здесь соберемся. Иначе… Иначе нас могут перебить поодиночке.
Обратно в Батиньоль возвращались вчетвером — Елизавета, Аглая, Натали, Бланш Лефевр. Повсюду оживленно жестикулировали, спорили, обсуждая события, группки людей. Кое-где начали возводить баррикады, выворачивая камни из мостовых, таща какие-то ящики, рухлядь со свалок. Издалека доносился шум перестрелки.
— Не пойму, почему пушки молчат? Ведь на Монмартре полно пушек! — удивлялась Натали.
В мэрии Батиньоля, довольно пустынной, им сказали, что главные баррикады возводятся на западе, за железной дорогой. Там готовятся к бою главные силы Семнадцатого легиона, там Малон и Жаклар.
Разделились попарно. Бланш с Аглаей отправились к баррикадам, Елизавета с Натали — на Монмартр. Почему он молчал?
До мэрии Восемнадцатого округа было ходьбы не более четверти часа. Они сразу же почувствовали напряженность атмосферы. Женский комитет Монмартра встретил их в полном составе — Софи Пуарье, Беатриса Экскофон, Анна.
Обнялись радостно, давно не видались.
Эти женщины были не из тех, что теряют время на болтовню. Софи, председательница, уже успела набрать чуть ли не восемьдесят санитарок, большей частью работниц своей мастерской. Их наставляла теперь Беатриса Экскофон, она еще в первой вылазке коммунаров третьего апреля подбирала и перевязывала раненых на поле боя и чуть не угодила тогда в плен к версальцам. Беатрисе в ее наставлениях помогали незнакомые Елизавете гражданки с повязками Красного Креста.
— Это Данге и Мариани из госпиталя Луизы Мишель, — представила их Анна, — знакомьтесь. Здесь и сама Луиза. Они пробрались из Нейи ночью, Домбровский прислал их предупредить Монмартр и помочь организовать оборону. А потом пришли Ла Сесилиа и Клюзере…
— Как? Клюзере на свободе?
— Вчера вечером Коммуна его судила — и оправдала.
Луиза Мишель оказалась легка на помине.
— Почему молчат пушки Монмартра? — накинулась на нее Натали. — Или мы зря отстояли их восемнадцатого марта?
Луиза махнула рукой — жест отчаяния:
— Ла Сесилиа только что оттуда. Все валяется в беспорядке, в грязи — и пушки, и митральезы. Только три пушки стоят на лафетах. Но ни парапетов, ни блиндажей, ни платформ! Когда попробовали стрелять, лафеты от отдачи зарылись в землю. Да что говорить, это предательство! За два месяца никто не удосужился позаботиться о пушках!
— А теперь вдруг заявился Рауль Риго, прокурор Коммуны, — вторит Луизе Анна. — У него ведь батальон на Монмартре. Нам нужны подкрепления, а он хочет увести свой батальон в центр. У него, видите ли, своя стратегическая идея — коммунарам собраться на остров Сите, к Нотр-Дам, взорвать все мосты и защищаться до последней пули! Понимаете? Делеклюз говорит: все по своим кварталам, а Риго — как раз наоборот!
— Ну и что с батальоном?
— Батальон не пойдет! — отрубает Луиза Мишель. — Мы отстоим свой Монмартр!
После ухода Риго (Луиза оказалась права, он ушел с Монмартра ни с чем) появляется небольшой отряд во главе с полковником Разуа. В его батальоне сражалась Луиза. Он привел отряд федератов, которых версальцы под утро застали врасплох на Марсовом поле и в районе Военной школы. Многие так и не успели проснуться: их закололи спящими, но некоторым удалось бежать… От их рассказов становится не по себе, а сами они рвутся мстить «версальским пруссакам».
Между тем Малон и Жаклар с утра просят подкреплений для Батиньоля. Захватив парк Монсо, версальцы подошли к баррикадам. Они почти не продвигаются дальше, но пушки бьют по защитникам баррикад на улицах Леви и Кардине, нанося большие потери.
Среди дня за подкреплениями приходит сам Малон. Он был в генеральном штабе, но там никто не командует. И никто не желает уходить из своих кварталов.
— Шатаются по улицам, болтают, ждут, когда подойдут версальцы. Тогда станут сражаться! — возмущается он.
Ему удается увести с собой лишь горстку людей, хотя, если вдуматься, баррикады в Батиньоле не что иное, как выдвинутый бастион Монмартра. Во главе небольшого отряда женщин отправляются за ним в Батиньоль Луиза, Анна, Елизавета.
Без перерыва гудят колокола над Парижем. Дурманят майскими ароматами буйно цветущие сады Монмартра. Человек двадцать пять женщин спускаются под красным знаменем в Батиньоль навстречу гулко ухающим разрывам. В тихом переулочке, а может быть, тупичке, не доходя до улицы Леви, разворачивают полевой лазарет. Луиза умело распоряжается опытными своими помощницами. Елизавета, как новичок, слушается беспрекословно.
Раненых много.
Из тихого тупичка слышны разрывы снарядов, стрекот митральез, видно, как над крышами вздуваются облачка белого дыма.
Вдруг раздаются возмущенные женские голоса. Окружив гвардейца-артиллериста, гражданки ведут его в сторону, откуда стреляют, едва ли не под конвоем.
— Не время прятаться, когда надо сражаться!
— Я только забежал поцеловать детей, — оправдывается артиллерист.
— Иди, иди, — подгоняют его женщины. — Ты что, не хочешь, чтобы тебя убили вместе со всеми?!
Тяжелораненых Луиза после перевязки отправляет в госпиталь. Иногда удается увезти их на телеге, а то и в фиакре или в омнибусе. Но мало надежды спасти того, у кого пробита снарядом грудь или снесена челюсть. Остальных перевязывают на месте, не хватает бинтов, в ход идут простыни, полотенца, тряпки. «Вы еще не видели крови», — вспоминает Елизавета слова Андре Лео. Теперь она ее видит — слишком много. Между тем нет не только бинтов, не хватает корпии, нет лекарств, даже напоить водою несчастных не так-то просто; взамен кружек приспособили снарядные гильзы, зубы раненого в лихорадке стучат о железо, но он не жалуется, не стонет, он готов отдать жизнь за Коммуну…
К вечеру пальба стихает. Можно передохнуть, вымыть руки. Елизавете нужно спешить опять в свой ЦК, сама обещала. Но перед тем как уйти, она уговаривает Луизу поучить ее стрелять из ружья. Они идут к баррикаде, а Луиза просит у какого-то добродушного пекаря (а может быть, и сапожника) одолжить ей шаспо. Потом показывает Елизавете, как поставить щитик прицела, чтобы попадать в цель.
— Игольчатые ружья шаспо стреляют и на километр, но с нас довольно будет трехсот метров…
Тщательно целясь, Луиза нажимает крючок, и слышится сухой щелчок выстрела.
Теперь Лизина очередь. Под внимательным взглядом учительницы Лиза, уперев приклад в плечо, а щекою прижавшись к шершавому ружейному ложу, долго щурится, стараясь поймать в прорезь прицела какого-нибудь красноштанника. Когда это в конце концов удается и она спускает крючок, ее тут же ударом в плечо отталкивает назад, так что дуло подпрыгивает, а пуля улетает в небо.
Хозяин ружья заливается смехом, а Луиза пытается утешить свою ученицу:
— Второй раз получится лучше, у всех так…
Из мэрии Десятого округа в мэрию Восемнадцатого Елизавета попадает уже в темноте. В ЦК собралось всего несколько человек, и те скоро разошлись по своим округам. Там, где еще нет раненых, сооружают баррикады, встречая прохожих возгласами «Да здравствует Коммуна!». Мужчины заступами выворачивают камни, так что сыплются искры, и выкладывают из камней стены, мальчишки в скверах копают лопатами землю, а другие на тачках вывозят ее туда, где женщины насыпают мешки.
— Эй, гражданин, ваш булыжник! — остановил Елизавету оклик, но, когда она подошла, человек смешался. — В темноте обознался, извините, гражданка!
Но Елизавета все же приносит ему свой камень для баррикады.
Майская ночь коротка. На полу, на диванах, на столах, в коридорах и в комнатах мэрии Монмартра, так же как и на тротуарах возле нее, — всюду спят люди. В Зале празднеств Луиза указывает Елизавете место на полу рядом с собою.
Их поднял после полуночи топот военных башмаков, долгожданное подкрепление для Батиньоля, сто человек во главе с Ла Сесилиа. Большего генерал Коммуны не сумел наскрести.
Луиза была с Ла Сесилиа в Монруже, на другом краю города.
— В сущности, — говорит она, — Париж — это и есть то, что лежит между холмами Монмартра и Монружа…
И спешит добавить несколько восторженных слов об этом генерале Коммуны — математик, филолог, полиглот, капитан-гарибальдиец, полковник добровольческих частей в войне с пруссаками.
Вскоре математик-филолог-полковник и с ним вместе члены Коммуны Верморель и Лефрансэ уходят с отрядом в мэрию Батиньоля. Елизавета и Натали собираются туда же, а Луиза договорилась идти на разведку к холму, откуда должны были стрелять пушки.
Но в дверях мэрии она столкнулась со своими товарищами из 61-го батальона, с ними вместе была в форте Исси и участвовала в вылазке третьего апреля. Это ведь о ней, о Луизе, писала тогда газета Коммуны: «Энергичная женщина убила нескольких жандармов и стражников». Теперь родной батальон (от него, увы, немного осталось) отправляется занимать позиции на кладбище Монмартра.
— Вы были с нами в первые дни, — говорят бойцы, — будьте и в последний! Мы поклялись больше не отступать!
Луиза берет слово со своих спутников — с тех, с кем собралась в разведку на холм, — что в случае нужды они взорвут его, и прощается с ними, и целуется на прощанье с Елизаветой.
С высоты Монмартра виден красно-бурый столб пламени где-то над центром. Натали определяет, что близко от Лувра. По пути в Батиньоль, на углу улицы Лепик, прощается с Елизаветой.
Чуть ниже, на площади Бланш, женщины строят баррикаду. Натали остается здесь, а Елизавета хочет повидаться с Малоном и обещает скоро сюда вернуться.
В мэрии Батиньоля Малон, Жаклар, командир Семнадцатого легиона Шатэ встречают прибывшее наконец подкрепление. Им не до разговоров. Елизавета слышит, как Малон упрекает Ла Сесилиа:
— Что же вы оставили квартал целый день без защиты?
— Меня не слушают в Коммуне, — оправдывается генерал.
Вскоре она возвращается, как обещала, на улицу Лепик. Снуют женщины и дети, поднося булыжники к баррикаде, подкатывают тачки, тащат откуда-то доски, наполняют мешки песком — картина, уже знакомая Елизавете, как и эти мешки, сработанные руками женщин Коммуны в ее мастерских… вот плоды их трудов, и Елизаветиных тоже… Жительницы выходящих на площадь домов укрепляют тем временем тюфяки между ставнями и оконными стеклами. Хозяин соседней лавчонки попытался было воспротивиться этому строительству возле своего дома, но Натали твердо пообещала ему пулю в лоб, если он не уберется восвояси. Он счел за благо поверить этому обещанию.
Светает.
И вместе с ярким утренним солнцем опять поднимается над городом грохот канонады.
Но уже не только с запада доносится этот зловещий грохот, не только из Батиньоля, но и откуда-то с северной стороны, где стоят прусские оккупанты. Загрохотало неподалеку, на авеню Сент-Уэн, а потом перестрелка началась и на кладбище, куда ушла со своим батальоном Луиза Мишель.
Перед этим пробежала, торопясь на баррикаду на улице Дам, Бланш Лефевр, передала от Луизы привет. Бланш переночевала дома, а по пути решила проведать подругу, и та даже угостила ее кофе, да, да! — в кафе, что около баррикады.
— Луиза насмерть перепугала хозяина, постучавши прикладом в запертую дверь. Но, услышав наш смех, он принял нас любезно, надо отдать ему справедливость…
Звуки боя все ближе. Баррикада почти готова. Земляная насыпь укреплена булыжниками, сломанной мебелью, тележками, бочками из-под вина и прикрыта сверху мешками и корзинами с песком. Ждут версальцев, но Елизавета решает идти навстречу бою. Вместе с ней несколько женщин идут в Батиньоль, ружье на плече, пороховница на боку, шляпа с красной кокардой сдвинута набекрень. Но не так-то просто пройти знакомый путь. Авеню Сент-Уэн простреливается насквозь, противник непонятно каким образом надвигается с севера, со стороны занятой пруссаками нейтральной зоны. Неужели версальцы с ними стакнулись? Елизавета вспомнила, как настойчиво предостерегали лондонские друзья: укрепляйте прусскую сторону, а то можете оказаться в ловушке! По авеню пробегали группками вооруженные люди. «Нас предали! — кричали они. — Версальцы зашли к нам с тыла!»
Часть спутниц Елизаветы остается на площади Клиши, здесь они тоже будут нужны: баррикада готовится к бою. Здесь осталась и Натали, а Елизавета все-таки хочет пробраться к мэрии. После пятичасового боя улица Кардине сдана, а затем и улица Нолле, и Трюффо, и Ла Кондамин. Это от мэрии в двух шагах, появление женского отряда едва ли может спасти положение.
Невзирая на это, Елизавета полна решимости:
— Идите все на баррикады, а мы защитим мэрию, не беспокойтесь!
Но Малон, почти окруженный в мэрии, приказывает отступать на Монмартр, и Елизавета со своим отрядом без приключений возвращается на баррикаду улицы Лепик. Слышна близкая перестрелка со стороны кладбища, там, должно быть, приходится жарко Луизе и ее 61-му. Не успела Елизавета об этом подумать, как Луиза — опять легка на помине — показалась со стороны мэрии, ведет подкрепление.
Они машут друг другу:
— Да здравствует Коммуна!
Верят ли они еще в то, что Коммуна может здравствовать? Размышлять нет времени. Уже отступают и со стороны площади по бульвару Клиши, где осталась Натали. Вот она появилась, цела, невредима. Рассказывает:
— Мы держались даже дольше, чем было возможно. Когда снаряды кончились, артиллеристы стали заряжать пушки смесью камней со смолой.
Стало не до разговоров. Из-за поворота широкого бульвара показались стрелки в красных штанах; стараясь держаться поближе к стенам, укрываясь за их выступы, открыли огонь. Жужжат пули, напоминая Натали… майских жуков.
— Их в этом году что-то нет. Видно, пальбой распугали!
Баррикада встречает солдат залпом, и тогда из-за поворота выкатывают против нее митральезу. Облачка разрывов повисают над площадью Бланш, картечь осыпается горячим дождем. Среди защитников баррикады бегает мальчишка с бутылью вина, в минуты коротких передышек предлагая освежиться глотком-другим. Натали сама не стреляет, но без конца хлопочет: подносит патроны, помогает раненым. Тут же Беатриса Экскофон со своим летучим санитарным отрядом. А Елизавета, как и другие гражданки, стреляет, стреляет, на практике осваивая преподанный Луизой Мишель урок. Наспех построенная за одну ночь баррикада не в состоянии долго сдерживать такой штурм. Ее защитники и защитницы стайками перебегают по широкому бульвару вниз, к площади Пигаль. Мальчишка разбивает о стену последнюю бутыль: «Не пить им нашего вина!» Баррикада на Пигаль понадежнее, почти целиком из камня; не случайно здесь командует каменщик — Левек, член ЦК национальной гвардии.
Снова солдаты пытаются идти на приступ, и снова залпы федератов их отгоняют.
И снова вслед за солдатами появляется митральеза, но уже не одна, а две. К звуку этих снарядов, плюющихся картечью, не могут привыкнуть даже бывалые люди.
— Он, черт, вертится перед тем, как упасть, и никак не угадаешь, попадет в тебя или нет! — ворчит сосед Елизаветы.
— А ну, признавайтесь, граждане, кто подобрал тут генеральское кепи? — кричит маркитантка, перебегая с места на место и на бегу разливая в стаканчики кому вино, кому кофе; и поясняет непонятливым: — Сам генерал Винуа потерял его тут 18 марта, эх, жаль, что без головы!
В тот памятный день — день революции! — сюда, на площади Пигаль и Бланш, стекал с монмартрских высот поток национальных гвардейцев вместе с перешедшими на сторону народа солдатами, и именно здесь были смяты войска генерала Винуа — ныне командира одного из версальских корпусов. Все это Елизавета слышит от своего соседа, пока версальцы, поняв, что со стеною Левека им не справиться, как с прежними баррикадами, выкатывают две большие пушки. Те начинают бомбить баррикаду в упор.
— Цельте в прислугу! — кричит Левек.
Но что можно сделать, когда железный смерч обрушился на федератов. Взрывами разворотило чашу фонтана посреди площади и разбросало под ноги чугунные осколки, горячие и зловонные, и разбило на куски железную ставню на дверях бакалейщика. Солдаты, пробравшись в дома, открывают стрельбу из окон, поверх баррикады. От этих пуль скрыться некуда, их трассы скрещиваются. Стреляют слева, из окон над бакалейной лавкой и над магазином гравюр, стреляют справа, с угла улицы Жермен. Одно за другим смолкают шаспо федератов.
Под прикрытием кирпичного выступа на террасе кафе Натали и Беатриса хлопочут над ранеными. Предусмотрительный хозяин кафе заранее снял стеклянные шары с газовых фонарей, а окна заклеил полосками бумаги крест-накрест, как в пору первой осады. Давно стихла перестрелка на монмартрском кладбище, звуки боя откатились куда-то далеко-далеко — в редкие минуты затишья площадь Пигаль может ощутить свое одиночество. Неужели и высоты Монмартра сданы? Около двух часов пополудни Левек приказывает женщинам уходить с баррикады.
— Спускайтесь в сторону Нотр Дам де Лоретт, мы вас прикроем!
— Вы трусы! — кричит вдруг Натали Лемель. — Если вы не можете защитить баррикаду, мы ее защитим!
Она хватает знамя женского отряда и, прикрытая баррикадой, втыкает древко в щель между камнями.
Красное знамя развевается над баррикадой Пигаль.
— А всегда говорили, что в здешних кварталах обитают отнюдь не последовательницы Жанны д'Арк!.. — успевает еще отпустить шуточку кто-то из федератов, прежде чем версальцы отвечают ожесточенным огнем.
Все же приходится отступать.
Через час после того, как пали высоты Монмартра, смолкает сражение и у его подножий.
18
Сражение откатывается на восток и на юг от Монмартра, сливаясь с тем, которое гремит, полыхает, плюется смертью в центре Парижа. От перекрестка к перекрестку перебегает отряд женщин с ружьями в руках, с красными кокардами на шляпах. От перекрестка к перекрестку, от баррикады к баррикаде, стреляя и теряя на пути убитых, раненых и отставших. Только добровольцы сражаются в этой войне до конца. Только одни волонтеры.
На каком-то перекрестке наконец удалось закрепиться. Елизавета не так хорошо знает город, чтобы точно определить это пересечение улиц. Где-то в Девятом округе, Опера… Версальская армия наступает — говорят, что от площади Пигаль, от вокзала Сен-Лазар и даже справа, со стороны улицы Кадэ. За каменной баррикадой всего с десяток федератов, они рады неожиданному подкреплению.
Трое тотчас выбегают из-за баррикады, стучатся в дома:
— Немедленно откройте ставни! Поднимите жалюзи!
И грозятся, чувствуя теперь себя в силах в случае необходимости исполнить угрозу:
— Если из ваших окон раздастся хоть один выстрел, дом будет сожжен!
Оставшиеся на месте рассказывают, перебивая друг друга:
— Какой-то шпион с галунами полковника Коммуны увел людей с соседней баррикады, и нам, чтобы удержаться, пришлось ударить в штыки… Вот после этого нас столько осталось…
Этот перекресток удается удержать до вечера. Когда батареи палят в темноте, сначала видна вспышка, а уже потом, спустя сколько-то мгновений, раздается грохот разрыва — точно это молния и гром во время грозы. Дома по обе стороны баррикады вспыхивают не от приведенной в исполнение угрозы коммунаров, а от версальских нефтяных бомб. Но и тут красноштанникам не удается обойтись без крайнего средства. Подкатив по широкой улице пушки, солдаты разворотили снарядами баррикаду. Отряд женщин под прикрытием темноты отошел к мэрии Десятого округа, унося с собой раненых туда, где до недавних пор находился ЦК их Союза…
Впрочем, темнота в эту ночь так и не опустилась на город. Пламя пожирает королевский дворец Тюильри, и все его великолепие уносится в небо подсвеченным снопами искр дымом; напротив, за Сеной, полыхает Дворец Почетного легиона, горят Государственный совет и Счетная палата.
В мэрии Десятого, в помещении ЦК Союза женщин, душном и дымном, Елизавета Дмитриева, Натали Лемель, швея Маркан, портнихи Лелю и Бессэш вносили свой вклад в буйство пламени, полыхавшего над Парижем. Далеко за полночь ярко горел камин, пожирая бумаги Союза. Смелые проекты организации труда, гордые меморандумы о равноправии, страстные призывы защитить Париж, оказать помощь раненым — все летело в огонь, вслед за списками членов Союза, перечнями волонтерок и нуждающихся в работе… Это было важнее всего — уничтожить списки, имена, адреса — после страшных рассказов тех, кому удалось пробраться из занятых армией кварталов. В первую же ночь солдаты закалывали захваченных врасплох федератов, расстреливали сдавшихся в плен, добивали раненых. Достаточно было не понравиться, показаться подозрительным, достаточно испачканных рук: ага, следы пороха, значит, стрелял? К стенке! К стенке! Патрули, допросы, обыски… Тому, у кого дома находят ружье со следами пороха в стволе, остается пройти несколько шагов по двору. Мебельные фургоны, доверху полные трупов, то и дело въезжают в парк Монсо, а по вечерам жители квартала слышат из-за ограды парка стоны закопанных заживо. От этих рассказов волосы поднимались дыбом. И невольно вспоминалось о тех, кто не явился сюда в эту ночь. Но страха не было. А может быть, это усталость, нечеловеческая, тяжелая, каменная, делала свое дело, придавив чувства… Время от времени то одна, то другая из женщин выходили на улицу — разогнать эту тупую усталость, отдышаться. Но дыхание пожаров только сильнее раскаляло духоту ночи.
Вдали горело, плясало пламя, вдали ухало и дымилось. После того как взрыв в Тюильри поднял с грохотом в воздух Павильон часов, а крылья дворца утонули в огне, кто-то вспомнил зал Маршалов и пожалел было его красоту, но договорить этой женщине не дали. Какая могла быть жалость к этому символу мерзкого прошлого, не оттуда разве раздавались приказы о расправах с народом, не там рождалось столько преступлений против него?! «Да здравствует справедливость!»
Вокруг мэрии в полумраке, разгоняемом отсветом пожаров и бивачными огнями, угадывалось какое-то движение. Обессиленные люди похрапывали на тротуарах, ворочаясь во сне.
Раненый капитан рассказал Елизавете, что гвардейцы Десятого легиона во главе с полковником Брюнелем две ночи и два дня держались на площади Согласия за редутами папаши Гайяра. Артиллерия била по ним с трех сторон, всю площадь засыпали осколки фонтанов и статуй. Значит, если бы вовремя построили укрепления, Коммуну можно было защитить?! Но сейчас и Брюнель отходит по улице Сен-Флорентен. Площадь Согласия почти окружена. Правда, раненых вывезли и вытаскивают пушки.
Елизавете вдруг приходит в голову, что ровно месяц назад, 24 апреля, она написала в Лондон, что ждет смерти на баррикаде. Срок, к которому она уже тогда приготовилась, отодвинулся — но настал! Что же, этот лишний месяц, подаренный ей судьбою, он, пожалуй, прожит недаром. За этот месяц женщины Парижа, а главное парижанки-труженицы, успели почувствовать свою силу, возможность своего объединения, необходимость своего Союза… Пускай с бумагами его покончено — точно и не было никакого Союза женщин. Но нет, неправда! Не все, отданное огню, обращается в пепел, то, что было однажды понято, не исчезнет, возродится из пепла!
Натали Лемель собралась идти ночевать домой. У нее дети; можно понять, три дня не была дома, и каких три дня! Мало ли что могло случиться. Но идти-то ей чуть ли не через весь город.
— Как бы тебя не схватили, Матушка Натали.
— Маленькая собачка до старости щенок, прошмыгну.
Она осматривает свои ладони.
— Руки я вымыла чисто… да, можно сказать, и не стреляла сама.
А не боится, что ее за «петролейщицу» примут? Слухи о поджигательницах, которые льют керосин в подвалы из бидонов для молока, держа наготове зажженный фитиль, вызвали повальную панику у домохозяев. Лавочники, по рассказам, стояли теперь в дверях и кричали прохожим, чтобы не приближались к домам, сошли с тротуара!..
— Наплету что-нибудь, авось поверят!
Они целуются на прощанье. Увидятся ли еще? С ней, с Бланш Лефевр, с Луизой Мишель… А где Бенуа Малон и Андре Лео? Где каменщик Левек с площади Пигаль? Где храбрецы с баррикады на широкой улице Лафайет? Где Анна?!
Говорят, будто видели здесь Жаклара.
Утром кто-то встретил Франкеля.
Утверждают, что смертельно ранен Домбровский…
Проворочавшись на портьере у догорающего камина, но так и не сомкнув глаз, Елизавета решительно встала.
Поднялся ветер, но вместо того чтобы развеять духоту, погнал огонь и дым — на запад, на занятые версальцами кварталы. Тяжелые тучи багрово-черного дыма удушливым одеялом укутали Елисейские поля, площадь Звезды, Марсово поле, Пасси. Канонада умолкла, только изредка ухали взрывы. Это рушились своды в королевском дворце, и невольно в памяти возникал полный великолепия и жизни зал на концерте третьего дня. Как давно это было…
На площади перед ратушей — спящие в обнимку с ружьями. Статуи в нишах огромного здания, казалось, шевелятся в отблесках пламени. Багрово сверкают ряды окон, словно залитые кровью. Двойная мраморная лестница полна движения, навстречу друг другу — вверх, вниз — снуют офицеры, люди с галунами на кепи, в поясах с кистями. Вести самые неутешительные. Да, собственно, разве за утешением являются сюда? Что делать дальше — вот главное. Этот всегдашний, этот неотвязный вопрос: что делать? И на него пока нет ответа. Во внутренних покоях стонут раненые.
— Пить, пить! — доносится с носилок, уставленных вдоль стен.
Елизавета включилась в работу. Подносит к стучащим зубам кружки с водой, утирает холодные потные лбы, помогает перевязывать раны.
Время от времени, заглушая все другие звуки, со двора в открытые окна доносится грохот телег по камням. Это под гулкими сводами арок из здания вывозят снаряды.
А носилки вносят и вносят.
У молодого коммунара оторвана кисть левой руки. Он утешает хлопочущих над ним людей:
— Осталась еще правая рука, чтобы послужить Коммуне!
Освободясь от ноши, какой-то офицер спрашивает, где лежит Домбровский. Елизавета присоединяется в поисках к офицеру.
Они находят генерала Коммуны — уже мертвым — в огромной комнате, на постели, обитой голубым шелком. Говорят, это апартаменты супруги знаменитого префекта Османа, перестроившего Париж. Покойный в черном сюртуке с галунами, возле кровати капитан федератов известный карикатурист Пилотель торопливо набрасывает его портрет.
В окружении группы офицеров появляется член Коммуны Верморель, чья долговязая фигура знакома Елизавете. В руках у него красное знамя. Обернув знаменем, тело Домбровского выносят из здания и укладывают на катафалк.
Процессию с факелами к кладбищу Пер-Лашез Елизавета провожает до площади Бастилии. Здесь все еще достраивают баррикады. Люди с баррикад останавливают траурное шествие и переносят тело Домбровского к широкому подножию уходящей в небо колонны, над которой где-то во тьме парит невидимый даже этою ночью крылатый Гений свободы. В свете факелов под бой барабанов скорбная череда федератов прощается со своим генералом. Человек двести, сдернув с голов свои кепи, в безмолвии слушают Вермореля:
— Поклянемся, что уйдем отсюда лишь затем, чтобы умереть за Коммуну!
С площади Бастилии Елизавета опять возвращается в ратушу.
Под утро она уснула; вновь загрохотавшая канонада доносилась сквозь сон. Но немыслимая суета вокруг подняла на ноги — вывозили раненых. Куда? Зачем? Говорят, решено оставить ратушу.
— А где теперь будет Коммуна?
— Говорят, в Одиннадцатом округе, в Попенкуре.
— Наверное, в мэрии? На бульваре Вольтера?
Это место Елизавете знакомо — от мэрии Десятого через площадь Шато д'О не более получаса ходьбы.
Пока что она отправляется в «свою» мэрию, где, собственно, не осталось уже никаких следов Союза женщин. Во всяком случае, она приложила руку к тому, чтобы их не оставить. Но подруг своих Елизавета еще надеется там найти.
Сражение грохочет неподалеку, — по-видимому, уже в самом Десятом округе, где-то в районе Северного вокзала и на подступах к воротам Сен-Дени.
Когда возле мэрии Елизавета оборачивается перед тем как войти в двери, она замечает алые гребешки пламени над башней ратуши.
19
Бульвар Вольтера, прямой как стрела, рассек старые рабочие кварталы Парижа, как бы нанизал на себя все улицы округа Попенкур, прорезал его из конца в конец по четкому замыслу того самого префекта Османа, в апартаментах которого позапрошлой ночью лежал на смертном одре генерал Коммуны Домбровский. Барон Осман в первую очередь был стратегом, и градостроительные его замыслы покоились на стратегическом фундаменте. Во время революции сорок восьмого года по узким улочкам старого города с трудом продвигалась даже пехота, не говоря о кавалерии и артиллерии. Авеню и бульвары дали войскам простор. Император Наполеон Малый приходил в восторг от охранительной архитектуры своего префекта-стратега.
…Еще в первые дни Франкель говорил, что в этих кварталах живут рабочие-революционеры. Сколько таких улочек, тупичков, переулков исходила Елизавета с тех пор!
От кого же она слышала об Османе? Ей бывало трудновато подчас понять нашпигованных французской историей собеседников, оппонентов, ораторов, непременной принадлежностью их речей был фейерверк имен. Хорошо, если ограничивались Маратом, Робеспьером, Прудоном, Людовиками. А то еще сверкали Роклор, Сантер, Барош, Жан Гиру… кто такие?
Вход на площадь Шато д'О загораживали баррикады, так что ныне вид площади мало соответствовал стратегическим замыслам барона Османа. Баррикада за казармой перекрыла выход на улицу Фобур-Тампль, еще одна каменная стена высотою в человеческий рост отсекла бульвар Вольтера… И другие перекрестки вдоль бульвара, мимо которых она проходила, были укреплены на совесть. На пересечении с бульваром Ришар-Ленуар баррикаду соорудили не только из камней и бочек, но и из больших кип бумаги — благо от Национальной типографии недалеко.
Вся площадь перед мэрией, и ближние улочки и переулки, и узкие дворы забиты людьми, повозками, лошадьми, сюда стекаются остатки батальонов со всех сторон. Начальник Одиннадцатого легиона пытается организовать их в колонну — по приказу военного делегата Делеклюза. В сквере установлены пушки — как раз возле памятника Вольтеру с его неизменной саркастической усмешкой. Уж не к этой ли суете обращена усмешка теперь?.. На ступенях парадной лестницы сидят женщины. Их собрал окружной комитет во главе с Марселиной Лелю, портнихой. Иглы привычно и споро мелькают в руках. Вот, должно быть, последняя кооперативная мастерская Коммуны. Шьют мешки для баррикад. Елизавета присоединяется к женщинам. Она расспрашивает Марселину о подругах по Союзу. Натали Лемель здесь пока не появлялась, Бланш Лефевр, говорят, погибла в Батиньоле на баррикаде. Да, об этом Елизавета тоже слыхала, еще вчера. В свою очередь она рассказывает Марселине об Аделаиде Валантен: она будто бы застрелила своего любовника, когда тот, струсив, отказался идти на баррикаду.
— Она ведь живет близ мэрии в Десятом, там об этом скоро узнали.
— А вы оттуда, Элиза? Как там все было?
Здесь уже, конечно, известно, что мэрия Десятого захвачена версальцами утром и что они подошли к Шато д'О. Но прежде чем ответить Марселине, Елизавета еще спрашивает ее о Луизе Мишель, об Андре Лео, но нет, о них и Марселина ничего не слыхала.
— Жаклар Анна здесь, — говорит она, — и муж ее тоже.
Из мэрии Десятого Елизавета ушла вчера под вечер, когда версальские снаряды подожгли театр у ворот Сен-Мартен. День прошел как в тумане… после всех этих бессонных ночей и ужасных дней как в кровавом тумане. Что-то делала, с кем-то говорила, перевязывала, стреляла. Уже не расставалась с шаспо. Зато ночью удалось наконец-то выспаться почти по-человечески на кровати, на чужом пролежанном тюфяке, в чьей-то брошенной квартире возле площади Шато д'О, — невзирая на духоту и канонаду. Дальнобойные снаряды всю ночь перелетали над кварталами в обе стороны: версальские — с Монмартра и с левого берега, коммунарские — с высот Бельвиля. Она успела уйти до того, как квартал захватили солдаты. Брюнель и его люди, вернувшиеся в свой округ с площади Согласия, защищались весь день и все утро, сначала у ворот Сен-Дени, потом у Севастопольского бульвара, у ворот Сен-Мартен, у церкви Сен-Лоран, у мэрии, на улице Реколе. Ночью они перетащили пушки своего легиона на площадь Шато д'О…
Разговор возвращается к пожарам, к слухам о «петролейщицах», спаси, судьба, парижанку, что вышла на улицу с бутылкою, кружкою или молочником в руках… Разговор не мешает работе, так же как не мешают шуточки и замечания мужчин в кепи с галунами, в поясах с белыми или желтыми кистями — офицеров, снующих по лестнице.
Увидав незнакомого человека с красным поясом члена Коммуны, Елизавета спрашивает Марселину, здесь ли Малон. А Франкель? Марселина их не видала. Тогда, покончив с очередным мешком, Елизавета поднимается в кабинет мэра. Но ее туда не пускают, какое-то совещание.
Наконец открываются двери и выходят Серрайе и Франкель. Оба спешат, торопливо прощаются друг с другом. Елизавета идет с Франкелем — к его батальону, куда-то к площади Бастилии. По улице Рокетт это совсем близко, увы, для коммунаров уже не существует больших расстояний, они зажаты на восточном краю Парижа. Попенкур, Бельвиль, Менильмонтан — вот и все, что осталось еще у Коммуны, если не считать отчаянно сражающегося Тампля, напоминающего выдвинутый вперед редут. Дорогой, торопясь по улице, что связывает площадь Бастилии с кладбищем Пер-Лашез, Елизавета успевает лишь два слова сказать о себе и задать все те же вопросы — о Луизе Мишель, о Малоне. Малон, судя по всему, не выбрался из Батиньоля: то ли спрятался, то ли попал к версальцам. О Луизе Франкелю известно не больше. Впрочем, он не расположен к подобной беседе, есть более насущная тема. Его интересует, подумала ли Элиза о себе.
Ей кажется это очень наивным, думать о себе в такой обстановке, ведь это означает думать о будущем, а сколько каждому из них остается?
— Это верно. Но тем более нелишне иметь убежище про запас.
— Я думаю, кто-нибудь из гражданок меня приютит, если будет нужда.
— Запомните адрес, — диктует, как всегда, деловито Франкель. — Это в Бельвиле, где вас меньше знают. Там примут в любой час дня и ночи. И всегда будут знать обо мне.
До площади Бастилии версальцы еще не дошли. Они рвутся на нее со стороны ратуши, но пока их сдерживают на прилегающих улицах. С высоты Июльской колонны, точно дозорный, наблюдает за битвой крылатый Гений свободы. Пересекая с Франкелем площадь, все выходы с которой перекрыты баррикадами, Елизавета вспомнила позапрошлую ночь, как при свете факелов здесь прощались с Домбровским… Колонна свободы на месте разрушенной народом Бастилии… Широкое подножие — склеп, в нем останки жертв революций тридцатого и сорок восьмого годов… 1789―1830―1848-й… и вот 1871-й… На этой площади каждый камень — история.
— Но и армия времени не теряла, — замечает Франкель. — Готовилась к гражданской войне: для уличных боев заранее разработали особую тактику и, оказывается, в военном училище ее изучали!..
На улице, ведущей от ратуши, несколько федератов мирно закусывают в ожидании близкого боя. Маленькая девочка варит кофе на железной печурке.
Франкель зовет их идти вперед, туда, где стреляют, но они уверяют его, что стрельба сама не задержится, вот-вот придет к ним, и быстрей, чем им того бы хотелось. И как бы в подтверждение через баррикаду к ним перелезают еще несколько человек в кепи и блузах. Они очень возбуждены, не дожидаясь расспросов, кричат, что им удалось поджечь протестантский храм на углу улицы Касте, но что красноштанники все равно будут здесь. Франкель привязывает, как флаг, к древку пики, водруженному над баррикадой, свой шарф члена Коммуны. Здесь у федератов две пушки, которые с перекрестка «подметают» обе улицы.
Неожиданно сзади, со стороны площади, послышался грохот, словно ехала телега. Елизавета, обернувшись, увидела: несколько женщин во фригийских колпаках, подоткнув юбки за пояс, везли к баррикаде митральезу.
Поравнявшись с федератами, остановились, и одна, помоложе, прокричала задорно:
— А ну, молодцы, налетай! Кому кофемолку?
Кофемолками эти скорострельные пушки прозвали из-за того, что при стрельбе надо было крутить рукоятку. Едва «кофемолку» успели установить на позицию, как послышались крики:
— Идут, идут!
Разобрав ружья, все быстро заняли свои места.
Офицер с галунами капитана на кепи отрывисто приказывал:
— Взять под прицел все углы! Уточнить наводку орудий! Огонь!
И тут же в ответ через баррикаду посыпался град пуль. Стреляли из окон угловых домов. Несколько федератов упало. Елизавета оттащила одного за другим в сторону — оказать помощь.
— Стрелять по окнам! — командует офицер.
Схватившись за локоть, выпускает из рук свое шаспо Франкель.
— О, ч-черт!
Его уже сегодня слегка царапнуло, но он никому не сказал об этом. А тут, видно, задело посерьезнее. Рукав от крови промок, и лицо стало белее бумаги.
Елизавета перетянула ему руку жгутом, а пока наматывала этот скрученный бинт кольцо за кольцом выше локтя, Лео, морщась, говорил о Кёрнере, погибшем в войне против Наполеона поэте, которым в юности восхищался, даже сам стихи ему посвятил и читал их в свое время на рабочем празднике в Мюнхене. Здесь, возле площади Бастилии, Кёрнер со своим «кто за отечество свое падет, тот вечный мавзолей себе поставит» казался Франкелю непростительно узок.
— До Вольтера сможете сами дойти, Лео.
Но не успела Елизавета от него отойти, как ее и саму ожгло, точно спичкой. Она машинально провела ладонью по щеке. Там было липко и горячо.
— Что с вами? — подскочил к ней Франкель.
— Пустяки.
Когда они вдвоем возвращаются на бульвар Вольтера — Франкель с рукою на перевязи, Елизавета, поддерживая его за здоровую руку, с прижатым к лицу окровавленным платком, — их обгоняют впряженные в пушки взмокшие федераты.
— Откуда, ребята? — хрипло спрашивает Франкель.
— От Пантеона…
Весь левый берег Сены уже в руках у версальцев. Но генерал Врублевский привел с собою в кварталы южнее Бастилии тысячу человек с оружием и пушками. Об этом почти весело сообщает Франкелю встретившийся по пути Верморель. Верхом, опоясанный красным шарфом, он объезжает баррикады. И тоже слегка задет пулей.
Сражается Тампль, но церковь Сен-Николя-де-Шан пала, а затем и рынок, и сквер возле мэрии. Рассказывают о женщине, которая осталась одна на покинутой баррикаде при заряженной митральезе. Никто не знает ее имени, но видели, как она косила солдат. «Кто же это?» — думает Елизавета. Стрельба в той стороне не стихает, член Коммуны Гюстав Лефрансэ отправляется туда, чтобы выяснить обстановку. Марселине Лелю кто-то рассказал о Луизе Мишель. Луизу видели на баррикаде шоссе Клиньянкур, близ того места, где был ранен Домбровский. А потом она будто бы сама явилась на 37-й бастион к версальцам, когда узнала, что за ней приходили и вместо нее увели ее мать. Такой ценой она добилась освобождения матери… И опять говорят о мнимых поджигательницах, на которых солдаты устраивают облавы, без разбору хватая всех, кто попадается под руку, начиная с хозяек, вышедших за провизией…
С площади Шато д'О на носилках приносят с простреленной ногою Брюнеля. Версальская артиллерия обрушила на площадь шквал огня. Стреляют батареи со сквера Сен-Лоран, с театра Амбигю Комик; фонтаны разбиты, а львы слетели на землю. Пришлось оставить огромную казарму, которую некому защищать. Наконец оттуда прибегают за подкреплением. Сражаются там остатки батальонов Монмартра и Батиньоля, может быть, кто-то с площади Бланш или Пигаль. Елизавета хочет быть с ними, царапина оказалась впрямь пустяковой, кровь уже не течет. Каменщика Левека там нет, о его смерти она уже знает. Приказав товарищам отступать, сам Левек так и не оставил своей баррикады. Захваченный в плен, он предстал перед версальским полковником, и когда тот узнал, что перед ним каменщик, то разрядил в него свой револьвер со словами: «Вот как? Каменщик захотел править Францией?!»
Собирается человек пятьдесят, из мэрии выходит абсолютно спокойный Делеклюз и возглавляет колонну. В неизменном черном костюме и шляпе, опираясь на неизменную трость, он шагает не торопясь, а Елизавета вспоминает, как впервые увидала его точно таким же в начале апреля во главе похоронного шествия из госпиталя Божон… На полпути к площади, у церкви Сент-Амбруаз, куда Лиза не раз приходила на заседания Клуба пролетариев, навстречу колонне Жаклар и Тейс тащат носилки. На них Верморель, теперь он ранен, судя по всему, тяжело. Делеклюз подходит к нему, жмет руку, что-то говорит, ободряя. И уверенно продолжает свой путь.
Колонна шагает за ним. После мгновенного колебания — да чем она может помочь бедному Верморелю? — Елизавета догоняет ее. Впереди, у площади, по обеим сторонам баррикады полыхают угловые дома. Осталось всего несколько десятков шагов, но колонна словно споткнулась. Перелетая через барьер, пули сыплются на мостовую, горстка укрытых баррикадой бойцов отвечает, две пушки выплевывают дым и огонь, но как к ним добраться?.. Делеклюз продолжает идти, не оборачиваясь, ничуть не меняя шага, точно заговоренный, ни одна пуля не задевает его. Когда он доходит до баррикады, отставшие было федераты бросаются вслед, словно поверив в собственную неуязвимость, — но трое или четверо падают на бегу. Елизавета оттаскивает раненых туда, куда не долетают пули, и, подняв голову, какое-то мгновение видит за баррикадой, на площади, седой затылок под черною шляпой — это Делеклюз, миновав баррикаду, вышел навстречу смерти, и она не заставила себя ждать.
Кто-то прыгнул за ним следом — и не вернулся. Та же участь постигла еще двоих. Тогда остальные, сжавшись как по команде, приготовились броситься врассыпную — но на их пути посреди улицы встал человек с поднятым над головою ружьем, кажется, это был Жоаннар, член Коммуны, Елизавете трудно было рассмотреть лицо, но голос услыхала:
— Назад! Назад, граждане! Будьте достойны Коммуны.
Поддерживая раненых, Елизавета в сумерках возвращается в мэрию. В одной из комнат лежит перебинтованный Верморель. Возле него как сиделка Анна, тут же Жаклар, Франкель.
Теофиль Ферре обнимает раненого, а тот, превозмогая боль, говорит:
— Вот видите, «меньшинство» умеет умирать за революцию!
В открытые окна тянет едким дымом и гарью. Дым стелется по бульвару Вольтера — от горящих домов на Шато д'О, со стороны Арсенала, где в канале вонюче чадят и взрываются баржи с керосином. Из окон верхнего этажа виден столб пламени над площадью Бастилии — загорелись стяги на Июльской колонне, и она полыхнула, как факел.
— Коммуна уходит отсюда в Бельвиль, — сообщает Елизавете Франкель. — Раненых уже увозят… Но как быть с Верморелем? Его, похоже, лучше не трогать…
— Тут есть одна гражданка, в последнем доме бульвара Вольтера, по левой стороне, возле площади Трона. И дом удобный, есть другой выход, на авеню Филиппа Огюста… Я схожу к ней. Думаю, она не откажет.
Через полчаса Елизавета возвращается в мэрию. Консьержка Манж из дома 283 согласна приютить у себя раненого, в случае чего она выдаст его за родственника из провинции. Жаклар и Тейс выносят носилки на улицу, осторожно укладывают на повозку. Елизавета должна проводить их, а Франкелю пора в Бельвиль.
Она протягивает ему руку.
— Вы запомнили адрес, который я вам дал? — на прощанье спрашивает Франкель. — Повторите.
В последнем доме бульвара Вольтера уже готова постель для раненого. Молодая женщина так умело обращается с ним, что Жаклар не может скрыть удивления.
— Как-никак я замужем за аптекарем, — улыбается ему Манж. — Можете быть спокойны за своего друга…
Когда Елизавета опять возвращается в мэрию, ее останавливает оборванный человек в кепи с галунами.
— Гражданка, есть тут кто-нибудь из членов Коммуны?
Они находят спящего в углу Шарля Гамбона.
— Гражданин, — расталкивает его офицер, — соберите людей на баррикаду Шато д'О, необходимо ее поддержать!
— Я пойду или кто другой, — говорит устало Гамбон, — не все ли равно?.. А я еще жив!
Елизавета идет с ними вместе, нацарапав на клочке записку Марселине Лелю:
«Соберите всех женщин и самый комитет и немедленно отправляйтесь на баррикады».
Но до площади они не дошли.
На полдороге, у церкви Сент-Амбруаз, где несколько часов назад покойный Делеклюз ободрял раненого Вермореля, их остановили последние защитники баррикады бульвара Вольтера, только что покинувшие ее.
20
Еще два дня и три ночи стреляла площадь Вольтера по версальцам, сначала в поддержку площади Бастилии, а потом по площади Трона, незамедлительно получая ответы. И хотя у каменного вольнодумца ядром снесло половину носа, саркастическая улыбка от этого не изменилась. Упорная батарея коммунаров даже отогнала красноштанников с площади Трона. Только утром 28 мая пушки возле мэрии Одиннадцатого округа замолкли совсем.
К этому утру пали баррикады на площади Бастилии и в Сент-Антуанском предместье, Шомонские высоты и кладбище Пер-Лашез, но еще отчаянно, из последних сил сопротивляясь, догорала Коммуна в рабочем предместье Тампль, в рабочем квартале Фоли-Мерикюр, в уголке рабочего квартала Бельвиль.
В остальных кварталах Парижа стрельба означала уже не сражение, а расправу. К этому утру тела тысяч расстрелянных устилали собою траву парка Монсо и монмартрских холмов, ухоженные дорожки Люксембургского сада, Марсова поля, кладбища Пер-Лашез, глухие каменные дворы казарм.
Незадолго до этого дождливого утра Виктор Жаклар после безуспешных попыток вырваться из оцепленного квартала вбежал к знакомой консьержке в последний дом на бульваре Вольтера, где под видом больного родственника третий день лежал раненый Верморель. А Элизу Дмитриеву и Анну Жаклар постоянные жительницы бульвара в темноте проводили проходными дворами в квартиры к надежным людям. Но в этих кварталах, где немало надежных людей, никто не мог быть уверен в надежности убежищ. Начались повальные обыски. Пока нечего было и думать о том, чтобы выбраться из Парижа, говорили, что даже торговки овощами негодуют: к ним из пригородов не пропускают огородников с товаром. А женщинам появляться на улицах опасно вдвойне. Газетомараки продолжали писать о мегере, у которой при аресте нашли в карманах сто метров фитиля, и других, что скользят вдоль домов с фитилями и керосином… Но Елизавета и Анна, приведя себя, насколько возможно, в порядок, посылают мальчишку за фиакром и средь бела дня отправляются на извозчике в центр.
— Вера Воронцова должна нам помочь, — твердит Анна, — необходимо повидаться с Верой.
Она в непрерывной тревоге за мужа.
Чудо уже то, что они без приключений уселись в фиакр. На перекрестках патрули версальцев, на площадях заставы и бивуаки — разбиты палатки, солдаты спят на тротуарах, горланят песни, варят еду. Ближе к центру улицы выглядят более обычно, только почти из каждого окна свешиваются трехцветные флаги. А красного здесь теперь не увидишь.
На Больших бульварах торжествующая толпа. Разодетые дамы в экстазе чуть ли не целуют сапоги конным жандармам. Вот на террасах кафе красно — от офицерских мундиров. А где-то в соседнем квартале слышны залпы… там, должно быть, красно от крови.
Ужасно, ужасно…
Вера Воронцова встречает гостей цитатою из Тацита: «Там мертвые и раненые, здесь бесстыжие девки и кабаки».
— Я ждала вас, — говорит, целуя их, Вера, — я не знала, как вас найти, у меня для вас приготовлено вот это.
И она протянула Анне бумагу в печатях. Это пропуск, по которому разрешается выехать из Парижа мадемуазель Воронцовой, направляющейся в Гейдельберг.
— Я просила об этом Леони Дантес, едва отец ее возвратился в четверг из Версаля, я просила, чтобы Леони выхлопотала такую же бумагу еще и на свое имя. Но барон ей сказал, что сейчас пока разъезжать опасно, но что скоро они вместе отправятся на лето к себе в Сультц, в Эльзас… Они ведь оттуда.
Повертев бумагу в руках, Анна передала ее Елизавете.
— Для вас просто счастливая находка, Лиза. С этим пропуском даже вы преспокойно выберетесь отсюда. А я… Вы же понимаете, как можно оставить Виктора у этой консьержки. Бог знает, что еще случится — в любой момент, в любой момент!..
— А как же вы, Вера?
— Мне, собственно, ничто не грозит, если я чем-то и помогала Коммуне, то только ее раненым… Нет, я прекрасно проживу и в Париже!
В гардеробе Веры они находят платье для Елизаветы. Оно не вполне ей впору, но достаточно нескольких булавок, иголки с ниткой, горячего утюга, чтобы где-то что-то подтянуть, загладить, убавить, сделать оборочку или складку. В этом платье как богатая дама она готова отправиться в фиакре в Бельвиль, по тому адресу, что просил ее запомнить Франкель. Прощай, Елизавета Дмитриева, и если от тебя не отвернется фортуна, то прощай навсегда!
C пропуском Веры она почувствовала себя куда увереннее, чем прежде, даже решилась сделать по дороге крюк, и немалый, заглянуть в меблированный дом «Швеция» на набережную Сен-Мишель. В этом неудержимом круговороте событий она не только опять потеряла бывшего поручика из виду (что было отнюдь не мудрено), но и вовсе забыла думать о нем, и ни разу, должно быть, не вспомнила до того самого момента, пока Лео Франкель по дороге с бульвара Вольтера на площадь Бастилии не сказал ей адрес в Бельвиле, — и тут ей невольно пришел на ум еще один адрес, на набережной Сен-Мишель, еще одно убежище про запас, о котором позаботился Александр Константинович накануне вступления версальцев в Париж… Теперь следовало предупредить его, чтобы не ждал больше. О том, что он мог не дождаться в круговерти кровавой недели, невзирая на все свои клятвы, эта простая мысль как-то не посетила ее, и она удивилась испугу хозяина в ответ на ее вопрос о месье Александр Федотофф. Его давно уже здесь нет, он давно уже съехал, ничего невозможно сказать о нем! Ах, Александр Константинович, ах, обманщик, хороша бы она была, если бы вынуждена была рассчитывать на него! Впрочем, сказала она себе, вновь усаживаясь в фиакр, надо быть справедливой, он ведь мог заходить к ней на бульвар Сент-Уэн, если, разумеется, сумел пробраться туда, и точно так же ее не застать, как не застала она нынче его, и даже не меньше напугать хозяйку расспросами… А могло быть и так, что он все же послушался тогда ее совета и ушел-таки умирать за свободу к Домбровскому в Нейи?! Правда, это предположение весьма сомнительно.
В Бельвиле она отпустила фиакр, не доехав немного до нужного дома.
Встречи с Франкелем пришлось ждать до вечера. Он сбрил бороду, она не сразу его узнала. Посмеявшись по этому поводу, Елизавета предложила попытать счастья вместе.
— С таким пропуском?
— Вам он не нравится, Лео?
Спору нет, пропуск прекрасен — но лишь для одинокой мадемуазель. Будь он, Лео, версальский патруль или прусский, он бы первым делом поинтересовался, а что за подозрительная личность сопровождает мадемуазель Воронцову. Нет, он не хочет ее погубить. Тем более у него есть свой собственный план. Выезжать надо порознь.
Условились встретиться по дороге в Мо, миновав линию прусских войск, где-нибудь за Ливри, а может быть, и за Вожури. Так советовал хозяин квартиры, товарищ Франкеля, знавший эти места.
И вот, благополучно проехав заставы версальцев и пруссаков, предъявив раз пять магический пропуск и с благосклонностью выслушав в ответ армейские любезности офицеров обеих еще недавно вражеских армий, «направляющаяся в Гейдельберг мадемуазель Воронцова» с бьющимся сердцем подъезжала к условному месту свидания, и — о, чудо! — свидание состоялось, словно это была загородная прогулка, пикник!
Изобразив перед возницей радостное удивление по поводу столь счастливой случайности, как нежданная встреча, Лео Франкель собственною персоной впрыгнул к Елизавете в экипаж. Он выбрался из Парижа куда более хитроумными путями, нежели она, о чем тут же с несвойственным ему возбуждением принялся рассказывать на своем родном южнонемецком. Ее немецкий, кстати, был тоже неплох, как говорится, с материнским молоком впитан. Он еще держал перекинутым через руку (через раненую руку) плащ баварского драгуна (что помогало скрывать ранение), в котором только что проследовал через прусские аванпосты в покрытой брезентом лазаретной повозке вместе с транспортом раненых.
Не успел Франкель досказать свои приключения, потешаясь над жандармами и ажанами, которых он так ловко дурачил при многих проверках, повествуя с притворно-простодушным видом, кто он, откуда и по какой причине без документа, не успел еще Лео окончательно прийти в себя, как въехали в Мо, городок, где предстояло сесть в поезд.
Ждать еще надо было довольно долго, и, купив в кассе билеты, они решили, что безопаснее провести это время в экипаже, на котором приехали, нежели на вокзале, полном прусских солдат и французских ажанов. Но, увы, полицейский чин подошел к экипажу — и не захотел удовлетвориться объяснениями о причинах отсутствия паспорта у месье. Он должен проводить его к комиссару.
Франкель вылез из экипажа.
— Но, надеюсь, ваш комиссар тут поблизости? — невозмутимо спросил он ажана. — Мне бы не хотелось пропустить поезд.
— Не вижу большой беды в этом, — не менее спокойно заметила по-немецки Елизавета. — В самом крайнем случае придется переночевать здесь, ну так уедем завтра утром…
После ее слов ажан вдруг остановился.
— Очень жаль, но я не могу сказать вам, будут ли еще действительны завтра ваши билеты… А вы, собственно, куда собираетесь ехать?
— Как куда? В Германию! — как о само собой разумеющемся отвечал Лео.
— Ну ладно, садитесь, — вдруг смилостивился конвоир. — Но на обратном пути позаботьтесь о паспорте!
Фортуна и на сей раз им улыбнулась.
И вот за окном вагона первого класса открываются прихотливые пейзажи долины Марны, нежно зеленеют виноградники Шампани, карабкается по склонам гор зеленая стена вогезских лесов. Но глаза не воспринимают всех этих красот, да и разговора почти не возникает, молодая пара похожа на старых, давно уже обо всем переговоривших супругов. Усталость, каменная усталость отяготила им веки и сковала языки, только слух в постоянном напряжении, точно часовой на посту.
— Эпернэ! — объявляет кондуктор. — Стоянка десять минут.
— Шалон-на-Марне! Стоянка пятьдесят минут.
География франко-прусской войны разворачивалась перед ними в обратной последовательности.
— Туль!
— Нанси!
— Страсбург!
А в промежутках пыхтение паровоза, свистки или вежливый голос в дверях отделения первого класса:
— Господа, будьте любезны показать ваши паспорта.
После всего пережитого ощущение опасности притупилось. И все же каждый раз, провожая глазами очередного жандарма — синий мундир, треуголка, белые лосины, — оба вздыхали с облегчением.
— У вас талант, — восхищалась Елизавета. — Вы мужественный актер.
— Ах, если бы видели, как я жалок внутри! Я все думаю о парадоксе Дидро, — усмехался он. — Актер, который полностью отдается игре, не перешагнет границы посредственности. Надо внешне показывать обратное тому чувству, которое должен испытывать.
И снова поддавались напряженной своей полудреме.
Только один раз, казалось бы, ни с того ни с сего Франкель быстро проговорил:
— Пускай нам не удалось сделать то, чего мы хотим, хорошо уже, что успели показать, что хотели.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
1
Простучали колеса по длинному мосту через Рейн, прощай, Марианна! За прежней довоенной границей Германии — Кель, откуда в сторону Гейдельберга поезд повернет налево, тогда как в Швейцарию путь направо.
Господам, выходящим в Келе, пора собираться.
— Простите, фрау, у вас билеты до Гейдельберга, а это всего лишь Кель.
— О, тут, знаете ли, у нас родня, мы надумали ее проведать.
— Счастливого пути, фрау. Счастливого пути, герр.
В вокзальном буфете они заказывают себе кофе, и Елизавета незаметно чокается чашкой о чашку.
— С благополучным прибытием!
Но Лео не советует ей спешить с выводами. Рано. Что, собственно, изменилось от того, что они переехали через Рейн? Если бы здесь обнаружилось, кто они такие на самом деле, немцы не задумались бы выдать их Версалю. А он, слава богу, уже отведал их тюрем — в куда более спокойное время — и немецкой когда-то вместе с Августом Бебелем, и, как известно, наполеоновской тоже. И не желал бы подобного милой Элизе!..
— В нас они видят более опасных врагов, чем друг в друге. В сущности, немцы — соучастники Версаля и вполне заслужили рядом со своими Железными крестами еще и кресты Почетного легиона. Как прав был Маркс, когда в середине мая предупредил нас с Варленом, что Бисмарк заинтересован в скорейшей победе этой очковой змеи, Тьера!
Он вдруг хлопнул себя по лбу.
— Совершенно вылетело из головы! Забыл передать вам, Элиза, мне друзья рассказывали об одном вашем соотечественнике, человеке странном, впрочем, свою пулю принявшем достойно. Подробностей я не знаю, но назвал себя перед смертью сыном царского генерала и князем… имя громкое, вы, конечно, его знаете, герой войны с Наполеоном… нерусское имя…
У Лизы екнуло сердце.
— Багратион?!
— Конечно, конечно! Он был, наверно, поляком?
— Почему же? — нашла в себе силы удивиться она. — Ну да, конечно, в том смысле, как Рудин, вы помните, Лео, как кончается тургеневский «Рудин»? Впрочем, нет, откуда вам это помнить, если вы считаете Багратиона поляком… Так вот, герой Тургенева гибнет в Париже в Сент-Антуанском предместье — кстати, неподалеку от того места, где мы с вами, Лео, получили свои царапины от версальцев, — он гибнет на баррикаде сорок восьмого года, и увидавший, как он упал, инсургент кричит другому: «Поляка убили!»
Из архива Красного Профессора
21 июня (3 июля) 1871 г. секретарь русского посольства в Париже Обрезков довел до сведения шефа Третьего отделения графа Шувалова:
«…В числе расстрелянных за участие в Коммуне находится князь Багратион, который на допросе показал, что он сын генерала русской службы и сам находился в русской армии. Родился он в Тифлисе 23 мая 1837 г., и зовут его Александр Константинович».
14 июля Третье отделение, уведомив об этом главного начальника Тифлисского губернского жандармского управления, просило более подробных сведений о вышеуказанном Багратионе.
В ответ было получено донесение из Тифлиса от 24 августа, согласно которому в метрических книгах всех тифлисских церквей и Николаевского собора Кавказской армии князя Багратиона А. К. не обнаружено. Далее, со ссылкой на авторитет знатока грузинской истории Платона Иоселиани, сообщалось, что вообще князя Константина Багратиона не существовало, а был лишь брат П. И. Багратиона князь Роман Иванович, генерал-лейтенант, но у него не было сына Александра. Жандармский вывод гласил: «Вероятно, расстрелянный за участие в Парижской Коммуне назвался вымышленным именем».
2
На границе Швейцарии окончательно завершила свой жизненный путь гражданка Елизавета Дмитриева. Да и «мадемуазель Воронцову» постигла такая же участь. После полугодового отсутствия в Женеву возвращалась мадам Томановская.
На привокзальной площади Корнаван она наняла фиакр и помахала рукой своему попутчику. Помахав ей в ответ, тот прямиком с вокзала отправился к Папаше Беккеру. Она же спустя четверть часа уже входила в знакомый сумрачный вестибюль, готовая к излияниям любезнейшего портье, каковые действительно не заставили себя ждать, эти профессиональные сожаления по поводу столь длительного ее отсутствия, и выражения радости по случаю долгожданного возвращения, и уверения в готовности к услугам. Поистине ничто не менялось под женевской луной — если не считать новостей из дому, нераспечатанных писем, что сразу же протянул ей портье. Но, распахнувши окно в голубизну неба — или, может быть, озера, — мадам в своем бельэтаже с видом на озеро и Монблан еще об одном только успела подумать в этой столице часовщиков: как же все-таки по-разному может протечь время; еще успела об этом мельком подумать, прежде чем повалиться в постель в неотразимом, безудержном, свинцовом, каменном сне. Какой-то почти летаргический, он продолжался бы, может быть, еще дольше, когда бы не явление Кати Бартеневой на пороге. Она не приснилась. Никакие другие картины не раздвигали тяжелого черного бархатного покрывала, что окутывало душу и тело… сновидений не было, Катя пришла наяву, дабы возвратить к жизни.
— Мы тут каждое словечко, каждую весточку о ней ловим, ждем, ждем, а она никак от подушки головы не оторвет… Спящая царевна! Или принц объявиться должен?!
— Какой принц? Какая царевна? Что за сказочная чепуха! Ах, Катя, если б вы знали…
— А мы и хотим узнать, да никак дождаться не можем свидания с вами, сударыня. Собирайтесь-ка, Лизанька, поскорей к Утиным!..
Утин порывисто ее обнял и быстро заговорил:
- Какое счастье, что вам удалось выбраться из этой мясорубки! Молодцы и удачники! Франкель описал мне в подробностях вашу с ним одиссею.
Сверкая из-за стекол лихорадочно воспаленными глазами, он по-прежнему ни минуты не сидел на месте. Глазная болезнь обострилась в последнее время. Ната тоже похварывала и подолгу лечилась в Берне… Следовало отдать справедливость и Кате, и Утиным — они ни о чем не допытывались, говорили сами: о себе, о своих хворях, об обстановке в Женеве в связи с потоком беглецов из Парижа, о требовании их выдачи, с которым версальское правительство обратилось ко всем европейским державам, и о необходимости соблюдать осторожность, ведь позиция швейцарских властей весьма и весьма двусмысленна.
— И это невзирая на то, что в Швейцарии всегда находилось убежище для преследуемых. Начиная с гугенотов, спасавшихся от Варфоломеевской ночи, и даже еще раньше!.. О чем разговор, нам ли с вами не знать… А теперь опять приходится бороться за это право.
И Утин рассказал о многолюдном рабочем собрании, что потребовало — от лица народа Женевы! — сохранить право убежища и гостеприимства неприкосновенным. Собрание превратилось прямо-таки в демонстрацию в честь Коммуны! И вообще, известно ли было в Париже, что здесь, в Женеве, все время стояли на стороне Коммуны и стремились помочь ей?! Здесь не только приветствовали Коммуну Парижа, но пытались поднять провинцию, юг Франции, печатали манифесты для Лиона, Марселя, Сент-Этьенна, не жалели на это ни времени, ни денег, ни сил. Папаша Беккер и Антуан Трусов охотно подтвердят это, пусть Лиза только поинтересуется. А многие и сами собирались в восставший Париж, даже спрашивали совета у Маркса…
— Да, да, — вспомнила Лиза, — у меня ведь был ваш посланник, редактор из Базеля, с поклоном отсюда. Весьма обязательный человек оказался. Я очень ему признательна, что взял от меня письмо в Лондон…
— Ах, Лиза, как же долго, в самом деле, мы не видались! — воскликнул на это Утин. — Разумеется, Коммуна отодвинула многое. Но ведь вы же столько времени прожили в Лондоне и, я слышал, сдружились с семьей Маркса….
Он, конечно, жаждал ее рассказа — и о Марксе, и о Коммуне, но при всей нетерпеливости, так ему свойственной, сдерживался, старался этого не показать. Ей действительно было бы не под силу говорить сейчас о Париже, остальное же — Утин трижды был прав — куда-то отодвинулось, отошло. Отодвинулось, отошло, точно смытое кровью…
Но один вопрос Лиза все-таки задала своим женевским друзьям, пожалуй для них неожиданный, — об их общем знакомом Александре Константиновиче, бывшем поручике. Оказалось, бывший поручик незаметно исчез, пропал с горизонта, скорей всего, куда-то уехал, ни о чем не сказав, даже толком и не простившись. Очень милый, безвредный… но, по мнению Утина, которого он не считал нужным скрывать, довольно пустой человек.
Оспаривать утинское мнение Лиза не захотела, а если и огорчилась, виду не подала. Но вскоре собралась уходить, и Утин на прощанье еще раз напомнил, что ей надо быть осторожной.
— Вам следует перебраться на квартиру потише, поверьте, Элиза… Даже если придется пожертвовать ради этого видом на Монблан!..
Каждый день в кафе «Норд» на улице Роны происходили нежданные встречи, радостные и шумные. Теперь его залой, некогда напоминавшей Лизе российский трактир, безраздельно завладели эмигранты Коммуны. Зачастую уже оплаканные своими товарищами, они хлопали друг друга по спинам, радуясь собственному воскрешению. Ведь в версальских газетах некоторых расстреляли уже не по одному разу!
А если Франкель ошибся, и бывший поручик жив? И отчасти в надежде на это Лиза нет-нет да заглядывала в кафе.
Те, кому фортуна уже улыбнулась, на первых порах могли говорить только о своем чудодейственном спасении.
— Через Лион ехали?
— Нет, через Страсбург…
Самою опасною, по общему мнению, была проверка в Бельгарде, у самой границы с Женевским кантоном — в двух шагах от свободы. Здешнего полицейского комиссара, из бывших республиканцев, назначили сюда потому, что он знал в лицо едва ли не всех членов Коммуны…
Потом неизбежно начинались разговоры о погибшей Коммуне — почему оказалась разбитой, что такое была и что показала… Каждый находил в Коммуне соответствующие дорогой ему доктрине черты и причину поражения искал в отступлениях от нее. Это разнообразие истолкований, которое отражало разнообразие соединившихся в Коммуне интересов, подметил ни разу не побывавший в женевских кафе Карл Маркс. И после того как до Женевы дошло воззвание Генсовета Интернационала о гражданской войне во Франции, написанное (по уверению Папаши Беккера) Марксом (веским подтверждением чему служил мощный, убедительный стиль), словесные схватки в кафе «Норд» вспыхнули с новой силой.
Поистине Коммуна, по словам Маркса, задавала теперь «тяжелую задачу буржуазным мозгам»! Из своего лондонского далека Маркс раскрывал «настоящую тайну» Коммуны. Она была правительством рабочего класса! — вот что самое главное, хотя в ряды коммунаров проникли и «люди другого покроя»…
Много и жестоко спорили о пожарах. Необходимо было жечь Тюильри? Ратушу? Луврскую библиотеку?.. Порою раздавались упреки в сторону чужаков-иностранцев, которым, дескать, не жаль Парижа. Теперь Лиза могла отвечать на это словами воззвания: о том, что огонь — «вполне законное оружие» на войне, о «вандализме отчаянной обороны» и «второй Москве», как-никак она была не только из тех, кому Коммуна предоставила «честь умереть за бессмертное дело», но и соотечественницей Ростопчина, жегшего Москву в 1812-м…
А слова Маркса об истинных парижанках — героических, великодушных и самоотверженных, подобно женщинам классической древности, — звучали для нее как поэма.
В начале июля осведомленные люди сообщили Папаше Беккеру, будто французское посольство домогается выдачи Лео Франкеля, «якобы скрывающегося у Беккера», а также «женщины, носящей имя Элиза, живущей с неким Утиным». Спустя несколько дней, когда, несмотря на протесты, петиции и обращения к властям и вопреки всем обычаям, прямо в кафе «Норд» схватили Эжена Разуа, стало ясно, что шутки плохи. Друзья настояли, чтобы Лиза не откладывая перебралась из своего отеля в более спокойное жилище, охраняемое к тому же женевскими интернационалистами. Общаться с «неким Утиным» отныне приходилось с большими предосторожностями.
Но уединение вовсе не тяготило теперь Лизу. После всего пережитого она даже нуждалась в этом лекарстве. А Лео Франкель, не понимая того, настойчиво звал ее ехать с ним вместе в Лондон:
— Вам нехорошо здесь, в Женеве… глаза дружбы ошибаются редко.
И доказывал, что при нынешних печальных обстоятельствах в одной лишь Англии еще сохраняется политическая свобода, которая позволяет и дальше служить делу пролетариата…
— Кстати, — прибавлял к этому Лео, — знаете, кто сказал так красиво о глазах дружбы? Несокрушимый каменный наш товарищ с бульвара Вольтера! Кто бы мог ожидать от саркастического вольнодумца?!
В другую сторону и по иным причинам собиралась Катя Бартенева. Прожить с детьми на случайные литературные заработки становилось труднее и труднее, решились реализовать оставшуюся после надела крестьян часть имения. Попутно Катю, как всегда, заботила тысяча других дел — и в том числе связанное с поездкою Павла Ровинского за Байкал. Без малого год минул, как передала она ему с известной целью Лизины деньги, однако каких-либо сведений о перемене судьбы сибирского узника покуда не доходило.
Из Сибири Ровинский, во всяком случае, не возвращался.
Происходили, впрочем, не одни расставания. Люди Коммуны продолжали воскресать из небытия, невзирая на колебания швейцарских властей и на вызванные этим угрозы. Приехала Андре Лео, а незадолго до отъезда Бартеневой появился Малон. Еще раньше стало известно, что сообщения о его расстреле ложны. Он скрывался, покуда по чужому паспорту не удалось выбраться из Парижа.
А вот Александр Константинович не появился в Женеве. До Лизы дошли кое-какие слухи о парижском Багратионе — от командира того батальона, где он сражался; точнее, со слов бывшего командира — в передаче тех, кто сам от него слышал о храбром кавказце, погибшем на баррикадах; будто бы отец его был царь имеретинский, а брат — русский генерал… Но имело ли это отношение к бывшему поручику? Можно было только гадать…
Отъезд Кати сильно подействовал на Лизу. Письма из дому тоже звали — и обстоятельные послания матушки Натальи Егоровны, встревоженной молчанием дочери, таким долгим и непонятным, и исполненные нежной грусти (за которой Лизе чудились невысказанные упреки, вполне ею заслуженные, наверно) весточки от Михаила Николаевича… В том душевном состоянии, в каком она находилась, порою так остро хотелось уткнуться лицом в матушкины руки или похлопотать над страждущим братцем, принимая в ответ его тихую радость. Нет, она не думала навсегда возвращаться к этой простой по-домашнему жизни, но окунуться в нее, вдохнуть, повидаться… Утин всячески удерживал ее даже от короткой поездки, приводил веские доводы, уговаривал хотя бы отложить до более спокойных времен. Ведь одно лишь то, что стало известно о пограничных мерах против проникновения бывших участников Коммуны в Россию, делало даже попытку пересечь границу опасной до крайности. Но вот Катю же это не остановило! Но ведь Катя не была Елизаветой Дмитриевой!
Это было, разумеется, правдой. Но ведь надо еще распознать эту страшную Дмитриеву в супруге отставного полковника Томановского!..
Вести из России — не домашние, газетные вести, — к сожалению, утинские доводы подкрепляли. В середине июля опять, который раз, вынырнул из забвения Нечаев. На судебном процессе в Петербурге главным обвиняемым, без сомнения, сделался он, хотя его-то как раз и не было среди едва ли не восьмидесяти подсудимых. Невзирая на все усилия царских, да и швейцарских, ищеек, Нечаеву все еще удавалось скрываться. Утин слышал, будто он подвизается в Цюрихе, пробавляясь писанием вывесок. В пространных судебных отчетах — теперь уже ко всеобщему сведению — выставлялась история убийства студента Иванова; на всеобщее обозрение предъявлялся нечаевский «катехизис» — катехизис революционера! — некогда под строгим секретом расшифрованный Утиным Лизе. Как и замышляли устроители публичного процесса — первого в истории России по политическим обвинениям (подчеркивал Утин), — все это вызывало ужас и отвращение, более, однако, к отсутствующему вожаку, нежели к самим подсудимым; выглядели они скорее жертвами, чем злодеями. А это уже противоречило замыслу устроителей. Студент Енишерлов дошел до того, что в своих показаниях заподозрил, не был ли Нечаев сыщиком. А защитник Спасович говорил, этого подозрения не разделяя, что и сыщик не сумел бы изловить больше людей… Из судебных сообщений возникала отталкивающая фигура — но только не типического революционера, как хотели того устроители, сближая нечаевцев с Каракозовым, Чернышевским, даже с «Интернационалкой» (так именовали в иных тогдашних газетах Международное товарищество рабочих), — и «уликою» служил нечаевский подложный мандат, скрепленный бакунинской подписью!
Между тем процесс продолжался, а рядом с сообщениями о нем стали печататься отчеты о другом судебном процессе — в Версале… и там говорилось о «заговоре Интернационала»! И вот уже в статьях о коммунарах поминают Нечаева, а рассуждая о нем, сравнивают его с коммунарами. Все мешается в одну кучу — по невежеству ли, из предубеждений или из намеренного желания очернить. Лизе невмоготу копаться во всем этом, тем более что огромная гора лжи находит подпорки в иных реалиях. Поведение обвиняемых в версальском суде не слишком достойно. Стараются выгородить себя за счет других, а то и всего дела Коммуны. Словно не было мужества, дерзания, взлета, кипения, великодушия и отчаяния парижан. Словно не было, говоря марксовыми словами, нового мира Парижа. Когда бы не Теофиль Ферре, не Журд, не Тренке, недолго бы и разувериться в том, что было!.. И в эмигрантской среде разладица, взаимная брань и взаимные упреки в поражении, и бесконечная возня подручных Бакунина в Интернационале… Елизавете претит эта пошлость, и ложь, и мелкая суета, она не желает ни слышать об этом, ни тем более участвовать в этом. Она глядит на это на все сквозь кроваво-дымное марево погибающей на баррикадах Коммуны.
В середине августа она получает привет от Маркса. Его дочери подверглись преследованиям на юге Франции, где Женнихен очень медленно оправлялась от плеврита. Но теперь в скором времени их ждут в Лондоне.
Собрался в Лондон, уже окончательно, и Франкель, перед отъездом предпринял еще одну попытку уговорить Лизу присоединиться к нему. Глаза дружбы не ошиблись и на сей раз. Ну конечно же ей несладко в Женеве. И через какое-то время она, быть может, приедет туда, но не сейчас. Не сейчас, Лео… Он же не вправе дольше откладывать свой переезд, в особенности ввиду намечаемой конференции Интернационала. Товарищество представляется ему как бы деревом, чьи корни ушли глубоко в почву разных стран… так что, если одна или даже несколько ветвей обрублены, Лео уверен: дерево от этого не зачахнет!..
И Николя Утин собирается в Лондон, правда, в отличие от Франкеля, на короткое время. Вместе с секретарем Романской федерации Анри Перре они посланы на конференцию Интернационала, назначенную на третье воскресенье сентября, от женевских секций. По уставу еще в прошлом году должен был состояться очередной полномочный конгресс, но обстоятельства не позволили и все еще не позволяли его провести. Сначала это была франко-прусская война, потом Коммуна и последовавшие за нею репрессии и травля Интернационала. В таких условиях Генеральный Совет созывал негласную конференцию — для обсуждения не терпящих отлагательства проблем.
Утин возвращается из Лондона полным впечатлений и энергии. В Артизенс-клаб на Тоттенхем-корт-роуд бакунисты разбиты по всем статьям — в чем он сам сыграл не последнюю роль; при этом конференция поручила Генеральному Совету публично отмежеваться от заговора Нечаева, обманным путем злоупотребившего именем Интернационала, а ему, Утину, предложила собрать и опубликовать материалы по нечаевскому делу.
Елизавета поглощена сборами в дорогу, когда Утин возвращается в Женеву. Для него, впрочем, в этом нет большого сюрприза, недаром в Лондоне держал пари с Женнихен Маркс, что Элиза ни за что не откажется от своего намерения. Женнихен умоляла его употребить все свое влияние, чтобы удержать милую Элизу от опасного шага, а он, обещая сделать все, что в его силах, утверждал, что против ее желания ничего не удастся. Следовало уступить, ибо ее душевное состояние было таково, что даже если бы она отложила поездку, то мучилась бы до тех пор, пока не осуществила бы ее…
Последним, что еще задержало Лизу в Женеве, стало неожиданное появление Жакларов.
О расстреле Виктора Жаклара сообщалось, и не однажды. Но версальцы выдавали желаемое за действительное. На самом же деле после нескольких дней, проведенных у консьержки вместе с раненым Верморелем, Жаклар благополучно выбрался с бульвара Вольтера, но какой-то негодяй узнал его на улице — и выдал. Анну, увы, не обманули предчувствия, из-за которых она отдала Лизе пропуск Воронцовой, и кто знает, как бы сложилась судьба Виктора, воспользуйся им Анна сама. Теперь они наперебой повествовали друзьям историю спасения… очередную историю, исполненную чудес.
Жаклару немало досталось за четыре месяца в версальских застенках! Бежать удалось из тюрьмы Шантье, куда его перевели благодаря заступничеству отца Анны перед самим всемогущим Тьером… Да, старик генерал, вызванный дочерьми в Париж, не устоял перед их мольбами и воспользовался старым знакомством (Софья примчалась со своим Ковалевским, едва получив от Анны письмо, что Жаклар взят).
Всего сильнее впечатлял рассказ о побеге.
В тюрьме Шантье по особым дозволениям разрешались свидания с заключенными. Ковалевские раздобыли два таких дозволения.
— У Виктора в Париже объявилась сестра! — смеялась теперь Анна. — И к тому же замужняя.
— Дозволение-то было на имя сестры, — шутя оправдывался Жаклар, — и ее супруга.
«Супруг» однако остался ждать за воротами, а «сестру» пропустили во двор; там прогуливались заключенные с пришедшими к ним на свидание посетителями. Незаметно «сестра» передала Жаклару второе дозволение. Предупрежденный заранее, он побрился и сумел привести в порядок одежду. Со шляпой в одной руке и с дозволением в другой обратился к тюремному смотрителю, но тот его сразу же оборвал: «Слишком поздно! Через десять минут запирают ворота!» — и вытолкал как докучливого посетителя вон. Жаклар не больно-то сопротивлялся… в этот же вечер отбыл из Парижа в Женеву…
— Вот по этому паспорту! — смеялся теперь он, предъявляя друзьям, коммунарам Монмартра и Батиньоля, бумаги на имя Владимира Онуфриевича Ковалевского.
Это восстание из мертвых опять всколыхнуло надежду на встречу с Александром Константиновичем. Но планов Лизиных уже не смогло переменить. Из дому писали, что Михаил Николаевич совсем нехорош. А то бы еще, наверное, повременила с отъездом… судьба бывшего поручика не могла ей быть безразлична. Пусть вины ничьей нет, но ведь ради нее кинулся в осажденный Париж, ради нее в нем остался и под пули полез оттого — в душе знала, — что сражались женщины… оттого, что она!.. А была ли она справедлива к нему?!
Прощаясь с Утиным на вокзале Корнаван, Лиза обещает ему вернуться как можно скорее, пожалуй, месяца через два-три. Пожалуй, она обоснуется на какое-то время в Англии, а там видно будет… Утин берет с нее слово: сразу же по приезде она отправит телеграмму… К счастью, все обходится благополучно, из Петербурга приходят даже две телеграммы от Лизы, она чувствует себя хорошо и обещает написать подробно. Пока же всем, кто спрашивает о ней, Утин говорит, что она поехала в Италию — на всякий случай; точнее, на тот, если она действительно решит сюда возвращаться… А сообщая о Лизином отъезде и — соответственно — о своем выигранном пари в Лондон, Женнихен Маркс, и прилагая при сем Лизино письмо для Женнихен, он пишет ей, что еще раз убедился в привязанности «сестры Элизы» к семье Маркса:
«Я испытываю признательность к Вам и к Вашему отцу вдвойне: за меня и за это дитя (о, если бы она только слышала, что я ее так называю, ее, претендующую на такое прекрасное знание жизни, — я неизбежно был бы приговорен к ссылке в крепость!!), которому нравится уединенная жизнь, но которое тем не менее нуждается в привязанности людей, проявляющих к нему свою симпатию…»
3
Михаила Николаевича она застала при смерти в меблированных комнатах на Тверской.
С тихой радостью умирал от чахотки отставной полковник Томановский. За долгие годы выработалась в нем привычка к этим приступам кашля, к тошнотворной слабости, к ознобам и липкому поту, и никакое предчувствие не предупредило его о приближении кончины. Напротив, Лизанькины заботы сильнее всяких микстур и припарок пробудили надежду, и заглянувший сосед объявил, что никогда еще не видал полковника в таком добром здравии. Впрочем, Иван Михайлович Давыдовский был гораздо более чем сосед — приятель и даже поверенный в делах друга, о чем Михаил Николаевич не преминул заметить, хрипло, прерывисто, с остановками, представляя Лизе этого нежнейшей души человека, быть может единственного, кто в нем принял участие в трудную пору и выручил, заслужив благодарность по гроб жизни. Ах, сколь краткий обозначил Михаил Николаевич миг, желая, должно быть, выразить этим вечность! Он истлел незаметно, как свечка, и случилось это через два дня после срока векселя, под который Иван Михайлович раздобыл ему деньги, о чем, впрочем, молодая вдова узнала лишь какое-то время спустя. А тогда смогла сама по справедливости оценить доброту Ивана Михайловича, и любезность, и участливость. Словно оправдывая характеристику бедного Михаила Николаевича, в самом деле как единственный друг Иван Михайлович разделил с нею хлопоты по похоронам и всему, что связано с этим. Она испытывала к нему искреннюю признательность, еще усиленную тем, что находила в нем некое неуловимое сходство с человеком, небезразличным ей. В чем оно заключалось, Лиза затруднялась себе объяснить, Иван Михайлович был и моложе Александра Константиновича намного, и собой недурен, а вот чувствовала рядом с ним такую же незащищенность, вернее, даже не рядом, а как раз в отсутствие его, с ним же рядом оказывалась как бы под надежной защитой… И в одно прекрасное утро с очевидностью открыла, что еще одна коллизия из «Что делать?» отпечатывается в ее жизни.
Разумеется, отпечаток был приблизительным, сходство далеко не полное, нет! Но оно было!.. Оно просматривалось во многом… Однако сказанного о Кирсанове, который после кончины чахоточной Настеньки увидел себя в таких отношениях к Вере Павловне, что как бы попал в большую беду, — к счастью, этого Лиза отнести к себе не могла. Трезвость матушки Натальи Егоровны, слава богу, ее не покидала.
Поначалу, в заботах о Михаиле Николаевиче, да и после похорон она чересчур была погружена в приватные свои хлопоты; о чем говорить, если с матушкой Натальей Егоровной увидалась только на похоронах; потом проводила ее в Волок, к старшему брату. И наконец выдалось у нее время оглядеться по сторонам и задуматься.
Что-то в здешнем воздухе поменялось за те годы, что она пробыла за границей. Все насквозь пропиталось одним запахом, и это был запах денег, запах наживы… Но такою ли уж новостью это было в российской жизни? «Век шествует путем своим железным; в сердцах корысть…» — знакомые с детства стихи Баратынского. И глупая песенка из водевиля: «Я умела оценить блеск и блага мира и старалась приманить толстого банкира». А разве в журналах времен молодости батюшки Луки Ивановича, что пылились в Волоке на чердаке, не вычитывала она сентенций наподобие того, что дух века — это, мол, голос, говорящий, что истинное счастье в деньгах, а все прочее — вздор. Не со вчерашнего дня капитал входил в силу в России — по заразительному примеру Европы… Но его практичности, прожорливости, вездесущности в свое время противостояла очистительная сила Белинского, Чернышевского, Писарева… Каракозова даже. Нечаевщина столько сгубила! В ком же нынче мог найти отзвук новый европейский пример?..
В Волоке в ответ на расспросы старшего брата Александра о заграничной жизни она описала виденное и в «сонной» Женеве, и в грохочущем Лондоне, и в буйном Париже, где застала известную Александру Лукичу революцию. Человек начитанный, подивившись тому эпитету, что она применила к Женеве, Александр напомнил ей слова Талейрана: в мире пять континентов — Европа, Азия, Америка, Африка и… Женева! И, когда-то в недолгую пору студенчества знавшийся с нигилистами, попрекнул ее даже тем, что не все наши русские оставались в Париже сторонними наблюдателями. А взамен пояснений — в назидание — дал петербургский «Голос» с корреспонденциями из Франции, где под длинным заголовком «Опрометчивая россиянка, или Здравый смысл, приносимый в заклание на жертвеннике Коммуны» сообщалось с негодованием и злостью о «членше» женских комитетов Парижа Елизавете Дмитриевой, этой чужестранке с затуманенным умом, влюбившейся в «чужие коммунальные бредни уроженке земли, где испокон века вся народная жизнь» следует началам самоуправления.
Когда-то, до замужества, она дружила с братом Александром, их разделяло всего два года… всего два, тогда как с младшим братом, кадетом Владимиром, — целых два, тот казался совсем мальчишкой со своими ребячьими играми, преимущественно в войну. Александру же были не чужды общественные интересы, идеи службы на пользу народа, склонялся даже к воззрениям Чернышевского — впрочем, более на словах. Но именно с ним первым она в свое время горячо обсуждала «Что делать?».
— Видишь, Лиза, как иные россиянки вели себя там, — сказал он ей теперь тоном, начисто отрицающим злопыхательство газетомараки. — Ты случайно с этой своею тезкою не встречалась?
И ведь едва не поддалась искушению поразить брата правдой! Поборола себя. Ответила, что да, с этой Дмитриевой ей пришлось там столкнуться; на братнины расспросы даже кое-что рассказала о ней, однако общеизвестное в Париже. Александр, разумеется, был человек благородного образа мыслей… но по силам ли ему сохранить ее тайну?
Зато после этого разговора уже не могла не задумываться, как же все-таки отозвалась дальняя буря здесь, в России.
Либеральный «Голос» не только «опрометчивую россиянку» обличал, но и всех «коноводов так называемой „Jnternationale“». А «Русский вестник» — тот заявлял без обиняков, что Париж захватили «несколько тысяч негодяев и искателей приключений», и, обвиняя «Интернационалку» в том, что взбудоражила французскую чернь, печатал свидетельство «русского очевидца» о выступлениях в парижских клубах «человека с пламенной речью, говорившего на ломаном французском языке» — Маркса… Чего еще можно было ждать от Каткова? Пожалуй, более удивили «Отечественные записки». Петр Боборыкин писал не без сочувствия о революционной всемирной столице, где «впервые выступил работник с грозной артиллерией», — и открыто осуждал «погром майских дней»… Там же, в Волоке, в декабрьской книжке некрасовского журнала она успела прочесть повесть о коммунаре, который в дни кровавой недели предпочитает гибель спасению. В этом Жюле Тарро многое напоминало Варлена…
Значит, что же, под пеплом нечаевщины не все прогорело? Вот брат Александр слыхал даже о петербургском студенте-технологе, еще в июле схваченном за прокламации о Коммуне. Теперь говорили, что его скоро должны судить. Да только много ли значил один студент с несколькими листками, которые кое-кто прочитал в Технологическом институте… и тот за решеткой! Нет, четыре года тому, когда она уезжала, было не так. Что-то теплилось… Вера в возвращение Чернышевского хотя бы! Теперь же как бы не пришлось ждать, пока торговый капитал, пышным цветом расцветший в этом обществе, не обратится в промышленный, чтобы родить своего кормильца и могильщика — пролетариат, ждать долго, быть может, и жизни не хватит дождаться…
А вот в Волоке мало что изменилось. Все та же нужда средь крестьян, те же хлопоты матушки Натальи Егоровны по дому… и, быть может, в самом деле могла бы осуществиться наивная мечта уткнуться по-детски в матушкины руки, сбросить тяжесть с сердца, когда бы не эти беседы с братом, не это неожиданное напоминание об «опрометчивой россиянке»… не тревога за попавшего в беду Давыдовского, наконец.
Задержалась она в Волоке ненадолго, уехала с тою же тяжестью на сердце, с какою приехала туда. Написала в Женеву к Утину. Обратилась к нему как к другу, как к недавнему наставнику своему. И призналась, что в тревоге спрашивает себя, уж не любит ли этого человека… Николя откликнулся, как она и надеялась, без промедления, уговаривал ее не торопиться с решениями, обещая навести о нем справки; уверял, что она еще встретит человека, ее достойного.
Но пока почта возила их письма туда и обратно, Лиза поборола свою тревогу. Отвечала Утину, что больше уже не думает о Давыдовском иначе нежели о знакомом, что он действительно произвел было на нее некоторое впечатление, однако иллюзия эта утрачена… и что она задыхается в России. Утин почему-то долго молчал (виновата оказалась почта — или полиция: два его письма не дошли), и, теряя терпение, Лиза отправила ему длинную телеграмму, оповещая о своем желании как можно скорее вернуться at home (этим home на условном языке обозначалась… Европа). Телеграфный же ответ Утина гласил, что все будут рады вновь увидеть ее.
Тут, к несчастью, заболел ее добрый знакомый, и под наблюдением того же доктора, что прежде пользовал Михаила Николаевича, она принялась его выхаживать, отдавая долг доброты. За болезнь он немало порассказал, и, похоже, безо всяких прикрас, хотя поначалу к его речам она отнеслась без доверчивости, как ни откровенны казались. И того, как очутился под следствием, не утаил.
С какой стати Лиза выслушивала его излияния?! А ведь выслушивала — и сострадала тому, что жизнь так устроена, что окунает юнцов в кипяток, это Иван Михайлович ловко сказал, с головой окунает. Он и вообще говорил ловко, надо было отдать ему справедливость. Да она-то сама поварилась в таком крутом кипятке, что другим и представить себе невозможно. На его рассказы отвечала своими, пусть послушает, может быть, что-то новое узнает о чаше, из которой, сдавалось ему, испил уже до донышка все. О фиктивном своем замужестве вспоминала (на что он откликнулся: «Вон как, значит, а я удивлялся…»), и о проектах мельниц в Холмском уезде, и о Женеве, и кое-что о Лондоне, и даже кое-что о Париже… Все это, понятно, не разом, постепенно, исподволь, по мере того, как привыкали друг к другу в продолжение долгих вечеров.
Но порою спохватывалась: чего ради вздумалось ей просвещать этого человека? Или просто оттолкнуть не хотела, наученная горьким собственным опытом… ах, Александр Константинович, ах, голубчик, в дорогую цену обошлась вам сия наука, по этому векселю Лизавета Лукинична в долговой тюрьме перед вами по гроб жизни! Не дай бог долгов неоплатных… а у нее накопилось: Александра Константиновича урок, и Михаила Николаевича урок, и даже благородного гражданина Флуранса — не уберегла, промедлила, уберечь не поспела… Да Ивану Михайловичу к чему знать про то. Просто думала раскрыть перед этой, по сути доброй, запутавшейся душою куда более широкий мир… заплатить по векселю с немалым процентом, перед тем как отбыть восвояси — at home.
Но однажды он ей сказал:
— Ах, как я понимаю вас, Лизавета Лукинична, быть может, даже так, как никто!..
— В чем же это именно — как никто? — он ее озадачил.
— Над нами тяготеет один долг — над вами и надо мной! Это он велит вам вернуться в Женеву и он же заставляет меня пожертвовать многим…
Оба они перед своими товарищами в долгу!
Он, конечно, имел в виду — под своими — отнюдь не тех господ, которые наговаривали на него. Да, в отдельных своих поступках он был, к сожалению, небезупречен. Но пусть поверит она, не своекорыстия ради. Не будь уста его сомкнуты данным товарищам словом, уж от нее-то он не стал бы скрывать. А следователям бы не открыл ни за что, хотя это сразу выделило бы его. Но участь его облегчило едва ли и к тому же навело бы на дальнейшие разыскания, ибо даже намек потянул бы за собою цепочку, начиная с передачи его самого из лап полицейских в жандармские, что и для товарищей его грозило обернуться плачевно… К несчастью, даже ей он не вправе открыть ни товарищей своих, ни предназначение того фонда, для увеличения коего действовал, и лишь намекает. Одно при этом может служить к его утешению, что в подобных делах она, поди, разбирается не хуже, чем он.
Спору нет, туманность его слов была для нее вполне объяснима. И такой путь к отрицанию существующего порядка казался возможен… Все его действия по-новому представали. В самом деле, кто же лучше нее мог знать, чего в первую очередь всегда не хватает любому революционному замыслу. Тому был свидетель не только собственный опыт. По рассказам Ольги Левашовой, к примеру, еще ишутинцы, собираясь устроить на социальных началах завод — кажется, ваточный и, кажется, в Можайском уезде, — все думали, как добыть для этого средства. Ольга, помнится, передавала слышанные ею разговоры о том, что надо убить с этой целью одного купца или же ограбить почту. Тогда, правда, ограничились разговорами. Но после Нечаева за что было осуждать Давыдовского — его проступки казались ей вовсе невинными! В иных обстоятельствах могла бы насторожить в его речах некая эпистолярная бойкость, говорил как писал. Но здесь ее поразило другое. Пала преграда, казалось бы непереступимая, между ними!
Из архива Красного Профессора Отдельные выписки
Из воспоминаний А. Н. Куропаткина, царского генерала:
«В последний год моего пребывания в училище, в 1865―1866 гг… я часто проводил время с младшей дочерью Натальи Егоровны Кушелевой — Лизою, моей сверстницей по возрасту. Это была выдающейся красоты девушка, с благородным образом мыслей и способностью говорить образно и пылко. Она уже была в большей мере, чем я, проникнута идеями службы на пользу народа и непрерывно доказывала мне необходимость оставить военную службу и идти в народ… звала меня в сотрудники по той работе, которую она мечтала создать для себя…
Через 6 лет, уже находясь в Академии Генерального Штаба, я снова встретился с Лизой… мы встретились не только как старые знакомые, но как друзья. Скоро, однако, Лиза обнаружила ясное намерение вовлечь меня в революционную организацию, в которой состояла. По-видимому, она имела по отношению ко мне и другим офицерам подобное поручение. Расчет был на ее красоту и увлекательное красноречие. Эти средства были действительно могущественны. Красота Лизы достигла полного расцвета, а ораторская практика в Женеве для нас, армейских офицеров, могла оказаться неотразимою. Мы виделись несколько раз, и каждый раз речь шла все об одном и том же: ради пользы России надо произвести насильственный переворот, для чего в составе революционных деятелей должны быть офицеры. Один раз она привезла ко мне план Петербурга и — неизвестно по чьему поручению — просила выяснить теоретически: какие части города, здания и учреждения надо прежде всего захватить в руки революционеров, когда вспыхнет восстание. Связанный присягою, которую высоко чтил, я считал нечестным вступать в такие разговоры и решительно отказался отвечать…»
Комментарии И. С. Книжника-Ветрова (см.: Книжник-Ветров И. С. Русские деятельницы Первого Интернационала и Парижской Коммуны):
«Из этого рассказа ясно, что в Петербурге… существовал революционный кружок якобинско-бланкистского типа, стремившийся прежде всего к политическому перевороту путем заговора среди офицерства… стремления подобного рода были высказаны в 1873 г. в Цюрихе русско-польской эмигрантской группой Каспара Турского и Карла Яницкого. С конца 1875 г. подобные взгляды в журнале „Набат“ развивал П. Н. Ткачев. Но о существовании кружка с подобными стремлениями в Петербурге в начале 1872 г.[5] мы узнаем впервые…
По-видимому, Давыдовскому удалось убедить Елизавету Лукиничну, что реальный осязательный результат в ближайшем будущем может дать только политический заговор решительной революционной группы, которая свергнет самодержавие при поддержке нескольких полков, возглавляемых революционными офицерами… По-видимому, Елизавета Лукинична, имевшая многочисленную родню из лейб-гусарской офицерской среды и много знакомых офицеров, благодаря своим познаниям в истории революционных переворотов, благодаря только что пережитому опыту в дни Коммуны и, наконец, в силу своего умения убедительно говорить, казалась Давыдовскому предназначенной самой судьбой к тому, чтобы сыграть большую роль в предстоящей русской революции…»
4
В Петербурге Лиза наведалась к Кате Бартеневой. Катя встретила ее как родную. Последний раз видались в Женеве перед Катиным отъездом в Россию… больше полутора лет минуло. Катя была прежняя, вся в заботах, Лиза не замечала в ней каких-либо перемен. Дети, затруднения в деньгах, поиски литературного заработка, словом, все то же самое, что в Женеве, не исключая, разумеется, революционной работы.
— Ты-то как? Ты-то как?! — перебивала Катя себя, не давая, однако, Лизе и рта раскрыть; столько успело накопиться за это время.
— Я очень тогда за тебя тревожилась, узнав, что ты все-таки едешь, ведь я-то, знаешь, в какой переплет попала? Границу в Вержболове пересекли, никаких придирок, так что даже вздохнула легко, и вдруг, представляешь себе, в Петербурге на перроне жандармы! Отобрали все вещи! С повивальной бабкой обшаривали. Видно, кто-то за веревочку дернул. Но ничего не нашли, да и не было ничего, слава богу, как предчувствовала, ничего на сей раз не везла. С тобой чего-нибудь подобного не случилось? — вдруг спохватывалась она. — Страшно даже подумать, что было бы, если бы тебя распознали!
Лиза успевала лишь в ответ улыбнуться, как Катя, отметив ее конспиративный талант, а также то, что родилась Лиза в сорочке, возвращалась на круги своя. В Петербург угодила в разгар суда над нечаевцами. Прежние знакомые, сочувствующие и, бывало, даже готовые оказать услугу, руку едва подавать стали. А потом всех сковала такая спячка, что прямо мертвечиной пахнуло. Чайковцам, правда, удалось себя сохранить, хотя Натансона, первого, можно сказать, недруга нечаевского, упекли и сослали. Но все же хоть малое шевеление: кружки самообразования, кружок юнкеров. С Интернационалом же, при всем к нему интересе, вступать в сношения смысла не видят — пока, дескать, нет у нас сильной организации среди крестьян и рабочих. А наши студенты в Цюрихе, говорят, разделились на лавристов и бакунистов и бьются друг с другом. Катя верила в близкое пробуждение от посленечаевской спячки и даже собиралась в Цюрих к Лаврову раскрывать ему глаза на Бакунина.
— Если, разумеется, они у него еще не до конца раскрылись. Кстати, ты, конечно, слышала, что приключилось в Цюрихе с нашим Утиным? Этакой низости трудно было ожидать даже от бакунистов, как ни крепко им Николя насолил. Напасть ночью бандой на одного!.. Ну чем не нечаевщина, сама посуди! И тут же после нападения, едва поднявшись с постели, он должен хоронить брата, и тут же нелепейшая дуэль другого брата, Евгения, адвоката, за которую того в крепость. Как говорится, беда в одиночку не ходит… Евгений-то Утин, между прочим, защищал технолога Гончарова, что распустил прокламации в поддержку Парижской Коммуны… Ты давно не имеешь известий от Николя? И так он все глазами болел, а после этого случая в Цюрихе почти ослеп, бедный, даже на конгресс Товарищества не смог в Гаагу поехать! Но усилия Николя не пропали даром… Бакунин от Интернационала там свое получил!
Об исключении Бакунина, так же как об утинских бедах, Лиза, разумеется, и без Кати знала, но переписка их с Утиным последнее время расстроилась — и не только по той причине, что у Николя плохо с глазами… Ведь писать ему значило сообщать о переменах в жизни, не позволила бы себе с ним лукавить.
Когда Катя выговорилась (насколько в ее возможностях было), Лиза как бы между прочим (хотя именно в том заключалась одна из причин ее прихода) спросила, нет ли каких сведений о настроениях в офицерской среде; а на Катино недоумение по поводу такого ее интереса отвечала совсем в духе суждений Ивана (постепенно все же приоткрытых им ей). Дескать, решительного результата при нынешних обстоятельствах можно у нас добиться лишь вследствие военного заговора против самодержца. Разве дичайшая судьба Чернышевского не окончательно убеждает в этом? И разве она не заслужила отместки?!
Однако, на Катин взгляд, от рассуждений этих сильно попахивало давно ушедшими временами, двадцать пятым годом к примеру.
— И потом, сама посуди, какие могут быть сведения? Заговорщики ведь не станут кричать о себе заранее на перекрестках!
— О кружке юнкеров ты же сама говоришь! — возразила ей Лиза.
— Ну, кружок — это совсем иное: самообразование.
— Что же делать, если пролетариата у нас покуда попросту нету? — попыталась по-своему подкрепить Иванову правоту Лиза. — Когда даже в Париже он оказался еще незрелым? А уж в наших условиях, при отсутствии сколь-нибудь развитой промышленности и класса индустриальных рабочих, — для социалистической пропаганды какая может быть почва?! Но что-то надо же делать!
В ответ Катя вдруг вспомнила — быть может, разговор про военных и про Париж ее натолкнул — о бывшем поручике, об Александре Константиновиче: нет ли известий о нем?..
— Ничего сверх того, что мы знали в Женеве…
Лиза вздохнула и в свою очередь поинтересовалась Ровинским. Узнать о нем было другою важной причиной ее появления к Кате.
— Ровинский в Петербурге или, вернее, поблизости от Петербурга, — сказала Катя. — И мы с тобой вправе спросить у него отчета.
Они условились повидать Ровинского не откладывая.
По возвращении из Сибири Ровинский, по словам Кати, стал заведовать в окрестности Петербурга колонией для малолетних преступников. Лизу удивило, что Катя взяла туда с собой своего младшего, семилетнего Гришу.
— Не беда, пусть посмотрит, как исправляются плохие дети, — отмахнулась Катя.
Ехать было недалеко, за Охту. Дорогой выяснилось, что Катя видела Ровинского после Сибири лишь мельком и сама не знает в подробностях тех причин, что помешали ему осуществить «торговое дело». Как будто кто-то проведал об этом, и Ровинского предупредили, что его ждет участь Германа Лопатина, арестованного в Иркутске. Во избежание недоразумения Катя сочла нужным напомнить Лизе, что уговора о возвращении денег в случае неудачи между ними не было, да и быть не могло, поскольку с самого начала всем было понятно, что это «торговое дело» сопряжено со значительным риском.
— Разумеется, — даже несколько обидевшись, согласилась Лиза, — да разве меня заботят лишь деньги? — и добавила, что, однако, и деньги для нее теперь имеют значение.
— А помнишь, — неожиданно сказала Катя, — как вы с Александром Константиновичем подсели к нам с Виктором в кафе «Норд»? Не с этого ли, в сущности, все и началось для тебя?
Ровинский оказался чернобородым и черноволосым, с намечающейся лысинкой, энергичная повадка и прямой крупный нос выдавали характер. Принадлежал, похоже, Павел Аполлонович к тому счастливому разряду людей, для которых их занятие представляется наиболее важным на свете. Он сразу же принялся знакомить гостей со своим заведением.
Всего несколько лет назад живописная эта местность была покрыта сплошь болотистым лесом, и расчистка досталась на долю первого поколения воспитанников… Обучали здесь и земледелию, и ремеслам. Павел Аполлонович признавал в своей деятельности не столь карательные, сколь воспитательные и учебные задачи, полагая, что воспитанники таких заведений более всего нуждаются в обстановке, по мере возможности близкой к семейной, чего они, как правило, с малых лет лишены. Истории этих детей, рассказанные Ровинским, бывали ужасны, а изменить наклонности, во многом объяснявшиеся этими историями, стоило немалых усилий и удавалось, увы, не всегда.
Из окон директорского дома открывался вид на обширное поле, по краям аккуратные жилые домики, столовая с кухней, церковь и несколько поодаль — мастерские.
Когда Павел Аполлонович впервые увидел эту колонию, хотя и не в столь завершенном виде, сибирские его впечатления были еще свежи. Пусть поверят ему, у него есть много чего порассказать об том крае, где, как прекрасно выразился Некрасов, воздух пылью ледяной выходит из ноздрей… Но к месту он желал бы заметить, что, читая эти поэмы про княгинь-декабристок, невольно думал о своих сотоварках, и о Кате Бартеневой в их числе.
— …Наверно, с не меньшими основаниями мог бы думать и о вас, Елизавета Лукинична! — с полупоклоном в ее сторону добавил он.
— Кстати, — поинтересовалась Катя, — не вспоминают ли там, в Сибири, моего деда, генерал-губернатора Броневского?
— Действительно, у вас и в этом смысле есть сходство с ними!.. С самим Пестелем даже! Нет, не слышал, чтобы генерал-губернаторов вспоминали, ни Пестеля, ни Броневского…
И повторил так хорошо переданную Некрасовым ростопчинскую шутку: «В Европе — сапожник, чтоб барином стать, бунтует, — понятное дело! У нас революцию сделала знать: в сапожники, что ль, захотела?..»
Так вот, среди бродяг сибирских, или варнаков, или чалдонов, встречающихся там повсюду: и на большой дороге, и на глухих перевалах, где-нибудь между Енисеем и Леной или между Селенгою и Ингодой, и превзошедших, скитаясь из острога в острог, всю науку, мораль и законы острожной жизни, попадается немало почти что детей, таких же, как эти… Будущность здешних воспитанников представляла столь резкий контраст по сравнению с тем, что ожидало сибирских их сверстников, что именно это сыграло главную роль в решении Павла Аполлоновича здесь остаться.
Наконец-то он заговорил о Сибири, но едва отвлекся от прежней, видимо, целиком поглощавшей его ныне темы, как она вновь обращала его к себе. И Лиза решила без обиняков задать вопрос о «торговом деле». Предваренный Катею о Лизином в нем участии, Павел Аполлонович отвечал с обстоятельностью, судя по всему вообще ему свойственной.
После переговоров с Катей тою же осенью он добрался до Иркутска, имея помимо «торгового» также поручение легальное, Географического общества, в качестве натуралиста и ориенталиста. В Иркутске ему удалось повидаться с Германом Лопатиным, прибывшим туда по тому же «торговому делу», хотя и от другой «компании». Разумеется, о конкуренции между ними не могло быть и речи, условились действовать «компаньонами», сообща. Не успел, однако, Павел Аполлонович покинуть Иркутск, как Лопатина схватили. Вообще надобно заметить, что местные власти были крайне тогда озабочены неопределенностью с Чернышевским, каторжный срок которого кончился, а о дальнейшей участи пока указаний не было, тем более что по жандармским каналам доходили сведения о возможной попытке насильственного его освобождения. И Ровинский, и Лопатин пришли потом к выводу, что проболтался, должно быть, кто-то в Женеве, наводненной сыщиками в связи с охотою на Нечаева… Тогда же, в ожидании случая побывать в Александровском заводе, где находился Чернышевский, дабы снестись с ним, Павел Аполлонович исполнял свои географические обязанности; зимою даже странствовал по Монголии, из Кяхты в Ургу, а летом отправился в Забайкалье к старообрядцам, поближе к «торговой» цели. И там наконец выдался-таки долгожданный случай попасть в Александровский завод, и притом сопровождая читинского губернатора, пригласившего его с собою в объезд области. Благодаря одному лишь этому обстоятельству Павла Аполлоновича обуяли радужные надежды, да тут еще вдобавок обнаружилось, что и комендант Александровского завода ему знаком. Находясь от Николая Гавриловича в какой-то сотне шагов, при таких условиях представлялось проще простого свидеться с ним. Увы, на деле легче оказалось одолеть пять тысяч верст перед этим, нежели последнюю эту сотню шагов.
С комендантом сразу же по приезде произошел разговор.
«Вы, быть может, будете добиваться свидания с Чернышевским? — без обиняков предположил этот знакомый Ровинского. — Он ведь, кажется, вам родственник…» — «Мм-да, — замялся в изумлении Павел Аполлонович, — родственник…» — «Ну, так я не советую этого делать, — на правах знакомого предупредил комендант. — Получена бумага: как только вы потребуете свидания с ним, велено вас арестовать!..»
Что после этого они приказали бы ему делать? Ничего другого не оставалось, как поблагодарить коменданта и отложить попытку, тем паче что и судьба Николая Гавриловича была по-прежнему не определена, и сам Павел Аполлонович не собирался еще в обратный путь, намереваясь, по географическому своему интересу, провести зиму в Чите между казаками, а весною отправиться на Амур… Кто знал, не представится ли тем временем более благоприятная возможность… Бумагу же, о которой упомянул комендант, вызвал арест Лопатина; свидание с ним, по-видимому замеченное кем надо в Иркутске, подвело и Ровинского под подозрение… Но так случилось, что ему пришлось переменить свои планы и, не возвращаясь в Читу, повернуть, распростясь с губернатором, в противоположную сторону, в Нерчинск; купцы сибирские пригласили его в экспедицию, снаряженную для прокладки нового, тут уже без кавычек торгового, пути в Китай. Прокачавшись четыре месяца с караваном верблюдов, побывав во многих необыкновенных местах, вплоть до Долон-нора, до Калгана, наконец он вернулся в Нерчинск и тогда лишь узнал, что Чернышевского уже нет в Забайкалье и что переведен он в Якутию, в Вилюйск… Пусть поверят ему, что даже предложение совершить еще поездку по Амуру весьма слабо его тогда утешило.
Увы, предприятие его «компаньона» завершилось еще печальнее, оно вконец обанкротилось, «компаньона» же за долги задержали… однако это уже другая история, а Павел Аполлонович не хотел бы наскучить своим гостьям.
Лишь еще одной стороны своих путешествий, по всей видимости, он обязан коснуться, если только правильно понял Катю. Разумеется, средства, какие имел на дорогу, он издержал без остатка. И весьма затруднился бы отделить те из них, что ушли непосредственно на «торговое дело». Признавая, однако, свой неуспех, а также учитывая обстоятельства Елизаветы Лукиничны, какие изложила ему Катя, он готов какую-то часть возвратить, едва лишь только представится к тому возможность…
После двух дней, проведенных у гостеприимного Павла Аполлоновича, Лиза с Катею и маленьким Гришей (который был явно разочарован знакомством с плохими детьми, оказавшимися вдвое его старше) возвращались тем же Пороховским трактом в Петербург, обсуждая дорогою виденное и слышанное. За нерешительность в Александровском заводе Лиза осуждала Ровинского. Такой путь проделать — и испугаться пустячной угрозы, нет, она бы на его месте рискнула! В колонии она с трудом удержалась, чтобы не высказать ему это, хоть и прекрасно сознавала бессмысленность запоздалого на два года упрека, да и он мог связать подобный упрек с денежной стороною. Но уж Кате высказалась. Защищая Ровинского, Катя спорила — задним умом, дескать, все крепки, оправдывала его надежды на возможный другой случай. Неужели Лиза не увидала, что этот человек отдается делу своему без остатка?!
Ну, это-то Лиза, конечно, и сама могла разобрать, тут ей Катя глаз не раскрыла. И по тому, как Павел Аполлонович ныне был увлечен исправлением и воспитанием своих подопечных, нетрудно было представить себе, с каким одушевлением действовал он в свое время в тайной «Земле и воле», и как досконально изучал географию Сибири, и с каким самоотвержением стремился исполнить «торговое дело». Подобные люди Лизе не единожды встречались, в особенности же в Париже. Всякая новая цель поглощает их целиком, в этом Катя совершенно права — без остатка, что ж до выбора самой цели, то каждый раз этот выбор во многом диктуют им обстоятельства. И вот нынче у нашего энтузиаста кумир Песталоцци, как намедни был кумир Чернышевский!..
— Ты судишь в сердцах, — заметила Катя Лизе на это. — Но скажи, неужели это такой уж дурной сорт людей? По мне, так скорее напротив! И ты, ты сама, твоя Елизавета Дмитриева — разве этому сорту людей не сродни?! — И Катя добавила не без горечи: — Одно только загадка для меня, на что ты расходуешь себя, энтузиазм свой теперь!..
Но Лиза не захотела поддержать этого разговора, и на Невском проспекте они расстались с Катею — холоднее, нежели встретились.
Из архива Красного Профессора Отдельные выписки
Из метрической книги московской Новопименовской церкви:
«1873 г. Августа 22 дня неслужащий дворянин Ефремовского уезда Тульской губ. Иван Михайлов Давыдовский повенчан первым браком со вдовою Мышкинскою помещицею Елизаветою Лукиною Тумановскою».
Из письма К. Маркса дочери Женни от 14 августа 1874 г.:
«…Вчера вечером у меня были Франкель и Утин. Последний сообщил, что г-жа Томановская вышла замуж. (Он не знал точно, когда было подготовлено предстоящее разрешение ее от бремени — но это строго между нами — до или после замужества. Кроме того, он также ровно ничего не знает о счастливом супруге.) Франкель очень страдает от этого неожиданного удара…»
«В 1874 г. у Елизаветы Лукиничны родилась дочь Ирина, в 1875 г. — вторая дочь, Вера».
(Книжник-Ветров И. С. Указ. соч., стр. 119)
Из воспоминаний В. Н. Фигнер о встрече с Е. Дмитриевой в 1876 г.:
«…Передо мной стояла высокая, стройная молодая женщина в черном, хорошо сшитом платье. С густыми темными волосами, собранными в прическу, с правильными, довольно крупными чертами свежего лица, она была эффектной фигурой, которая всюду могла остановить на себе взгляд…
По ее убеждению, в России нет почвы для социалистической пропаганды, которой занимается теперь революционная молодежь… При современных экономических условиях, при полном отсутствии развитой промышленности и класса индустриальных рабочих в России революционная пропаганда не может находить сторонников и приводит лишь к гибели пропагандистов… В пролетариате социализм найдет сторонников, и пропаганда пойдет успешно…
Эти речи, при моих тогдашних взглядах народницы… казались неслыханной ересью…» (Из архивного фонда В. Н. Фигнер; записано в 1936 г., частично опубликовано в 1977 г.)
5
— Елизавета Лукинична?
Маленькая, хрупкая барышня, почти девочка, дождалась, пока дверь за ней затворилась, и прошептала:
— От Марка Андреевича…
В полутемной прихожей гостиничного номера лицо трудно было разглядеть, но когда, скинув пальто и шляпку, она прошла в комнату, Лиза отметила и твердость ее походки, и строгость хорошо сшитого платья, и пышную косу короной над ровным пробором, и прямой взгляд карих блестящих глаз.
— Фигнер Вера… — вскинув глаза на Лизу, чуть помедлила и протянула руку, — Николаевна.
Это имя ни о чем не говорило, в отличие от названного ею в дверях. С Марком Натансоном, основателем кружка чайковцев и известным противником Нечаева, еще начиная Русскую секцию, пытался связаться Николя Утин. С тех пор Лиза не раз о нем слышала, познакомиться же случилось только недавно, при посредстве все той же Кати Бартеневой; и они с Катей вспоминали при Лизе свои давние встречи, когда Марк едва ли не каждый день являлся в самый дальний конец Васильевского острова к приехавшей из Женевы Кате, чтобы обсудить с нею возможные связи с Интернационалом… Немало воды утекло; теперь за плечами у Натансона и Петропавловская крепость была, и долгая ссылка.
Он открыто говорил о положении дел — положение было, увы, плачевным, кружки разбиты, у многих рухнули надежды, многие под арестом… деревня не приняла пропаганды, приблизиться к мужику не сумели… и все-таки, несмотря на все, кое-что остается, чтобы продолжить начатое. Но не повторять, ни в коем случае, нет, а, оценив прошлое, выработать новые начала, наши, российские, отвечающие народному сознанию. Беда в неумелости, неподготовленности деятелей. Нужны не порывы, а терпеливая и кропотливая работа. Община, владеющая землей, — вот народный идеал, с социалистическим учением совершенно согласный, во имя его и следует бороться, во имя земли — и воли!
Старым, давно прошедшим пахнуло от этих слов, давно прошедшим — и ушедшим, — от этого кредо уважаемого революционного деятеля, и Лиза сказала:
— «Земля и воля»! Тому уж пятнадцать лет — Чернышевский, братья Серно-Соловьевичи, Николя Утин!..
— Ну и что из того! — с запальчивостью возразил Натансон. — Мы, народники, сознательно поднимаем их знамя!
А на ее возражения, что в силу условий российской жизни, при отсутствии развитой промышленности и класса рабочих революционная пропаганда обречена на неудачу, он отвечал с резкостью, что эмиграция оторвала кое-кого от России, западные семена на нашей почве не произрастают, а за этот урок многие его товарищи заплатили свободой.
— В таком случае в деревне вас всех переловят! — уверенно предрекла Лиза.
Единственным, что как-то еще могло переменить нынешнюю обстановку, ей-то с некоторых пор представлялся насильственный переворот — и по этой причине революционной партии следовало бы искать поддержку в первую очередь в военной среде…
От речей Натансона, увы, опять повеяло прошлым. На сей раз — Бакуниным, недавно умершим в Берне. Идеи его, однако, не ушли вместе с ним. Если даже предположить, что Катя не без умысла привела ее к Натансону, а в надежде вовлечь в работу — вместе с «теми, кого выдвинула русская жизнь, и тем оружием, которое она им диктовала», — то к концу разговора сделалось ясно, что попытка эта не может привести к желаемому результату.
— Вы лучше нас знаете, — обращаясь к Лизе, говорил Натансон, — что на западе политическая свобода не осчастливила народ. Мы хотим бороться исключительно на почве экономических отношений.
(Кому из них могло прийти в голову, что всего три года спустя, вконец разуверясь в пропаганде, товарищи Натансона начнут настоящую охоту на царя.)
И вот теперь — эта барышня от Марка Андреевича; должно быть, ровесница Лизе, она выглядела много моложе, но характер угадывался в ней сразу.
— Марк Андреевич спросил меня: хочешь познакомиться с коммунаркою Дмитриевой, ну, и я конечно же загорелась, — говорила она, с жадным интересом продолжая рассматривать Лизу, — только, признаться, ожидала увидеть женщину, ну как бы это выразиться… средних лет, а ведь мы с вами, пожалуй, почти одногодки. Не правда ли, удивительно: когда вы сражались на баррикадах, я только еще собиралась в университет!
— Вы окончили университет? — спросила Лиза.
— К сожалению, пришлось оставить его незадолго до окончания, чтобы вернуться в Россию.
— Вон как… откуда?
— Из Швейцарии. Я училась в Цюрихе, потом в Берне, и когда приехала туда — в семьдесят втором, весною, — там было немало изгнанников Парижской Коммуны… Живая, современная революция не могла не привлекать нас, узнавали о ней не от историков, а от участников, очевидцев… И, конечно, рассказы о загадочной русской красавице на баррикадах Парижа не оставляли в нашей среде равнодушных, мы расспрашивали о ней знакомых членов Коммуны — к примеру, Лефрансэ…
— Но что же помешало вам получить диплом? — перебила Лиза.
— Прошлогодний разгром, аресты товарищей… Я должна была вернуться домой… В Петербурге, впрочем, я ненадолго. Собираюсь в деревню, фельдшерицею в земстве… Вы, однако же, Марк Андреевич говорит, не сочувствуете нашей работе в народе?
— Как же можно сочувствовать гибели молодежи?! — воскликнула Лиза. И с твердостью пояснила: — Да, не вижу в крестьянской России почвы для социалистической пропаганды. Пока нет развитой промышленности, нет класса пролетариев, это только трата сил, бесполезные, бесплодные жертвы!
— Вы жестоко судите, очень жестоко. Если бы вы знали, какую трудную пору наше движение переживает… А нас и без того так мало, временами кажется, лучше бы умереть…
Девочка, хотелось сказать в ответ на обвинение в жестокости этой барышне и погладить ее по головке, милая, кому ты рассказываешь о революционном отчаянии и одиночестве — тому, кто все это пережил сильней во сто крат… и все-таки Лиза сдерживалась, чтобы выслушать до конца.
— …И, однако, мы восстанавливаем разрозненные ряды — в надежде понять, что за сфинкс народ, отыскать путь к его сердцу… Нас пока что, повторяю, немного, каждый деятель на счету, а вы, с вашим опытом, вместо того чтобы нас поддержать, пытаетесь приложить к русскому человеку чуждую ему чужеземную мерку! — и вскинула опущенную было голову: — Что же мы, по вашему мнению, должны делать?!
— Что делать? — повторила Лиза вечный вопрос. — Хорошо, я скажу вам, как понимаю. Всеми силами способствовать развитию промышленности, вот что важно. Самим устраивать фабрики и разного рода промышленные заведения. Будет промышленность — будет рабочий класс — будут сторонники у социализма!
— Боюсь, — тихо сказала Вера Фигнер, — вы недостаточно знакомы с условиями, в каких мы существуем… и действуем.
— А вы? Вы сами?
— Мы стараемся их узнать — для того и в деревню идем…
— Далеко ли?
— На Волгу…
— Ну и я, как видите, здесь в гостях… — Лиза обвела рукою тесную комнату с узким окном, выходящим на унылый гостиничный двор; петербургский дом ее детства сохранился лишь в воспоминаниях, во всяком случае для нее. — Только мне, по всей видимости, предстоит дорожка еще подальше.
— Далеко ли?
— В Сибирь…
И сказала о главном, что привело ее теперь в Петербург, об арестованном муже и необходимости найти хорошего адвоката.
— Не спешите выводить мнение о людях из одного того, к какой компании их пристегнули! — горячо и вместе с тем наставительно заявила она и — для самой себя неожиданно — принялась с жаром защищать Давыдовского перед этой строгой девочкой, как будто перед судом, уверяя, что он невинен, что он прекраснейший человек, бескорыстный, доверчивый, лишь по молодости лет был запутан… Словом, все высказала, кроме того, главного, о чем сказать не могла даже такой слушательнице, которая, безусловно, вызывала к себе доверие. И в конце своей защитительной речи пообещала исполнить свой долг. Она повторила, как поклялась: — Если его осудят в Сибирь, я решила ехать за ним!..
— Что же вы там станете делать, в Сибири, Елизавета Лукинична?
— Займусь каким-нибудь производством, огляжусь, понятно, и со временем, надеюсь, устрою фабрику или завод… Я с юных лет к этому стремилась — мечтала о мельницах у себя в Холмском уезде… А опыт… опыт приобрела — в Париже, — организуя общественные мастерские… Поверьте, милая моя, это не пустые слова: без рабочего класса революционная деятельность бесполезна.
Из архива Красного Профессора Отдельные выписки
Из прокламации о демонстрации на площади Казанского собора в Петербурге в декабре 1876 г.:
«…6 декабря, в Николин день, в Казанском соборе собралась толпа… один из присутствующих произнес речь:
„Друзья! Мы только что отслужили молебен за здравие Николая Гавриловича и других мучеников за народное дело… Друзья!.. наше знамя — их знамя… Вот оно — „Да здравствует Земля и Воля!““.
…Раздались рукоплескания и громкое, дружное ура… красное знамя с надписью „Земля и Воля“… переходило из рук в руки, развеваясь над головами… толпа двинулась по Невскому…»
Запись Красного Профессора :
«Среди участников (и организаторов) демонстрации были и М. Натансон, и В. Фигнер. Оратором выступил их сотоварищ 20-летний Г. В. Плеханов, через несколько лет, как известно, возглавивший в Женеве марксистскую группу „Освобождение труда“. Едва ли будет ошибкой считать группу, теоретически основавшую российскую социал-демократию, во многом идейной наследницей Русской секции I Интернационала. Примечательна и такая деталь: группа „Освобождение труда“ унаследовала бывшую типографию „Народного дела“ (которую уступил ей Антон Трусов).
Но это произошло уже в 1883 году. Между тем, если сопоставить с позицией Плеханова и его группы то, что, по записи Веры Фигнер, высказала ей Елизавета Дмитриева в памятном разговоре, обнаруживается немалое сходство. Оно касается взглядов и на развитие капитализма в России, и на роль пролетариата в революционном движении».
Из воспоминаний В. Н. Фигнер о встрече с Е. Дмитриевой в 1876 г. (продолжение):
«…Ни о чем подобном до сих пор ни в каких кружках не было речи… только что была основана организация, известная под названием „народнической“… Идеи Дмитриевой, ее планы казались мне нелепыми и невозможными… Ведь должно было протечь 8[6] — 10 лет до того, как о промышленности и пролетариате заговорили новые люди, новое поколение; и загорелась полемика между „народниками“ и „марксистами“; заговорили о необходимости, чтобы мужик переварился в фабричном котле…
Я вернулась к Натансону и передала ему весь разговор…»
6
Зимой смеркается рано, особенно в северной стороне. Припорошенные неверным снежком поля, перелески скоро слились за окном в сизой мгле, а окно, точно зеркало, отразило фигуру одиноко сидящей в купе женщины. «Петербург — Москва, — отстукивали колеса на стыках, — Петербург — Москва». Ностальгическая грусть вовсе не была свойственна Елизавете Лукиничне, но тут показалось, что в ее жизни уже бывало подобное. В эту самую первозимнюю пору покидала когда-то, семнадцатилетняя, пределы отечества… Точно так же стучали колеса, и купе отражалось точно так же в сизом окне, да только сама была до краев переполнена ожиданием будущего, совершенно его, в сущности, не представляя. Не то теперь. Разумеется, и в двадцать пять лет, а возможно, и в полные пятьдесят не дано человеку знать, что его ожидает. Не могла, естественно, предугадать свое будущее и она. Но в одном была уверена твердо — жизнь перевернула яркие страницы. Впервые осознала это в подобной же обстановке. Отчеканилось в памяти навсегда: дальний поезд, купе, вечер, мгла за зеркальным окном.
Она тогда только что пересекла границу — не думая, что в последний раз. Несмотря на жандармские строгости, какими стращали в Женеве, все обошлось наилучшим образом. Госпожа Томановская умела поставить себя вне подозрений. Жандармы царские козыряли ей ничуть не грознее французских или германских. Устроившись в уютном купе, размышляла: чем-то встретят ее родные пенаты. Не ожидала столь скорой кончины мужа. Не могла вообразить себе, сколь далека реальность от ее представлений. И тут же поймала тогда себя на чувстве, уже знакомом, пережитом: в грохочущем пламени Парижа такое охватывало всякий раз, когда перебегали с баррикады на баррикаду, готовые умереть, но не сдаться. И вот, подобно израненному в бою, но не свернувшему знамя батальону, отступая на новые баррикады к себе, в Россию (оказалось — увы! — на еще не возведенные баррикады), она вновь испытала то острое, горькое и вместе с тем гордое чувство. И вспомнила слова Лео Франкеля, запавшие в душу, сказанные тоже в вагоне поезда, уже в другом вагоне, другого поезда, при пересечении другой границы.
…Вагоны, поезда, дороги долгою чередою выстраивались в ее жизни, в ее памяти, в ее судьбе и как бы множились, отражаясь друг в друге, подобно зеркалам над диванами в купе спального вагона, какое она занимала теперь, умножавшим ее собственное отражение многократно, унося его вдаль, уменьшая. Теперь колеса отстукивали на стыках: «Петербург — Москва, Петербург — Москва», а под их стук звучали в душе слова мудрого ее друга: «Пускай нам не удалось добиться того, что хотели, хорошо уже, что успели показать, чего хотим!..»
Примечания
1
Генеральном.
(обратно)2
Так у Сажина.
(обратно)3
«Социальная революция».
(обратно)4
«Пойдет, пойдет!» (франц.).
(обратно)5
1873? (Примечание Красного Профессора).
(обратно)6
7? — пометка Красного Профессора.
(обратно)
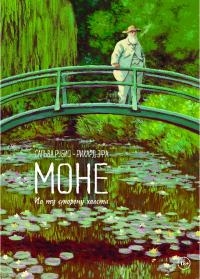





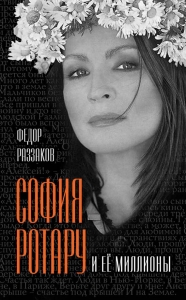
Комментарии к книге «Час будущего: Повесть о Елизавете Дмитриевой», Лев Михайлович Кокин
Всего 0 комментариев