ПРЕДКИ (Конец XVIII века, до 1905 года)
Предки Арманды
Давид Арманд — студент-электрик. Москва, 1926
Мой пра-пра-прадед, первый предок по мужской линии, о котором до меня дошли сведения, Поль Арманд был зажиточным нормандским крестьянином. Он жил в конце XVIII века и сочувствовал роялистам, а может быть и участвовал в вандейском восстании.
Революция сильно пощипала его, он бросил хозяйство и после долгих скитаний осел в Париже, где открыл сапожное заведение. Там он женился на девушке-эльзаске, имя которой было Жанна Ангелина.
Поль был оборотистым мужчиной. Прослышав, что в России французы до такой степени в моде, что любой французский сапожник может стать если не губернатором, то по меньшей мере гувернёром, он продал мастерскую и переселился в Москву. Здесь он быстро сориентировался. Оказалось, что в России есть занятие много более выгодное, чем воспитание дворянских сынков — торговля вином. Используя свои парижские связи, он стал возить французские вина и перепродавать с изрядным барышом. Дела пошли превосходно и вскоре у него была своя фирма, которая имела отделения в нескольких городах России. Но однажды зафрахтованный им корабль с грузом ценных бордосских вин отправился на дно в Бискайском заливе. Эта катастрофа совершенно его разорила. К его чести надо сказать, что он был не только оборотист, но и настойчив. Он начал всё сначала. И лет через десять восстановил состояние и фирму.
Тут произошла новая катастрофа. Началась война с Наполеоном. Поля, как неприятельского подданного, вместе с сорока другими французами, выслали в Нижний Новгород. Это было ещё полбеды. Нижегородское дворянство встретило интернированных, как желанных гостей. Их ласкали, наперебой приглашали на обеды и балы, старались показать, что нижегородцы тоже не лыком шиты. Тогда начальство, решив проявить бдительность, разослало французов по уездам; Поль попал в слободу Макарьевского монастыря на Унже. Однако, он и здесь не растерялся и открыл какое-то ремесленное заведение, обслуживавшее местных мещан и монастырскую братию. Всё же тут не было правильной жизни: помощники не говорили по-французски, а пристав требовал постоянно являться на регистрацию.
Поля потянуло на родину, и он бежал из ссылки. С 14-летним сыном Жаном он пробрался в Москву. Был 1812 год, в Москве был Наполеон. Когда Наполеону пришлось ретироваться, Полю ничего не оставалось, как отступать вместе с французской армией. Каково было это отступление, можно не описывать, во всяком случае, оно не было похоже на торговлю вином. Поль был уже стар, до Франции он не дошёл. След его теряется. По одной версии он угодил мужикам на вилы, по другой — просто замёрз в пути. Но скорее всего он вернулся в Москву, где и кончил свои дни.
Сынишку пожалели, где-то приютили, и он прожил в Смоленской губернии до весны. А весной, прося милостыньку, он понемногу прибрёл опять в Москву. Там он надеялся встретить знакомых, но война всех разметала. Как он рос, чем кормился, на этот счёт никаких семейных преданий не сохранилось. Вероятно, он унаследовал коммерческие способности отца, потому что мы застаём его уже солидным коммерсантом — русским подданным — Иваном Павловичем, живущим в Москве в собственном доме. Его вторая жена — Мари Барб (о первой его жене, никаких сведений не сохранилось, кроме неполного имени — Сабина) держала очень модное швейное заведение, по теперешнему — ателье, на Кузнецком мосту, чем немало способствовала процветанию дел своего мужа. У Ивана Павловича от Сабины был сын Евгений Иванович, а от Мари Барб — дочь — Софья Ивановна, мои прадед и прабабка. Каким образом сводные брат и сестра оказались моими прадедом и прабабкой, будет видно из дальнейшей истории предков.
При Евгении Ивановиче богатство, слава и могущество семьи Армандов достигло своего апогея.
В молодости Евгений Иванович служил приказчиком у немца фабриканта в Вантеевке, что около Болшева. Служил довольно долго. Когда драчливый и заносчивый немец за какое-то трактирное безобразие угодил в тюрьму, Евгений Иванович, будучи ещё молодым, купил фабрику немца с торгов. Фабрика вскоре сгорела. Он купил новую, каменную, более современную. Это была красильная фабрика, находящаяся в селе Пушкино Московской губернии.
Прямо на территории фабрики Евгений Иванович построил дом и сделал его своей резиденцией.
Вся остальная его жизнь прошла в увеличении благосостояния. У красильной фабрики появилась пара — джутовая мануфактура. Мешки и брезенты ткались и сшивались на всю губернию. Постепенно у Евгения Ивановича оказались имения: в Московской, Владимирской и Ярославской губерниях. Это были: Алёшино, Пестово, Ельдигино, Заболотье, Володькино, Рождествено и Сергейково. Там преобладали леса, пахотных угодий почти не было, сельское хозяйство не велось. Производилась только рубка леса в ограниченных размерах, да охота. Евгений Иванович, очевидно считал самым надёжным помещать деньги в недвижимости. Всего он приобрёл около десяти тысяч десятин. Кроме того, появились дома в Москве: четырёхэтажная контора на Старой площади, на углу Варварки (теперь площадь Ногина и улица Разина), доходный дом на Немецком рынке (улица Баумана), торговый дом на Воздвиженке (улица Калинина) около Арбатской площади.
Дома в Пушкине размножались почкованием, прирастая в линию к дому главы семьи. Число их достигало четырёх. Все они соединялись крытыми переходами.
Евгений Иванович был женат на польке — Марии Францевне Пашковской. Это была хрупкая женщина, строгого и скромного нрава. Она имела привычку ходить в монашеском платье. Вопреки своему положению — жены фабриканта и помещика, она была широко образованная, училась во Франции живописи и очень недурно рисовала. Во Франции она не раз писала развалины замков и очень их любила. Евгений Иванович, чтобы доставить ей удовольствие, выстроил в парке готовые руины. Местные жители верили, что там водятся привидения, и обходили их стороной.
Мария Францевна была сердобольна, особенно жалела и постоянно прикармливала воробьёв. Она родила Евгению Ивановичу трёх сыновей: Евгения, Адольфа и Эмилия. Всем сыновьям отец подарил по дому на территории Пушкинской фабрики.
Дочь от второго брака — Софья Ивановна вышла замуж за шведа — Иосифа Хёкке. Откуда в Москве взялся швед, неизвестно. По слухам он происходил от мастера кораблестроителя, выписанного Петром Первым. Вероятно, это и было так, но всё-таки дело тёмное. Так или иначе, у них тоже было трое детей: старшая — Мария Осиповна, средняя — Софья Осиповна, лет на двенадцать её моложе, и младший сын Александр. Их родители умерли, когда старшей Марии Осиповне было всего 15 лет. Опекуном и покровителем их был назначен сводный дядя — Евгений Иванович. Он поселил детей в своей конторе на Старой площади и нанял для воспитания гувернантку.
Мария Осиповна была выдающейся музыкантшей, ученицей Николая Рубинштейна. Рубинштейн всячески поощрял её давать концерты, но она была так скромна и застенчива, что не решалась даже играть перед родными, не только что перед публикой.
В Пушкинском парке около джутовой фабрики находилось невесть кем и когда построенное деревянное здание, вроде каланчи, окружённое высокими елями. Весь второй этаж занимала одна огромная и очень высокая комната, внутри которой была винтовая лестница, которая шла ещё выше, в башенку на обзорную вышку. У Армандов это странное, мрачное здание называлось «Шато». В это Шато на второй этаж взгромоздили рояль, и Мария Осиповна там давала прекрасные концерты, обязательно только наедине. Она тут же прекращала игру, если замечала хоть одного слушателя. Вот когда выросли племянники, младшей племяннице — Жене разрешалось присутствовать, лёжа в уголке на ковре, так как в зале, кроме рояля, не было никакой мебели. Остальные слушатели тайно укрывались в темноте парка под елями.
Моя бабушка Софья Осиповна, красивая величественная женщина, окончила гимназию, что было в те времена редкостью. Она интересовалась живописью, но этот интерес не пошёл дальше любительства.
Она была очень нервна, но хорошо умела держать себя в руках, так что даже постоянные гости её никогда не замечали её нервности. Она была ещё совсем молода, когда в неё влюбился младший из её сводных двоюродных братьев — Эмиль Евгеньевич. Вскоре они поженились. Обе ветви, пошедшие от Ивана Павловича, опять сошлись и так счастливо, что дали мне возможность написать эти записки. Собственно, я чувствую, что проехал по жизни зайцем, так как подобные браки сводных братьев и сестёр, хотя бы и двоюродных, всегда запрещались церковью. Но в данном случае дальность от папы римского и, вероятно, деньги сделали своё дело, и католическая церковь благословила дедушку и бабушку.
Брат бабушки — Александр Осипович был в молодости набожен, мечтал стать монахом, но вместо того пошёл в армию и, в конце концов, стал жандармским офицером и начальником пограничной заставы в Вержбалове. В отличие от сестёр, он не интересовался ни музыкой, ни живописью, зато был мастером рассказывать неприличные анекдоты.
Обрисую теперь вкратце семью Евгения Ивановича, которой он управлял железной рукой уже долго после того, как все его сыновья женились. В великой строгости держал невесток, не позволял им ездить в Москву, дескать, нечего баловать. Однажды, найдя у одной из них спиритическую литературу, устроил крупный скандал, и все книги отобрал и сжёг.
Старший его сын Евгений Евгеньевич запомнился мне как дряхлый старик в сюртуке с постоянно озабоченным и грустным выражением лица. Он был купцом первой гильдии и мануфактур-советником. Его жена Варвара Карловна, маленькая круглая старушка, женщина необычайной доброты и заботливости, приютила под своё крылышко всё своё огромное хозяйство, и всем под этим крылышком было хорошо и уютно. У неё было 12 детей, из которых я едва ли помню и знаю по именам половину. Все сыновья были женаты, все дочери замужем, у всех были дети. Когда я учился в школе, мне говорили, что у меня 42 троюродных брата и сестры, из которых 39 были внуками Евгения Евгеньевича и Варвары Карловны. Все Арманды собирались в день рожденья бабушки Варвары Карловны в её доме:
— Приходите, пожалуйста, у нас будут только свои, приглашала баба Варя. И этих «своих» с зятьями и невестками, свояками и свояченицами набиралось человек сто. Громадные столы ставились рядом по длине и растягивались через соединительные галереи на несколько домов. Моя бабушка удивлялась:
— День деньской Варюша сидит за самоваром и чай разливает. И как у неё терпенья хватает!
Наверно это был последний осколок родового быта в России.
Деду Жене и бабе Варе не особенно везло с зятьями. Правда, были в их числе братья Бриллинги — Николай Романович и Евгений Романович, крупные инженеры по двигателям внутреннего сгорания, действовавшие ещё в советское время и даже после Отечественной войны. Николай Романович был известным теоретиком, заслуженным деятелем науки, он спроектировал первый советский автомобиль НАМИ-1. Братья были женаты на двух сёстрах Арманд, что также не одобрялось церковью. Был ещё из хороших зятьёв — доктор Коль. Но были и так себе, Константинович и Федосов, и был совсем уже сумасшедший самодурствующий Пампель, который всю жизнь только и делал, что скакал по чужим полям, травя зайцев, и прославился тем, что застрелил собственную корову, оскорбившись, что она, повернувшись к нему задом, справила свои потребности, как раз когда он зашёл в коровник посмотреть, всё ли там в порядке.
Средний брат, Адольф Евгеньевич, был, в противоположность старшему брату, всегда румяный и весёлый старичок, и женат он был на весьма худощавой Александре Александровне, которая за свой живой и болтливый нрав именовалась в семье Александрин-дрин-дрин. Она всегда носила обильные кружева и ленточки с какой-то шёлковой оторочкой. У неё была дочь Елена Адольфовна Репман, впоследствии начальница одной из трёх знаменитых в Москве своим либерализмом частных гимназий, в которую и я в своё время поступал. Но почему-то не поступил. Двух других гимназий я не знал.
Что касается моих бабушки и дедушки, то у них было шестеро детей: Лёва, Наташа, Соня, именуемая Сося, Маня, Павлуша и Женя. Из них Павлуша умер ребёнком в возрасте шести лет.
Лёва и был как раз моим отцом.
Во избежание недоразумений я привожу здесь генеалогию по мужской линии.
Три брата жили богато, ни в чём себе не отказывая. Тем не менее, при них великий буржуазный род Армандов начал приходить в упадок. Они вели образ жизни рантье и были не приспособлены к стяжательству. Получив от отца громадное наследство, они почили на лаврах. Евгений Евгеньевич был директором неразделённых фабрик. Дедушка по семейному решению поехал во Францию и там окончил химический факультет Технологического института, чтобы исполнять обязанности главного инженера на фабриках братьев. Впрочем, он скоро выделился из дела.
У дедов был единый порок, сильно мешавший им в ведении дел — они были неисправимо добры. Рабочим они платили значительно больше, чем все окружающие фабриканты. Последние их за это дружно ненавидели, дескать, вот черти — сбивают цены. Когда однажды село Пушкино сгорело, Арманды за свой счёт отстроили 50 крестьянских дворов. Когда у Евгения Евгеньевича умер сын Андрюша, он в память его построил для крестьян больницу, называвшуюся Андреевской и главным врачом назначил своего зятя доктора Коля. Такой оборудованной больницы не было ни в одной деревне. Для ведения лесного хозяйства деды вступили в компанию с купцом Аигиным и доверили ему все дела. Он их очень крупно обокрал и смылся.
Аналогичные истории, правда, несколько в меньших масштабах, повторялись почти со всеми управляющими в их имениях. Иногда только через десятки лет «управления» таких, с позволения сказать «поверенных», обнаруживалось, что тот или иной свёл «для себя» сотни, сотни десятин лесу. Его только увольняли, но никогда в суд не подавали.
Контора в Москве на Старой площади перестояла несколько поколений. Сначала она была трёхэтажная, но последний её владелец, мой двоюродный дядя — Борис Евгеньевич, надстроил два этажа и сделал из неё большой доходный дом. Внизу помещалась громадная «ночлежка», которой широко пользовались студенты — товарищи младшего поколения. Все ночующие не только получали бесплатную квартиру, но и питание: «господам» варили куриц, а жильцам, сколько бы их ни было, — неизменные котлеты и кисель. Хозяева чаще даже не знали, кто у них ночует и столуется. Среди студентов многие придерживались революционных взглядов. Впрочем, по вечерам они чаще занимались спиритизмом. Контора находилась на примете у полиции, но никогда ничего не предпринималось с ее стороны, по-видимому из «уважения» к господам.
В «ночлежке» долгое время жил Николай Владиславович Ивинский, впоследствии гувернёр отца. Я его знал уже глубоким стариком. Он был очень похож на сказочного гнома, был карликового роста с длинной седой бородой и острым носом. Он был глубоко образованным человеком с широкими интересами и умнейшей головой, кишевшей идеями. И был он один, как перст, и «гол, как сокол».
Николай Владиславович охотно и даже страстно делился своими знаниями и мыслями с отцом и тётками, тогда ещё детьми. Его влияние оставило на отце очень глубокий след и помогло формированию его революционных взглядов.
Во втором этаже конторы была спальня Евгения Евгеньевича и Варвары Карловны, в случаях их приезда в Москву. Впрочем, в конце девятнадцатого и начале двадцатого веков все Арманды в основном продолжали жить в Пушкине.
С некоторого времени на фабриках стало не спокойно. Несмотря на лучшее положение, чем у соседей, рабочие выражали недовольство. Неуловимые агитаторы разбрасывали на заводе «предметные письма», восстанавливая рабочих против хозяев.
В 1896 году отцу было шестнадцать лет, он был юношей, полным надежд. Сёстры подслушали и немало потешались, как он, сидя в уборной, выкрикивал: «Жить и действовать!»
Вскоре выяснилось, что и какие действия он подразумевал.
В один прекрасный день в господский дом нагрянула полиция во главе с самим приставом. Последний был очень смущён и долго извинялся в том, что должен произвести обыск у «благодетелей». Он твердил, что конечно уверен, что начальство это затеяло зря, но приказ есть приказ и он должен подчиниться, а потому покорнейше просит впустить его в дом. «Сами понимаете, на вашей фабрике кто-то возмущает народ».
— Но ведь не мы же против себя возмущаем! — удивились и рассердились деды, — а впрочем, пожалуйста, ищите, только мы за всех живущих в нашем доме ручаемся.
Полицейские принялись за обыск и провели его добросовестно. Даже все полы во всех четырёх домах простукали. В одном месте им что-то померещилось гулко. Подняли половицу — подвал, в подвале подпольная типография, в типографии марксистская литература и те самые «подмётные письма».
По почеркам разобрались отлично, кто их писал. Увели отца и двух его кузенов, да ещё гувернёра — Крамера — впоследствии кремлёвского врача, одного из лечивших Ленина.
Выяснилось, что под руководством Крамера братья давно уже вели социал-демократическую работу на фабриках родителей.
В частности, отец, будучи ещё гимназистом, руководил марксистским кружком, который собирался за фабрикой, в ближнем овраге. Там вместе сочиняли прокламации.
Крамера и обоих юношей, им было всего 18 и 20 лет, посадили надолго в тюрьму. Отец просидел только три недели. Дедушку вызвали для объяснения в жандармское управление:
— Ваш сын несовершеннолетний, судить его мы не имеем права. Советуем вам его выпороть, как следует выпороть и отправить доучиваться за границу. Он дерзок на язык и, если останется здесь, то достукается до каторги.
Дедушка взял отца, пороть, конечно не стал, но совет насчёт заграницы счёл дельным.
Так отец вскоре оказался в Берлине, студентом химического факультета, который ему приказано было окончить и, по примеру деда, стать инженером на фабрике у дядьёв, или на какой-либо другой.
Дедушка опасался, что дочери тоже могут заразиться революционным духом и предложил братьям поделить именья.
Решили бросить жребий. Написали названия имений на бумажках, сложили в шапку и предложили самой младшей в семье — Жене, тянуть жребий. Женя, сообразив, что ей предлагается совершить что-то ужасное, от чего зависит дальнейшая судьба её и её сестёр, громко заревела и уткнулась в бабушкины колени. Бабушка сказала:
— Не плачь, дружок, в таком случае уж мы как-нибудь без тебя обойдёмся.
Жребий тащил кто-то из старших и дедушке вытащил «Ельдигино».
Вскоре дедушка перевёз туда всю семью, а на зиму снял в Москве, в Скарятинском переулке (теперь переулок Наташи Кочеванской) особняк при доме Сумбулова (теперь снесённый).
Крамола крепко поселилась в пушкинском доме. Кроме двух сыновей Евгения Евгеньевича, в охранку скоро угодил зять Николай Романович Бриллинг. Но самой высшей степени крамола коснулась несколько позже, когда в семью вошла знаменитая Инесса Фёдоровна.
Ещё во второй половине XIX века у Армандов жила гувернантка, учившая девочек языкам и музыке. Вместе с ней в доме жили две её племянницы-сироты: Инесса и Ренэ Стефан, полуфранцуженки-полуангличанки. Они воспитывались вместе с детьми Армандов и, когда выросли, обе вышли замуж за двух братьев Армандов — Александра Евгеньевича и Николая Евгеньевича. В раннем детстве я знал только Ренэ Фёдоровну, она часто бывала в гостях в доме дедушки. Она была похожа на Инессу, пожалуй, красивее её, и обладала прекрасными русыми, слегка рыжеватыми волосами и очень мягким характером. Инесса в те годы жила в эмиграции или была в ссылке на Мезени. Её жизнь и деятельность многократно описывалась, в частности в хорошей биографии, написанной Павлом Подлящуком. Поэтому я не буду говорить о ней с чужих слов, добавлю только некоторые чёрточки, не попавшие ни в одну биографию.
Ельдигино до жеребьёвки принадлежало Александру Евгеньевичу. Там и прошли молодые годы Инессы Фёдоровны. Потом они переселились в другое имение — Алёшино, что в четырёх верстах от Ельдигино.
«Белый дворник» (лакей) — Иван, отставной солдат, оставшийся в Ельдигино после смены владельца, рассказывал моим тёткам:
— Очень добрая барыня была Инесса Фёдоровна. Только одного барина — Александра Евгеньевича мучить любила. Это уж за кротость его. Такой крест, знать, его был. Она очень уж нервенная была, как закричит, как затопочет на него. Потом сорвётся и бежать из дому-то, иной раз прямо в ночь и раздетая. Александр Евгеньевич враз собирает всех людей, раздаёт фонари — её искать! А сам весь дрожит. Знать, очень уж её любил и боялся, как бы она руки на себя не наложила. Бывало, всю ночь ищем. Парк, лес, каждое дерево обыщем. Кричим, зовём, в колодцы лазаем. А как рассветёт, она выходит — во дворе, в ближнем стогу сидела. Ну и карахтер был — кремень! Ведь всю ночь сидит, слышит, какой переполох в имении, и не пикнет. Чтобы, значит, барина наказать, как следовает. А он перед ней на коленях стоит, ноги ей целует, чтобы, значит, простила!
Как известно, Инесса Фёдоровна, в 1903 году, покинув своего мужа, сошлась с его братом Володей, который, будучи туберкулёзным, добровольно последовал с ней в мезенскую ссылку.
По преданию, Володя характером был вроде Алёши из «Братьев Карамазовых» или из «Идиота» — князя Мышкина. Однако же убеждённый революционер и социал-демократ:
— Чудные господа были! Бывало, сядут втроём на кушетке, она, конечно, посерёдке. И ну все трое реветь! Это тоись никак поделить её не могут, ну и ей-то их жалко! Поверите ли, аж у нас, у прислуги, слезу прошибало! Хорошие были господа!
Чтобы не возвращаться к этой теме, скажу несколько строк об их дальнейшей жизни.
После бегства из ссылки в 1909 году Инесса Фёдоровна поехала в Швейцарию, где её уже дожидался Владимир. Через две недели после её приезда он умер от заражения крови при вскрытии нарыва. Инесса Фёдоровна умерла в 1920 году, заразившись холерой во время пребывания в санатории на Кавказе.
Удивительной была судьба Александра Евгеньевича. Он мужественно перенёс уход жены (формально они не разводились). Он сам растил пятерых детей, всю жизнь оставался другом Инессы Фёдоровны, в трудные минуты неизменно приходил ей на помощь.
Он уехал в Бельгию, где по примеру своего дяди — моего дедушки, окончил институт на инженера-химика, чтобы управлять фабрикой отца. После коллективизации — в 1930 году он, бывший гласный Московской городской думы, обратился в Алёшинский колхоз, где находилось его же именье, с просьбой принять его в члены. Крестьяне очень удивились, посмущались, но… приняли. Он стал у них работать кузнецом и дожил до 1943 года. Когда он умер, колхозники очень его жалели и себя тоже, говоря:
— Такого другого кузнеца, как наш бывший барин, не бывало и не найти. Хороший был барин!
Предки Тумповские
Теперь надо рассказать о предках моей матери. Их история коротка: до меня дошли сведения только о четырёх поколениях — вместо шести со стороны отца.
Мой прадед — Лейб-Мейер-Борух-Давид Тумповский (которому я обязан происхождением моего имени) родился в черте оседлости в Сувалках у самой германской границы. Он учился в еврейской религиозной школе и, окончив её, сам стал учителем в хедере. Он отлично знал талмуд и всем своим поведением и внешностью больше походил на раввина, чем на учителя. Человек необычайной доброты, бессеребренник, он раздавал деньги и вещи всем, кто у него просил, и сам вечно сидел без копейки. Он постоянно спорил с женой:
— Ну и что ты печёшься о завтрашнем дне? Как ты всё-таки мало веришь в бога!
Но если б его необычайно трудолюбивая жена не шила и не стирала на людей целыми днями и не зарабатывала всеми возможными способами, они не смогли бы жить и растить своего единственного сына — моего дедушку Марьяна.
Давид рано овдовел. Он женился ещё раз и нажил трёх детей. Детей он особенно любил и своих и чужих. Учить их было для него величайшей радостью жизни. Он был настоящим энтузиастом просвещения. За это и дети его любили.
Дети от второго брака постепенно рассеялись по свету. Старший рано умер, средний уехал в Америку, про него ничего не известно; про младшего мы знаем только то, что он был врачом на фронте во время войны с Японией. Позже след его затерялся.
Вторая жена Давида намного пережила его. Я помню её, она ещё приезжала к нам в Париж, когда мне было пять лет. Я очень удивлялся и гордился тем, что у меня есть живая прабабушка, чего не наблюдалось ни у кого из моих товарищей. Впрочем она показалась мне страшной; теперь я понимаю, что она просто была очень стара, а старость часто кажется детям или страшной или смешной.
Дедушка Марьян Давыдович курс начальной школы проходил в хедере, под руководством своего отца. Но, хотя отец его очень любил и старался передать ему свои знания, хедер не удовлетворял молодого человека. Его тянуло к светскому образованию. Едва подросши, он ушёл из семьи и поступил в гимназию, одновременно зарабатывая на жизнь уроками. Он перебивался с хлеба на воду, но успешно закончил среднее образование и поступил в Варшавский университет на медицинский факультет. Он был рационалистом и атеистом, но унаследовал от отца большую доброту, хотя и был вспыльчив.
Дедушка поселился в Петербурге. Высшее образование дало ему право жительства там. Он посвятил себя педиатрии, а в качестве района работы избрал себе Выборгскую сторону, населённую беднотой. Как и его отец, он рассматривал свою работу как служение людям, а не как заработок. Хотя он занимался частной практикой, но за лечение детей рабочих брал копейки или не брал ничего, более того, видя, что родители глядят с сокрушением на выписанный им рецепт, он говорил:
— Ну, ладно. Приходите завтра, я постараюсь вам достать лекарство.
И просто шёл в аптеку покупать то, что нужно для пациента, на свои деньги. При такой тактике вскоре у него от больных не было отбоя, но его семье денег на жизнь не хватало. Пациенты и их родственники относились к нему с великим уважением и называли его «Наш доктор», чем он очень гордился.
Когда дедушка женился и пошли дети, он вынужден был взять работу заведующего отделением в детской больнице, чтобы иметь определённый минимум заработной платы. Совмещая службу с частной практикой, он был занят целыми днями. Он выезжал к больным и в праздники и ночью. Он говорил, что врач не имеет права располагать собой, что это право он передаёт своим пациентам.
Со временем дедушке пришлось набрать себе некоторое количество богатых пациентов. Он лечил их также добросовестно, но за лечение брал с них некоторую плату, сравнительно небольшую. И эти пациенты его очень ценили:
— Я думаю, не грех с богача содрать лишку, — смеялся он, — ведь это даёт мне возможность даром лечить бедняков. — Жили они очень скромно.
Дедушка не был чужд и науке. Он защитил диссертацию, что-то насчёт белкового питания детей. Книжечка была напечатана, и я ещё в детстве пытался её читать, но вполне безуспешно.
Бабушка Ревекка Михайловна, урождённая Бредау, происходила из богатой семьи. Все её предки были коммерсантами. Они участвовали в знаменитой чайной фирме братьев Высоцких. Магазин их, украшенный в китайском стиле, ещё сохраняется в Москве на улице Кирова, напротив почтамта. Брат бабушки, известный как «дядя Фима», вёл дела этой фирмы заграницей. Сам он происходил из города Шавли (теперь Шауляй) близ германской границы. Он был молодой, весёлый, щеголеватый. Кто-то рассказал моей маме и её сёстрам, когда они были ещё совсем небольшими девочками, будто дядя Фима контрабандист и будто тётушка «танте Лиза», строившая из себя француженку и с умышленным французским акцентом говорившая по-русски, вышла за него замуж только после того, как он перевёз через границу контрабанды на 10 000 рублей. Эта шутка долго держалась в семье, и я ещё верил, что среди моих предков были контрабандисты и по этому поводу задирал нос перед товарищами.
Другой дедушкин брат, дядя Гриша, был полной противоположностью дяде Фиме. Он был исключительно некрасив и при том замечательно хороший человек. Его занятие очень не подходило к его характеру: он возглавлял крупную яичную фирму. В молодости он неудачно женился, быстро расстался с женой и жил одиноко с маленькой горбатенькой сестрой — тётей Бертой.
Бабушка заслужила осуждение родных, выйдя по любви из богатой семьи за бедного доктора. У них было четыре дочери: почти погодки — Лида и Лена и через пять лет снова погодки — Оля и Мага. Бабушка очень пеклась о здоровье и материальном благополучии детей, но делала это как-то очень нервно и суетливо. Закутанных в шарфы и башлыки детей, уже почти барышень, в гимназию провожала прислуга или гувернантка. Дома держали их в духоте, и бабушка постоянно подымала крик: «Воздух, воздух!», что вовсе не означало опасность воздушного нападения, а просто тревогу о том, что кто-нибудь из девочек вошёл в третью комнату от той, где была открыта форточка. Ни разу в детстве им не давали попробовать мороженого: бабушка требовала, чтобы его согревали на плите, прежде чем дать детям.
При всём том бабушка была интересным человеком: поэтессой и писательницей. Она писала статьи и стихи на общественные темы: о человеколюбии, о хорошем отношении к ближним, о еврейском вопросе, о женском равноправии. Помню изданную её книжку «Христос и евреи», где она пыталась примирить еврейство с христианством. Она была деятельна: то писала петиции против смертной казни, то собирала подписи под требованием допустить женщин к высшему образованию, то организовывала протест против преследования евреев. Её дочери потом говорили, что хотя её сочинения казались им выспренними, а деятельность наивной, но её живой интерес к социальным вопросам, её отзывчивость на всякое чужое горе и несправедливость, сыграли большую роль в их дальнейшей жизни. Они по-своему, каждая свойственным ей путём, продолжали в сущности делать дело, переданное им матерью.
Прадед Лейб-Мейер-Борух-Давид не имел права проживать вне черты оседлости и приезжать в Петербург даже на несколько дней. Он навещал внучек только летом, когда они жили на даче в Шувалове. Приезжая, он постоянно улыбался и гладил их по головкам, но живого контакта наладить не мог: он говорил только на идише, а они только по-русски.
Воспитанием сестёр родители в сущности не занимались. Мать всегда была поглощена если не общественными делами, то материальными заботами, отец был постоянно на работе. К тому же он, как детский врач, общался с инфекционными больными и считался в семье бациллоносителем. Поэтому, приходя домой, он издали приветствовал девочек через длинный коридор и уходил в кабинет, куда ему подавали обедать.
Воспитание было поручено бедной гувернантке из института благородных девиц — Капитолине Дмитриевне, существу кроткому, преданному и совершенно безличному. Она имела только один твёрдый педагогический принцип — она требовала от девочек, чтобы они говорили всё время по-французски или по-немецки (только поссорившись, браниться можно было по-русски). Кончилось однако, это притеснение тем, что все четверо прекрасно выучили оба иностранных языка. Капитолину Дмитриевну они нежно любили всю жизнь и уже взрослыми навещали её в богадельне, где она безропотно кончала свои дни.
Старших девочек часто водили гулять в Лесной, в парк Лесного института. Лесной тогда был дачным посёлком, с эстрадой, оркестром, качелями и прочими увеселениями. У Лиды и Лены там были свои любимые тайные уголки и закоулки, где они скрывались, воображая себя то робинзонами, то пиратами, пугая мальчишескими замашками добрую Капитолину Дмитриевну. Сохранились чудесные записки Лены об этом времени «Морские камни».
Недостатки воспитания восполнялись старшей дочерью Лидой — моей матерью. Уже в детстве проявились её основные черты характера: независимый и самоотверженный характер, сильная воля, уменье убеждать и потребность обращать всех окружающих в ту веру, которую она в данный момент считала правильной. Ещё девочкой она клала в кровать под себя ножницы, чтобы закалить организм. Она оказывала очень сильное влияние на своих сестёр. В полном противоречии с традициями воздухобоязни, культивировавшимися бабушкой, она требовала, чтобы они закаляли организм, так как впоследствии им может предстоять суровая жизнь, полная превратностей. Она старалась побудить их заниматься гимнастикой и спортом, что в конце XIX века считалось для девушек даже неприличным.
Мама рано восприняла революционные идеи, в которые её посвятил знакомый студент — Миша Шапшал. Она заразила ими своих сестёр и девочек своего класса. В результате в гимназии возник целый ряд революционных кружков, по рукам ходили прокламации и различная нелегальная литература, девочки участвовали в антиправительственных демонстрациях, и некоторые из них, только что окончив курс средней школы, пополняли политические тюрьмы.
В гимназии царили довольно либеральные нравы. Когда кто-либо из учениц попадался в чтении крамольных книг, им выговаривали для очистки совести и дальше делали вид, будто ничего особенного не произошло. Слушание закона божьего было необязательно для евреек, начальство только требовало, чтобы они сдавали его раввину ближайшей синагоги и приносили в гимназию отметки.
Нечего и говорить, что революционное настроение дочерей страшно волновало родителей, особенно бабушку. Тут уж им угрожала опасность посерьёзнее, чем свежий воздух из форточки. Но убедить маму держаться в стороне от событий было невозможно, в 16 лет это был уже крепкий орешек, да в глубине души бабушка и сама понимала, что её девочки идут по хорошему, благородному пути, но от этого ей было не легче.
Можно себе представить переживание обоих родителей, когда во время очередной демонстрации обе их старшие дочери были арестованы. Однако, в этот раз всё обошлось благополучно. Их держали месяца два, но отпустили без последствий и даже из гимназии не исключили.
Окончив гимназию, мама пыталась поступить в Институт Лесгафта. Однако её не приняли, тогда женщинам было закрыто высшее образование. Тогда мама некоторое время посещала лекции негласно, то есть была вольнослушательницей. Потом уж устроилась на Бестужевские курсы, которые успешно и окончила. В это время она была уже полноценным работником партии социал-революционеров.
Наиболее последовательно пошла по тому же пути вторая дочь Лена. Младшие сёстры были ещё слишком малы, чтобы всецело отдаться служению революции. К тому же Оля росла в отца — рационалисткой, а, следуя примеру матери, мечтала о работе по защите прав еврейского народа. Мага была замечательной девочкой, сёстры её дразнили за то, что она «ходит по облакам», постоянно бьёт посуду, ставя её, по рассеянности, не на стол, а на воздух. Она всегда была полна фантазий и невероятных историй. Как-то увидев на улице вывеску «Бильярд», она рассеянно спросила:
— Не пойму, чего это так много?
Оля любила её слушать, но в детстве часто поколачивала, а потом плакала, опасаясь, что Мага умрёт от её побоев. Девочки признавали только мальчишеские игры. Особенно часто играли они в казаки-разбойники, перестреливаясь подушками и прочей домашней утварью. В перерывах между сражениями Мага сочиняла стихи. В конце концов, музы взяли верх и из неё вырос не казак, а поэтесса.
Мама считала, что для того, чтобы успешно служить делу революции, надо быть образованным человеком. Бестужевские курсы не удовлетворили её большую жажду знаний, и она поехала в Германию в университет города Фрейбурга, близ швейцарской границы. Родители были рады, что она уехала подальше от демонстраций и надеялись таким образом спасти её от влияния радикальных идей петербургского студенчества.
В то же время во Фрейбурге оказался и Лёва — мой отец, которому наскучила химия, и он, нарушив отцовский приказ, бежал из Берлина на знаменитый философский факультет в Гейдельберге, а потом почему-то перешёл во Фрейбург. Дальше, уж как легко догадаться, молодые люди встретились во время воскресной прогулки на отрогах Шварцвальда.
Однажды на горе близ Фрейбурга произошёл запомнившийся маме случай. Она шла по тропинке одна, уже влюблённая в Лёву. Она была в каком-то приподнято-радостном настроении, когда хочется обнять весь мир. Тут ей повстречался юноша, с виду до того несчастный и убитый каким-то горем, что она содрогнулась, так ей стало жалко этого человека. Он шёл как-то шатаясь и смотрел в землю, а вокруг была такая красота и радость! Она остановилась и пыталась заглянуть в его опущенные глаза. Он тоже остановился и взглянул не неё с изумлением, но пристально. Мама постаралась как можно ласковее улыбнуться ему. После этого они разошлись. Через несколько дней он снова ей встретился на улице города, подошёл к маме и, горячо целуя ей руку, сказал:
— Фрейлейн, вы спасли мне жизнь, тогда, на горной тропинке. У меня случилось очень большое горе, я ушёл из города, чтобы покончить жизнь самоубийством, а ваш необыкновенный взгляд вернул мне силы и веру в людей. Теперь я вижу, что жизнь прекрасна!
Смутившись, он быстро убежал. Больше она его не видела.
Маму и Лёву сближала решимость служить революции. Правда, тогда их согласие во взглядах не было полным: отец в то время был социал-демократом. Но эта разница не показалась им существенной. Они полюбили друг друга и решили соединить свои судьбы.
Католикам религия запрещала жениться на еврейках. Отец написал родителям, что ему наплевать на запрет, что он нашёл девушку своей мечты и намерен жить с ней фактическим браком. Если родителей не хватил тогда инфаркт, то только потому, что они тогда не знали этого слова. После подпольной типографии и бегства сына из Лейпцига, это было для них третьим ударом, который он нанёс своим старикам. Их отчаяние смутило Лёву. Мама решила посоветоваться со старейшей эсеркой, жившей в эмиграции, — «бабушкой русской революции» — Екатериной Константиновной Брешко-Брешковской. Та быстро нашла выход, посоветовав отцу перейти в реформистскую веру, которая допускала браки с иноверцами. Навели справки; из двух ветвей реформатства — кальвинизма и цвинглианства — наиболее свободной от брачных запретов оказалась последняя. Отцу было решительно всё равно, кем числиться. В душе он был атеистом.
В один прекрасный день родители получили от отца телеграмму: «Совершил кувыркколлегию — перешёл в цвинглианство». Как самый факт, так и игривая формулировка, мало успокоили родителей. Но оставалось только ждать дальнейших событий. Следующее «успокоительное» письмо пришло из Петербурга от неизвестной девушки, подписавшейся Леной Тумповской. В этой телеграмме значилось: «Ваш сын в жандармском управлении».
А дело было вот как. Отец собрался ехать в Россию, чтобы на родине обвенчаться. Он вёз с собой два чемодана нелегальной литературы и Магу, жившую до того с мамой, по ней соскучились родители. Мама задержалась на несколько дней, чтобы сдать какие-то экзамены. На границе в Вержбалове, где надо было пересаживаться на российскую колею, отец всячески ловчился пронести мимо таможни криминальные чемоданы, как вдруг увидел, что к нему направляется сам начальник жандармского караула. Положение отца было критическим, но вдруг произошла вещь, которая случается только в сказках. Начальником оказался его родной дядя — Александр Осипович. Дядюшка расцеловал племянника и воскликнул:
— Да, что ж ты сам такую тяжесть волочишь? Эй, отнесите его вещи, да прямо в вагон. Не хватало ещё, чтобы эти таможенные крысы у моих родных в вещах рылись!
Два жандарма подобострастно понесли нелегальную литературу в вагон. И отец, конечно, щедро наградил их, дав им на водку.
Чтобы отвезти Магу домой, отец заехал сперва в Петербург. Сдал на явку чемоданы и зашёл к Тумповским. Ему негде было ночевать (остаться в семье невесты считалось неприличным). Лена дала ему адрес знакомого социал-демократа. Но товарищ был в тот же день арестован, и отец попал в засаду. Вот почему он оказался в жандармском управлении, о чём Лена не замедлила сообщить его родителям.
Родители отправились в Петербург выручать блудного сына или по крайней мере повидать его в тюрьме. С другой стороны мама, получив то же известие, срочно примчалась из Фрейбурга. Она пришла в жандармское управление просить свидание и там встретилась с будущими свёкром и свекровью.
Надо думать, что знакомство носило достаточно драматический характер. Но подозрительность стариков Армандов к девушке еврейке, «соблазнившей» их сына и к тому же поощрявшей его революционные порывы, быстро рассеялись перед маминой простотой и искренностью. К тому же она была хороша собой, и национальные черты были смягчены в её лице. Она повела Армандов домой и познакомила их со своим семейством, которое их встретило очень радушно. Арманды решили, что предстоящий брак не так ужасен, как они ожидали: «Только бы Лёвушку выпустили»!
Отец просидел недолго. Жандармам не удалось доказать связь отца с революционной организацией, которую представлял арестованный хозяин квартиры. Да, но если бы они узнали о двух чемоданах, которые этот приезжий сын фабриканта привёз за несколько часов до ареста! Но они не знали. У отца нашли только брошюру «Революционная Россия» №№ 34 и 35 и две рукописи — «Статистические данные» и «Аграрный вопрос». На допросе ему предъявили ряд фотографий революционеров, но отец отрицал своё знакомство с ними. Признал лишь своего друга Трояновского, отрицать близость с которым было бесполезно. Он откровенно рассказал о своих социалистических взглядах и об участии в социал-демократическом кружке в Берлине, но отказался назвать его участников. Ему предъявили показания провокатора — Петра Кюги, который усиленно его топил, но настолько явно зарвался, что его словам не придали значения.
У меня сохранилось его дело из охранного отделения, переданное мне друзьями после революции.
После освобождения отца мои родители обвенчались в Москве в реформатской церкви. Арманды полюбили невестку, как родную дочь. Славные были старики, и предрассудки в них сидели совсем не крепко.
Молодые поселились на Каретной Садовой, в квартире дома, который до сих пор торчит посреди площади, традиционно мешая движению транспорта. За границу решили больше не ехать. Приближался 1905 год, и работы здесь было по горло. Родители жили «тихо и мирно». Отец был способный пропагандист в студенческих и интеллигентских сферах, где он строго научно преподавал исторический материализм. Мама была другого склада: она была великолепным агитатором в рабочих кругах, прекрасно владела ораторским искусством и своим горением и энтузиазмом заражала любую аудиторию, переубеждала любых противников.
Между тем, Лена, конечно без ведома родителей, работала в Петербургской боевой организации эсеров. На её обязанности была доставка бомб дружинникам. Работа была невероятно опасная. Помню её рассказ об одном случае. Она выходила из двора, нагружённая как ходячий зарядный ящик. Она носила бомбы, подвешенные за пояс под юбкой. Юбки тогда в моде были широкие и длинные до пят. Но она не учла высокую подворотню, перешагивая через которую, необходимо было юбку приподнять, при этом бомбы становились видны. У ворот дежурил дворник, который, как и все дворники, по совместительству служил в полиции и обязан был наблюдать за жильцами. Он подозрительно оглядел приближающуюся курсистку. Отступать было некуда:
— Поглядите, какая удивительная заря сегодня! — сказала Лена и в тот момент, когда он обернулся, продолжала нужную операцию и, приветливо кивнув, пошла дальше.
Так и ходила эта маленькая девушка по канату, который день ото дня становился всё тоньше.
В Москве обстановка тоже накалялась. Восстание казалось неизбежным, и мои родители принимали горячее участие в его подготовке. Особенно близко к сердцу принимала грядущую революцию мама, которая не умела быть полезной отчасти и всегда отдавалась с головой делу, которое считала правым.
Вот как описывает Екатерина Николаевна, дочь известных педагогов Чеховых, впоследствии подруга моей матери, первую с ней встречу:
«Мы с сестрой узнали, что в рабочем клубе в Лефортово, в театральном зале будет митинг. Тогда никакого транспорта не было. С Серпуховки пошли пешком. Зал был полон рабочими и работницами. Выступали ораторы. Говорили о рабочих союзах, необходимости их организации для борьбы за свободу. Но при этом употребляя массу иностранных слов. Аудитория далеко не всё понимала, хотя приветствовала каждого оратора. По-видимому, это были студенты, то эсдеки, то эсеры.
Но вот на сцену выходит молодая женщина в скромном коричневом платье с тёмным шарфиком и обращается к аудитории: „Я хочу говорить с вами о женщинах-работницах, с вами, мужчинами. Какое сейчас положение ваших жён? Они работают на фабриках, бегут домой готовить обед, нянчить детей. Вы ходите на лекции, на беседы, учитесь на вечерних курсах…“ Её речь часто прерывалась криками: „Правда, правда, так оно и есть!“ А мама продолжала:
— В революционной борьбе нам нужен каждый человек. Мужчины, обратите внимание на ваших жён. Привлекайте их к решению политических задач, к вашей борьбе, знакомьте с задачами союзов, читайте им газеты, учите грамоте. Если женщины пробудятся и встанут в ваши ряды — сила рабочих рядов удвоится. Женщины будут себя чувствовать полноправными товарищами, поддерживающими рабочее движение.
Вся аудитория затихла, все ловили каждое слово оратора. Она была необычайно красива собой и говорила простым, понятным каждому языком. Вдохновенное её лицо и сиянье огромных глаз привлекали сердца слушателей. Её прекрасная дикция позволяла слышать каждое слово в самых отдалённых уголках зала. Мы с сестрой с первого взгляда влюбились в ораторшу.
В это время входит в зал жандармский полковник с вооружёнными солдатами и хочет пройти в проход посередине зала к сцене. Публика встала и начала двигаться ему навстречу, не давая пройти. Митинг был тысячным. Жандарма с солдатами рабочие не допустили до сцены, и ораторша была увезена товарищами».
Как мама ни была предана революции, ей пришлось уделять внимание и другому делу. Неминуемо приближалось рождение ребёнка. Что произойдёт дальше?
Она где-то вычитала, что для того, чтобы ребёнок вырос хорошим и гармонически развитым человеком, мать должна созерцать что-нибудь красивое, возвышенное. Она повесила в своей комнате репродукцию Сикстинской мадонны. Возвращаясь ночами со сходок, усталая, измученная, она изо всех сил гнала от себя мысли о предстоящем восстании, борьбе, репрессиях и межпартийных разногласиях, а глядела и глядела на мадонну, пока не слипались глаза.
Арманды: дедушка, бабушка и тётя Женя, которой было тогда 14 лет, в это время путешествовали по Египту. Я видел фотографию, где они сидят на верблюдах на фоне пирамид и сфинкса. Особенно хорош дедушка, он сидит, опираясь на горб, как в кресле, положив ногу на ногу и покуривая сигару.
Узнав о готовящемся рождении наследника, они поспешили вернуться и приехали как раз во время.
ДЕТСТВО (Счастливые годы. 1905–1911) Это я, о господи!
Моё и моих родных участие в революции 1905 года
Название главы, в отличие от подглавы, конечно, плагиат. Но во-первых, оно уж очень хорошо, так что грех его не стащить, во-вторых, я внёс в него творческий элемент. У Кента не было «о», а я его добавил, стремясь этим показать, каким несносным мальчишкой я в то время был.
Явившись на свет, я первым делом чихнул, а потом уже заревел. Это не было предзнаменованием, в последующие 70 лет я был умеренно простудлив и умеренно плаксив. Но, по мнению родителей, это выражало моё скептическое отношение к авторитету старших и в этом, пожалуй, есть доля истины.
Дедушка Тумповский, получив телеграмму о моём рождении, первым делом побежал и купил бутылку шампанского. Когда все собрались, Оля, очень умная девочка, вдруг сказала:
— Позвольте, а какое сегодня число? 1 апреля? Так это первоапрельская шутка. Узнаю Лидиньку, с неё станется!
Дедушка растерялся.
— А я и не подумал… Что же теперь делать с бутылкой?
— Si le vin est tiré, il faut le boire[1].
И на всякий случай они выпили.
Родители переехали на Арбат, где было безопасней в рассуждении уличных перестрелок и баррикад. Сняли квартиру в проходном дворе, выходившем в Филипповский (ныне ул. Аксакова) и Б. Афанасьевский (ныне ул. Мясковского) переулки. Вскоре они предоставили квартиру под штаб дружинников.
Мама рассказывала, что когда, бывало, ночью она приходила домой с какого-нибудь митинга или нелегального собрания, в дверной глазок высовывалось дуло револьвера и мрачный голос спрашивал:
— Пароль?
В первые недели моей жизни я рос среди куч прокламаций, патронов и бомб, в окружении дядей, которые что-то притаскивали, совали под подкладки и уносили, спорили и непрерывно курили.
У мамы, разумеется, от такой жизни сразу пропало молоко, и меня перевели на бутылочку. Дружинники острили, что эдак я привыкну глядеть в бутылку, но, ничего, обошлось. Из деревни выписали няню Грушу, человека замечательного, вырастившую мою маму и её сестёр, выкормившую младшую Магу, воспитавшую меня и ещё имевшую силы для помощи нам с женой в воспитании наших малышей. Няня была самым близким, родным мне человеком в течение первой половины моей жизни[2].
В те времена не было детских консультаций, где превращают коровье молоко в подобие женского. Дедушка Марьян Давидович приобрёл необходимый для этого пастеризатор, выучил тётю Лену обращению с ним и прислал её в Москву заведовать молочным хозяйством. К тому же ей надо было удирать из Петербурга, так как шпики ходили за ней по пятам. Лена приехала спасаться от ареста и спасать меня от голодной смерти.
Однажды в декабре 1905 года, в самый разгар восстания, няня шла из лавочки. Впереди идут пристав с околоточным и о чём-то говорят, указывая на наш дом. Няня навострила уши.
— Так что, Ваше благородие, это самое ихнее эсеровское гнездо и есть.
— Почему ж ты их не возьмёшь?
— Неспособно-с. Двор проходной, выходы во все стороны, из окон стреляют.
— Ну, хорошо, я попрошу полковника, чтобы пару пушек подбросил.
Няня прибежала в слезах.
— Нас сейчас будут из пушек расстреливать!
Меня срочно закутали в одеяла, с трудом нашли извозчика, который содрал «за рыск» десятерную цену, и под канонаду, доносившуюся с Пресни, отправили в Армандовскую контору на Варварской площади. Было 15 градусов мороза, и я таки отморозил нос и щёчки, оставленные мне для продуха. С тех пор они целых десять лет у меня отмерзали, чем я очень гордился и пояснял в школе товарищам, что я «пострадал в революцию 1905 года».
Через несколько дней мама ушла на какое-то партийное собрание и не вернулась ни в этот день, ни на следующий. Оказалось, что дом, где она заседала, был окружён казаками. Он защищался дружинниками, казаки не могли его взять, но повели его правильную осаду. Папа осень беспокоился и сделал отчаянную попытку прорваться в осаждённое здание. Конные казаки жестоко избили его нагайками. Он едва доплёлся домой с лицом, превращённым в кровавую котлету. А члены собрания благополучно ушли каким-то потайным ходом.
Меня крестил кюстер реформатской церкви, что в Трёхсвятительском (теперь Вузовском) переулке, Гептнер, который приезжал для этого к нам в дом. Так я стал цвинглианцем. Мне сначала хотели дать по швейцарскому обычаю три имени: Давид-Валентин-Александр, но в последнюю минуту прикинули, что я, пожалуй, проживу и с одним.
Весной революция была подавлена. Пошли аресты. У родителей земля горела под ногами. Их не было дома, а я мирно спал в кроватке, когда к нам нагрянули жандармы. К счастью, накануне Лена унесла бомбы, а винтовки спрятала под дровами в сарае. Револьверы и пачку прокламаций няня успела сунуть под меня. Когда жандармы, добросовестно всё обыскивавшие, потребовали вынуть меня из люльки, она упала перед ними на колени и умоляла меня не трогать.
— Ребёночек больной, три часа кричал, только заснул. Если разбудите, всю ночь кричать будет.
И жандармы махнули рукой. В самом деле, орать будет, им же покою не даст. Они ушли, ничего не найдя.
Из Петербурга приехала бабушка Ревекка Михайловна. После бурного объяснения с мамой и папой она сама написала заявление о выезде за границу, со свойственной ей энергией выхлопотала паспорта и почти насильно выпроводила родителей за границу. Я остался у бабушки Софьи Осиповны в Пушкине. При мне ещё состоял штат из няни и Лены, которая уже жила на нелегальном положении и ей удобно было скрываться в доме Армандов.
В Пушкине, несмотря на хорошие условия, я заболел дизентерией. Я уже совсем собрался отдавать концы, лежал пластом и постоянно терял сознание. Врачи поставили на мне крест, но бабушка попробовала давать мне хину и… я воскрес. Когда я выздоравливал, она очень боялась за моё здоровье и, входя, обязательно грозила мне пальцем и говорила:
— Ни чих, ни ках!
Со мной часто заходили поиграть тётушки Арманды. Вот заходит тётя Маня, а я сижу без штанов:
— Данюша, а где же твои штаны?
— Чины у печи.
— Ай-яй-яй! Ну ничего, сыграй мне что-нибудь на дудочке.
— Дая не мее (не умеет). Дая тока чины а-а мее деить. — Тётушки покатывались со смеху, а я обижался и заявлял:
— Дая Мая сита. — Даня Маней сыт. Значит, отчаливай.
В два года я уже был неравнодушен к женской красоте и потому всем тётушкам предпочитал Женю:
— У Ени катьки мя-а. — У Жени щёчки мягкие, — говорил я с восторгом, тыкая пальцем тётушке в лицо.
Родители пробыли за границей год. Потом рискнули приехать[3]. Я узнал папу, а маму, к её большому огорчению, забыл. Когда она взяла меня на руки, я отвернулся и, отталкивая её, тянулся к няне.
— Я же твоя мама, Дадинька. Разве ты не узнаёшь меня?
— Мама у-у-у-у!
— Да нет, я уезжала, а теперь вернулась. Всегда теперь буду с тобой. — Но прошла неделя времени, прежде, чем я её признал совсем.
Родители поселились в Териоках, на самой финляндской границе. На их адрес приходила контрабанда: брошюры, листовки, журналы, и они по очереди, уложив всё по несколько слоёв под одежду, отвозили в Петербург на явочную квартиру. Я втянулся в «чтение» этой литературы и часами мог разбирать и раскладывать по цветам любимые «кыги».
Лену не спасло нелегальное положение. Она вернулась в Петербург и была арестована по громкому делу об экспроприации в Фонарном переулке. Она была взята с партией оружия. Улики были налицо. Её посадили в «предвариловку» и передали военно-полевому суду. В то время это была неминуемая дорога на виселицу. Лена пыталась бежать, симулируя сумасшествие, для чего добилась перевода в тюремную больницу. Несколько месяцев, проведённых там среди сумасшедших, под постоянным надзором врачей, когда надо было круглые сутки играть роль помешанной, едва в самом деле не свели её с ума. Но она показала исключительную силу воли и, распропагандировав одну медсестру, с её помощью подготовила побег. Но в последнюю минуту он сорвался. Дело в том, что именно в тот день начальстве сменило её сообщницу — перевело её в Литовский замок[4].
Родители метались, но на смягчение её участи не было никакой надежды. Бабушке удалось нанять известного крупного адвоката Гузенберга, очень красноречивого и ловкого. Этот адвокат впоследствии прославился участием в защите Бейлиса.
Гузенбергу удалось добиться только освобождения Лены на одну ночь перед казнью для прощания с родными под залог 25 тысяч золотых рублей. Вероятно, генерал-жандарм, давший на это разрешение, предполагал, что она постарается бежать. Но был убеждён, что он при всех вариантах её всё равно изловит и, таким образом, избежав неприятных последствий для себя, положит денежки в карман.
Родители метались, забывая о себе. Шутка ли, бедному врачу за несколько часов достать такую сумму. Выручил их дядя Гриша — «яичный фабрикант», полностью разорившийся после этой операции. Товарищи революционеры раздобыли ей фальшивый паспорт, переодели её прислугой, повязали платочком, дали в руки провизионную корзинку из ободранной ивы. После этого она перешла на другую квартиру, где переоделась в приготовленное платье богатой барыни, со страусовым пером на голове и на извозчике отправилась на Финляндский вокзал. Приехав в Гельсинфоргский порт, она встретила незнакомого мужчину, который должен был играть роль её мужа в путешествии, после чего, обменявшись паролем, они познакомились, перешли на «ты» и взошли на пароход.
Ленин «муж» был разодет ей под пару. Видный мужчина, он носил нафабренные усы, монокль, котелок и трость — ни дать, ни взять модный фат, прожигатель жизни, завсегдатай Монте-Карло. Прогуливаясь по палубе 1-го класса, они дрожали, что их схватят, и в каждом пассажире им мерещился следящий за ними шпик. Только сойдя с парохода в Гамбурге, они свободно вздохнули.
— Может быть, на прощанье вы откроете мне своё настоящее имя? — спросила Лена.
— Пожалуйста. Борис Викторович Савинков.
Лена была поражена и польщена. Сам Савинков, член ЦК партии, легендарный и строго законспирированный для рядовых членов организатор террористических актов! Они распрощались, и она его больше никогда не встречала. Поездом она уехала в Италию.
Настала ночь, когда арестовали и маму. Мне было уже 2 года, и я понимал, что она «сидит в Шушёвке» (Сущёвской части) и даже ходил к ней на свидания.
Иногда почему-то пропускали меня одного. Тогда синий дядька брал меня за руку у входа и вёл по мрачным коридорам, пока откуда-то из темноты, из-за железной двери не выходила мама. Она брала меня на руки, и мы беседовали час, пока жандарм нас не разлучал.
Свидания не были для меня новым делом. Ещё раньше я ходил к Лене в Предвариловку. Там я иногда предпринимал прогулки в соседние комнаты, где тоже шли свидания. Однажды я вернулся к Лене в восторге, весь украшенный орденами и медалями, которые перевесил со своего мундира на меня добродушный заместитель начальника тюрьмы.
Я пытался освободить маму: однажды я молился об этом, повторяя вслух свою просьбу, как няня, залезши для этого, от глаз окружающих, к корзину с грязным бельём. В другой раз я упрашивал жандарма отпустить маму домой, доказывая, что мне скучно без неё. Обе попытки оказались неудачными.
В этот период я очень привязался к папе. Он щёлкал пальцами перед моим носом и говорил «ку-ку». За это я прозвал его «Куком» и до четырёх лет не называл его иначе. Маму ожидала каторга, и он становился всё грустнее. Но почему-то приговор внезапно смягчили и дали два года высылки за границу. Это было роскошно!
На три дня маму отпустили домой собрать вещи. Взяв с собой меня и няню, родители поехали за границу через Петербург. Перед самым нашим приездом попал в тюрьму дедушка Марьян Давидович. Полиция всё охотилась за Леной и сделала у него обыск. Нашли номер журнала «Революционная Россия» и увели дедушку. Он две недели отсидел в Предвариловке и перед самым нашим приездом вернулся в отличном настроении. Он говорил, что в первый раз в жизни отдохнул от пациентов. Там прогулка, прекрасная библиотека на всех языках. Казалось, что он бы не прочь посидеть и подольше.
Из Тумповских только младшую Магу не интересовали события революционной России. Она сблизилась в то время с Гумилёвым и вместе с ним принимала участие в кружке поэтов, собиравшихся в Царском селе. Бабушка, хотя сама писала стихи, но среду поэтов находила нездоровой. Тем более, что Мага, согласно поэтической моде того времени, начала носить чёрную вуаль и две мушки на лице.
Бабушка старалась привлечь Магу к легальной общественной работе и сама была членом «Союза женского равноправия». Председателем его являлась Мария Александровна Чехова, а секретарём — её дочь Катя, интересные воспоминания которой о моей маме я выше приводил.
Бабушка как-то попросила Катю прийти в гости в их семью, чтобы соблазнить Магу работой в Союзе. Из этой попытки ничего не вышло. Тогда вечером Мага, со свойственным ей пафосом, читала гостье свои стихи, но к общественной работе не проявила никакой склонности.
Дая моль и глюп (1908 год)
Всё, что я описывал до сих пор, я позже узнал от взрослых и из записанных воспоминаний мамы и Лены[5]. Из более поздних событий я уже кое-что помню, вначале, конечно, отрывочно. Мне было в это время три года, и я буду дальше писать в основном по собственным воспоминаниям.
Воспоминание 1-е. Я еду в поезде и смотрю в окно. В окне темно, но происходит какое-то чудо: тысячи искр, похожих на стрелы, проносятся назад в Москву. Меня тащат спать, но я, как зачарованный, не могу оторваться от зрелища, поглотившего моё воображение. Поэтому я реву и отбиваюсь.
Воспоминание 2-е. Опять ночь, уже в Варшаве. Мы переезжаем на извозчике с Петербургского вокзала на Краковский. Пролётка завалена вещами. Прошёл дождь, а теперь прояснело. Пахнет свежестью, и мокрая брусчатка блещет в свете луны. Это хорошо. Мы подъезжаем к длинному одноэтажному вокзалу. Идём по крытой платформе между составов. Паровозы гудят так оглушительно, что я затыкаю уши и опять реву.
Воспоминание 3-е. Вена. Меня ведут за ручку. На перекрёстке из-за угла вылетает какой-то спешащий рыжий господин с усами и сталкивается с нами. Он приподнимает котелок, извиняется и бежит дальше. Из дворцов и музеев Вены, по которым меня много водили, я не запомнил решительно ничего. Очевидно, они не произвели на меня значительного впечатления.
Впечатление 4-е. Мы в Венеции. Поехали гулять на остров Лидо. Там по дюнам в лесу, кажется, сосновом, проложены удобные дорожки. Я их сразу узнаю и заявляю, что ничего особенного, я много раз гулял здесь с бабушкой. Взрослые смеются, спорят, говорят, что я фантазёр. Я обижаюсь и принимаюсь реветь.
Воспоминание 5-е. Мы приехали в деревню Белиджо на берегу озера Комо. В маленькой гостинице не нашлось детской кроватки и меня уложили в люльку. Я оскорблён: что я маленький, что ли? Четвёртый год и в люльку! Кроме того, в люльке тесно. Кроме того, жарко, кроме того, кусают москиты. И я реву всю ночь напролёт и никому не даю спать.
С этого времени воспоминания становятся более связными. Мы переехали в другую деревню, Тремеццо, на противоположном берегу озера Комо. Там у меня завелись три друга-сверстника — мальчик Марио, девочка Джозефина и белая кошка.
Кроме того, на соседней вилле жил старик, который казался мне добрым волшебником. У него в доме вся мебель была металлическая и вся сверху донизу расписанная нежными переливчатыми красками. Он сам её расписал, владея секретом окраски металлов с помощью каких-то кислот.
Меня там донимали итальянки и особенно англичанки. Завидев чужого ребёнка, который показался им хорошеньким, они принимались его целовать. Это у них принято. Я отбивался, плакал и кричал: «Чего они ко мне лезут»! Раз я с яростью расшвырял мелкие деньги, которые мне пожертвовала на конфеты компания англичанок.
Я приходил с прогулки, оскорблённый «слюнявыми нежностями», с намерением выместить на родителях свои огорчения и садился за стол в капризном настроении. Когда мама начинала мне резать котлету, я заявлял:
— Хочу, чтоб ты начала с другой стороны!
Мама покорно начинала с другого конца.
— Нет, это второй кусок, а я хочу, чтобы ты первый с этого…
Папа внезапно ударял кулаком по столу, так что посуда подлетала со звоном.
— Дадька, чор-рт! — кричал он и, схватив меня поперёк живота, тащил в мою комнату. Я брыкался, царапался и даже кусался. Он бросал меня на пол и запирал на задвижку. Я заливался рёвом и начинал буйствовать: рвал и бросал на пол вещи, ломился в дверь и вообще безумствовал. Потом залезал в самую пыль под кровать и там выл долго и протяжно, сладко думая, что вот я умру от обиды и как они все тогда будут плакать… Воя хватало примерно на час. Наконец, убедившись, что умереть никак не удаётся, вылезал и уже тихо скулил под дверью и был рад, когда мама через дверную щёлку предлагала мне помириться.
Жара спадала, настроение улучшалось и я садился играть один или с приехавшей к нам тётей Олей, причём проявлял завидную усидчивость и даже самокритичность. Когда не удавалось сложить мозаику, я покорно констатировал:
— Дая маль и глюп.
В это время Лена, жившая в эмиграции, вышла замуж за Михаила Ивановича Булгакова, только что выпущенного из Петропавловской крепости, и приехавшего в Италию[6], чтобы продлить свою жизнь (в крепости он заболел чахоткой) и дописать начатую книгу о Чернышевском. На лето они перебрались в дачное местечко Морнэ в Верхней Савойе во Франции, и мы поехали к ним.
Морнэ лежало в долине Шамони, на реке Арве, прямо напротив Монблана. Там был чистый горный воздух, который сразу поубавил мне капризов.
Я очень увлёкся химией. Целые дни я проводил на берегу реки, смешивая песок с водой в различных пропорциях. Густая смесь, из которой ребята обычно лепят пирожки, называлась «керосин», грязь пожиже — была «бензин», а совсем жидкая слякоть — «спирт». Впрочем, все эти жидкости не горели и не взрывались и потому меня оставляли на часы одного за этим занятием среди скал и галечников бурной Арве.
Я очень полюбил прогулки в горы. Мы с няней были специалистами по этой части. Выше нас забирался только папа, который считался у нас форменным скалолазом. Ну и шикарно же было, когда он брал меня с собой! Тогда уж нас никто не мог догнать. Я сидел у него на шее, когда он карабкался на скалы или перепрыгивал по камням через горные речки. Потом я рассказывал всем, что мы прыгали через водопады столько раз, что, в конце концов, сам в это поверил. Любимым аттракционом был фуникулер, который цеплялся зубчатыми колёсами за рельсы и лез на гору, подобно мухе на стекле. Глядеть на него мне никогда не надоедало, а ехать на нём было жутковато: вот сорвётся, да пойдёт тарахтеть по своей зубчатке — костей не соберёшь!
Всей семьёй мы ходили на «тарабару». Это волшебное название было дано столь же волшебному явлению природы. В скале, нависающей над долиной, водой был промыт тоннель. Если посмотреть сверху, то сквозь тарабару были видны луга и домики с красными крышами и пасшиеся маленькие коровки. Сверху дырка была заделана решёткой, чтобы ребята туда не ныряли. Я верил, что дыра идёт сквозь всю Землю и что коровки пасутся уже в Австралии. Когда меня разубеждали и говорили, что отверстие открывается всего лишь в долину Шамони, я спорил и соглашался на уступки неохотно: «Ну, может быть, не через центр Земли, а немного вбок». Я ещё не умел сформулировать, что тоннель проведён по хорде.
Спорил я также и насчёт Наполеона. Взрослые находили, что на гребне Монблана, возвышавшемся над местечком, ясно различим профиль Наполеона, лежащего лицом вверх. Я решительно ничего такого среди снежных громад не видел и доказывал, что не может он здесь лежать, раз он умер на острове Святой Елены. Вот рекламу «Chocolat Gala-Peter», написанную буквами с трёхэтажный дом, на одном из утёсов Монблана я ясно видел. Она вызывала у меня слюнотечение при воспоминании о замечательном сливочном шоколаде в виде пятачков, упакованных в столбики, которые так и отколупывались один за другим. Невозможно было остановиться, пока не дойдёшь до дна.
Новый дядя Миша оказался высоким блондином с вихрами, в пенсне и с белокурой бородкой. Отношения у меня с ним не сложились, потому что он был «штрафник». У него была копилка — зелёный огурец. Туда должны были опускать штрафы все люди, заговорившие за столом о политике или вообще на «скучные темы». Я панически боялся этого огурца и с ужасом глядел на то, как кто-нибудь из родных, пойманных на месте преступления, опускал в огурец 10–20 сантимов. И хотя я видел не раз, как в конце недели дядя Миша вынимал недельную добычу и покупал для всех бутылку вина и торт, всё же взимание штрафов казалось ужасным насилием над личностью, чем-то вроде гражданской казни. А тут ещё на стенке появился приказ, что рёв за обедом по поводу не так нарезанной котлеты приравнивается к «скучным разговорам». А так как у меня не было за душой ни сантима, будут записывать за мной долг и в один прекрасный день снимут с меня кепочку, штанишки и так далее, продадут на базаре и деньги положат в огурец. Представляете, какая может быть жизнь в ожидании казни? Немудрено, что я не верил маме и папе, уверявшим, что дядя Миша хороший.
Посреди лета в гости к нам приехала «баба Ту» (Тумповская) с младшими мамиными сёстрами и «баба и деда Пу» (Пушкинские) с тремя сёстрами отца. Старые бабушки и молодые тётки наперебой баловали меня, отчего я стал совершенно несносным и рисковал остаться в чём мать родила перед лицом зелёного огурца, если бы дядя Миша собрался выполнить свою угрозу. Только с бабой Ту у меня сложились натянутые отношения. Когда огорчённая мама меня спрашивала:
— Ну, отчего, отчего ты не любишь бабушку? — я мог привести только один сильный аргумент:
— Она слишком крепко целует, а у самой губы мокрые!
Из Морнэ мы ездили всей семьёй с бабой и дедой Пу на ледник, который славился ледяными гротами. Какой-то предприимчивый капиталист купил язык ледника, провёл в него электрическое освещение (ледник, очевидно, был мёртвый), где надо, вырубил ступеньки. На плече грота построил небольшую гостиницу и ресторан.
Народ повалил смотреть на чудо природы и охотно платил за это по полтиннику. Тепло одетые и предваряемые чичероне, мы гуськом вошли в узкое отверстие грота. Впрочем, он только назывался «гротом», а на самом деле был бесконечным лабиринтом пещер, промытых во льду стекавшими с поверхности ледниковыми водами. Большей частью подлёдные русла позволяли выпрямиться взрослому человеку, но временами приходилось идти согнувшись. По дну русла в канавках журчали весёлые ручьи. Освещение было хитро проведено в толще льда, так что сами стены светились мягким светом. Временами мы выходили в небольшие залы, там освещение было разноцветным: то синим, то красным, то зелёным; цветные лучи дробились и отражались в сотнях сосулек. Сказочное зрелище! Местами во льду можно было видеть кусочки голубого неба. Путешествие длилось около часа.
В Морнэ я переименовал своих родителей. Отец заявил мне:
— Если я Кук, так, значит, ты Кукиш!
Хотя я не очень ясно представлял себе, с чем его едят, но почувствовал что-то обидное и стал называть его папа-Ука. Маму я называл в то время — мама-Гиля.
Наступила осень, родные уехали. И мы направились зимовать в Рим. В дороге самое забавное было — множество тоннелей. Через Симплонский тоннель проезжали целых полчаса. Мне было страшно и интересно, ведь мы ехали «почти сквозь Монблан». Всё-таки я всё время держал маму за руку. Меры по технике безопасности необходимы, когда Монблан каждую минуту может обрушиться на голову.
Рим, — я понимал, что это столица мира, что туда ведут все дороги, и относился к нему с должным почтением. Что на меня произвело неизгладимое впечатление, это — развалины Колизея. Так здорово было прыгать с широких ступеней амфитеатра, гонять мяч по громадной арене… Пока родители сидели на каменных скамьях и читали свои бедекеры, я произвёл глубокую разведку и залез на шею какой-то каменной «древнегрецкой даме». Там меня и застал сторож в фуражке с околышем. Он ругался по-итальянски, потом стал тыкать в меня палкой. Пришлось слезть и с горькими слезами под конвоем отправиться к папе и маме. Объяснение с их стороны было бурным и закончилось тем, что папа вынул бумажник и дал сторожу несколько лир в обмен на жалкую квитанцию. Опять штраф!
— Вот, до чего ты довёл! — сказала мама. Я знал, что у родителей не хватает денег и что нас того и гляди выселят из скромного номера гостиницы, и потому снова закатился на этот раз уже от стыда. Но кто же мог подумать, что нельзя посидеть немножко на голове у статуи! Ведь здесь их десятки!
Я стал заядлым археологом. Я бредил камнями и, поднимая на горе Тиверия или на Галатинском холме какой-нибудь булыжник, тащил его к родителям с восторженным криком:
— Поглядите, какой старинный!
Меня без конца водили по церквям и музеям. Там я глядел на то, что было ко мне ближе всего: на землю. Оно и стоило: полы были выложены мозаикой, к которой я чувствовал какую-то особую нежность. Особенно, когда она изображала зверей и птиц. В Ватиканском музее я был столько раз, что дома даже начертил его план и, по семейному преданию, совершенно верно. Это была моя первая географическая работа.
Я также сделал существенный вклад в историю. Я объяснил, почему римляне говорят по-латински. Очень просто: потому что они жили на Полатинском холме! И как это учёные до сих пор не догадывались?
Когда я шёл с няней в лавку, я предвкушал встречу с моим любимым нищим. Этот старик всегда сидел на одном месте. Я заранее выпрашивал у няни сольди и бежал вниз по тротуару, спускавшемуся ступенями. Подбежав к старику, я бросал сольди в его шляпу, и он заключал меня в объятия и начинал целовать. И странное дело: это был единственный иностранец, поцелуи которого не были мне неприятны.
Среди родительских знакомых были у меня друзья. Особенно помню четверых: журналист Михаил Осоргин, любивший со мной повозиться; высокий юноша испанец, про которого говорили, что он художник и что он подтверждал своей одеждой (сомбреро и крытая пелерина). Другой — художник, имевший бороду, но от рожденья не имевший рук и писавший картины, зажав кисть между пальцами ноги. По иронии судьбы его фамилия была Неручев. И, наконец, русская женщина по имени Людмила, у которой была трёхлетняя девочка Мариуча. Девочка ходила в штанишках и в турецкой фетровой феске, чем окончательно пленила моё сердце.
В Риме я выучился читать и писать печатными буквами. Эти буквы, как это часто бывает у маленьких детей, глядели не в ту сторону.
Я очень любил глядеть, как мама пишет и искренне радовался, когда над строчкой выскакивал крестик буквы ять. Чтобы меня порадовать лишний раз, мама ставила ять, где надо и где не надо, предупреждая корреспондентов: «Извините, мой сын требует везде ятей».
Под небом Италии
«Им овладело беспокойство, стремленье к перемене мест».
К весне я начал ворчать: «Рим мне надоел. И грецкие дамы тоже. Поехали дальше».
Ну, ехать, так ехать. Поехали в Неаполь.
В Неаполе были две премилые вещицы: море и вулкан. Открытое море с пароходами и парусниками я видел впервые. Оно было обозримо на большое расстояние, так как Неаполь спускается к нему амфитеатром. Нечего и говорить, какое оно произвело на меня впечатление и какой бурный взрыв фантазии пробудило. Дымящийся Везувий был ещё таинственней, ещё чудесней. Я наслушался рассказов о потоках лавы, летающих бомбах, о гибели Помпеи. У меня разыгралось воображение: я то спасался, сам перепрыгивая гигантскими прыжками со скалы на скалу над потоками лавы, то с безумной отвагой спасал маму и няню, нет, лучше Мариучу.
Папа снова не поехал с нами. Он завернул в Мессину, где незадолго перед этим произошло знаменитое землетрясение. А мы, пожив немного в Неаполе, подались на Капри. Я никогда ещё не плавал по морю и был по этому случаю в чрезвычайном возбуждении. Но денёк выдался ветреный, волнение было порядочное, и я быстро угомонился. Вскоре мне захотелось лечь, и я растянулся на решётчатой скамье, за спинами мамы и няни. Через полчаса я сделал страшное открытие и закричал:
— Ой, няня, из меня что-то лезет!
Няня молча подставила мне ведро; из неё тоже лезло, но она крепилась. Переезд длился 3 часа и оставил во мне твёрдое убеждение, что надо заниматься географией суши, а не моря.
Капри мне очень понравился. Мы поселились на склоне высокой горы. Перед каменной террасой расстилалось целое море цветущих фруктовых деревьев, среди которых там и здесь были разбросаны белые кубики-домики, а за ними возвышались неприступные скалы. Куда ни погляди, вдали и внизу было ослепительно сверкавшее Средиземное море.
Мы ходили в горы к замку Тиверия, очень злого царя, который сбрасывал со скалы христиан. Я заглядывал за край той скалы, и сердце сжималось от ужаса.
Из прогулок я обычно возвращался у няни на плечах. Она поражала меня своей прозорливостью:
— Данюшка, не ковыряй в носу, — говорила она внезапно, стоило мне отнять одну руку от её шеи.
«Ну, как она узнаёт, — думал я, — глаза у неё, что ли, на затылке?»
Приехал папа. Бог знает, что он рассказывал про землетрясение! Это было ещё страшней Везувия. От Везувия можно было хоть убежать, а землетрясение — оно везде. Хорошо, что не на Капри!
Раз мы всей семьёй отправились в Лазоревый грот[7]. Плыли в лодочке по морю, вдоль неприступных скал. Чёрное отверстие грота почти закрывалось каждый раз, как набегала волна. Как туда проникнуть? Вот накроет волна в узкой горловине и конец… Но лодочник ловко направил лодку по ложбине между двух волн и мы очутились в гроте. Свет проходил через воду и потому всё в гроте казалось голубым: и вода, и своды, и сам воздух. Я был в восторге и уверял, что вижу по углам гроты и других расцветок: зелёный лиловый, коричневый… Папа смеялся:
— Дадька, фантазируешь. Хватит с тебя и голубого.
— Ну уж коричневый-то я наверняка видел, вон в том углу.
На том и помирились. В гроте плавало несколько лодок с иностранными туристами. А посредине была естественная колонна, подпиравшая свод. У её подножия стояло несколько голых мальчишек. Иностранцы бросали мелкие монеты в воду, вода была исключительно прозрачной, и сверкавшие монетки были видны на большую глубину. Мальчишки ныряли за ними и ловили их, причём их голубые тела грациозно извивались к удовольствию туристов. Я завидовал ребятам и кричал, что тоже хочу ловить монеты.
— Не говори глупостей, — останавливала меня мама, — ты плаваешь как топор. И вообще не думай, что это приятно. Гляди, как дрожат мальчики в ожидании монетки. Они тяжёлым трудом зарабатывают себе на хлеб.
И мама, подъехав, дала ребятам пол-лиры прямо в руки. Они о чём-то заговорили, а папа перевёл:
— Они говорят, что синьорина, наверно, русская, потому что только русские бывают такие добрые.
В другой раз мы поднимались на Анакапри, в самую высокую деревню на острове. До Анакапри мы не дошли, но отдыхали по дороге в таверне, где хозяева, молодая чета, давали гостям маленький спектакль — танцевали тарантеллу. Танцевали они классически — бубен, кастаньеты, цветной пояс и полосатый колпак на мужчине, юбка-колокол на даме и молниеносное вращение, перегибание, подкидывание…
Потом я пытался воспроизвести танец. И, если мне это не вполне удавалось, то только за отсутствием кастаньет и достойной партнёрши.
Ещё в Неаполе среди открыток с видами Капри я видел изображение трёх осёдланных осликов, которых держала в поводу пожилая итальянка. На Капри мы увидели её воочию. За несколько сантимов женщина давала ребятам покататься на осле. Нашлись какие-то два русских мальчика постарше меня, с которыми мы сговорились совершить верховую поездку. Папа и мама поощряли такие мероприятия, больше всего боясь, как бы я не вырос трусом. Сначала ослы шли шагом, потом хозяйка пустила их рысцой, затрусивши рядом с ними. Потом то ли их овода укусили под хвостом, то ли ими овладела идея соцсоревнования, но они бросились наперегонки вскачь по шоссе, идущему серпантином под гору. Погонщица, пытавшаяся их остановить, быстро задохнулась и отстала. Сзади с воплями бежали наши родители, а мы, вцепившись каждый в луку седла и от страху забывши даже кричать, ни живы, ни мертвы подпрыгивали на проклятых скотинах. Проскакав с версту, ослы увидели зелёную лужайку, сразу пришли в сознание и принялись мирно жевать траву. Мы сползли с сёдел и в изнеможении опустились на землю.
По воскресеньям мы ходили к Горькому. Его вилла была похожа на замок. Стены сада были увиты вьющимися розами, роз и других цветов было великое множество и внутри сада. Сам Горький представлялся мне великаном, одетым весь с головы до ног в жёлтую кожаную одежду. Так он мне запомнился. Очень странно было в Италии ходить во всём кожаном, и взрослые потом опровергали моё мнение, но я твёрдо стоял на своём. Может быть, он носил краги, а я просто не видел, что там было наверху, так как ростом был немного повыше его колен? Горький очень смущался моим присутствием, старался снизойти до уровня моих интересов, разрешал мне рвать цветы в саду и был первым человеком, обращавшимся ко мне на «вы». Когда я вырос, читал «Челкаш» и смотрел в Художественном театре «На дне» с Москвиным и Качаловым, я ощущал это горьковское «вы», как орден на своей груди.
В апреле стало жарко. Дул сирокко, папа говорил, что он приходит прямо из Сахары. Это тоже было удивительно, ведь Сахара это всемирная печка. Надо было уезжать на север.
Вернулись в Неаполь. Съездили в Помпею. Странно, но Помпеи совершенно стерлись из моей памяти. Помню только разговоры о том, что внутрь древних домов нельзя войти, так как за это берётся особая плата, а денег опять нету. Вечно эти деньги! И куда только девались 600 руб. в месяц, которые присылал деда Пу? Как узнал я впоследствии, половина их отчислялась в партийную кассу «на революцию», а вторая раздавалась почти нацело знакомым эмигрантам, которые не сумели выбрать себе такого талантливого деда и потому натурально голодали.
В местечке на Ривьере, Кави ди Лаванья, был широкий песчаный пляж и тихое море. Там были опять Лена с Мишей и зелёным огурцом, а ещё дача Амфитеатрова.
Известный в то время романист Александр Амфитеатров писал романы, отчасти бульварного толка. Из России же был выслан за то, что в пьяном виде написал на пари пасквиль в стихах на Николая II и всё августейшее семейство. Амфитеатров выехал с семьёй и кучей прислуги, сняв большую виллу и зажил на широкую ногу. Но так как он к тому же был добряк и помогал всей эмигрантской братии, то ему для поддержания на уровне приходилось работать целыми днями и потакать, скажем, невысоким вкусам публики. Острили, что он пишет зараз пять романов: два руками, правой и левой, два ногами и один языком — диктует секретарше.
Так вот, когда мы приехали в Кави, мама повела меня знакомиться к Амфитеатровым. Когда я его увидел, я дико заревел, уткнулся в мамину юбку и здороваться наотрез отказался.
— Ах, Лидия Марьяновна, я ведь говорил, что детей надо предупреждать, а то они всегда меня пугаются, — мягко упрекнул маму Амфитеатров.
— Как тебе не стыдно, дядя такой добрый!
— Но он толстый!
— Ну что ж такого? Александр Моисеевич тоже толстый, а ты с ним дружишь.
— Ну, Моисеич, всё-таки на человека похож, а этот прямо пузырь какой-то.
Мама за меня прямо сгорела со стыда. Но, что правда, то правда — бедняга весил 10 пудов 20 фунтов. Зато младшие дети Амфитеатрова, близнецы Роман и Максим, на год младше меня, оказались сущим кладом. С ними весело было играть. К тому же они были талантливы — умели писать фонтанчиком через забор. Впрочем, я тоже после нескольких уроков овладел этим искусством.
Среди эмигрантов выделялся Герман Лопатин. Это был старик с большой бородой (по моим представлениям, если с бородой, значит старик), всегда весёлый, хотя немного страшный. Собственно, страх происходил от того, что про него говорили, что он «самый знаменитый» революционер. Мне запомнился не столько он сам, сколько любительская карточка, хранившаяся в нашей семье: скалистый берег Тирренского моря, из моря торчат скалы, а на одной скале стоит в картинной позе Лопатин, опершись рукой на одно колено, а другую подняв кверху, как будто бросая вызов набегавшим волнам.
Ещё в Кави мне запомнились драки. Мне исполнилось четыре года, и я вполне созрел для хулиганства. На улице ковырялись в пыли итальянские ребятишки. Иногда между ними возникали драки. Я глядел на это с завистью и однажды решил испытать свои бицепсы. Я с такой силой налетел на двух игравших и ничего не подозревавших малышей, что жертвы неспровоцированного и внезапного нападения обратились в бегство. А мне это так понравилось, что я превратился в грозу соседних мелких личностей. Оборонительную позицию пришлось занимать маме, на которую обрушились матери с жалобами на piccolo Davido, который де ни за что, ни про что пускал юшку их сыновьям.
В Кави жила семья испанцев. Глава семьи был очень высокий и очень гордый мужчина. У него была ручная маленькая обезьянка. Я очень ей интересовался и однажды, проходя мимо, не преминул её подразнить. Обезьянка в мгновение ока вскарабкалась мне на голову, расцарапала лицо и принялась драть меня за волосы. Няня бросилась на защиту. Ударила паршивку так, что та кубарем скатилась на землю. Испанец побагровел, заскрежетал зубами, поднял кулак над няниной головой, но… удержался. С тех пор я отношусь к обезьянам и женщинам с крайним недоверием.
Иногда мы ходили гулять с мамой и Леной на луга, где было много цветов. Их запах буквально опьянял меня. Я начинал изображать «неаполитанского пирата» — повязывал голову красным платком-косынкой, другой такой же повязывал на пояс и начинал носиться, как савраска без узды, сшибая палкой головки цветов, рыча, кувыркаясь и свирепо гримасничая.
Если нас на прогулке заставал вечер, то я опять приходил в возбуждение из-за светлячков, тысячами носившихся в воздухе и ползавших в траве. Я кричал, ловил их картузиком, бросался на живот… Это же было воплощённое живое чудо и притом в огромном количестве!
Когда жара усилилась, мы поехали дальше на север. Заезжали в Пизу, Флоренцию и Турин. Эти посещения не произвели впечатления на такого умудрённого опытом туриста, как я, и не остались в памяти, кроме, впрочем, Пизанской башни, романтическое положение которой сильно меня взволновало. Я всем надоел, моделируя её на кубиках и заканчивая громким обрушением модели.
Папа снял квартиру в деревушке Иссиме на склоне Альп у подножия Монте Розы. Туда ехали в автомобиле. Это случилось с нами, с няней и со мной, в первый раз. Открытый лимузин человек на 15 так и летал «как шумашедший» по горным серпантинам. Со всех сторон разверзались пропасти, в которые было страшно заглядывать. Няня шептала молитвы, а я не знал, радоваться сильным ощущениям или предаваться ужасу.
В Иссиме мы заняли половину второго этажа крестьянского дома. Вторую занимали хозяева, а в первом этаже жила скотина, преимущественно овцы. Лучшего места нельзя было себе и представить. Скалы и склоны — идеальные снаряды для лазанья. Целые луга цикламен, нюхай, рви сколько хочешь. А когда поспела ежевика, я пропадал в зарослях целыми днями и ходил с несмываемо синей мордой и весь в царапинах от колючек. В горах постоянно слышался шум падающих лавин, который эхо многократно повторяло.
Мы с няней ходили вверх по шоссе до следующей, кажется последней деревни. Оттуда были видны снежные вершины. А по дороге ехали крестьяне и, когда лошади принимались какать, хозяин соскальзывал с облучка и в широкополую шляпу собирал навоз, чтобы отвезти его на свой огород. Аккуратненько жили в Иссиме итальянцы. В верхней деревне у шоссе лежал скатившийся бог весть откуда огромный камень. Он лежал на одной точке, что было уже интересно, но самое интересное было, что под ним вся почва была обработана и посажена картошка. На него тоже был, очевидно с помощью приставной лестницы, нанесён слой почвы и посажен второй этаж картошки. Высокая интенсивность этого приёма произвела на меня впечатление и через 50 лет, когда я занимался географическим обслуживанием сельского хозяйства, представлялась мне идеалом рациональной организации территории.
Среди итальянцев произошло большое волнение. У их односельчанина в коше на летнем пастбище появился чёрт. Его никто не видел, но плоды его деятельности были налицо. Выстиранные простыни, повешенные на верёвках, наутро оказывались в загоне на спинах коров. В каменной хибарке от потолка внезапно отрывались кирпичи и иногда здорово стукали людей. Другие проделки были в том же роде. Жадный до зрелищ народ повалил на пастбище. Папа две недели сдерживался, но потом тоже пошёл «из чисто научного интереса», как он объяснил. И за ним увязалась няня, что, несомненно, делает честь её мужеству. Они поднимались на альпийский луга целый день. Там в хижине оказалось полно народу. Стояли плечом к плечу и глядели в потолок, ждали, кому чёрт в лоб камнем влепит. Говорили, что в прошлый четверг одному влепил. Патер тут же служил молебен, выкуривая беса. Жандарм держал карабин наготове на случай, если чёрт объявится собственной персоной и притом в плоти.
Между тем народ, понятно, хотел есть. У хозяина тут же была кустарная сыроварня и сыры шли нарасхват, также как и лепёшки, которые пекла его жена, и молоко, и всё прочее.
Папа с няней простояли там целый день. Не повезло, видно чёрт был выходной. Ни им, ни кому другому в этот день кирпичом не попало. Вечером пошли домой. В темноте папа проходил мимо какой-то деревни, ввалился в выгребную яму. К счастью, там было не глубоко, но можно себе представить, в каком виде он вылез! Няня поскользнулась на крутой тропке и вывихнула ногу. Её принесли незнакомые итальянцы на носилках. Она горько плакала и причитала.
— Так тебе и надо, старой дуре! Пошла на нечистого глядеть, чем соблазнилась, грешница. Вот, Господь-то сразу и покарал, чтобы впредь неповадно было. Ой, Матерь Божья, стыд-то какой!
Ногу вправили, но бедняга остаток лета проходила на костылях.
Ездили мы в какой-то городок на ярмарку. Вообще-то он был сонный. Жители предавались dolce far niente[8], или прямо на улице ели бобы, жареные в оливковом масле, или спагетти. Последние они брали прямо руками из общей миски, высоко поднимая над головой, чтобы ртом поймать свисающие концы. В ярмарочные дни городок преображался. Мы смотрели там тарантеллу, карнавал, петрушку, катались на карусели, толкались на праздничном базаре. Гвоздём базара был «зуб русской императрицы Екатерины II», который продавал за большую цену какой-то шарлатан. По определению папы, это был зуб мамонта, такой же, как он видел в музее во Фрейбурге. Мы пообедали в ресторане, причём попробовали «настоящее итальянское блюдо» — frutti di mare. То ли от того, что русский желудок не приспособлен к поглощению моллюсков и иглокожих, то ли потому, что название вызвало у меня ассоциацию с морским переездом на Капри, но результат получился такой же, как тогда: через полчаса все frutti вернулись на свет божий по старой дороге. Няня называла это «Friedrich heraus», рассказывая при этом анекдот, как русские солдаты как-то выпили за союзника — прусского короля Фридриха, а он оказался изменником. Тогда они с криком «Friedrich heraus» засунули пальцы в рот, и вся выпитая за короля водка вышла обратно.
Наступала зима. Я ныл и канючил — просился в дальние странствия.
— Мы уже 2 месяца живём в Иссиме! Итя, Лёва, сколько же можно торчать на одном месте?
К этому времени я снова переименовал своих родителей. Себя же в торжественных случаях называл «Давид Ильвович».
«Поедешь в Париж, так там и угоришь» (1909 год)
Но вот, наконец, мы поехали в Париж. По дороге я изучал бедекеры. Я, конечно, ни слова не понимал по-французски, но тщательно рассматривал изображения достопримечательностей и подолгу задерживался на карте Франции и плане Парижа.
Из парижской квартиры я запомнил только громадный буфет, которому вскоре было суждено стать проклятьем моей жизни. Неподалеку, около парка Мон-Сури поселились в маленькой комнатке, украшенной моделями задумчивых химер Нотр Дама, Лена и Миша. Миша окончил свою книгу и начал вторую — о Лаврове. Я проводил у них много времени, глазея в окошко. Там было видно, как в коротеньких штанишках и куртках «жерсэ» (свитерах) по дорожкам мерно пробегали тренирующиеся спортсмены. Я такое видел впервые, костюм бегунов казался мне неприличным, и я от души над ними забавлялся. Кроме того, было удивительно, что от них всегда валил пар, несмотря на холодную осеннюю погоду.
Вскоре после нашего приезда в Париже состоялись показательные полёты. Хотя Блерио уже перелетел Ла Манш, но большинство людей ещё никогда не видело самолёта, и потому на ипподроме с утра собрались несметные тысячи народа. Мы, конечно, тоже не упустили случая посмотреть на такое чудо. Моросил дождь. Ждали часа три, авиационная техника что-то буксовала. Каждый час вдоль трибун ездил легковой автомобиль, и люди из него что-то кричали и махали руками. Первый раз их встретили аплодисментами, второй раз — гробовым молчаньем, третий — свистом и топаньем.
Наконец, самолёт, нечто среднее между стрекозой и этажеркой, разбежался и оторвался от земли. Лётчик, не помню, это был Пегу или Пуарэ, был подвешен внизу на чём-то вроде дачного стульчика. Самолёт поднялся на высоту примерно пятого этажа, пролетел с полверсты и благополучно приземлился. Толпа неистовствовала от восторга. Сотни людей бросились на лётное поле, одни качали лётчика, другие — раскулачивали на сувениры самолёт.
Мне запомнилась в Париже, конечно, Эйфелева башня. Мы хотели на неё полезть, но оказалось, что она закрыта, как гласило объявление: «до прекращения эпидемии самоубийств». Французы нашли «общенациональный» способ кончать земные счёты, прыгая с башни. Зато рядом крутилось громадное чёртово колесо, какие теперь бывают во всех парках культуры и отдыха, но гораздо выше. Мы однажды сели в вагончик, и колесо нас с размеренноё медленностью вознесло над городом. Вид открывался оттуда изумительный. Я подумал, что если не иметь в виду самоубийство, то незачем лезть и на башню.
Но самое большое впечатление произвело на меня парижское метро. Начиналось оно прямо дыркой в тротуаре. Подземные вестибюли были тесные и грязные, тоннели узкие, вагончики маленькие. Но я понимал, что это чудо техники, что французы прорыли под городом целый муравейник, даже под Сеной. Последнее было особенно страшно; когда мама говорила, что мы едем под Сеной, у меня дух замирал: я глядел на потолок вагончика и так и ждал, что он разверзнется и в тоннели хлынет неудержимым потоком вода.
Другие страхи подстерегали меня на входах и выходах. Там было множество реклам. Две из них, повторявшиеся с удивительным упорством, я не выносил. На одной была изображена резкими, контрастными красками голова дьявола, на другой аккуратненький человечек в крахмальном воротничке и галстуке, стоящий руки по швам. «Страшное» заключалось в том, что вместо головы у него торчал большой указательный палец. Это была реклама воротничков. Эти два изображения наводили на меня такой ужас, что я закрывал глаза, подходя к метро, и просил вести меня под руки, пока не кончится это «страшное».
Однажды произошёл такой случай. С мамой и с няней мы пошли в магазин «Bon marché». Это громадный универмаг, со множеством этажей и эскалаторов. Мама с няней ходили по бесконечным отделам, увлечённые каким-то хозяйственным разговором, а я шнырял под прилавками, собирая обрезки ленточек французских национальных цветов, которыми завязывались пакеты. На минуту мы друг про друга забыли. А когда я оглянулся, я увидел, что мамы и няни нет. Я побежал и завернул в проход, мне казалось, что они туда прошли. Потом в другой, третий. Ещё через минуту я не имел ни малейшего понятия, где нахожусь, и понял, что погиб в этом чужом, непонятном и враждебном мире. Некоторое время я крепился, уткнувшись головой в какую-то детскую коляску, потом разразился рёвом.
— Няня, Итя!
Изо всех углов выбежали испуганные молоденькие продавщицы, они лопотали совершенно непонятные слова и куда-то меня вели. Процессия всё нарастала, и уже вокруг было человек 15, а я между тем заливался всё громче и громче. Продавщицы беспомощно повторяли:
— Quʼest-ce quʼil crie? Maman! — Non. Papa! Non. Quʼest-ce que cʼest «niania»?[9]
В конце концов мама и няня, бросившиеся меня искать и вскоре оказавшиеся на другом конце магазина, услышали оттуда доносившийся крик и, запеленговав его, побежали ко мне навстречу.
Хотя всё кончилось благополучно, это происшествие лет на семь оставило травму в моей душе. У меня развилось нечто вроде боязни одиночества. Родители, няня, бабушка — других людей, будь их хоть тысяча, я не признавал и впадал в панику, как забытый в пустыне.
Во избежание эксцессов мама принялась учить меня французскому языку. Она пробовала мне читать французские сказки, пробовала говорить со мной только по-французски. Но я не понимал, зачем нужен этот бестолковый язык, когда так хорошо и удобно говорить по-русски. Я хохотал и вертелся на уроках и отвечал маме потоком несуществующих слов, уверяя её, что говорю по-французски.
— Quel bavard, quel betise![10]
Как ни был я бестолков, но к весне уже знал два слова la pomme и le bonbon, хотя был не твёрд в отношении того, которое из них означает яблоко, а которое конфету. Ещё я понимал, когда мне говорили:
«Reste tranquille!»[11]
Гораздо лучше обстояло дело с русским языком. В четыре года безо всякой помощи я как-то сам выучился грамоте, то есть научился чтению по слогам и письму — вкривь и вкось печатными буквами. Из России мне привезли книжки: жуткую историю, которая, впрочем, хорошо кончилась. О том, как нерадивая нянька, нечаянно, вместе с ребёнком запеленала ножницы. Ножницы его кололи. Он кричал, а все родные его всячески развлекали и утешали. Наконец, пришла мать и сразу догадалась, что его надо распеленать…
Прошла беда, бранят слугу, Смеётся Мишенька: — Агу!Ещё трагичнее была поэма про Стёпку-Растрёпку, который не хотел мыть и стричь волосы и стричь ногти. В конце концов пришёл портной и огромными ножницами обстриг его ногти и волосы. Заодно он прихватил пальцы и уши Стёпки-Растрёпки.
Третья книжка обходилась без кровопролития. Но и в ней была батальная сцена:
На улице две курицы С петухом дерутся. А бабушка со внучкою Смотрят и смеются: «Хи-хи-хи, да ха-ха-ха, Как нам жалко петуха».Очевидно, главной целью детской литературы тогда была спартанская закалка юных душ читателей.
Я также необычно усидчиво и настойчиво занимался географией. Видя мою страсть к бедекерам, мне подарили атлас Линдберга. Очень неплохой по тем временам атлас. По внешней форме похожий на тетрадку по рисованию, немножко потолще.
Я врезался в него, как говорят «по уши», так что к обеду меня, или вернее атлас от меня, приходилось буквально оттаскивать. Мне мало было его рассматривать, я горел нетерпением внести свой творческий вклад в географию.
Поразмыслив, я решил, что лучшее, что я могу сделать, это составить приложение к атласу в виде алфавитного списка городов по странам. Я с увлечением принялся за дело, исписывая тетради столбцами каракулей. Но я никак не мог уследить за всеми городами и, когда, записав Нюрнберг, обнаруживал, что пропустил Мюнхен и его надо вписывать теперь между строк, нарушая красоту страницы, я заливался горькими слезами и с рёвом бежал к маме:
— Опять пропусти-ил! Аа-а!
Мама утешала меня:
— Ну стоит ли так огорчаться? Мюнхен неважный городишка. Давай-ка лучше я тебе помассирую живот.
Массированию её научил доктор по случаю моей слабой перистальтики, и это всегда удивительно успокаивающе на меня действовало. Массируя, мама одновременно читала мне лекцию по анатомии.
— Вот, здесь тонкие кишки, их надо обязательно тереть по часовой стрелке. Здесь толстая кишка, а вот здесь прямая, её надо растирать сверху вниз. Если ошибиться направлением, то можно вызвать заворот кишок.
У мамы всегда всё было по науке.
Зима 1909 года повергла французов в ужас: подумать только — ртуть в термометре падала до −10°! В городе не было печей и двойных рам, а чтобы нагреть квартиру каминами, надо было топить их круглые сутки. Передавали страшные рассказы о нищих, которых находили утром на улицах замёрзшими.
Парижане согревались дома угольными катышками, наподобие теннисных мячиков, которые жгли вместо дров в каминах. Какое наслаждение было, придя с мороза, сесть напротив груды шариков, пышущих жаром, светящихся красным огнём с синими язычками и постепенно распадающихся!
На улице средством отопления служили горячие каштаны, которые французы набивали во все карманы. Их покупали у торговок, сидящих по площадям рядами перед жаровнями, распространявшими божественный запах. Нажарив целый горшок, толстая торговка для сохранения тепла садилась на него, расправив свои широкие юбки. Каштаны чудесно доходили в таком укрытии!
Папе никак не сиделось на месте, эту черту он, очевидно, унаследовал от меня. Вскоре по приезде в Париж он собрался в Испанию. Об этом было много разговоров, и я уже знал, что в Испании такой обычай: как только зазеваешься на какую-нибудь донну, так сейчас же её муж или жених вызывает на дуэль и протыкает шпагой, как жука для коллекции протыкают булавкой. Поэтому я не на шутку беспокоился за отца и уговаривал его:
— Лёва, уж ты как переедешь границу, не гляди совсем на женщин. Гляди лучше в пол или в окошко, ну их совсем, этих испанцев. Ведь ты не умеешь драться на шпагах, испанцы тебя в два счёта разделают.
Когда отец через месяц вернулся, я вздохнул с облегчением. Он рассказывал про бой быков. Мне было страшно жаль лошадей, которым эти свирепые быки выпускали кишки, и я восхищался тореадорами и пикадорами, которые за них мстили. Несколько месяцев я носился по квартире, размахивая няниным красным фартуком и, за неимением быков, тыкал палкой то в маму, то в няню.
А папа вскоре опять уехал. В связи с приближением конца срока высылки он стал задумываться над вопросом, что ему делать в России. Революционной ситуации не было. Прогрессивная интеллигенция искала применения в легальных формах работы, полезной для народа. Одной из немногих разрешённых форм общественной работы была кооперация. Потребительские, сельскохозяйственные, молочные кооперативы, кредитные товарищества, кооперативные чайные, народные дома возникали во множестве. Они вели борьбу с кулаками, торговцами, скупщиками, ростовщиками, в них шли передовые рабочие и крестьяне, возглавляемые интеллигенцией. Это было экономическое и в то же время идейное движение, где члены кооперативов учились вести коллективное хозяйство, бороться с эксплуататорами, воспитывать в себе качества гражданственности.
Вот папа и решил посвятить себя кооперативной деятельности, избрал молочную кооперацию и для подготовки уехал на юг Франции, где поступил рабочим на какую-то образцовую молочную ферму. Он прислал фотографию, на которой был изображён в кепке, спецовке и рабочих бутсах. Он писал, что ворочает вилами навоз, задаёт корм коровам и крутит ручной сепаратор. Я очень им гордился. Самая старинная вещь, которая у меня живёт — шкаф-пеленальник, подаренный дедушкой и бабушкой при моём рождении, а вторая — ей 65 лет, краги, которые папа надевал при переворачивании навоза и которые до сих пор служат мне, когда я хожу на лыжах.
В Париже было много русских, и к нам часто приходили гости. Самым любимым гостем был толстый Александр Моисеевич Беркенгейм. Он был лесопромышленник, имел на Волге свои суда для перевозки леса и все доходы от предприятий обращал на революцию. Он говорил, что потому и занимается лесными делами, что партия нуждается в деньгах. Он был эсером.
Когда приходили гости, то я как с цепи срывался. Кривлялся, безобразничал, без умолку косноязычно болтал, одним словом, старался создать себе publicity. Но особенно бесчинствовал я при приходе Александра Моисеевича. Он дразнил меня:
— Чижик!
В ответ я разбегался и ударял его головой в живот:
— Обормот!
Я норовил кулаком достать до его подбородка.
— Пистолет!
Я влезал на его массивную фигуру и, усевшись на плечах, вцеплялся ему в волосы.
— Ты с ума сошёл, слезь сейчас же! — кричала мама.
— Уметь драться кулаками, головой и всеми прочими частями тела — полезная тренировка для будущего революционера, — возражал Александр Моисеевич смеясь.
Он был добрейший человек и никогда не являлся без подарка хозяйке — большого пакета фруктов. Но он был и рассеяннейший человек и, заговорившись, всё сам съедал, а потом, заметив свою оплошность, страшно смущался, извинялся и обещал в следующий приход возместить убытки.
— О позор, позор! Где мои калоши? — восклицал он, картинно хватаясь за голову. Но в следующий приход повторялось то же самое.
Дружба с Горьким обернулась несчастьем для моей няни. Когда первой жене Горького, Марии Фёдоровне Пешковой понадобилось ехать в Россию, она долго искала «чистый» паспорт. Родители уговорили нянюшку отдать свой паспорт, обещав выхлопотать ей новый. Ну, конечно, придётся повозиться, но ведь это будет жертва на алтарь революции — богоугодное дело. Няня отдала паспорт, и Мария Фёдоровна благополучно уехала под именем Аграфены Александровны Александровой.
В Париже няня, ещё на костылях после знакомства с чёртом, пошла в русское консульство и заявила, что потеряла паспорт. Но консул, который, конечно, не был ребёнком, прекрасно понимал, как и почему теряют паспорта прислуги эмигрантов. Он раскричался на няню, сказал, что знает все её проделки, нового паспорта ей не даст, а отправит её по этапу прямо в Сибирь.
Няня испугалась ужасно, несколько дней плакала и всё ждала, что за ней придут казаки и поведут её под белы руки прямо на Нерчинский рудник. Родители её успокаивали, говорили, что консул за границей не может распоряжаться людьми и просто берёт её на испуг. Но дело было серьёзное: не получив паспорта, няня не сможет вернуться на родину. Прибегли к помощи Александра Моисеевича. Он был хоть и эмигрант, а всё же промышленник и кроме того — юрист, кажется, присяжный поверенный.
Александр Моисеевич принялся за хлопоты. Но и он околачивал пороги консульства и посольства целую зиму. Не знаю, как он уладил дело, вероятно, дал крупную взятку. Но к весне паспорт был готов.
У меня осталось самое тоскливое впечатление от консульства, где я в коридоре на сундуке проводил томительные часы, пока няня с Александром Моисеевичем ходили по канцелярии.
В последний момент возникло новое препятствие: консул требовал расписаться, а няня была неграмотна. Я решил, что это — плёвое дело и взялся выучить её за одну неделю. Мы засели за уроки, мне это дело очень импонировало. Мама стала беспокоиться, что мы с няней скрываем, прячась в её комнате. Через некоторое время мы открыли маме секрет. Мама сделала няне экзамен и убедилась, что она подписывается «Аграфена Александровна» печатными буквами, высотой в два сантиметра каждая, причём ряд букв, такие, как Г, Р, К и другие, няня пишет задом наперёд.
— Вижу Данькину школу, — проговорила мама и принялась переучивать няню писать по-человечески. Паспорт в конце концов был получен, а няня стала относительно грамотной. Но писала всё же печатными громадными буквами и… без разделения на отдельные слова и, естественно, без знаков препинания.
Между тем произошло событие, которое перевернуло моё семейное положение. Я не хочу сказать, что я женился, но я перестал быть единственным сыном в семье, а следовательно — всеобщим баловнем. У меня появился «братишка» и сразу полутора лет.
У дяди Миши на Украине был брат — Александр Иванович, и была некая курсистка Валя Гольберг. У Вали родился сын, к чему Александр Иванович имел некоторое отношение, но он этого не хотел признавать. Когда Валю посадили в тюрьму, маленький Боря повис в воздухе, и кто-то привёз его к нам за границу. У меня появился брат.
Несмотря на краткую биографию, Боря совершил уже три подвига. Во-первых, ещё до прибытия в Париж он съел камень; во-вторых, закусил пуговицей; в третьих, он был крещён моей няней и самим Германом Лопатиным, который имел русский (не на высланного) паспорт, необходимый для этого. Няня только что получила «выстраданный» свой. Вследствие гастрономических упражнений у Бори был катар желудка, поэтому его держали на строгой диете, поэтому он был всегда голоден как волк. Когда мама уходила из дома, а няня была на кухне, мне поручалось следить, чтобы Боря не съел что-нибудь. Но Боря скоро усвоил, что в буфете лежит хлеб. Он ещё не умел ходить, но классически ползал на четвереньках и как истый спринтер устремлялся к буфету, открывал дверцу и вгрызался в буханку. Я коршуном бросался на него и старался за ногу вытащить его из буфета. Он ревел, не выпуская, однако, буханку, а я тоже ревел от сознания невыполненного долга и от страха, что мой подопечный сейчас помрёт, если не выпустит буханку изо рта. Я тащил его за ноги, а он, лёжа на животе, пытался в это время отгрызть кусок горбушки.
Под конец пребывания в Париже мы присутствовали на карнавале. Нас повели на какую-то широкую улицу, где проезжало карнавальное шествие. На тротуарах стояла густая толпа, но мне с папиных плеч было прекрасно всё видно. Фантазия французов была бесконечна. Какие только повозки мимо меня не проезжали! С цирковыми артистами, на ходу изображавшими головоломные номера, с кукольными театрами, с невероятными грузными сооружениями, с громоздкими страшными монстрами, изображавшими известных политических деятелей, рекламами фирм. Особенное впечатление на меня произвела повозка какой-то фирмы резиновых шин. На громадной платформе ехал толстяк высотой с двухэтажный дом, весь составленный из автомобильных баллонов разного диаметра. Он оглушительно хохотал и от хохота валился назад, придавливая двух других толстяков поменьше, те в свою очередь валились назад, придавливая четырёх совсем маленьких (сажени в 2) великанов. Нахохотавшись, вся шинная компания садилась, и спектакль повторялся. Между повозок кривлялась, пела, играла на гитарах пёстрая толпа ряженых. Было много огня, петард, хлопушек, воздушных шариков… Карнавал закончился гигантским фейерверком, в котором красота огненных фигур соперничала с изобретательностью.
Так вот и жили. А дядя Миша становился совсем плох, климат Парижа был ему вреден. Но он работал день и ночь, говоря, что перед смертью ему необходимо кончить книгу о Лаврове и что времени у него осталось мало. Он не соглашался уезжать из Парижа, так только здесь, в столичных библиотеках, он мог доставать необходимую литературу. Мамин срок высылки кончался. Нам пора было возвращаться в Россию, но мама не хотела уезжать, она не могла оставить Лену, когда Мишина жизнь висела на волоске.
Решили ехать без неё и по дороге немного побродить по Германии. В качестве начальника экспедиции выступал папа, его помощником была няня, а команду составляли мы с Борей.
Первая остановка была в Страсбурге, который тогда принадлежал Германии. Я запомнил только страсбургский собор. Готика производила на меня особое впечатление. Миланский собор, Норт-Дам де Пари и, наконец, Страсбургский собор казались мне самыми замечательными зданиями в мире. Стрельчатые крыши, обилие деталей, затейливость отделки, всё казалось мне великолепным, а венцом великолепия были цветные витражи, которые так чудно светились в полутьме храмов, переливаясь яркими красками. И потом я был ярым сторонником дискретности в искусстве (точно так же, как под старость стал ярым сторонником континуальности в природе). Поэтому мне так нравились детские картинки, где каждая деталь была раскрашена одним цветом и чётко отделена от соседних, мозаика в итальянских храмах, монастырские дворики, выложенные разноцветной плиткой и, конечно, витражи готических соборов. Словом, я любил во всём определённость.
Во Фрейбурге мы поднимались на высокую гору по извилистым дорожкам. На поворотах открывался вид на город и окрестные деревни, вкраплённые в густую зелень лесов и виноградников. Это была прогулка в моём духе. Потом я узнал, что мы ходили по той самой дорожке, на которой мама когда-то встретила самоубийцу и спасла его своей доброй улыбкой.
В Берлине мне запомнился Тиргартен, вернее только две соседние вольеры в оленями: одна — с северными, другая — с благородными. Зверям там было относительно просторно и в вольерах росли деревья. Нас с Борей на чём-то катали, то ли на слонах, то ли на собаках — ей-богу, не помню.
Нас учили, что в Германии надо соблюдать порядок, не бегать на мостовую, не бросать конфетные бумажки. Когда меня потом у бабушки спрашивали, понравилось ли мне в Германии, я отвечал, что «в общем ничего, только немцы уж чересчур чистоплюи».
Миша так и не дописал свою книгу. Ему стало так плохо, он так харкал кровью, что Лена и мама увезли его в Бельгию и поселились в сельской местности. Но было уже поздно. Он там таял с каждым днём. Мама потом рассказывала, что умирал он в полном сознании, всё утешал Лену и учил, как ей жить после его смерти.
К Мише приехал молодой человек, студент из Ростова-на-Дону, Александр Павлович Гельфгорт. Не зная, в каком Миша состоянии, он рассчитывал поучиться у него революционной практике и теории. Авторитет Миши был очень велик в России и за границей. Увидев своего учителя больным, умирающим, он остался в семье в качестве помощника, брата милосердия, сменной няньки, единственного мужчины. Он был очень добрым человеком.
Когда пришёл последний час, Миша соединил руки Лены и Александра Павловича и, несмотря на их протесты, сказал:
— Сейчас вы думаете обо мне, и вам это кажется диким, но придёт время, когда вам захочется стать мужем и женой. Так вы не боритесь с этим чувством. Вас ожидает много трудностей в жизни, вдвоём вам будет легче. Я этого хочу.
Так оно и случилось. Спустя некоторое время они поженились. Трудностей в их жизни хватило бы на десятерых. Но вдвоём, действительно, было легче.
А пока они поселились на острове Олерон в Бискайском заливе, против устья Шаранты. Там, живя среди рыбаков, собирая ракушки и удивительные плоды моря, оставляемые на пляжах высокими приливами, Лена изживала своё горе, а мама, приехавшая туда Оля и Александр Павлович заботливо за ней ухаживали.
Потом мама вернулась в Россию. Но на границе её снова арестовали. Сидела она в Петербурге и вернулась только через полтора года.
ОТРОЧЕСТВО (1913–1918) Во мне начинает просыпаться человек
Годы войны
Мама поступила во Всероссийский союз потребительских обществ, позднее переименованный в Центросоюз. Там был большой культурно-просветительский отдел. В отделе была редакция, в ней и работала мама. Книжки издавали преимущественно через издательство «Посредник». Это было понятное и интересное занятие, и я его вполне одобрял.
Был я как-то у мамы на службе. Центросоюз помещался на Переведеновке в Лефортове, где-то, как мне казалось, на краю света. Учреждение показалось мне скучным. Ни пуфов, ни камина, ни этажерки с игрушками… Одни только ободранные столы с кучами бумаг, и за каждым сидит тетка или дядька и что-то строчит. На полу и шкафах кучи книг и брошюр, бутылки с чернилами. На обложках многих брошюр был изображен мужичок, который, опираясь на палку, тащил на плечах купца-мироеда, у купца на плечах сидел оптовик, на оптовике — комиссионер, на комиссионере — фабрикант и было подписано стихотворение:
Но спасет его от груза Четырех сиих существ Мощь Московского союза Потребительских обществ.Карикатура мне понравилась.
Встретили меня сотрудники там ласково. Тетки-дядьки повыходили из-за столов, окружили меня, конфетами угощали. Досаждало только то, что всем им зачем-то надо было знать, сколько мне лет и в каком классе я учусь. Из отдельного кабинета вышел худой и высокий заведующий отделом, потрепал меня по щеке и сказал:
— Хороший малый у вас растет, Лидия Марьяновна.
А смешной и юркий мужчина, которого называли Александром Устиновичем, показал мне каменную обезьянку и перламутровый ножичек, которые он привез из Японии.
Когда пришли домой, мама похвасталась няне:
— Сам Зальгейм нашего свинтуса назвал хорошим малым.
А что? Я там кислоту не разливал, со шкафов не прыгал, а солидно изучил мощь ихнего Союза. Чем плохой малый?
В награду мама взяла меня с собой в командировку в Дмитровский уезд. Это был самый передовой уезд Московской губернии, где лучше всего была развита кооперация. Ехали в очень скверном вагоне по одноколейной Савеловской дороге, подолгу стояли на разъездах. От станции Влахернской (теперь Турист) поехали на санях. Почти во всех деревнях были лавки потребительских обществ. Мы заходили в них, многие продавцы были с мамой знакомы. Мама обращала мое внимание на необычную чистоту, на аккуратно расставленные ценники, на вежливое обращение с покупателями, на вывешенные везде плакаты: в венчике из цветов две руки, сплетенные в рукопожатии, и надпись «В единении сила». Это был лозунг союза потребительских обществ.
Мама очень гордилась хорошим порядком в лавках, объясняла мне, что в них сами покупатели являются хозяевами, а в конце года делят барыши: кто больше купил, тому больше и дают. Очень справедливое устройство. Еще мы посетили 2 или 3 народных читальни. Мама ревизовала их, т. е. спрашивала, много ли читателей, какие книжки больше берут, спрашивала, аккуратно ли возвращают книжки, учила библиотекарей, как их записывать и как выдавать. К вечеру мы приехали в Гришино. Эта деревня была «столицей» кооперативного движения. «Здесь каждый крестьянин в министры годится», говорила мама. В Гришине был народный дом, т. е. крестьянский клуб, и при нем кооперативная чайная.
Мы первым делом пошли в чайную. Нам подали пару чая с калачами. К столику подсели какие-то бородатые старики и заговорили с мамой на деловую тему, а я, наголодавшись с дороги, уплетал калачи за обе щеки и глядел во все глаза. Дом был двухэтажный, новый, рубленый, крепкие бревна сочились смолою и хорошо пахли. Стены были завешаны отпечатанными картинами и лозунгами. На них, окруженные разноцветными виньетками, были изречения, в том числе великих людей, о пользе единения, о вреде пьянства и курения, о наказании зла и торжестве добродетели. Я узнал, что эти лозунги сочиняла или выбирала из книжек мама, и она очень поднималась в моих глазах. Вот ведь написала, напечатали, а теперь висят в сотнях народных домов по всей России и все, пока пьют чай, их читают. Висела там и карикатура начет «четырех сиих существ», но увеличенная, едва не во всю стену.
При народном доме были драматический и музыкальный кружки, на сцене в зрительном зале ставились пьесы и играл оркестр. Это было так ново для тогдашней деревни, так необычно. А я-то представлял себе деревню только в виде пьяных на ярмарке и мальчишек, которые приходили на праздник с березкой и просили рублик на семечки, а потом запускали в меня кирпичом и кричали «бей барчонка». И я проникся великим делом, которое творит кооперация и уже мечтал, что буду жить в деревне, отращу бороду, надену зипун и буду кооператором, т. е. буду ходить в чайную и буду пить чай с молоком и калачами.
Теперь по утрам, бегая к Чичкину или братьям Блэндовым за молоком, к Филиппову за хлебом или к Абрикосову — за конфетами, я думал: «У-у, кровососы, нажили себе брюхи на народной кровушке. Вот погодите, устроим революцию, тогда…»
Что революция скоро будет, у нас никто не сомневался. Ну, а потом? Потом будет социализм. А как будет житься при социализме? И я просил маму снова и снова рассказывать о социализме. Она охотно исполняла мои просьбы: «При социализме, — говорила она, — все люди будут равны. Все будут работать и получать деньги по своей работе. И больных и стариков будет содержать государство. И будет введено всеобщее обучение совершенно бесплатно, так что уличные мальчишки смогут учиться. И каждый сможет выбирать себе профессию. А чтобы не получилось, что все захотят быть учеными или художниками, платить будут больше всего за неприятные работы. Больше всего будут получать те, кто чистит уборные на дачах. Кооперация будет непроходимая. У всех Чичкиных лавки отберут и сделают их потребилками, там тоже повесят плакаты, как в гришинской чайной. Заводы будут принадлежать рабочим, которые на них работают. Солдат не будет, так как стоит в одной стране установить социализм, и всем станет очевидно, насколько при нем лучше живется и все государства последуют примеру этой первой страны. Так что будет всеобщий мир. А правительство будет нужно, чтобы следить за порядком. Его будут выбирать на основе „четыреххвостки“, т. е. всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. Государству будут принадлежать самые большие заводы и вся земля, которую она будет сдавать в аренду сельским общинам».
Все устраивалось так правильно, что я не мог понять, как это люди не ввели давно социалистические порядки. Я знал ироническое стихотворение Омулевского про социализм:
Из меда реки потекут, Конечно, в берегах кисельных. А сверху меда поплывут Большие крынки сливок цельных. Повсюду будет дичь летать Французской кухни, с трюфелями, Ловите птицу, так сказать, В готовом виде, прямо ртами.Но я считал, что он это написал по злобе и не надо обращать на него внимания.
Я не мог дотерпеться до социализма и сам приступил к революционной работе. При школе был клуб, прообраз будущих дворцов пионеров. Там царила очень хорошая атмосфера. Вся «классовая» вражда (например, между первыми и вторыми классами) сама собой ликвидировалась. В клуб приходили и учителя, но тут они воспринимались совсем иначе, чем на уроках. Занимался оркестр и хор, сражались шахматисты и шашисты, любители спорта толкали гирю и делали «р-рэвок». Но больше всего занимались ручным трудом: строгали, пилили, резали, клеили… Возвращались из клуба часов в 9 вечера.
Вот тут-то мы с Ленькой Самбикиным и Игорем Веселовским и начали расшатывать основы абсолютизма. Выбрав где-нибудь в районе Арбата или Плющихи проходной двор, по соседству с которым был полицейский пост, мы заготавливали запас снежков и из-за забора, а то и выскочив нахально на тротуар, мы обрушивали град снежков на невинного городового и бросались бежать в другой переулок. Вдогонку раздавались свистки, но догнать нас им ни разу не удалось. Самое большое удовольствие заключалось потом во взаимном хвастовстве:
— Ты видал, ты видал, как я ему залепил ледышкой в глаз? Он так и присел!
— А я, когда он погнался за Игорем, из-за забора ему ножку подставил!
И, хотя всем нам было ясно, что это чистое вранье, мы его охотно прощали друг другу. Ведь так приятно ощутить себя героем революции.
А война шла своим порядком. С одной стороны, о ней много говорили и писали, с другой — в моем мирке ничего существенно не менялось. Для меня война была как бы наброшенной на мир вуалью: сквозь нее все видно по-прежнему, но все слегка мрачновато.
Приходил на побывку Андрей Горбушин. Он был уже прапорщиком, и офицерская форма очень шла ему. Он был, как всегда, серьёзен. Рассказывал о войне невесело. Осуждал командование, говорил о воровстве интендантов, о недовольстве солдат. Что-то не договаривал.
Приезжал с фронта и Ваня Николаев. Этот рассказывал о фронте с каким-то кровожадным аппетитом, любуясь впечатлением ужаса, которое производили его живописные описания на слушателей. Сплошная мясорубка, стоны, вопли, кровь, гной, вши и он сам среди всего этого с засученными рукавами, делающий по 25 операций, ампутаций в сутки; режущий, пилящий ноги, руки, животы и все без наркоза (его не хватало) — это были любимые темы его рассказов.
Мне особенно запомнилась история, как он, доведенный до отчаяния стадами крыс, одолевавших его в окопах и вырывавших куски мяса из раненых в полевом госпитале, расстреливал подлых грызунов из девятизарядного трофейного парабеллума.
Я принимал посильное участие в событиях. Повесил карту фронтов над кроватью и каждый день передвигал красные шнурки. Я презирал западный фронт, который как повис на линии Дюнкерк-Аррас-Суассон-Шалон-Верден, так и не двигался годами. Самые крупные победы позволяли передвинуть шнурок лишь на миллиметр, так что я изорвал булавками всю карту. То ли дело восточный фронт: как я радовался, когда он после временного застоя у Равы-Русской покатился брусиловским прорывом к Перемышлю, перевалил через Карпаты и навис над Венгрией. Зато, как неприятно было выправлять фронт, отдавая Царство Польское!
Какие надежды я возлагал на линию крепостей Ломжа-Новогеоргиевск-Ивангород-Замостье! Что наши толкутся у этого фольварка Могелы с таким противным названием? Неужели нельзя поднажать?
Летом поехали в Ельдигино со смутным чувством. Все было то, да не то. Во-первых, исчезли Клейменовы. Дерфля докопался, что в дедушкиных лесах Григорий Григорьевич основал тайные промышленные рубки и уже продал порядочную сечь, т. е. лесосеку. Дедушка, согласно своим убеждениям, не заявлял в полицию, но немедля уволил недобросовестного управляющего. А без Клейменовых какое же Ельдигино? Они поселились в Малом Толстовском (теперь Карманницком) переулке, под носом у Трубников, и я заходил к ним в Москве, но это уже было не то. Попробовал я свести дружбу с сыном нового управляющего Батманова — мальчиком моих лет, но маленького роста, чернявым, как цыганёнок, каким-то вострым и независимым, ходившим в картузе и гимназическом мундирчике, но дружба никак не получилась.
Все больше сказывались продовольственные трудности. Настал день, когда Евлаша с ужасом подала на стол ростбиф из конины (грех-то какой!), и дедушка, похрюкивая, принялся его разделывать. Он осунулся и как бы с сомнением ходил по парку, сердито тыча палкой в землю. А в глазах явно стоял вопрос: «Что день грядущий нам готовит?». Но бабушка и барышни мужественно переносили даже конину. Её нашли жестковатой, но вполне съедобной. Острили, что теперь Иван, приглашая к обеду, будет объявлять: — Барыня, лошади поданы!
Осенью мы опять переменили квартиру. На этот раз причиной послужило мое здоровье. Доктора упорно приписывали мне малокровие и настаивали на свежем воздухе. Поэтому мама сняла квартиру в Сокольниках на Оленьем валу. Встал вопрос о новой школе. Рекомендовали частную школу Благовещенской в селе Богородском. Туда надо было ездить на трамвае, но все же не через всю Москву. Мне казалось ужасным уходить из школы Свентицкой, так я к ней привык.
В селе Богородском было хуже. Огромный класс — более 50 учеников, вместо 12–18 у Свентицкой. Мальчишки буйные, дрались всерьез, применяли какие-то подлые приемы. Старшие младшим «показывали Москву», т. е. поднимали за голову, зажатую между ладонями, до крови натирали уши сухим листом. При этом от мальчишек вечно воняло потом, мочой, грязными руками, табаком. Девчонки были ябедами и какими-то визгливыми. Учителя — черствыми педантами, вечно раздраженными. Да и как не раздражаться, когда 50 охломонов все время озорничают на уроках, кидают жеваные промокашки в потолок, пускают «голубей», дергают девчонок за косы, а те обороняются чернильницами, и в классе стоит такой шум, что учитель не слышит собственного голоса. Помню, как батюшка с щетинистой бородой отчаянно лупил указкой по столу, тщетно взывая к порядку.
Раз, на большой переменке, когда я только готовился съехать на ногах с ледяной горки, меня внезапно схватил сзади Житков — самый большой верзила из 3-го класса и гроза всей школы. Он принялся из меня жать масло и одновременно делал одной грязной ручищей «смазь вселенскую». Зажатый как в тиски, я выполнил единственный оставшийся в моем распоряжении прием: нагнув и быстро распрямив голову, ударил его теменем по зубам. Он отпустил меня, сплюнул с кровью вышибленный зуб, и взглянул на меня как удав на кролика, осмелившегося оказать сопротивление. Я оцепенел под этим взглядом. В следующую секунду он дал мне такую затрещину, что я по воздуху проделал тот путь, который намеревался прокатиться на ногах, треснулся об лед и ненадолго потерял сознание. Счастливо я еще отделался небольшим сотрясением мозга. Многие ребята в школе тайно курили. Когда я приезжал к бабушке, тетки дразнили меня, что и я, наверно, покуриваю или скоро начну. Я обижался, так как табак был мне противен.
— Ну, на спор, что к 20 годам ни одной папиросы, честно?
— А на что спорим? — спросила Женя.
— На 100 рублей, — я назвал головокружительную цифру.
— Идет, по рукам!
Маня разняла руки. «Черт возьми, связал себя на целых 10 лет, на столько, сколько уже пожил. А что еще будет за это время?»
После случая с Житковым мама стала искать другую школу, пока голова у меня еще на плечах. Какая уж тут борьба с малокровием, когда мне чуть не каждый день делают кровопускание из носа или из уха? Везде на окраинах было то же, а переезжать в центр казалось нельзя, как же быть с рекомендацией докторов?
Решили жить, где жили, а ездить к Свентицкой на другой конец города. Ходили на Арбат трамваи из Сокольников номера 4 и 10. Дорога в один конец брала час, а то и полтора. От Лубянской площади до Охотного ряда всегда были пробки. На проезд этого участка требовалось 20–30 минут. Двери автоматически не закрывались и трамваи шли обвешанные гроздьями людей. Я приловчился ездить на ступеньках с левой стороны, на соединительной решетке, наконец, на «колбасе», т. е. на буфере, рядом с которым висел конец соединительного шланга для сжатого воздуха. И экономнее и на свежем воздухе.
Возвращение в старую школу было счастливым. Все были рады, что я вернулся, а я больше всех.
По воскресеньям мы ходили к Александру Устиновичу Зеленко, тому, что показывал мне японскую обезьянку в Центросоюзе. Он жил от нас на один дом. Свой дом он построил по собственному проекту. Это был человек «всех профессий», но главное архитектор. До этого ряд лет жил в Америке и Японии и строил там дома для важных господ со всякими чудесами. Он был безнадежно изобретательный человек с буйной фантазией. Свой дом он построил так, что нельзя было сосчитать, сколько в нем этажей, так как почти каждая комната была на другом уровне. На площадке внутренней лестницы стоял диван, росли цветы и можно было с уютом принимать гостей. Из кухни, где стряпала его жена Анна Михайловна, открывалась форточка в столовую, как в кассе, и можно было ближайшим путем подавать блюда на стол. Кабинет Александра Устиновича помещался в столовой на антресоли, куда вела внутренняя лесенка и книжные шкафы стояли не на полу, а были подвешены к потолкам, против антресоли. Целая комната была отведена под зверинец: там жили крокодильчики, привезенные из Флориды, мартышки, попугаи и еще всякое птичьё. Ребятишки с удовольствием посещали этот зверинец и натаскали туда кучу бездомных котят, которые клубками носились по полу. Гуляя по Сокольникам, Александр Устинович всегда носил с собой угощение для белок и синиц. Белки это знали, бесцеремонно влезали на него и шарили в карманах, а синицы садились прямо на шляпу и плечи. Игрушечных обезьян была целая коллекция из стран всего мира, где доводилось побывать Александру Устиновичу. Он говорил, что обезьяна — его тотемный зверь, потому что он сам похож на обезьяну. Теперь мало кто знает, что всем известную разборную байдарку изобрел в 20-х годах Александр Устинович.
Я очень сблизился в это время с бабушкой. По воскресеньям, когда в Трубниках были гости, она обычно полулежала в чайной на кушетке. Она стала толста и уставала сидеть.
— Дружок, иди в желобок, — говорила она при моем появлении, приглашая меня лечь между ней и стенкой кушетки. Я забирался в уютное местечко и лежал тихонько, слушая разговоры взрослых. Они начинали меня интересовать. Обычно разговор начинался с шишки добра и зла. Это была бабушкина idée fixe. Она твердо верила, что у всех людей есть такая шишка и надо только ее найти и оперировать: вырезать зло и оставить добро. В этой операции она видела решение всех социальных проблем. Поэтому она уговаривала всех молодых людей идти в хирурги. Я размышлял: у меня громадная шишка на лбу, которую я набил, вися на трамвае. Интересно, сколько в ней добра и сколько зла? Судя по тому, как она болит, там одно зло.
Другая тема разговора была о новейших открытиях и теориях. Говорили о немецких цеппелинах, об Х-лучах (очевидно, с большим опозданием), о солипсизме. С последним вышел конфуз. Я понял, что это учение состоит в том, что все вещи не на самом деле существуют, а только нам кажутся, и это называется «фикция». Я возмутился этой теории и с горячностью спросил:
— Так что же, бабушка, выходит, что и ты фукция?
Ну, перепутал одну букву в иностранном слове, подумаешь… Тем более, что на окнах стояли горшки с фуксией, и о них часто говорили. А уж тетки и рады — подняли на смех и потом всем рассказывали, что я бабушку фукцией назвал. Черт бы побрал нашу философию.
Помню, что в этот период мама была коротко знакома с Анной Семеновной Голубкиной и виделась с ней нередко.
В 1914 году в Москве, в Музее изящных искусств устраивалась выставка Анны Семеновны. По её желанию выставка устраивалась с благотворительной целью, а именно, для помощи раненым, семьям погибших и беженцам. Сама Анна Семеновна тогда очень нуждалась и не могла нанять достаточно рабочих для расстановки скульптур. Мама вызвалась ей помочь и взяла меня с собой.
Я с удовольствием носил подставки, обтянутые суровой холстиной, горшки с цветами, этикетки с названием скульптур и тому подобные вещи. Мама с Анной Семеновной и каким-то еще мужчиной двигали большие скульптуры. Глядя на них, я не удовлетворился своей деятельностью. «Что это меня за маленького считают! Помогать, так помогать всерьёз!»
Среди привезенных скульптур я облюбовал головку ребенка, которая мне очень нравилась. Я подхватил её и отправился за всеми в зал. Боже, какая она оказалась тяжелая! Я не представлял себе, сколько может весить такой, казалось, небольшой кусок мрамора. На полдороге я выпустил скульптуру из рук, она грохнулась на пол и покатилась. У Анны Семеновны, видимо, дыхание перехватило и лицо побелело. Я окаменел.
К счастью, скульптура не разбилась. Мама схватила меня за руку:
— Зачем ты берешься за то, что тебе не по силам! Страшно подумать, что было бы, если б ты ее разбил, ведь ей цены нет!!
— Я ведь хотел помочь. Я хотел как лучше, — бормотал я бессмысленно.
Настало лето 1916 года, и мы снова поднялись на переселение. На этот раз мама облюбовала место еще дальше от центра города — за Окружной железной дорогой — в Измайловском зверинце. В XVII веке здесь был царский зверинец, теперь же осталось одно название. Мы сняли целую дачу. В нижнем этаже было три комнаты и кухня. В простенке стояла печь, поэтому дача считалась зимней. Наверху было две комнаты, из которых одна отапливалась. Летом все это неплохо выглядело. В саду росли бузина и крапива, из которой весной мы варили щи. Ягоды бузины осенью я поглощал один, от чего у меня вечно болел живот. Дача стояла одиноко, с трех сторон был лиственный лес, тогда еще не истоптанный. Если идти по проезду на север, то придешь в село Измайлово с островом на пруду, а на нем сказочный городок: остатки монастыря, дворца и каких-то чудных зданий в старорусском стиле. Это место меня постоянно притягивало. Я туда гонял на велосипеде и вообще по всем окрестным дорожкам, наслаждаясь быстротой езды и чувствуя себя пожирателем пространства.
Осенью меня отдали в Благушинское коммерческое училище. Благуша была мещанским пригородом Москвы, за Семеновской заставой. Трамвай кончался в самом её начале, в училище надо было ходить пешком — две версты. Дорога ныряла под Окружную, а потом тянулась между скучных деревянных домишек и огородов по немощеным улицам. Училище помещалось в красном кирпичном двухэтажном доме с башенкой и было окружено большим садом, где имелся даже маленький замусоренный прудик. Училище окружали немецкие фабрики: Пфейфера, Кудлинга, Бонакера, Раузера и Ридлонга, а через улицу жужжал какой-то таинственный «Гном и Рон». Говорили, что он делает моторы для первых русских аэропланов.
Училище было совместное, небывалый либерализм по тем временам. Во 2-м классе девочек была одна треть и сидели они в особом ряду парт, не смешиваясь с мальчиками. Любой ученик скорей провалился бы сквозь землю, чем сел за одну парту с девчонкой. Девочки все были в форме: зеленые платья и черные передники. Мальчики не имели обязательной формы, хотя большей частью носили серые гимнастерки. Обязательной была только коммерческая фуражка: с зеленым околышем и черным кантом.
Я очень гордился своей первой в жизни фуражкой, несгибаемой, как будто она сделана из кровельного железа. На второй день я, катаясь по пруду на плоту, сделанном из старой двери, красуясь перед девочками, уронил фуражку в воду, после чего она потеряла свой гонор, села, стала мне мала и покрылась разводами. Тогда я ей задрал тулью спереди, а с боков загнул на уши как у отчаянных старших гимназистов.
Обстановка в училище была хуже, чем у Свентицкой, но лучше, чем у Благовещенской. От ребят меньше воняло, классы были светлее и чище и даже было некоторое количество приличных учителей. Но были и гады. Среди них главный — учитель пения. Немец, толстый и рыжий с зализанными волосами. Заставлял нас петь под скрипку, на которой противно пиликал. Он был отчаянным черносотенцем и всегда начинал урок с «Боже, царя храни». Потом шло «Славься, славься, наш русский царь…» и дальше все в том же роде. Я считал себя социалистом, принципиально не желал петь монархические гимны, но на открытый протест у меня не хватало мужества и я показывал кукиш в кармане, т. е. раскрывал рот в такт пению, но не издавал звуков.
Праздником были для меня уроки французского. Я был далеко впереди класса, меня все звали «французом», и француженка, спросивши меня раза два, перестала обращать на меня внимание. Я спокойно погружался в Густава Эмара. Я держал книгу под партой и читал через щель её откидной части: была видна только одна строчка, но я подвигал книгу всё дальше и так набазурился, что не ощущал никакого неудобства. Разумеется, раскрытый учебник лежал рядом. Вообще эта техника была разработана не мной. Её изобрел первый ученик в классе, напомаженный подхалим с лицом амурчика, Афонин, по прозвищу Финтель-Винтель. Он дочитывал таким способом уже 32-ю книжку Ната Пинкертона. А я вот на третьем томе попался. Как раз в момент, когда кровожадные индейцы собирались поджаривать на костре белокурую героиню, а её благородный жених скакал ей на выручку, француженка, заинтересованная моим чрезвычайно взволнованным видом, с которым я уставился на низ учебника, внезапно спросила меня:
— Арманд, проспрягай мне глагол «taire»[12].
Я молчал и потому, что не слышал объяснения, и потому, что не мог переключиться от трагического положения красавицы на какие-то жалкие глаголы.
— Что значит «taire»?
— Опять молчание.
— Это то, что ты сейчас делаешь, — с негодованием сказала она и украсила мой дневник жирной единицей. Ведь надо же — дневник «француза»!
Кажется, училище принадлежало купеческому обществу. Во всяком случае, во главе его стоял директор, который подписывался Зураб Александрович князь Лебедев. Это был кавказский князь какой-то экзотической национальности: то ли осетин, то ли чеченец. В меру полный, с орлиным носом и седеющей бородкой à la Napoléon III, всегда в мундире с галунами и снисходительной улыбкой на устах, он медленно проплывал по классам, всей своей фигурой внушая ученикам почтительное уважение.
Выше его был еще попечитель Ковалёв, за год появившийся в училище раза три. Это была комичная личность, вероятно, какой-нибудь фабрикант, низенького роста, на кривых ножках, в сюртучке и с вечно смущенным выражением лица. Он быстро пробегал по классам, кивая направо и налево с виноватым видом. Улыбка на его лице как бы изображала фразу: «Ах, какие милые детки, но, право, я не знаю, что с ними делать».
За партой со мной сидел Валя Козлов. У Свентицкой всех и учителя и ученики называли по имени, здесь только по фамилии. Козлов был добродушнейшим существом, гуманистом и мечтателем. Учился он с двойки на тройку, как ни старался. На следующий день после еженедельного подписывания родителями дневника, он не мог сидеть, поскольку его отец, мелкий лавочник, повышал его умственные способности, вколачивая их в мозги ремнем с казенной части. Мы быстро подружились.
Ввиду того, что мальчиков оказалось на два больше, чем могли поместиться в двух рядах парт, а девочек на две меньше, нас с Козловым под смех и улюлюканье всего класса пересадили в девичий ряд, на самую переднюю парту. Отсюда возникли далеко идущие последствия.
Здесь я должен остановиться и вернуться лет на 5 назад, чтобы осветить эту сторону своей жизни, которой пока не касался. Речь идет о любви.
Еще в детском саду некая Верочка или Кирочка, не помню, воспылала ко мне страстью и принялась за мной ухаживать. Я милостиво разрешал ей застегивать верхний крючок моей шубы, до которого не мог сам дотянуться. Но когда она однажды в раздевалке опустилась передо мной на колени и принялась стягивать с меня ботинки, я счел это за оскорбление моего мужского достоинства и пнул её ботинком в нос. Так кончился печальный наш роман. Очевидно, тогда я еще не дорос до любви. А дорос я через год, в первом приготовительном. У нас учились две сестры, Витя и Женя Кнесс. Витя была умная девочка, но с продолговатым лицом и чёлкой, что, согласно моим представлениям, исключало возможность какой-либо симпатии. О Жене можно было сказать, что «кругла, красна лицом она, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне». И впрямь глупа, смешливая и взбалмошная. Неужели я влюбился в меньшую? Так точно. Я даже испытал сладость мечтаний и построения воздушных замков.
Но это было недолго. Во втором приготовительном я обратил внимание на Юлю Марц за то, что она бегала быстрее многих мальчишек и, когда мы играли на большой перемене во флаги, часто захватывала неприятельский флаг, ловко увертываясь от преследований. Правильная девочка, хоть и некрасивая, как будто со сломанным носом.
В Богородицкой школе я долго искал объект. Ну, такая дрянь, некого выбрать! А «сердцу хочется ласковой песни и хорошей, большой любви». Остановился, было, на Кирьяновой; мне показалось, у неё есть некоторые мальчишеские замашки. Но вскоре я убедился, что она просто распущенная, крикливая девчонка и… роман не состоялся.
Когда я вернулся к Свентицкой, то сразу и без колебаний отдал свое сердце Маше Угримовой. Она была на класс старше меня. Черная, коротко остриженная с широким скуластым лицом, которое, как и фамилия, выдавало примесь татарской крови. Вот уж кто имел мальчишеские замашки! Со времени балканской войны мы вечно враждовали с её классом, а она была вождем всей шайки. Окончательно она меня сразила, придя весной в школу в коротких штанишках (брюки у Свентицкой были не в моде). Ну как было не влюбиться!
Хотя я был задира и драчун, но при том очень застенчив. Мне в голову никогда не приходило объясниться со своим предметом. Моя судьба была молча сладко страдать. Но с Машей я не мог удержаться от проявления особых отношений, которые мысленно сложились в моей голове, хотя она платила мне великолепным презрением, таким, каким только может обливать второклассница жалкого первоклашку. Я всюду носился с пинцетом, который был мне нужен для двух целей: брать коллекционные марки и щипать зазевавшихся товарищей за мягкие части тела. И вот однажды на перемене, заметив, что Маша бежит мне навстречу, я тоже устремился вперед и на бегу нечаянно ткнул её пинцетом в живот. Я рассматривал это как первый акт ухаживания. Но Маша не улыбнулась, а взглянула грозно и побежала дальше. Через час меня вызвали к Марии Хрисанфовне: «Что ты наделал? Ты серьезно ранил Машу! У неё недавно была операция аппендицита, а ты ударил чем-то острым в это место! Пришлось нанять извозчика и отправить её домой. Она в тяжелом состоянии, родители её в отчаянии».
Можно себе представить, в каком отчаянии был я, когда плёлся домой. Как упрашивал маму позвонить Угримовым и узнать, что с Машей. Мама звонила и опять, как в случае с Глебушкой, извинялась за своего сына. Ей сухо ответили, что да, положение серьёзное, вероятно, разошлись внутренние швы, вызвали доктора.
Через неделю Маша вернулась в школу. Она глядела не меня ненавидящим взором, под которым я весь съёживался. Но про себя решил, что мой выбор сделан на всю жизнь, я буду любить её, даже уйдя из школы, и когда-нибудь спасу её жизнь и этим заслужу прощение.
Однако Лиза Берцуг, которая оказалась позади меня на соседней парте, была очень даже ничего. Среднего роста, суховатая с белокурыми косичками, уложенными венцом на голове (прическа, всегда мне особенно нравившаяся), с внимательными серыми глазами, с аккуратным, слегка курносым носиком. И одевалась она особенно аккуратно, и тетрадки её всегда были аккуратны. Всё у неё было zierlich manierlich[13]. Нечего и говорить, что она была отличница. Правда, в ней не было ничего мальчишеского, но и девчачьего не замечалось: легкомыслия, болтливости, ябедничества и других пороков.
Не только дружить, но и разговаривать с девочками в училище было не принято. Их отделяла в классе невидимая стена. Ну в крайнем случае просить на минуту ластик. Мы с Козловым решили пробить в стене дырку. С этой целью мы вылили в парту чернила из своей чернильницы и обратились к девочкам с просьбой:
— Можно мы будем макать к вам? У нас почему-то нет чернил.
— Что ж, макайте.
Мы целый день вертелись на уроках, обмакивая перья за спиной. Я даже ухитрялся макать одновременно с Берцуг и, когда писали диктант, радостно думал, что в моём диктанте есть частица и её души, так как ведь на высохшем пере остаётся капля чернил и при следующем обмакивании смешивается в чернильнице и попадает на её перо. В общем я не был требователен и удовлетворялся самыми малыми формами душевных контактов.
Зато по дороге домой я давал волю воображению. Проходя под Окружной дорогой, я мечтал, что когда-нибудь вот так пойду по тоннелю, а она пройдет наверху по мосту. Внезапно выкатившийся поезд её испугает, она отшатнётся и свалится вниз. Но я поймаю её на руки, подержу минутку и бережно поставлю на землю. А Козлов? Позади меня сидит Сурикова, девочка с оливковым цветом лица, с пухлыми щёчками и губками. Почему бы ему не влюбиться в Сурикову? Получается так: мы идем по туннелю, Берцуг и Сурикова прогуливаются по насыпи. Появляется поезд… Ну и каждый ловит свою. Все счастливы. Здорово придумано? А?
Другой вариант. Пожар в училище. Берцуг и Сурикова не успели выбежать. Мы с Козловым смело бросаемся в огонь… и т. д.
Но действительность оказалась изобретательнее мечтаний. Козлов мне признался, что любит… Берцуг. И я признался ему. Соперники? Нет, эта мысль даже не пришла нам в голову, ведь ни один из нас не рассчитывал на взаимность. Наоборот, мы наслаждались возможностью обмениваться мыслями о добродетелях нашего предмета. Идя из школы, мы подгадывали так, чтобы оказаться шагов на пятьдесят позади Берцуг, мы обсуждали её стати: какие ножки прямые, а как заботливо она обходит лужи, а как головку держит — царица! Когда она сворачивала на свою Александровскую улицу, мы не рисковали за ней следовать и стояли на углу, продолжая восхищаться, пока она не сворачивала в деревянный домишко. Но случалось, что она оборачивалась, на мгновение краснела, видя, что два балбеса смотрят ей вслед и обмениваются мнениями явно на её счет. А на другой день чуть заметная улыбка говорила, что, хотя ей стыдно самой себе признаться, но она, пожалуй, не против такого обожания.
Эта тройственная идиллия кончилась самым трагическим образом. Однажды после очередной порки Козлов сказал:
— Больше я этого не вынесу.
Учиться лучше он не мог. «Могущий вместить, да вместит». Он не вмещал. И, получив следующий табель, исчез, оставив записку, что убегает на фронт, что надеется погибнуть за отечество. Я был потрясен этим поступком и больше не макал перо в чужую чернильницу, это казалось мне предательством по отношению к погибшему, как я предполагал, другу.
Жизнь дома осложнялась холодом. Нашу дачу никак не удавалось прогреть. Топили по два раза в день и все-таки ртуть в градуснике падала все ниже. К тому же сказывался недостаток дров. Цены безудержно росли, на складе стояли очереди. Даже получив дрова, их было трудно доставить — лошадей москвичи подъели. Все сухие сучки в лесу были собраны. Когда температура упала до +2°, мама заказала плотнику для меня полати. Это был деревянный щит на стойках, прислонявшийся к печке в метре от потолка. Там температура не падала ниже, чем +4°, конечно, в шубе. Большим преимуществом полатей было то, что на них нужно было залезать по приставной лестнице и по дороге можно было заниматься акробатикой: подтягиваться на руках, виснуть вниз головой и т. д. На полати я перенес свою резиденцию: там готовил уроки, там же и спал.
У нас поселился жилец: мама сдала верхний этаж знакомому кооператору — Андрею Андреевичу Евдокимову. Единственным его имуществом было несколько ящиков с книгами. Сам он был с виду как бы монах, высокий, черный, сутулый, с иконописным лицом, длинным носом и еще более длинной бородой, росшей от глаз и ушей. Лицом был тёмен, а глаза из-под густых бровей глядели неожиданно весело и добродушно.
Еще наша семья увеличилась двумя приблудными котами, из которых один — Пучеглаз — был черный в белых манишках и в белых перчатках, ни дать, ни взять — модный тенор. Другой бурый — Катька — он был женского пола — страдал хроническим поносом и, ходя по квартире, оставлял за собой ряд копеечных непрерывных кружочков. Няня так и следовала за ним с мокрой тряпкой.
По вечерам Андрей Андреевич читал нам вслух. Он всегда умел раскапывать какие-то особенные книжки. Особенно любил я слушать сказки Ремизова о ворах и мошенниках. Сказки были добродушно-насмешливые, и читал их Андрей Андреевич с хитрецой и выражением. Читал, надо сказать, мастерски.
Однажды он сказал мне:
— Довольно балясничать. Пора учиться на кооператора. Первое дело — надо уважать книги и держать их в порядке. Хочешь привести в приличное состояние мою библиотеку? Мне услугу окажешь и хорошую практику приобретешь.
Я охотно согласился. Андрей Андреевич научил меня, как разбирать книги по отделам, как расставлять по алфавиту, как заносить на карточки. Я месяц возился в холодной комнате мезонина. Времянка отчаянно дымила, я плакал и кашлял, но занимался делом с удовольствием. Сказалась моя страсть к систематизации, которая впервые проявилась в Париже, когда я расписывал по алфавиту города из атласа Линдберга. Какое наслаждение было записывать все выходные данные на карточку и ставить книгу на нужную полку и нужное место. Книжки у Андрея Андреевича были отменно скучные, отнюдь не сказки Ремизова — все на социальные или экономические темы, бесконечные уставы и отчеты кооперативных товариществ северных губерний. Андрей Андреевич был родом из Архангельска и там проработал всю жизнь.
Так бы мы и жили счастливо, если б не новый конфликт. Няня невзлюбила Андрея Андреевича. Она решила, что мама взяла себе полюбовника и рвала и метала в защиту нравственности. Оба подозреваемые были вполне свободные люди, но нянины этические представления не допускали любви без брака, понятия тем более твердые, что у неё самой было двое детей, хотя замужем она никогда не была. Правда, первый сын родился по произволу помещика, вторая дочь как будто добровольно, но это она считала грехом и ошибкой молодости. Но, чтобы Лидинька в 33 года допустила такое, это она не позволит. И она доказывала свою правоту тем, что опять швыряла на стол сковороду с таким треском, что ложки сыпались на пол (Андрей Андреевич столовался у нас). Вернулись времена Тамары, и я часто засыпал под бурные сцены между мамой и няней. Маму особенно возмущало то, что весь этот скандал был высосан из пальца: роман существовал только в нянином воображении.
Андрей Андреевич, убедившись, что он является «persona non grata» и служит причиной раздора в семье, к весне съехал с квартиры. Говорили, что он вскоре неудачно женился, народил кучу детей, жил очень тяжело и умер, замученный скандальной вздорной бабой. У меня он остался в памяти как добрый, умный и очень одинокий человек.
Я второй раз принимаю участие в революции
Однажды, в воскресенье, когда я сидел у бабушки и вымучивал у очередной тётки двенадцатую партию в шашки, вбежала мама с радостным криком:
— В Петрограде революция!
Она волнуясь рассказывала, что полки, даже гвардейские, один за другим переходят на сторону народа, что в столице царит необычайный подъём, рабочие арестовывают жандармов и городовых, срывают царские портреты. Глаза у мамы горели, она захлебывалась словами. Все собрались, тетки умеренно выражали свою радость, дедушка поглядывал как-то внутрь себя. Его чувства явно раздваивались: он не мог не признать справедливости происходящего возмездия и в то же время предчувствовал крушение своей семьи, в будущем видел множество бед и забот. Мама тотчас убежала «делать революцию».
На другой день мы, как всегда, сидели в школе. С улицы доносился необычайный шум. Железные ворота фабрики «Гном и Ром» были заперты. Против них собрались рабочие — человек 50. Они стучали в ворота, требовали, чтобы их впустили. Потом принесли ломы, кувалды и бревна, действуя ими как таранами, высадили ворота, и с шумом ввалились во двор фабрики.
Где уж тут заниматься! Все повскакали с мест и повисли на окнах. Напрасно учитель уговаривал нас продолжать урок, пугал тем, что сейчас придут солдаты и начнут стрелять, что у окон находиться опасно. Пришлось распустить нас по домам.
Я не пошёл домой, а пустился бегать по улицам. Стихийно собирались демонстрации, слышались обрывки марсельезы, варшавянки. Незнакомые люди обнимались, поздравляли друг друга. У многих было оружие, но я не слыхал стрельбы. Я видел, как волокли арестованного околодочного. Они сдавались без боя. Москвичи даже удивлялись: царская власть еще вчера казалась непобедимо сильной. А оказалось, одна шелуха, толкнули, и рассыпалась. Конечно, это только казалось, революция была подготовлена громадной и самоотверженной работой всех социалистических партий.
Мама целыми днями пропадала в каких-то комитетах, выступала на митингах, писала статьи в газеты. Приходила, если вообще приходила, домой ночью, валилась от усталости. Няня пропадала в очередях за сахаром, за крупой.
Раз мама принесла кучу революционных брошюр. Тут были: «Национализация земли», «Восьмичасовой рабочий день», «Всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право» и т. д. Я набросился на брошюры, читал их и в школе на уроках и дома. Потом пустил в классе по рукам. Сразу образовался круг учеников, которые ими увлекались. Главные были — Ильин и Транцев. Ильин — массивный, крепкий, уверенный сын рабочего, Транцев — тонкий, подтянутый, всегда в черной рубашке с выгоревшими льняными волосами. Мы решили образовать в классе «революционную тройку». Скоро и работа нам представилась.
Рыжий немец упорно заставлял нас петь «Боже, царя храни», даже после того, как сам царь счёл за благо отказаться от престола, сбежал и был арестован на станции Дно. Мы стали подготавливать забастовку в классе. Уговаривали каждого отказаться петь. Разъясняли, что за это ничего не будет, что сам князь Лебедев теперь хвост поджал. Большинство согласились скоро, но некоторые из купчиков — Чулковы да Корчагины — явно двурушничали. Беда была с девчонками. Трусихи говорили:
— Как можно ослушаться?
На очередном уроке немец встал со своей скрипочкой и затянул «Бо-о…». Класс молчал. Он насупился. «Ну, сразу! Бо-о». Два-три купчика подтянули, но, увидев кулаки, грозившие им из-под парт, замолчали. Немец заявил:
— Парта, к которой я подойду, будет запевать.
Он подошел к первой парте, на которой сидел я с моим товарищем Клюевым и заиграл, глядя в упор нам в глаза. Я выдержал взгляд и, встав, молчал, хотя сердце билось ужасно. Ильин крикнул:
— Всё равно мы не будем петь!
Тут я осознал, что творю новый мир и для этого надо принести себя в жертву. Я тоже сказал твердо:
— Вы не имеете права заставлять нас петь отменённый гимн. Царя в России больше нет.
Немец немного опешил от нашей дерзости. Затем ляпнул замечательно неудачно:
— Это и черногорский гимн тоже. Черногорский царь здравствует и является нашим союзником. Значит, вы должны петь черногорский гимн.
В ответ раздался смех. Немец скрипнул зубами, сверкнул глазами и вышел из класса, хлопнув дверью. Больше мы его не видели. Занятия пошли своим чередом. Вскоре кто-то попался с моей брошюрой. Произвели обыск в партах и ранцах и выловили их штук шесть. Наш классный наставник долго и нудно говорил, что, конечно, это политическое образование в духе времени, но этим надо заниматься не на уроках. К тому же «четырёххвостка» и другие новшества это ещё только проекты, не утвержденные Временным правительством, и потому преждевременно забивать ими головы. Я попросил ребят не читать брошюры в классе.
В училище медленно, но верно происходили перемены. Попечитель куда-то делся и вместо него было решено избрать родительский комитет. Собрали родительское собрание. Перед ним мама спросила меня, кто у нас в классе из ребят придерживается левого направления, чтобы ей сразу сориентироваться и организовать свою фракцию. Я назвал Ильина, Транцева, Клюева…
— А из девочек?
— Есть одна… не знаю. Её зовут Лиза Берцуг, — сказал я и густо покраснел. Мама взглянула на меня с любопытством и улыбнулась. Я думал: «А может, её отец черносотенец? Я ведь с ней только раз разговаривал насчет общей чернильницы»
Мама пришла с собрания довольная. Ей удалось сколотить группу рабочих, а сама она прошла в родительский комитет.
— У твоей Лизы отличный отец, латыш, старый рабочий, совсем наш человек.
Я был в восторге: «Если так, то дело пойдет!» И оно действительно пошло.
Родительский комитет решил для привития трудовых навыков и пополнения недостатка в продуктах организовать при училище огород. Дело было новое, учителя не знали, за какой конец держать лопату и каким концом тыкать в землю рассаду. Решили мобилизовать общественность. На Благуше была больница. Ею заведовал доктор Буткевич Андрей Степанович. Вся Благуша любила и уважала его, он был эсэр и старый земец. Его младший сын Глеб учился в нашем училище, в 3-м классе и очень выделялся изо всех ребят своим демократическим видом и одеждой, простотой и вежливым обращением, большим умом и начитанностью. У Буткевичей была большая семья и дом на самой крайней улице, выходящей на пустырь, тянувшийся аж до самой Окружной дороги. Часть этого пустыря Буткевичи превратили в обширный огород, на котором работали всей семьёй и где выращивали овощи отменного веса и качества. Мама была близко знакома со всей семьёй и едва ли не они были виновниками нашего переселения в Измайлово. Я не раз у них бывал. Вот Глебова мать и взялась из симпатии к училищу и к работе с землей руководить нашими огородами.
Запись на летние работы была добровольной. Я, конечно, захотел стать огородником. Наш класс туго поддавался на это дело — от силы записалось человек 8–10. Я был несказанно рад, когда среди них оказалась и Берцуг. На вольном воздухе все оказалось гораздо проще, чем в классе. За посевом моркови и общие темы нашлись, и как-то легко говорилось. А к концу второго дня я даже решился на отчаянный шаг и назвал Берцуг Лизой. И это было принято благосклонно, будто так и надо.
Идиллия кончилась очень быстро. Мы, убоявшись второй холодной зимы, в начале июля переехали опять в Сокольники, но уже в двухэтажный восьмиквартирный дом на Большой Бахрушинской (теперь Остроумовской) улице, воссоединившись с Толей, которая после революции вышла из подполья и вновь превратилась в Лену, с Сашей и Мишкой. У Лены вдруг образовался грудной младенец, Алёша, рыженький в отца и до того милый и незлобивый, что даже такой закоренелый холостяк, как я, по часу простаивал у его кроватки, говоря «агу» и забавляя его погремушкой. Так как Лене некогда было с ним возиться, а няня была занята на кухне стряпней на большую семью, выписали из деревни пятнадцатилетнюю девушку Фросю, нянину племянницу, которая днем нянчила Алешу и Мишку, а по вечерам ездила через весь город в Миусы учиться в народном университете имени Шенявского.
Лена и Саша жили беспокойно. Саша был избран в Исполком Московского совета. На него было возложено налаживание биржи труда. Работал он целыми днями. Приходил издерганный, нервами наружу. Организация была межпартийная, Лена работала в Московском комитете партии эсэров. Мама — по-прежнему в Центросоюзе потребительских обществ. Хотя все они трое принадлежали к одной партии, в деталях они часто расходились, между ними бывали жестокие споры на всю ночь. Наутро все были с мигренями.
В начале июля были выборы в Городскую думу. Я впервые был мобилизован на партийную работу — клеил предвыборные объявления. Мне выдали фартук, пачку объявлений, кисть и клей. Районом работ была Мясницкая, теперь улица Кирова. Я гордился поручением. Раз подрался с «карандашом», клеившим кадетские объявления на мои. Но я одолел его. Накануне выборов я разъезжал на грузовике с объявлениями и кидал их в народ. Мне очень нравилась эта работа, мечтал даже избрать её своей профессией (вместо шоколадного фабриканта). После выборов у мамы прибавилось работы. Депутатские обязанности накладывались на кооперативные. Московский комитет выбрал её представителем партии в редакции «Известия Московского совета». Там требовалось согласие трёх редакторов для напечатания каждой статьи и обязательно — Скворцова-Степанова. Мама писала преимущественно на культурные и антиалкогольные темы. Скворцов-Степанов считал маму исключительно милым и приятным человеком, но за эти статьи — политически наивной[14].
Маму всегда посылали в самые «горячие точки». Я думаю, что она сознательно взяла меня с собой на митинг в Подольск с той же целью, с какой позволяла мне лазить по деревьям, крышам и карнизам. Митинг происходил на заводском дворе завода швейных машин «Зингера», где недавно была драка между рабочими и ораторами. Поэтому обстановка была накалена до крайности. Первым выступал большевик, потом бородатый меньшевик. Выступал учёно, с иностранными словами, непонятными аудитории, да ещё с прескверной дикцией. Ему пришлось прервать свою речь на половине из-за шума, крика и бежать под улюлюканье и хохот слушателей.
Настала очередь мамы. Трибуны не было, и она влезла на пожарную лестницу. Вначале её слова принимали очень враждебно, постоянно раздавались саркастические реплики. Был один острый момент, когда раздались крики:
— Долой! Довольно! Стащить её!
Я стоял в сторонке ни жив, ни мертв. «Сейчас начнут бить». Но она сумела как-то успокоить собрание. Она говорила четко, понятно, простым языком, излагала вопрос логично, спокойно и в то же время со страстной верой в свою правоту. Я забыл свой страх и невольно залюбовался ею. И, очевидно, не один я. Стоявший рядом старый рабочий процедил в усы:
— Ишь ведь, баба, жидовка, а как складно говорит. Послушаешь, будто все правильно.
Я не помню, о чем шла речь и какую вынесли резолюцию. Во всяком случае, мамины слова дошли до многих и смягчили решение. Она была удивительно хорошим оратором. Я присутствовал на многих её выступлениях, но помню только ещё одно на Введенской площади. Оно запомнилось потому, что рабочий оратор крикнул в момент крайнего возбуждения:
— Товарищи, фабриканты связали нас узами Гименея!
Я до того увлекся политической работой, что даже ездил каждый день в Московский комитет партии на углу Леонтьевского и Шведского переулков в общественном порядке подметать пол и перетаскивать пачки брошюр. Уборщиц тогда в штате не числилось.
Кроме политики я увлекался футболом. У нас такая компания подобралась на соседних дворах — прелесть. Особенно в доме напротив семья братьев Тарасовых, это же маэстро! Их было 4 человека, но вполне футболозрелых — только два, остальные заворотники — подавали улетавшие мячи. С этой компанией я дулся все свободное время, прерывая игру, только когда посылали в лавочку Сидякина купить соли или мыла. На Большой Бахрушинской почти не было движения, она была замощена булыжником и служила нам отличным футбольным полем.
В Сокольниках был солидный клуб Олэлэс (ОЛЛС). Это значило, вероятно, «Общество любителей лыжного спорта», но у клуба было настоящее футбольное поле, стадион и 3 футбольных команды, плюс одна детская. Олэлэс принимал участие во всероссийских соревнованиях и постоянно красовался на афишах. Мы решили: «А чем мы хуже?». Собрались, избрали Симу Тарасова капитаном, назвали наш клуб Дэкаэс (ДКС — детский клуб «Сокольники») и послали вызов детской команде Олэлэс. Капитан сходил к ним, согласовал день и час, и вот мы на Олэлесовском поле.
Противники выставили полную команду — 11 игроков. Нас пришло только четверо. Одного мать наказала, у другого нарыв на ноге, третий просто струсил и т. д. Ну, казак назад не пятится. Надо играть или зачтут поражение без боя. Обсудили положение — Тарасовы — в форвардах, я — в защите (обычно-то я играл правого хава), голкипер. Я очень горевал, что у меня не было ни буц, ни даже простых башмаков, я пришёл в высоких сапогах. Но Сима — великий стратег — меня утешил:
— Бегать все равно много не придется. Они будут висеть на наших воротах. Твое дело — коваться. Старайся бить не по мячу, а по ногам, чтобы уменьшить число игроков. Запасных у них нету.
Началась игра. Я защищался героически. Как Леонид в Фермопилах. К концу игры их осталось восемь, трое уползли благодаря тактике, выработанной для меня капитаном. Они, конечно, тоже старались меня подковать, но меня защищали толстые голенища. Тарасовы летали по полю как пули. Кипер то и дело бросался на земь, обычно после того, как мяч пролетал в ворота. Не то, что их кипер, который даже заснул на боевом посту. При всем при том 7:0 не в нашу пользу. Мы считали, что при существующем соотношении сил моральная победа осталась за нами. Мы ушли, еле волоча ноги, но удовлетворенные результатом. Ведь если бы нас было 11, а не 4, то мы бы наверняка на-втыкали 70:0. Это уж будьте спокойны.
Маму не слишком радовало моё увлечение футболом. В принципе она была за спорт, но думала, что футбол уродлив, потому что развивает исключительно ноги и это идет в ущерб голове, умственным способностям. Я горячо с ней спорил и доказывал, что она просто не знает правил игры. Уж кто-кто, а я, правый хав, имел достаточно случаев принимать свечи и иногда даже забивал головой голы. Я даже считался в нашей команде первым специалистом по части приема свечей, иногда с такой высоты принимал, что всякий другой получил бы сотрясение мозга.
— А ты не знаешь, а говоришь, что я головой не работаю!
Но у мамы была предвзятая идея: детям надо давать наряду с другим и эстетическое воспитание. На беду она была знакома с известным педагогом Шацким. А его жена была заведующей музыкальной школой. И меня отдали в эту школу, в хоровую группу. Дело не обошлось без демонстраций протеста, саботажа и даже слёз (вообще-то я реветь уже перестал), но маму невозможно было переспорить.
И вот я под конвоем приведен в это певческое заведение, которое помещалось в кокетливом домике на углу Пречистенского (теперь Гоголевского) бульвара и Гагаринского переулка (теперь ул. Рылеева). Меня, как рядового необученного, поместили в самую младшую группу. Ребята, больше девочки, все были мне по плечо, и я казался им очень смешным. Шацкая села за рояль. Ребята пели превосходно, складно, на два голоса. Я решил придерживаться среднего варианта и взял ноту настолько фальшивую, что даже сам об этом догадался. Ребята засмеялись. Шацкая болезненно поморщилась. Я сконфузился. При третьей моей попытке Шацкая сказала:
— Ты уж лучше помолчи, прислушайся, как поют другие.
С тех пор я прислушивался целых три урока, а потом заявил маме, что хоть режь меня, а я больше в музыкальную школу не пойду. Мама позвонила Шацкой по телефону и после разговора сдалась.
Городское хозяйство было до крайности истощено войной и запущено царскими чиновниками-казнокрадами.
Деятели, поставленные во главе отделов Городской управы, не прибегали к нечестным методам и не желали использовать силу, как орудие власти. Они надеялись воздействовать на массы примером и убеждением.
Очень затрудняло работу двоевластие: не было ясно, за что отвечает Городская дума и за что — Совет рабочих и солдатских депутатов.
Подметая полы в Московском комитете партии, я имел случай наблюдать городского голову Руднева и председателя Думы Осипа Минора, старого народовольца, очень доброго человека, смахивающего на раввина. Мама представила меня им, и они поздоровались со мной за руку.
В те дни наш друг Александр Моисеевич Беркенгейм был брошен на самый трудный участок — председателем продовольственного комитета Московского совета. Он похудел, помрачнел, а большие чёрные мешки под глазами свидетельствовали о бессонных ночах.
Даже я, мальчишка, думал, что такие честные, деликатные люди не смогут управиться с кипящим котлом, который представляла собой Москва тогда.
В то время я был великий охотник до чтения газет. Может показаться странным, что меня в двенадцать лет, наравне с футболом и уличными драками, волновала политика. Но, пожалуй, это естественно. Ведь бывает же нередко, что девушки тайком играют в куклы, пока не выйдут замуж. А на меня сильно влияла среда и разговоры, среди которых я жил. Конечно, я воспринимал события глазами близких, хотя кое-что научился понимать и сам. Я остро чувствовал фальшь и демагогию в отличие от искренности и желания действительно помочь народу.
Но, уклонившись рассуждениями о судьбах России, я нарушил хронологическую последовательность своего повествования. Прошу извинения, возвращаюсь к ходу событий, где я снова буду фигурировать как маленький мальчик, занимающийся своими маленькими делишками.
Дедушка с бабушкой, наконец, признали Тамару. Она была на сносях. Возможно, стариков смягчили грозные события в России, перед лицом которых было неуместно ссориться с единственным сыном.
Однажды, когда я вошел в Трубники, все пили чай в чайной комнате. Тамара, уже попивши, стояла в конце стола у печки и оживленно что-то говорила. Она выставила вперед свой большой живот под бархатным платьем, как бы говоря: «Вот, глядите: я беременна. Я законная жена вашего сына и готовлюсь стать матерью вашего внука, хотя вы не хотели меня знать. Теперь я одержала победу. Но я не злопамятна и потому веду с вами вежливый разговор». Может быть, мне это только казалось, но я нашел её позу неэстетичной и нескромной. А потому на весь вечер надулся.
В тот день в городе начались волнения, издалека доносились выстрелы. Папа забеспокоился и увел Тамару домой. Наступило зловещее молчание, все почему-то говорили шёпотом. Позвонила мама и сказала, чтобы я оставался у бабушки до конца событий и никуда не выходил. Так я провел под домашним арестом дней пять. Мама все время работала в Думе, что-то там обсуждала, выполняла поручения, выходила в разные районы Москвы, пыталась агитировать, примирять и, конечно, подвергалась большой опасности.
А у бабушки все замерло. Знакомые не приходили, телефон выключился. Тетки бродили как тени. Я устал думать о революции, устал беспокоиться за маму. Около бабушки было так уютно, и я предавался мечтам. Я мечтал о колонии. Сейчас под словом «колония» подразумевается преимущественно тюрьма для малолетних преступников, а тогда под ним понимали просто детский дом в сельской местности. Я заболел этой мечтой уже год назад, узнав из какой-то книжки, что такие колонии бывают, кажется, где-то в Швейцарии или Швеции. Там живут ребята на вольном воздухе, лазают по скалам, купаются сколько хотят, занимаются ручным трудом, ну и… учатся. Обязательно надо учиться? Ну, что ж… немножко.
Я поклялся попасть в колонию и теперь, лежа в «желобке», разрабатывал свои планы. Наша колония будет помещаться на севере Онежского озера. Там целый лабиринт островов и протоков. Это то, что нужно, вроде финляндских шхер. Жить мы будем на острове в пещерах. Есть там скалы? Наверно, есть. Пусть будут. И пусть озеро по подземным туннелям в скалах входит в наши пещеры, чтобы можно было прямо из постели бросаться в воду и выплывать на вольный воздух. Жить вообще будем преимущественно в воде. Только вот холодно, климат там довольно суровый. А мы вот что: от постоянного упражнения обрастем шерстью, не длинной, но плотной, как у тюленей или котиков. Кстати, это решает вопрос об одежде. Одежда вроде бы лишняя, но без неё неприлично, а тут шерсть: и красиво, и прилично. А между прочим, девочки у нас будут? Почему бы и нет, только лучше бы они жили на другом острове и представляли бы отдельное государство. Вот идея! Между нами будет постоянная война, ну не всерьёз, а вроде игры в войну. Без убийства. Но, чтобы противников брали в плен, заставляли работать, обращали в рабство. Мальчики, конечно, будут побеждать. Однако это несправедливо, девчонки, пожалуй, так откажутся играть. Ну ладно, побеждать будем по очереди, год — они, год — мы. Какая великолепная картина: два тюленеобразных войска движутся вплавь навстречу друг другу. Боковые отряды норовят охватит фланги. Авангарды уже ведут разведку боем. Только как это драться в воде? Ведь эдак можно нахлебаться и утонуть. А вот что: у нас от постоянного упражнения разовьются жабры. Или это уж чересчур? Нет, ничего, зато можно будет воевать в трех измерениях, обходить противника даже снизу. Как быть девчонкам с длинными волосами? Они будут в глубине путаться за водоросли, за камни. Вечно у них трудности! А очень просто: в колонии будет закон — всех стричь под машинку. Ну, не очень коротко, под третий номер. Как с точки зрения красоты? Ничего, привыкнем. Ведь тюлени не имеют длинных волос. Я старался представить себе Лизу Берцук и Машу Угрюмову остриженными под машинку и в тюленьих шкурах. Ничего, очень мило получалось.
За такими вариантами я мог проводить целые часы, пока над городом гремела канонада и в окнах отсвечивало зарево пожаров.
У бабушки все особенно боялись погромов. Напротив их особняка помещалось Удельное ведомство, которое еще с царских времен ведало винной монополией. Говорили, что под ним находились винные погреба, где хранились большие запасы водки. Опасались, что если их разгромят и толпа перепьётся, то окрестным жителям не сдобровать. Но обошлось. Вообще в тихом Трубниковском переулке никаких происшествий не было, и только одна шальная пуля залетела ко мне в комнату. Я очень этой пулей гордился.
Во время прихода мамы в особняк к дедушке ворвалась банда матросов-анархистов. Их называли тогда анархистами-серебристами за то, что часто они под видом обысков занимались просто грабежами. Матросы были пьяны, перепоясаны пулеметными лентами, вооружены револьверами, кортиками и ручными гранатами-лимонками. Они вошли с руганью, проклятиями и угрозами. По их словам, здесь-то и скрывались недорезанные буржуи, представители мирового капитала. Масла в огонь подлила французская фамилия, которую они прочитали на двери. Поэтому они сразу взяли дедушку за грудки, объявив его «агентом Антанты». При этом они ради пущего страха все время играли лимонками, подбрасывая и ловя их как мячики. Мама вышла к ним.
— Здравствуйте, товарищи. Оставьте ваши игрушки, со смертью не шутят. Никаких агентов Антанты здесь нет. Здесь живут мирные, хорошие люди. Что касается экспроприаций, то на это теперь есть новая власть. Она, что найдет нужным, конфискует и экспроприирует организованным порядком…
Так или иначе, такова уж была убедительность её слов, что ей удалось уговорить матросов уйти без членовредительства. Особенное впечатление на них произвело «Здравствуйте, товарищи». Мирный финал показался всем домочадцам каким-то чудом.
Как только стрельба кончилась, я отправился по городу осматривать разрушения. Более всего пострадали Никитские ворота. Здесь была плотная группа больших домов, в том числе дом, стоявший в конце Тверского бульвара. По ним били из орудий, они загорелись и теперь представляли собой еще дымящиеся кое-где развалины. Сильно пострадал Кремль: из старинных соборов и из Ивановой колокольни снарядами были словно вырваны куски живого мяса, от дыр пошли трещины. Вообще в городе мало уцелело оконных стекол, дома были изрешечены пулями, как будто они болели оспой. Эти следы они носили лет 10–20, с штукатуркой тогда было плохо.
Я написал дедушке Тумповскому подробный отчёт о всех событиях и наблюдениях.
Первые последствия Октября
Я в третий раз поступил в школу Свентицкой. А сама школа переехала из старого, обжитого деревянного здания, такого уютного. С протертыми половицами в коридоре и выщербленным паркетом в зале в новый каменный особняк на углу Смоленского бульвара и 1-го Неопалимовского переулка. Теперь там Управление по делам религиозных культов. В школе произошло много важных перемен: 1) она стала называться 159-й школой МОНО, 2) рядом с Марией Хрисанфовной появился директор, известный математик, автор учебника Константин Феофанович Лебединцев, или попросту Тараканыч, ибо он носил большие усы и умел ими шевелить, когда говорил про свою любимую математику, 3) школу затопил поток новых учеников — детей властвующих лиц. Видимо, репутация Свентицкой стояла высоко, и вожди предпочли отдать в неё своих отпрысков, не доверяя новым школам, которые возникли в первый год советской власти. Зато в народе нашу школу стали называть пажеским корпусом.
Я учился в третьем классе, а во второй поступил Лёвка Троцкий, а в первый его брат Сережка и ещё Сережка Каменев. Со мной за партой сидел Юровский — сын чиновника, ведавшего всеми денежными делами РСФСР. Не помню, как назывался его комиссариат, Наркомата финансов тогда ещё не было. В 4-м классе учился Козловский — сын какого-то важного чина по карательной части, а в 5-м — дочь управляющего делами Совнаркома Бонч-Бруевича.
Серёжка Каменев был веселый, юркий и озорной мальчишка. Он стащил у отца, Льва Борисовича, браунинг и на переменах забавлялся тем, что целился в девчонок и спускал курок. Конечно, браунинг был не заряжен, но девчонки визжали, и это было весело. Его тёзка, младший Троцкий, был наоборот, жирный, рыжий, неуклюжий и вечно раздражённый парень, одетый в какой-то зеленый лапсердак. Он потихоньку взял каменевский револьвер, зарядил его боевым и патронами и, не говоря ни слова, положил назад. Интересно, что-то будет? На ближайшей перемене ничего не подозревавший Каменев в упор выстрелил в свою одноклассницу Тамару Ростковскую. Но, к счастью, он не был Ворошиловским стрелком и ухитрился промазать, только косу ей прострелил и зеркало в зале разбил. Педагогический совет был в ужасе, судили и рядили, но Троцкого наказать не решились. «Как-никак сын ближайшего соратника Ленина, организатора Красной Армии, народного комиссара обороны». А Каменева, рангом пониже, всё-таки исключили из школы.
Старший сын Троцкого, Лёвка, впоследствии продолжатель дела отца, известный под псевдонимом Седов и убитый, как и отец, за границей людьми Сталина, был полной противоположностью младшему брату. Лицом очень похожий на отца (а тот, как известно, был похож на Мефистофеля), одетый с иголочки в новенькую юнгштурмовочку, опоясанную ремнями и бляхами, он был душой общества в своём классе. Особенным успехом он пользовался у девочек, чему обязан был, помимо юнгштурмовки и папы-наркома, также уменью складно и остроумно выражаться.
В моём классе училась ещё Ида Авербах, девочка с острым носом и вся какая-то острая, угловатая, как чертами, так и характером, что называется «заноза». В седьмом классе учился её брат, златоуст и народный трибун — сознательный большевик Леопольд, по-нашему Ляпа. Они были племянниками Якова Михайловича Свердлова и впоследствии играли роль в жизни школы и всей страны.
Остальные великие люди ничего из себя не представляли. Мой финансист был дылда, глуповат, но безобиден. Козловский был умный парень и вполне вписывался в орду, носившуюся за Машей Угримовой. Бонч-Бруевич была просто-таки милой девочкой с хорошей русой косой.
Вне школы также произошли большие изменения. Никто больше не говорил «понёс», никто не говорил «сочкнёмся». Когда я при первой встрече попытался применить эти расхожие выражения, на меня посмотрели как на человека, пользующимся безнадёжно устаревшим ритуалом. Теперь уже встречались не «огольцы», а «пацаны», причём обмен происходил следующим образом:
— А раньше то!
— Позже то!
— А мыло то!
— А дрожжи то!
— А в рыло то!
— А в рожу то!
После чего уже норовили заехать друг другу в означенные места. Я думал: «До чего быстро развивается цивилизация! И как я отстал, прожив два года на окраине города!».
После разгона Учредительного собрания началась обработка общественного мнения.
Вскоре, вероятно, в связи с ликвидацией редакции, мама вернулась на работу в Союз потребительских обществ. Там она составляла и редактировала «Записную книжку юного гражданина на 1918–1919 года». Это очень любопытный сборник, где, кроме календаря, было много статей о том, как организовать школьную потребилку, как развести огород по всем правилам, как научиться плавать, как наблюдать за погодой и тысячи других полезных сведений.
В это время я совершил настоящий террористический акт. Дело было в школе. Я спускался со второго этажа на первый и увидел, что на площадке лестницы ничком лежала девочка — маленькая приготовишка. На спине у неё сидел Серёжка Троцкий и бил её по голове. «Ну, подумал я, уж я с тобой рассчитаюсь за все гадости и за девочку!». И со всего разбега ударил его носком башмака по носу. Он покатился, а она вскочила и бросилась наутек. Сережка встал и, размазывая по лицу «юшку», мрачно сказал:
— Я скажу папе, он тебя расстреляет!
Надо сказать, что угроза эта мне долго не давала спать. Я успокоился, только убедившись, что у папы, который в то время вёл переговоры от имени советского правительства с немцами о Брестском мире, были дела более важные и он не мог отвлекать свои силы на фронты, открываемые его сыновьями в школе Свентицкой.
Летом я был свидетелем драки более серьёзной, чем мои стычки с Серёжкой или пацанами на улице.
Выйдя шестого июля от бабушки, я услышал, что в Денежном переулке убит германский посол Мирбах. Район был оцеплен войсками. Я вернулся на Арбат в надежде сесть на трамвай. Куда там! Трамваи не ходили, и вдоль Арбата свистели пули. Со стороны Арбатской площади слышались пулеметные очереди. Я перебежал через улицу и направился в спасительный Трубниковский переулок. Там было спокойно, но от Кудринской площади тоже доносились выстрелы. Пробраться домой в Сокольники было безнадёжно.
У бабушки никто не знал, кто и в кого стреляли. Только через два дня стало понятно, что было восстание левых эсеров и оно подавлено.
Через некоторое время, когда на улицах стало тихо, дедушка с бабушкой отправились в Пушкино подать Заявление, что они хотят сдать государству не только обе фабрики, но и дом, в котором жили. Сами собирались жить в Москве. День был очень тёплый, и они пошли даже без пальто. Секретарь их выслушал и сказал, что это очень благородно, что это первый случай, когда собственники сами пришли передать своё имущество народу. Одобрив их поведение, он попросил их обождать и вышел из своего кабинета. Вернувшись, он подтвердил, что всё в порядке и они могут идти.
Был уже вечер. Сильно похолодало. Дедушка с бабушкой пошли домой, чтобы надеть пальто, разговаривая при этом, что за личными вещами они попросят приехать как-нибудь Лёвушку. Но… подойдя к дому, они убедились, что дом их поспешили уже опечатать. Они не только не смогли взять свои пальто, но у них не оказалось при себе даже денег для поездки в Москву.
Вот как обернулась их сознательность и как проявилась оперативность секретаря поссовета.
Московские дома дедушки, с его согласия, были тоже национализированы, кроме сравнительно небольшого дома в Трубниковском переулке, где и поселилась их большая семья..
Вскоре половину этого дома конфисковали под какой-то комиссариат, но их в доме оставили. Пришлось сдвоить ряды, потесниться. Впрочем, как-будто стало даже уютнее. А вскоре выяснилось ещё одно преимущество нового образа жизни: тётушки познакомились с «комиссарами» и получили разрешение печатать по вечерам на из «ундервудах».
Пишущие машинки были тогда в диковинку, а в комиссариате их было много, и вся семья принялась их осваивать, понимая, что вскоре всем придётся поступать на советскую службу. Очень хорошо! Поступать на службу машинистками.
Я, конечно, тоже с восторгом принял участие в этом деле и выстукивал на машинках всякую ерунду. При этом с первого же раза покалечил одну из машинок, пытаясь разобраться в её конструкции.
Симбиоз буржуазного семейства с советским учреждением был оригинальный, странный. Комнаты были проходные, изолироваться было невозможно. Горничная Катя носила обед из кухни чуть ли не через канцелярию, а барышни из комиссариата просили у неё разрешения подогреть чай на нашей кухне.
Лихолетье
Дела и штаты комиссариата расширялись, ему стало тесно в конфискованных комнатах и они заняли весь дедушкин особняк. Дедушка, после тяжких размышлений, куда им теперь деться, переехал с семейством снова в Пушкино, в «Шато» около джутовой фабрики, которое не было конфисковано как аварийное и никому не нужное.
Очевидно, дедушка сохранил немного наличных денег, которых хватило на приведение «Шато» в мало-мальски жилой вид, и на скромное житьё в течение года-двух. В «Шато» внизу сделали четыре жилых комнаты. Наверху большой зал, где когда-то стоял рояль и прабабушка Мария Францевна в одиночестве давала концерты, Этот зал был промороженным и захламлённым. Оттуда в башню вела полусгнившая лестница, по которой только я один рисковал лазить. Да и то она так скрипела и шаталась, что сердце замирало.
Дедушка помрачнел, бродил по дому с лицом самоубийцы. К тому же он был чем-то болен, но болезнь осталась неразгаданной.
Бабушка погрузилась в философскую задумчивость и всё что-то размышляла: как связать текущие события с теорией шишки добра и зла.
Тётушки подтянулись, стараясь бодриться и острить — хотели отвлечь родителей от мрачных мыслей. Главной темой было ведро, которое заменяло отсутствующую уборную, они называли его vers d(eau) (вердо)[15]. Евлашу, наградив, отпустили, одной прислугой и за кухарку осталась Катя.
Маня переехала к родителям в «Шато». Может быть, она хотела им помочь, а может быть, ей просто страшно стало жить одной в большой квартире.
Когда война окончилась, она ждала Ваню, но он не только не приехал, но и писать перестал. Она сомневалась в его верности и, чтобы вернуть его, решилась на отчаянный шаг: поехала в Ельдигино и, вдохновлённая моим рассказом, как я лазил в Ельдигинский дом, повторила мой трюк. До сих пор не понимаю, как она, взрослая, изнеженная женщина, к тому же горбатая, умудрилась влезть на крышу!
Она-таки влезла в дом по карнизу, через крышу на чердак, проникла внутрь дома и вынесла оттуда ценные вещи, посерьёзней моего бумеранга и. главное, Ванину двустволку. А он был страстный охотник и очень ею дорожил. Очень возможно, что тётя Маня сделала это путём подкупа сторожа. Очень уж невероятно, что она это сделала сама.
Тридцатого августа, когда мы мирно сидели за ужином на Бахрушинской, к нам пришел в гости Александр Моисеевич Биркенгейм. Он всегда приносил нам в подарок арбузы, которые из-за рассеянности сам же и съедал у нас на глазах. Но в этот раз за неимением арбуза он лузгал семечки, тоже предназначенные в подарок детишкам.
Внезапно к нам нагрянул внушительный отряд чекистов. Был произведён обыск, который длился всю ночь, очень уж тщательно его производили.
А утром арестовали маму, Лену, Сашу и Александра Моисеевича. Взамен нам оставили одного красноармейца в передней. Он сидел на табуретке, не выпуская из рук винтовки, и в такой позе как будто готов был поймать всякого, кто попытался бы войти к нам в квартиру.
Мы остались впятером: няня, Фрося, Мишка, я и маленький Алёша. Няню и Фросю не выпускали из дома и потому на меня легла обязанность бегать в лавочку и отоваривать карточки. Это, конечно, была грубая ошибка, так как первое, что я сделал, я помчался к Зеленкам и предупредил о засаде. Оттуда эта новость быстро распространилась по всем эсерам города, но по существу это уже оказалось бесполезным, так как к тому времени были арестованы все активисты.
Вскоре мы узнали причину арестов: Каплан стреляла в Ленина. Дело такое, что мы очень беспокоились о наших. Ведь могли полететь и невинные головы. Кроме того, было очень беспокойно за маленького Алёшеньку, не получавшего теперь материнского молока, ведь ему и коровьего не хватало. Но мы ничего не могли сделать.
Засада продолжалась три недели. Мы не знали, как себя вести с красноармейцами. Они дежурили по 8 часов, принося с собой кусочек хлеба. Разговаривать они не имели права, но когда в квартире распространялся запах конины, которой мы питались, в глазах у дежурящего появлялся голодный блеск. Мы обсуждали, не угостить ли его, хоть сами жили впроголодь. Первый аргумент был против: «С какой стати, когда они арестовали всех наших дорогих!». Но здравый аргумент говорил: «Да причём они тут? Ведь не они арестовывали. Они не виноваты, что их поставили на такую паршивую должность!». В конце концов няня не выдерживала и подносила очередному красноармейцу тарелочку с кусочком конины. При этом особое внимание она оказывала бородачам. Они никогда не отказывались, ели всегда жадно, торопясь, давясь: «Избави боже, нагрянет начальство, отдадут под суд за вступление в сношение с агентами буржуазии и получение взяток!».
В этот раз Лену и маму держали в тюрьме полтора месяца. Сашу дольше, но в конце концов, разобравшись в их полной непричастности к покушению, освободили. Однако жертвой остался Алёшенька. Молоко у Лены пропало, с продуктами стало вовсе плохо. Мальчик бледнел и худел, но всё больше молчал, конечно, от слабости. Глядел на людей с недоуменьем, как бы хотел спросить: «Если мне так скоро умирать, зачем меня было рожать?»
Среди наших знакомых нашлась мужественная женщина — Мария Владимировна Давыдова — правнучка знаменитого партизана наполеоновской кампании. Она повезла мальчика в Ростов-на-Дону к бабушке — матери Саши. Там было сытнее. Путь был непомерно трудный и опасный — через несколько фронтов гражданской войны. Как они оба это перенесли, непонятно. Истощённый малыш на месте сразу же умер. Алёшина кончина потрясла меня, со смертью младенцев всегда невозможно примириться. Вспоминается вопрос Достоевского: «За что невинный младенец страдает?» Алёшенька был так трогателен, как вспомню его улыбку, так слёзы у меня текут, без остановки. В то время я считал это недостойной мужчины чувствительностью и всячески скрывал, но совладать с собой не мог. Это осталось на всю жизнь. С тех пор я похоронил десятки близких людей, но как вспомню Лениного мальчика — плачу.
Квартиру на Большой Бахрушинской ликвидировали. Мы с мамой переехали ближе к школе — на угол набережной Христа Спасителя и Ленивки. Лена с Сашей сняли комнату в дачной местности Тарасовке. Очень у них было грустно, даже спорить о политике они перестали.
Мама после второго ареста потеряла работу в Союзе потребительских обществ и пробавлялась лекциями на Пречистенских курсах для взрослых. Платили там ничтожно мало и очень неаккуратно, иногда на месяцы задерживали зарплату.
Квартира в большом каменном доме на набережной осталась в моей памяти как один из самых безрадостных периодов в жизни. Няня опять уехала в деревню, где в создавшихся условиях было больше шансов прокормиться. Зато к нам переехала из Ленинграда Мага. Дом был с центральным отоплением, и мы надеялись, что избавимся от топки печей. Но уже в ноябре кончился уголь. Воду почему-то не спустили, система замерзла и во многих местах полопалась… На полу образовались ледяные каточки, которые я неплохо использовал в спортивных целях. Комнатный термометр неуклонно полз книзу, переполз через нуль и в январе добрался до − 5°. Больше, видно, совести не хватило. Мы не вылазили из шуб, в них и в валенках ложились спать, наваливая на себя все одеяла и пальто, какие имелись в доме. Водопровод замёрз, и я ежедневно ходил на Москва-реку за водой. Готовили мы на керосинке. Когда мамы и Маги не было дома, на меня ложилась обязанность готовить обед — пшу, или форшмак. Форшмак готовился из картофельных очисток и селёдочных голов, насчёт которых у мамы был договор с некоторыми лучше обеспеченными знакомыми: картошка — им, очистки — нам, селёдка — им, головы и хвосты — нам. Все отходы с примесью хлебных корок пропускались через мясорубку, выкладывались на сковороду, смазывались кунжутным маслом, и поджаривались. Бутылочка масла, употреблявшаяся для облегчения скольжения клизмы, осталась с тех времен, когда я у бабушки по воскресеньям объедался сладостями, Форшмак готов, и я всегда был очень доволен своей стряпнёй. Хуже было со стиркой. Стирать было почти невозможно, и я скоро почувствовал последствия — всё тело зачесалось, под мышками и за шиворотом что-то отвратительно заползало. У меня не хватало духу на морозе часто снимать рубашку, чтобы бить вшей. В школе я постоянно был на замечании; чернила замерзли, и я не мог готовить уроки. Впрочем, это было не в диковинку. Москвичи не были подготовлены к холодной и голодной зиме и быстро спустились до троглодитного уровня.
В декабре из Пушкина позвонила по телефону Маня. Я подошёл.
— Данюша, вчера умер дедушка. Приезжай на похороны.
Я не сразу сообразил: как дедушка мог умереть? Он, по моим представлениям, был вечен, как Саваоф. Однако, его таинственная болезнь оказалась раком желудка. После его смерти в Шато стало вдвойне грустно. Бабушка кашляла. У неё была пагубная привычка принимать веронал. А веронала не было. Поэтому она совсем лишилась сна. Дочери очень боялись за её здоровье.
В феврале позвонила Наташа.
— Данюша, приезжай к нам. Бабушка совсем плоха и всё спрашивает о тебе. Может быть, хоть ты её развлечёшь.
Я приехал. В Шато было холодно, хотя не так, как у нас дома. Зато в щели проникала февральская вьюга. Бабушка лежала в самой тёплой комнате, и я весь день проводил около неё. Её кашель обернулся воспалением лёгких. Я пытался развлекать её рассказами, но она с каждым днём всё менее внимательно меня слушала. Я заметил, что её утомляет моя болтовня. Тогда я погрузился в свою коллекцию марок, которая требовала переклейки в новый альбом.
Однажды я сидел рядом с её кроватью на полу, застланном ковром. Бабушка тяжело дышала. Я думал, что она спит. Я только что закончил Норвегию и принимался за Данию, когда заметил, что дыхание больной стало реже и громче. Вошла Наташа, услышала и закричала:
— Даня, скорей за доктором!
Я вскочил, сунул ноги в валенки, на ходу надел куртку и помчался в больницу, которая была расположена в полверсте. Для сокращения пути перемахнул через ограду фабрики, ворвался в больницу и закричал:
— Доктор, доктор, бабушке плохо!
Доктор Буров, единственный врач Андреевской больницы, построенной Армандами, не заставил себя ждать. Он сразу прекратил приём, схватил саквояж с аптечкой и побежал за мной в Шато.
Когда мы пришли, бабушка уже не хрипела. Она только всхлипывала каждые секунд 20. Буров впрыснул камфору, но всхлипывания становились всё реже. Лицо бабушки стало багровым. Наконец, после молчания, длившегося минуты три, она издала последний слабый вздох.
Четыре тётки стояли в молчании. Кто-то из них сказал:
— Какая несчастная зима!
Бабушку похоронили рядом с дедушкой у входа в пушкинскую церковь. Рядом уже стояли могильные памятники дедушкиных братьев и их жён.
Меня вскоре оставили в покое с домашними уроками, так как в школе практически прекратились занятия. По распоряжению Наркомпроса было введено школьное самоуправление. Был создан учком, который ведал проведением всяческих кампаний, политическим просвещением, сбором средств на общественные нужды и т. п. Члены учкома входили в Педагогический совет с правом решающего голоса. От каждого класса, начиная с четвёртого, выбирали делегата. Попал в делегаты и я. Нашим вождём был Ляпа Авербах.
Вначале мы чувствовали себя смущённо на заседаниях Педагогического совета и больше молчали. Я помню заседание, посвящённое обсуждению сметы школы на 1919 год. Бесконечно долго тянулся разговор про ремонт парт, про плату гардеробщице, про покупку мела и т. д. Ляпа поддержал честь учкома и сделал к смете дельное замечание, что надо будет не только заплатить за установку нового телефона, но и платить за его эксплуатацию. Он очень гордился своей деловой сметкой. Я тотчас накропал четверостишие на его подвиг и передал его представительнице 6-го класса. Она что-то добавила к моей поэме и передала делегату 5-го класса Володе Певзнеру. Между нами завязалась оживлённая переписка, потом шепотки, смешки, и через полчаса мы уже совершенно забыли, где мы находимся. Вдруг раздался голос нашей старой строгой воспитательницы Зинаиды Аполлоновны:
— Дети, не шалите, вы мешаете взрослым работать. И это про делегатов! Это про общественность! Какой стыд!
Но в старших классах были серьёзные ребята. Ляпа постоянно собирал общие собрания, длившиеся иногда почти весь школьный день. На них ставились вопросы о классовых противоречиях между учениками и учителями. Восьмиклассник Аарон, здоровый детина, был анархистом. Он выступал на собраниях с длинными речами, громил мировой капитал, доказывал, что его агенты могут пробраться в любую организацию. Даже в нашу школу — под видом шкрабов. Мы должны проявлять бдительность и не поддаваться навязанной дисциплине. Мы не понимали, зачем воевать с учителями, которые хорошо к нам относились и от которых мы ничего плохого не видели, но насчёт дисциплины усвоили. Дисциплина, действительно, падала с каждым днём и однажды дело дошло до того, что весной мы всем классом вылезли в окно и убежали в сквер к храму Христа Спасителя, где полдня играли в салочки и балясничали.
Постепенно с помощью общественности и под влиянием постоянных методических опытов Наркомпроса, предписывавшего то бригадный метод, то метод докладов, то Дальтон-план, занятия почти прекратились. В школу мы приходили, только чтобы заседать и обедать. Обед был очень важной статьёй и притом весьма трудоёмкой. Детское питание централизовали. Обеды выдавались где-то в районе Остоженки, привозились в Неопалимовский переулок и уже в школе подогревались. Состояли они из одной мутной баланды, в которой плавали редкие крупинки пшена, следы картошки и кости от воблы. Самую воблу, очевидно, съедали повара. Некоторые ученики пренебрегали этой бурдой, зато другие, в том числе и я, выхлёбывали по 2–3 миски. Ежедневно за баландой снаряжался обоз из салазок с баками, в салазки впрягались два ученика. Иногда выпадала удача. На улицах валялось множество дохлых извозчичьих лошадей, павших от бескормицы. Их стаскивали на живодёрню, находившуюся в Дорогомилове. Там трупы свежевали, мясо с них выдавали по карточкам, а головы раздавали по школам в качестве дополнительного питания. Помню, как в нашу очередь мы с трудом тащили на Варгунихину гору тяжёлые сани, а с них таращили остекленевшие глаза и скалили зубы 5–6 голов несчастных лошадей, честно отслуживших свой век. Только раз мы поели на славу. Ида на масленицу пригласила весь класс к себе в гости. Мы оттаяли и нежились на мягких диванах в роскошной квартире Авербахов. Потом девочки ушли на кухню стряпать. И появились с горами блинов из настоящей крупчатки, со сметаной и топлёным маслом. Потом был чай с конфетами и вареньем.
Однажды школу повели на экскурсию в Кремль. Это были либеральные ленинские времена. При Сталине Кремль на 30 лет накрепко заперли от всяких экскурсий. Ида и Ляпа были в большом возбуждении. Когда мы осматривали старый царский дворец, они наперебой сообщали:
— Вот здесь живёт дядя Яша.
— Вот в конце коридора кабинет дяди Яши (нас туда не пустили).
— Вот ванная, где дядя Яша купается.
— А вот уборная…
Последние два помещения были оборудованы заново, причём, несомненно, о таком комфорте не мог мечтать и сам Иван Грозный.
Мы не выдержали холодной зимы и в феврале перебрались в маленький старый домик в Нижнем Лесном переулке по другую сторону храма Христа Спасителя. Это была десятая и предпоследняя квартира за 9 лет после нашего возвращения из-за границы. И в то же время она была первая коммунальная, что знаменовало дальнейшее наше снижение по лестнице общественного благополучия.
Квартирка в Нижнем Лесном помещалась на втором этаже. В ней было пять комнат. В четырёх жили дочери какого-то художника. Все без семей и каждая — отдельным хозяйством. Пятую комнату заняли мы. Она отапливалась соседской печкой, которая уголком выходила к нам. У соседки были дрова, и мы заключили договор, что я буду ежедневно топить печь за пользование этим уголком. Но он нас почти не грел и мы приобрели только что появившуюся новинку — «пчёлку». Она представляла собой железный цилиндр, вроде кастрюли, с отверстием для подкидывания чурок с одной стороны и патрубком — с другой. Купить её, установить и выпустить в окно трубы стоило очень дорого и было целой проблемой. Другой проблемой было приобретение одноручной пилы, разумеется, на барахолке, для напиливания чурок. Сырые дрова отчаянно дымили, дым шёл из топки и изо всех сочленений труб. Я вечно возился с глиной, замазывал и подмазывал щели. Топка печи и пчёлки отнимала у меня 2–3 часа в день. Зато я добился успеха: температура в комнате держалась в пределах +3 — +7°.
Маму снова позвали в Союз потребительских обществ на временную работу. Она в этот раз писала брошюру про роч-дэльских пионеров — родоначальников кооперативного движения[16], и ещё что-то редактировала.
До Центросоюза от нас было 9 вёрст. Трамваи перестали ходить; то ли весенние заносы перекрыли рельсы, то ли иссякли кондуктора и вагоновожатые, то ли электроэнергии не хватало. Мама так была истощена голодом, холодом и напряженной работой, что вскоре оказалась не в силах проходить 18 вёрст ежедневно. Ей пришлось ночевать на службе, на своём письменном столе. Я поневоле должен был отучаться от своей болезни одиночества.
Днём я не скучал. Ходил в школу за баландой, после школы мы со скаутом Колей Стефановичем, которого я перетянул в нашу школу, шли в вегетарианскую столовку на Арбате обедать. Там была добрая хозяйка, она же кассирша, которая нам ласково улыбалась и давала на отпускавшиеся родителями деньги щи и кашу. Через месяц денег было столько же, но цены росли стремительно и их хватало только на кашу, потом только на щи, потом только на стакан морковного чая. Пообедав таким образом, я шёл домой и принимался за войну с печками. Когда они, наконец, кончали дымить и накалялись, я принимался готовить ужин. Я обязательно хотел сытно накормить маму, когда она придёт, но, к сожалению, выбор блюд был довольно однообразен. Прошло блаженное время, когда я готовил форшмаки из картофельных очисток. Теперь все их сами съедали. Только два продукта выдали маме на службе за три месяца: полмешка петрушки и 10 фунтов канареечного семени. Из петрушки я готовил горький противный суп, из канареечного семени — кашу. Семя было обрушенное, но не отвеянное. Мельчайшие частицы шелухи невозможно было отделить от крупы. Сваренное семя по вкусу и консистенции напоминало оконную замазку, нашпигованную еловыми иглами. Несколько лет я мучился колитом после этой диеты. Был, положим ещё третий продукт, которого мама не ела — лошадиные кишки. А для меня они были очень выгодны. Вари их хоть с утра до вечера, в них не происходило никаких изменений. После этого можно было заложить кусок в рот и жевать целый день, как жевательную резину. Вроде зубы при деле и голод не так чувствуется.
Сваренный ужин я тщательно прятал в термос, т. е. в фанерный ящик, набитый газетами и обрезками старых валенок. Важно было сохранить его тёплым, ведь для мамы это была единственная еда за весь день.
Справившись с обедом, я начинал пилить тупой ножовкой чурки на завтра и накладывал их в ещё не остывшую печь, чтобы они немножко подсохли. Пчёлка моментально остывала, и много огорчений доставляло мытьё посуды холодной водой.
Через день поздно вечером приходила мама, и я испытывал большое удовольствие, видя, с какой радостью она ест мою стряпню.
Раз она предупредила меня, что у неё очень много срочной работы, и она не придёт домой три дня. Это было страшновато, но я бодрился.
В первый же день вышло приключение. Когда я пришёл из школы, соседок не было, но дверь изнутри была заперта на крючок. Очевидно, когда последняя уходившая хлопнула дверью, он упал и сам заперся. Я обдумал положение. Форточка в кухне не запиралась. Но как до неё добраться на втором этаже? Под окнами проходил карниз шириной в две ладони. Я снял шубку и открыл окно на лестничной площадке второго этажа, которое не было замазано. Вылез в него, встал на наклонный карниз и, прижимаясь к стене, начал потихоньку переступать по направлению к кухонному окну. Этот переход в несколько сажен показался мне вечностью, я уже начал замерзать, когда дошёл до окна и ухватился за раму.
На второй день вышел случай похуже. Из форточки и из щели под дверью валил густой дым. «Пожар!» мелькнуло у меня в уме. Когда я отпер двери, такая плотная волна дыма ударила мне в лицо, что я отскочил и закашлялся. Собравшись с духом, я ринулся в дымную тьму, стараясь не дышать, пробежал кухню, половину коридора, разглядел, что огонь и дым валят из печки, и от рези в глазах, от удушья снова выскочил на лестницу. Теперь я понял, что произошло: я положил подсушивать дрова в печь, а там ещё остался непогасший уголёк. Дрова загорелись при закрытой вьюшке. Я опять, пригибаясь, вбежал на кухню, где уже установилась тяга на лестницу через открытую дверь. Схватил ведро, набрал полное воды и выплеснул в печь. Как раз вовремя: головешки из топки падали на пол и он уже прогорел в нескольких местах.
Печь топилась из коридора, где стояли вещи четырёх сестёр, под них подлилась вода. Всё пришлось сдвигать и вытирать, потом выскабливать прожоги на полу, чтобы не так бросались в глаза. Потом растапливать печь непросушенными дровами, на что пошло очень много времени. К приходу соседей всё было в порядке, и, хотя я рассказал о происшествии (в квартире всё ещё пахло дымом и потолки закоптились), всё обошлось благополучно. С соседками у нас были хорошие отношения. Вообще я не помню, чтобы у мамы когда-нибудь с кем-нибудь были плохие отношения. Иногда она очень расходилась с людьми во взглядах, в привычках, спорила с ними, но всегда сохраняла при этом доброту и благожелательность.
Наступил третий день экзамена на мою самостоятельность. Всё шло хорошо. Дверь открылась, дым шёл в трубу, а не в комнату. Я решил маме сделать сюрприз: провернуть всю накопившуюся стирку. Для этого я не ходил в столовую и всё-таки провозился до ночи. Таз был мал, вода на пчёлке медленно нагревалась, полоскать под раковиной было мучительно — руки мёрзли. Протянул верёвки по комнате и развесил бельё.
Посреди ночи слышу, кто-то стучит в окно. Долго и упорно. Вор! Как он мог добраться до второго этажа? Привидение! Покойник! Вот не верь после этого в спиритизм! У меня застучали зубы, и мурашки забегали по спине. Преодолевая страх, я бросился к окну и отдёрнул занавеску. — Кто тут ломится? Сейчас застрелю, — закричал я, придавая голосу посильную басовитость.
В тусклом свете уличного фонаря я увидел кончик багра, плясавший у моего окна и постоянно стукавшийся в стекло. Отделение красноармейцев-связистов, как я подумал, тянуло линию полевого телефона, которым тогда была опутана вся Москва. А у меня в то время был драгоценный дар — два фунта конины, которые пожертвовала на моё пропитание одна знакомая тётенька. Я ещё не успел приступить к угощению и вывесил за форточку, как делали все хозяйки до изобретения холодильников. Крючок багра изловчился, зацепил конину, дёрнул…
— Караул, грабят, держи вора! — завопил я на всю улицу. В ответ раздался взрыв хохота и топот ног красноармейцев, убегавших с моей кониной. Когда на следующий день пришла мама, мне было, что́ ей порассказать.
Пришла ранняя бурная весна. Москва-река вскрылась и вздулась почти до уровня улиц. Тогда на ней не было водохранилищ, паводки не регулировались, и наводнения случались, нередко. Наш дом выходил задворками на Пречистенскую (ныне Кропоткинскую) набережную. Тем не менее я пошёл в школу. Когда я вернулся, двор был уже затоплен. Пробраться на лестницу можно было только по узкой полоске тротуара. Я вбежал в квартиру и подумал: «А если поднимется до второго этажа? Надо спасать имущество! Или здесь отсиживаться? А сколько времени? А как мама узнает о моей судьбе?» Но раздумывать было некогда, вода могла каждую минуту отрезать выход.
Я стал собирать ценности: семейные фотографии, мамины рукописи, канареечное семя в железной банке (от мышей), четыре серебряные ложки и, конечно, альбом с марками.
Всё это я навьючил на велосипед и, с трудом стащив его с лестницы, отправился в эвакуацию. Я поехал в Староконюшенный переулок, к маминой старинной знакомой — доброй старой Олимпиаде Ивановне, матери моего товарища Жени Зеленина. Еле-еле я ввёл перегруженный велосипед на гору к Остоженке (теперь Метростроевская улица). Далее влез на велосипед и поехал. Тут со звоном грохнулась о мостовую моя железная банка, подвешенная к рулю. Драгоценное канареечное семя — наша пища — рассыпалось по мостовой, выскочили из банки четыре ложки, которые сейчас же бросились подбирать мальчишки. Ложки-то я отстоял, а вот семя пришлось оставить на грязной улице, на радость воробьям.
Олимпиада тепло встретила беженца. От неё я позвонил маме на службу и всё ей объяснил. А наводнение-то дальше и не пошло. Вода постояла у нашего порога и стала спадать.
Я стал часто бывать у Серёжи Гершензона. Его отец уступил нам на несколько вечеров в неделю свой кабинет. Знаменитый пушкинист и философ, он отличался твёрдым характером и казался суровым, хотя был необычайно добрым человеком. Маленького роста, некрасивый, плешивый, близорукий, нос носил утюгом, всегда опоясанный очками. Мать Серёжи была полной противоположностью своему мужу. Из красивых бархатных глаз Марии Борисовны изливались доброта и внимание ко всем окружающим. А красива она была необыкновенно. Ростом выше мужа, волнистые волосы её в распущенном состоянии касались пола. Она очень любила своего мужа.
Михаил Осипович, благодаря своей литературно-критической деятельности, сохранил в трудные годы приличные условия жизни. Гершензоны занимали два верхних этажа в особняке на Арбате, в Никольском переулке, названном так в честь церкви Николы Плотника и переименованном теперь в порядке антирелигиозной пропаганды в Плотников. Кабинет помещался наверху в мезонине и на первых порах поразил нас своим учёным убранством. Книги громоздились до потолка на полках, стоявших по трем стенам из четырёх. Массивный резной письменный стол венчал такой же массивный чернильный прибор. Мне подумалось: посади меня за такой стол, пожалуй, и мне придут в голову какие-нибудь философские идеи.
Серёжа увлекался морским делом. У него были каталоги всех военных кораблей мира, и он мог по силуэту отличить английский крейсер от американского. Он знал все детали такелажа и мог без запинки объяснить. Что такое грот-бом-брамсель или крюс-брам-топ-штаг. У него даже были модели судов.
Серёжина сестрёнка Наташа была ещё мала. Курносая. Со стоявшими дыбом курчавыми волосами, она была похожа на негритёнка. Когда мы занимались, она резвилась в саду, всячески стараясь обратить на себя внимание: лазала по деревьям, подкидывала свой беретик так, что мы могли его поймать с балкона. Всё это вносило разнообразие в наши занятия. Но нам хотелось работать, а работы не было. Однако, с начала лета нам подвышало счастье.
Липовка
У Шушу был отец — Александр Иваныч Угримов. До революции он был председателем Императорского сельскохозяйственного общества. После революции он пошёл на работу в Наркомзем и был назначен директором семенного совхоза в бывшем имении графа Руперти «Липовка», расположенного в трёх верстах от станции Лианозово Савёловской ж.д. Он набирал рабочих из студентов. Образовалась целая артель: староста Галя Савицкая, дочь известного художника, её брат Андрей, дочь директора Верочка, «страшный» сердцеед с серыми грустными глазами Коля Фомичёв, поэтесса Вера Бутянина, милая скромная девушка Уленька и, самое главное, «моя» Маша, в семье известная как Машутка. Она была дочерью Бориса Ивановича Угримова, выдающегося электротехника, одного из авторов программы ГОЭЛРО. Она была принята в артель по блату, хотя далеко не достигала студенческого возраста. Правда, она была самой опытной из всех в сельскохозяйственных делах.
К нашей радости Александр Иванович, родной брат Бориса Ивановича, предложил нам с товарищами выехать в совхоз и образовать вторую вспомогательную артель. Мы с восторгом приняли предложение. Во-первых, это будет вроде колонии, во-вторых, вроде лагеря, в-третьих, мы будем работать и даже зарабатывать, в-четвёртых… А что в-четвертых, знал только я, и это было самым сильным аргументом за Липовку.
Я простудился, когда надо было выезжать, и не поехал со всеми. Через неделю Александр Иванович выехал за мной в двухместном кабриолете и персонально доставил меня к месту работы. Александр Иванович был высокий, статный мужчина, гладко выбритый, но при усах, носил клетчатую кепку, охотничью куртку, брюки-галифе, краги и стэк. Он уверенно правил кабриолетом, запряженным изящной гнедой кобылкой. Наступила ночь, взошла луна. Мы по узким просёлкам проезжали Останкино, Владыкино, утопавшие в яблоневом цвете. Переезжали какой-то арочный мост, и в воде колебался отблеск луны. Картина была изумительная, надежды — радужные. Вся холодная и голодная зима сразу вылетела из головы.
У Руперта была губа не дура. Он построил не дома, а трёхэтажный беломраморный дворец с двумя портиками, обнимавшими луг с цветником, перед которым простирался большой пруд с кувшинками. Терраса и крыльцо были украшены вазонами и статуями. Дворец был заперт, в окна можно было разглядеть дорогие картины и гобелены, покрывавшие стены. Дворец охранял сердитый сторож Давидзюк, служивший при графе и оставленный с заданием блюсти имущество до ухода большевиков.
В старом липовом парке тоже были статуи, закрытые дощатыми футлярами. При первом ознакомлении мы решили совершить «открытие памятников», которые, по нашему мнению, должны были служить народу, а не стоять в своих конурах. Словом, мы делали одно из «добрых дел», когда принялись раскачивать высоченный футляр. Наконец, он ударился о голову статуи. Доска вылетела и в отверстие высунулась голова дискобола. Мы испугались и бросились бежать.
За обедом, когда мы восседали за длинным столом под председательством жены Александра Ивановича, сохранившей внешность и замашки важной барыни, появился Давидзюк:
— Припадаю к Вашим стопам, Александр Иванович, в парке совершено безобразие.
Затем он припал к стопам Коли Фомичёва, у которого были маленькие ноги, и тщательно сравнил их с принесённой биркой. После этого перешёл к нам. Старая барская ищейка! Он измерил следы около Гладиатора и теперь пришёл устанавливать виновных. Александр Иванович тоже был не уверен в длительности существования советской власти и потому очень рассердился.
— И это называется хорошие ребята! Я не для того приглашал вас сюда, чтобы вы ломали имущество бывшего владельца, и т. д.
Мы раскаивались, обещали. Но на следующий день мы в молоко Давидзюка, которое он ставил на день в холодный подвал, насажали лягушек и даже одну жабу.
Однако надо было поднимать свою репутацию и всерьёз приниматься за работу. Техноруком совхоза и нашим непосредственным начальником был садовник — немец Василий Фёдорыч. Он был не стар, но очень строг и всегда требовал доброкачественного исполнения работы. Как будто он уже тогда предвосхитил пятилетку качества[17]. Он обладал одной особенностью: правая нога его не сгибалась, она торчала как палка и, когда Василий Фёдорыч ходил, он напоминал циркуль или землемерную сажень.
Первое дело, которое нам поручили, было подвязывание спаржи. Её была чёртова уйма. Работа была не трудная, но нудная. Очень болела спина, так как приходилось целый день стоять нагнувшись. У бабушки иногда подавали на третье спаржу под белым соусом. Мне она не очень нравилась, и кому же теперь она нужна была после революции, я ума не мог приложить. Потом каждый куст надо было обкладывать свежим навозом, чтобы стебли получались длинными, жирными, отполированными и приобретали аристократический вкус. Привычка небрезгливо брать в руки и мять навоз была очень полезна и вскоре мне пригодилась.
Как-то на работе у меня не оказалось ножа. Василий Фёдорович одолжил мне свой нежно-розовый, инкрустированный. Но предупредил, что это нож редкий, дорогой, привезённый из Германии. Я за него головой отвечаю. В углу огорода стояла гигантская бочка с прокисшей навозной жижей. Жижи там было — взрослому с головой. Вонь от неё разносилась на пол-огорода. Мы влезали на помост и зачёрпывали там лейками жижу, которой поливали спаржу. И надо же случиться, что я, нагибаясь над бочкой, уронил в неё священный ножик. У меня даже в глазах помутилось. Все в растерянности собрались вокруг меня и повторяли:
— Что теперь будет! Минут десять я не мог решиться. Наконец, разделся до трусов, «раза три перекрестился, бух в котёл…». Правда. Я не сварился, но одно стоило другого. Я на ощупь шарил по дну, но ничего не нашёл и вынырнул. Три раза я повторял попытки и, наконец, вышел победителем. Выскочив, я бросил ребятам нож, а сам пустился, что было сил, через весь парк к пруду и бросился в воду, благо тогда ещё не было закона об очистке стоков. Никто не узнал о происшествии, только Верочка Угримова, повстречавшаяся мне на дорожке парка, увидев мчащегося чертёнка с головы до ног в навозе, воскликнула:
— Господи помилуй!
Чем дальше в лес, тем больше дров. Следующая работа досталась нам на чердаке. На нём прямо в торфяной настил была высыпана фасоль самой разной формы и цвета. Её надо было выбрать и разделить на 8 сортов. Крыша чердака раскалялась на солнце, жара была невообразимая, от малейшего прикосновения торфяная пыль поднималась столбом. Мы завязывали себе рот и нос платками. В этой обстановке мы должны были 6 часов в день выкапывать из торфяной кроши по зёрнышку и раскладывать в мешки. Уже через два часа у нас разболевались головы, 6 часов невозможно было выдержать.
Но настоящее испытание наступило в оранжерее. Там выращивалась сверхранняя клубника, которая поступала на высокопоставленные столы. Её тоже нужно было поливать навозной жижей. Лейки были полутораведёрные. Клубника росла ступенями под стеклянной крышей оранжереи, залезть туда с лейкой было невозможно. Клубника требовала стандартной температуры 50°. Мы работали в паре с Колей Стефановичем. По очереди один из нас поднимал над головой лейку, нередко выплёскивая значительную часть себе за шиворот, другой наверху принимал лейку и, согнувшись в три погибели, почти лёжа, полз по полке и поливал ящики с клубникой.
После оранжереи наступила эпоха капустной рассады. Она была посеяна в глубинах парников. Теперь её надо было выкапывать и рассаживать опять-таки в парники. Приходилось целый день лежать поперек живота на срубе парника головой вниз. От этого у некоторых случался «Friedrich heraus». Но всё же после чердака и оранжереи эта работа казалась нам отдыхом.
Были и совсем лёгкие работы, например, ворошить сено, поливать гряды, высаживать капусту на поле. Но когда наступил конец июля, та же капуста доставила нам множество хлопот. На ней молниеносно заводились гусеницы капустницы, штук по 15–20 на каждом листе. Они выстраивались рядами как солдаты и шли в атаку, после которой от листа оставалась только сеть прожилок. А капуста уже завивалась, и добраться до гусениц в кочежке было нелёгким делом. Нам велели выстругать по тонкой палочке вроде тех, которыми пользуются врачи, когда хотят, чтобы пациент сказал «а-а-а», и этими палочками давить гусениц. Пестициды ещё не были изобретены. Сначала дело казалось немудрёным, но через час-другой начинало мутить от тысяч раздавленных и извивающихся червяков. Я высчитал, перемножил среднее число червяков на листе, на число заражённых листьев на кочне, на число кочнов в борозде и на число борозд, которые каждый из нас обрабатывал за рабочее время, что в среднем мы давили по 16 000 гусениц в день. Этим аппетитным делом мы занимались недели две.
Праздником бывали дежурства по молоку, на которое каждый день назначались два скаута. За молоком на всю братию ездили в соседний большой совхоз Вешки. В Вешках, пока наливали молоко, мы любовались на племенных быков Руслана и Коханека, напоминавших ассирийских богов и получавших премии на всех выставках, а барышни из студенческой артели, которые всегда пытались к нам примазаться, любовались также на управляющего совхозом Валяйфа, могучего красавца-мужчину, по экстерьеру не уступавшего своим быкам.
Всё было бы очень весело, если бы не наши лошади. Лошадей Липовка получала с фронта контуженных, рехнувшихся. У всех был свой бзик — одну невозможно было сдвинуть с места, другая дёргала сразу и мчалась, как будто за ней медведь гнался, третья всё время сворачивала в правую сторону и вертелась на месте. Нам обычно давали Слона — самого сумасшедшего. Частенько он нас разносил на лесной дороге и сбрасывал бидоны. Однажды Василий Фёдорович, раздосадованный нашими неудачами, взялся нам показать, как справляться со Слоном. Но и его Слон разнёс. Бедный, он катался в телеге, а по нему катались бидоны. Покой он обрёл, только очутившись в придорожной канаве. Поэтесса Варя Бутягина сочинила про этот случай прекрасную поэму, из которой помню слова:
Я скажу в высоком слоге: Лишь отъехав два шага, Из канавы при дороге Как маяк торчит нога.Студенты делали более трудные и интересные работы: пахали, косили, возили и копнили сено. Я умирал от зависти, видя, как Машурка целые дни разъезжает на рондале или на конных граблях. Из нас к этим чудесам техники допускался только Коля Эльбе.
У нас всё же оставались свободные вечера и воскресенья, которые мы посвящали по преимуществу экскурсиям и топографической съёмке. Мы исходили все окрестности, доходили до заброшенного имения Вогау, где любили влезать на полуразрушенную водонапорную башню, которая трещала и скрипела всеми ржавыми железными и деревянными частями.
Когда Коля научил нас полуглазомерной съёмке, я прямо-таки влюбился в это занятие. Это была самая настоящая география! И как замечательно, когда в результате съёмки у меня на планшете вырисовывалась речка, вытекавшая из пруда, со всеми её излучинами, и болотце, и долина, и группы деревьев по краям. Я любовался на свой план, словно это была картина Боттичелли.
Коля научил нас также измерять высоту деревьев, ширину реки, вообще расстояния до недоступного предмета. Пользуясь законами геометрии, мы сперва определяли расстояние на глаз, а потом проверяли глазомер измерением. Этим увлекательным занятием мы могли заниматься целыми часами.
Но, конечно, главным удовольствием было купанье. В Липовке я впервые научился как следует плавать и сажёнками, и по-лягушачьи, и на спинке. А через месяц я уже прыгал с крыши купальни и мог плыть под водой, пока хватало воздуха.
Машурка часто уходила в лес одна. Мы заметили, что она берет с собой нож, но возвращается без грибов. Что она там делает? Пошли в ход самые необузданные предположения. Договорились до того, что она по совместительству с работой в совхозе является атаманом разбойников. Ведь была же она атаманом мальчишек в своём классе. Решили выследить. Долго крались за ней, как полагается юным разведчикам. Она пришла в лес к куче нарезанных ивовых прутьев и принялась плести корзину. Наши гипотезы не подтвердились, просто Машурка дала обет выучиться плетению корзин. Тогда мы решили ей продемонстрировать политику силы. Обсудив план кампании, мы стали подкрадываться к ней с разных сторон. Применяя все тонкости разведки, мы приблизились к ней метров на 10, не будучи замеченными, и сразу выскочили и схватили её. Вшестером мы легко её одолели и связали ей руки. Выполнив боевое задание, мы её отпустили и попросили показать нам, как плести корзины. Машурка не очень испугалась нападения, так как давно заметила преследователей и посмеивалась про себя над нашими ухищрениями.
Мы придавали особое значение нашей победе, так как Машурка была личностью легендарной. Шушу, который раньше жил с ней в имении отца, рассказывал, что она вечно проводила время в обществе охотничьих собак и лошадей, лихо скакала верхом без седла и была грозой деревенских мальчишек. Когда они забирались в господский сад за яблоками, она ловила их, спускала штаны и порола крапивой. У нас даже в поговорку вошло: «Эх, Машурки на тебя нету!»
Однажды Шушу проиграл ей пари (at discretion[18]). Машурка потребовала, чтобы он поцеловал ей руку. Он не мог снести такого унижения и отказался. Тогда она пыталась его заставить: связала ему руки, совала ему свою руку под нос, но он плевался, кусался, и поцелуя она не добилась. «Господи, какой дурак, — думал я, — хоть бы меня кто заставил! Я бы не стал кобениться, сто раз бы поцеловал». Но вот поди ж ты, никто меня не заставлял. Не мог же я по доброй воле вот так подойти и поцеловать руку.
Шушу рассказал мне, что два года назад Машурка устроила мне хорошенький розыгрыш. В тот день, когда я, любя, ткнул её пинцетом, она не приготовила немецкий, но предполагала, что её могут спросить. Поэтому она пустяковый ушиб изобразила как серьёзное ранение и получила несколько дней отдыха от школы. Заодно заставила меня мучиться раскаянием.
Несмотря на это мои отношения с Машуркой развивались успешно, то есть я завёл дневник, в котором пунктуально записывал все свои мечты, относящиеся к этому делу. Там всё было предусмотрено: и когда мы поженимся, и как заведём себе хуторок, и план усадьбы и план дома (иллюстрации к дневнику в масштабе 1:100), и сколько у нас будет детей, и как мы их назовём, и сколько будет лошадей и коров, и какие у них будут клички, и какой будет на поле севооборот. Я очень боялся, что кто-нибудь прочитает дневник и, кроме обычной надписи «Полагаюсь на Вашу честность», гарантировал себя сокрытием его под тюфяк. Я всячески скрывал свои чувства, хотя Маша не раз ловила мои взгляды, полные обожания, и откровенно потешалась надо мной. Ну, что же делать, взгляды Коли Эльбе, бросаемые им на Уленьку, были куда более красноречивы.
Хозяйственный двор располагался саженях в двухстах от барского дома. На нём были дом садовника, квартиры и кухни рабочих, сараи, конюшни и собачник. Последний отремонтировали, и в нём жил Александр Иваныч с женой, мы и помещалась столовая. Несмотря на ремонт, помещение всё-таки больше подходило для охотничьих псов, чем для людей. Окошки были маленькие и располагались под самым потолком. Мы пожили там немного и предпочли перебраться на чердак. Там по вечерам мы устраивали возню или рассказывали страшные истории или дружно тискали и дразнили Шушу, который, хоть и директорский сын, был самым младшим из нас, самым капризным и казался придурковатым. Мы, конечно, мучили его не до смерти и с весёлым настроением. Он был незлобив и не жаловался родителям.
Наши мирные забавы на чердаке были нарушены спиритическими сеансами, которые устраивали студенты внизу под нами. «Тук ту-ту-ту-ту» — доносились до нас удары ножки стола, и зубы у нас начинали стучать в такт. Большинство из нас не верило в духов и в загробную жизнь, например, Серёжа Гершензон. Однако как тут не верить, когда стол подпрыгивал сам собой, и его дребезжание явственно доносилось до нас. И материалист Серёжа залезал с головой под одеяло и там скрючивался комочком, спасаясь от явления, которого не должно было бы быть. Что касается меня, то я помнил объяснения мамы и считал, что «здесь что-то есть», что всё, что есть — естественно и бояться тут нечего, но и у меня, вопреки логике, мороз подирал по коже, особенно если учесть, что по чердаку порхали летучие мыши. «А ведь покойник-то, ему ничего не стоит пройти через потолок и материализоваться. Вон там, где стропила сходятся с переводинами, кажется, что-то уже светится».
Кроме спиритических сеансов молодёжь часто устраивала литературные посиделки, где читали свои стихи Варя Бутягина и другие, менее искушённые в поэзии товарищи. Потом пели под мандолину, на которой играла староста Галя Савицкая, и просто болтали всякую чепуху. Мы с удовольствием посещали эти вечера в качестве слушателей, а я так вдохновился примером старших, что даже написал предурацкую сатирическую поэму про Верочку Угримову, которую, к счастью, не решился никому прочитать.
Кормили нас хорошо. После Москвы я отъедался. Не говоря уже о бутылке отличного молока в день, давали вдосталь каши, преимущественно чечевичной, и щи, иногда мясные с пшённой крупой. Замечательно было то, что нам ещё платили не то 370 рублей, не то 370 тысяч в месяц, а за харчи вычитали 380, так что родителям приходилось за нас доплачивать только по десятке. Я очень гордился тем, что помогаю маме. И, действительно, если бы не Липовка, маме совершенно не на что было бы меня содержать. Летом лекций не было, она была без работы и без денег.
Пока я был в Липовке, мама сняла крохотную комнатку в соседнем селе Алтуфьево, чтобы иногда видеть меня. Я приходил к ней по воскресеньям и приносил миску сэкономленной чечевичной каши. Кроме этих приношений она питалась одной травой. Она прочитала про аналогичный опыт Репина и решила, что это вполне подходит к её обстоятельствам. Только она не знала, какие травки съедобные, и пробовала все подряд, доходя до правильных решений путём проб и ошибок. В деревне её считали блаженной и удивлялись, как она ещё ноги носит.
— Лучше бы милостыньку просила, — рассуждали крестьяне.
В начале августа в системе финансирования совхоза что-то испортилось, и Александр Иваныч вынужден был нас всех уволить. Мы уезжали с сожалением, сохраняя воспоминания об отлично проведённом лете. Впрочем, нас радовало то, что мы поддержали свою репутацию и в общем наша работа не принесла совхозу убытков.
Архангельское
Занятия в том году начинались 1-го октября. Мама не могла придумать, куда бы меня пристроить на оставшиеся два месяца. Она узнала, что 59-я школа выехала в колонию, в знаменитое имение Юсупова Архангельское, и что опоздавшие ученики ещё могут быть туда приняты. В той же школе учился последний год Коля Стефанович. Поэтому после Липовки мы с ним навострили лыжи в Архангельское.
Архангельское было привилегированное место, куда пускали только великокняжеские школы, вроде нашей. Перед дворцом, много раз описанным в путеводителях, бледнел даже дворец Руперти. Перед ним простирались три пруда, соединявшиеся друг с другом узкими проливами, через которые были перекинуты арочные мосты. На среднем пруду по самой середине на сваях был устроен домик для лебедей. Самих лебедей к тому времени уже съели.
На берегу первого пруда стоял ряд дач, из которых одна, называвшаяся Вальковка, была резиденцией нашей колонии. Однако все колонисты там не помещались, и два старших класса жили в театральном здании, стоявшем в полуверсте от Вальковки и носившем странное название Каприз. Говорят, оно было построено одним из Юсуповых в угоду его капризной жене.
В колонии было хорошо, но без работы немного скучно. Мы выдумывали себе всевозможные занятия: часами купались, ловили ужей, которых в Архангельском было множество и, забрасывая их в воду, любовались, как быстро они плывут, вертикально высунув головку, сами соревновались в прыжках в воду с моста высотой 2 сажени. Растащив приготовленную для какой-то постройки кучу брёвен, занялись изготовлением водяных лыж, не таких, на которых теперь гоняют спортсмены, а вроде катамаранов, с маленьким ящичком для сидения над водой. Таких лыж мы построили целую флотилию.
Вообще мы жили преимущественно на воде. Даже к зубному врачу мы с Лёнькой Самбакиным ездили через все три пруда на лодке. После сеанса сверления отвозили тем же путём молоденькую врачиху к нам на Вальковку обедать. Потом возили её назад. Это занимало часа четыре в день.
В 4-х верстах за Архангельским было имение Михайловское. Там помещался дом отдыха Совнаркома, и там отдыхала вся семья Троцких. Однажды, приехав к зубихе (зубному врачу), мы увидели машину Троцких, стоящую рядом, около управления дворцом, очевидно, остановившуюся по дороге в Михайловское. Около неё крутились оба парня. Они наблюдали нашу высадку, показывали нам языки и грозили кулаками. Когда мы вышли с зубихой, они всё ещё были здесь. По их ехидным рожам мы поняли, что они сотворили какую-то пакость. Действительно, лодка была пробита колом и почти затоплена. Весла и уключины исчезли. На нас были только трусы да кепки. Мы вошли в воду и долго ходили по дну, прежде чем нащупали уключины. Вёсла оказались заброшены в тростники. С полчаса мы отчёрпывали лодку и затыкали дыру кепками. Зубиха уже хотела идти пешком, но мы её отговорили. Посадили барышню на заднюю скамейку и стали грести враспашную. Проехали первый пруд. Вода, проникая через кепки, заполнила лодку на четверть. Барышня в туфельках подобрала ноги на сидение.
— Может быть, мне лучше сойти у моста?
— Не беспокойтесь, мы вас доставим по первому разряду.
У второго моста лодка наполнилась наполовину. Зубиха села на спинку сиденья, но туфельки всё равно черпали воду.
— Мальчики, я решительно здесь схожу.
— Ни в коем случае. Осталось совсем немного. Чтобы вам не пришлось ходить пешком, это для нас вопрос чести.
Мы надрывались из последних сил. Мы гребли уже полчаса, а лодка становилась всё тяжелей. Словно черти тянули её в обратную сторону. Саженях в пяти от берега она зачерпнула правым бортом и пошла ко дну. Мы повыскакали как лягушки, а зубиха, не умевшая плавать и к тому же в полной одежде и в туфельках, отчаянно забарахталась и завизжала. Освобождённая от пассажиров лодка всплыла вверх дном. Мы подтянули лодку к зубихе и помогли ей ухватиться за руль. Затем мы вплавь подбуксировали их обеих к пристани. Я с тех пор причисляю себя к жертвам троцкизма.
Второе приключение, также на воде, носило вполне беспартийный характер. Однажды вечером Зинаида Аполлоновна объявила: — Дети, напоминаю, после ужина разрешается играть только во дворе. Ни в коем случае на пруд не ходить!
Я, пошептавшись с двумя девочками — Соней и Мариной, решил предпринять прогулку на водяных лыжах. Мы вылезли через дырку в заборе на заднем конце двора, взяли три пары лыж и поехали. Проехали под первым мостом, выехали на второй круглый пруд. Мирно разговаривали. Моё отношение к девочкам к тому времени изменилось, и дамское общество настраивало меня на размягчено-мечтательный лад. Вдруг на берегу появилась компания пьяных человек в 15. Они играли на гармошке, орали песни весьма похабного свойства и соответственно выражались.
— Эй, вы, подплывайте к берегу! Малого мы сразу утопим, а девочек немного попозже.
Мы стали судорожно грести от берега. Тогда в нас полетели булыжники из куч, приготовленных для прокладки шоссе. Один булыжник просвистел мимо самого моего уха, другой ударился в лыжи Марины, лыжи качнулись и Марина шлёпнулась в воду. Я помог ей вылезти. Она дрожала и истерически рыдала. Под градом камней мы всё-таки ушли из-под обстрела. Хулиганы разошлись по берегам пруда и организовали правильную блокаду, нигде не давая нам пристать. Тогда мы укрылись в центре на лебедином острове. Осаждавшие с ругательствами и проклятиями искали средства, как нас достать. Вдруг они наткнулись на единственную лодку, которая была на пруду. Они принялись сбивать ржавый замок. Через 5 минут дело было сделано, и часть компании полезла в лодку. Марина билась в истерике, благоразумная Соня её успокаивала, а у самой зубы стучали, я отчаянно соображал, что же делать. Может быть, лучше самим утопиться?
В это время на мосту со стороны Вальковки появилось какое-то пятно, неразличимое в темноте.
— Эй, кто там хулиганит? Бери их, окружай! Ваня, ты взял ружьё?
Голосов было много, и парни, спьяну, видно не различили ребячьи интонации. Они бросились удирать, отчаянно чертыхаясь, и через несколько минут поле боя было очищено без единого выстрела. Когда мы высадились, на берегу стояла Зинапа и с ней человек 30 колонистов, большей частью мелюзги из младших классов. Кто-то, гуляя у пруда, сообщил ей, что «наших собираются топить», и она, собрав наличные подкрепления и велев им кричать погромче и по возможности басом, бесстрашно вышла на наше спасение.
— Нет, но теперь ты понял, почему я запрещаю плавать на лыжах по вечерам? — спросила она меня.
— Понял, Зинаида Аполлоновна.
— Но ты раскаиваешься в своём поступке?
— Раскаиваюсь.
— Нет, но ты искренне раскаиваешься («Вот пристала!»).
— Искренне.
Я, конечно, сознавал, что она нас спасла, и был ей благодарен. Но в то же время я злился на неё за то, что я должен быть благодарен именно ей, такой зануде. И я действительно выдержал характер и целые три дня не убегал на пруд после ужина.
Хотя мы прилично питались, почему-то почти у всех были фурункулы. Говорили, что земля в Архангельском заражена фурункулёзом, а мы все ходим босиком и раним ноги. Помню, как мы с Колей Стефановичем дежурили по молоку в сентябре, в 7 утра прыгали по лужам, захваченным первыми заморозками, и жжение ледка на голых пятках сливались с ноющей болью нарывов. Они у меня высыпали по всему телу, и я насчитывал их более сотни, включая чирушки, похожие на молодые грибки с круглыми шляпками, только что вылезающие на свет божий. Они меня преследовали после этого много лет, пока умная докторша не проделала надо мной глупую операцию: взяла кровь из моей вены и вкатила её мне же обратно в другое место. До сих пор не понимаю, какой в этом смысл, но знаю, что это называется аутогемотерапией и что после этого фурункулы как ветром сдуло.
В самом непривлекательном виде, с руками и ногами, повязанными грязными бинтами, я шёл в гнездо Троцких, в правительственный дом отдыха Михайловское, чтобы повидать свою легендарную двоюродную тётушку Инессу Арманд. У меня было к ней ответственное поручение от мамы. Она меня приняла очень ласково и сказала, что погорит с мамой о деле сама.
Я, идя назад и скучая о Машурке Угримовой, напевал себе под нос, незаметно для себя, привязавшийся откуда-то ко мне мотивчик. Вероятно, это случалось со мной не раз:
«Кого-то нет, кого-то жаль, Куда-то сердце рвётся вдаль. Я вам скажу один секрет: Кого люблю, того здесь нет».И я был неприятно поражён, когда девочки подняли меня на смех:
— Знаем, кого тебе не хватает, — Маши Угримовой.
Откуда они узнали про мои сокровенные чувства? Ведь никто из них даже в Липовке не был. Вот уж, действительно, нет ничего тайного, что не стало бы явным.
Сентябрь прошёл, колония закрылась. Кончилась последняя глава, которую ещё можно относить к моему детству.
ЮНОСТЬ (1921–1925) Колония
Увертюра
К осени 1919 года мамины взгляды на жизнь и её собственную роль в жизни окончательно сложились. Сравнивая жизнь при царском, временном и советском правительстве, она пришла к выводу, что счастье людей зависит от их нравственных качеств, от доброго отношения друг к другу, от готовности трудиться и приносить жертвы для общего блага. Конечно, материальные условия тоже существенны, но они не главное, между ними и счастьем нет прямой зависимости. Недаром принципы счастливой, дружной жизни бедняков и взаимной вражды, алчности, страха богачей потерять своё имущество стали прописной истиной и вошли в фольклор всех народов.
Борьба партий показалась ей мелкой, вернее, направленной мимо главной цели. Победивший большевизм тоже заботился не о том, о чём надо. Правда, он ещё очень далёк от того, чтобы подарить всем зажиточную жизнь, наоборот, народ обнищал и терпит небывалые лишения, но все стремления советской власти, все её надежды, её посулы и обещания направлены на материальное благополучие. О благополучии нравственном упоминается лишь как о культурном росте, о развитии всех способностей народа, причём предполагается, что эти качества придут сами собой, автоматически, вместе с богатством. Когда всякий советский гражданин будет обеспечен, ему ничего не останется, как стать отзывчивым, щедрым, великодушным.
«Ох, хлебнут они горя со своими материалистическими установками, если достигнут поставленных целей», — думала мама. И она как в воду глядела! Расцвет коррупции, стяжательства, бюрократизма, пьянства, какого мы достигли через 60 лет, в эпоху всеобщего материального подъёма, и беспомощность официальных блюстителей нравственности в поисках средств борьбы с этими бедствиями, показывают на её исключительную прозорливость.
«Что же делать?» — рассуждала мама. И отвечала: «Надо воспитывать народ в духе братства, любви, взаимопомощи, заботы о близком и обо всём живом». Ей возражали: «Но ведь нужны и другие качества — боевитость, мужество, уменье постоять за себя, отстоять своё место в жизни». — «Нет, отвечала она, мужество для защиты слабых входит в понятие взаимопомощи. Что касается уменья постоять за себя и проч., то сейчас в этом нет недостатка, этому обучают везде и пропагандируют на страницах печати. Воспитывать надо те свойства, которые упускаются из вида, или не признаются официальной идеологией и педагогикой. Это наш долг». Наш — подразумевалось педагогов из числа теософов, а также всех интеллигентов, родственных по духу, то есть тех, кто признавал, что моральное состояние народа важнее, чем материальное.
Воспитывать, мама решила, надо с детского возраста. Ребята в большей степени восприимчивы к доброму семени, чем взрослые, уже втянутые в жизненную борьбу. И школа является той естественной формой организации, которая создана для воспитания людей. Правда, обидно упускать нынешнее поколение людей. Когда ещё вступят в жизнь и начнут на неё влиять теперешние дети! Но надо браться за задачи посильные и надо иметь терпение смотреть на вещи в исторической перспективе. Если ей удастся воспитать человек 100 ребят, если, выросши, половина из них последует по её пути, станут педагогами и воспитают в духе любви и братства ещё по 100 человек… и так в геометрической прогрессии, то через несколько поколений они станут весомым фактором общественного развития. К тому же пример её учеников заразит других педагогов, возникнут новые ячейки… Стратегический план был создан на столетия. Жизнь показала, что осуществление его ещё гораздо сложнее, чем думалось. Но я уверен, что в какой-то мере он всё же сыграл свою роль и хоть косвенными, извилистыми, неожиданными путями, хоть и в малой степени, как струйка, но повлиял на жизнь в задуманном направлении.
Как всегда, для мамы обдумать значило решить, а решить — значило начать действовать. Она наметила создать школу с интернатом, детский дом II ступени, т. е. начиная с 4-го класса, преимущественно в сельской местности, колонию, как тогда это называлось.
В это время известный педагог и врач профессор П. П. Кащенко организовывал курсы по детской дефективности. Курсы должны были состоять при его санатории и готовить педагогов для воспитания умственно неполноценных детей. На курсах нужен был секретарь, и мама предложила свои услуги. Хотя дефективные дети в её планы не входили, но всё же это был шаг по направлению к педагогике, во-вторых, мама надеялась поискать среди курсантов сотрудников для своей будущей колонии, в-третьих, у Кащенко она получала какое-то минимальное обеспечение и некоторое свободное время, чтобы заниматься организацией колонии. Наконец, Кащенко предлагал ей казённую квартиру около службы, что было по сравнению с Центросоюзом великим благом.
Завучем был назначен некий Валериан Иваныч (не вспомню фамилии), старинный мамин знакомый и опытный педагог, читавший на курсах ряд предметов. Мне он запомнился как тактичный и очень аккуратный мужчина в круглых очках.
Мы с мамой в последний раз в нашей совместной (но, увы, не последний в моей собственной) жизни переменили московскую квартиру. На сей раз мы поселились в Большом Саввинском переулке недалеко от Новодевичьего монастыря, на краю парка, посреди которого стоял большой дом санатория Кащенко с аудиторией для курсов. Эта последняя обитель представляла избушку из двух комнат, одна проходная, и терраски, одним словом, особняк. Рядом был другой деревянный дом, побольше, где, как сельди в бочке, жили мамины курсанты — всё молодые ребята из провинции, в большинстве женского пола.
Что касается меня, то я оказался на положении вольноотпущенного. Мы с мамой решили, что ходить в школу в этом году не стоит. Нашу школу слили с Алфёровской женской гимназией на Плющихе, где ещё во время оно училась тётя Женя. Учения и прошлый год не было, а здесь, когда слились два коллектива, привыкшие работать по совершенно разным принципам, его вовсе не получится. Я позанимаюсь по учебникам 5-го класса самостоятельно, а к будущему году у нас будет своя колония и тогда дело пойдёт!
Я стал заниматься сам, хотя не столь усердно, как следовало бы, ибо вскоре обнаружил, что для такого рода занятий мало головы на плечах, нужна ещё сила воли. Уж чем-чем, а этим я похвастаться не мог.
Я познакомился с курсантами, что естественно, так как, если Валериан Иванович был головой курсов, то мама их душой. Она участливо входила в жизненные обстоятельства каждого студента и всем делилась со мной. Я даже раз пошёл на их лекцию. Она показалась мне интересной. Я не всё понимал, но с вниманием и сочувствием глядел на дефективных ребятишек, которых приводили туда на демонстрацию и задавали им всякие глупые вопросы, на которые они не всегда могли ответить. Я зачастил на лекции.
Однажды читал сам Кащенко. Я скромно сидел сзади, прячась за студентов. Когда дошло до демонстрации, оказалось, что очередного дефективного почему-то не привели из стационара. Кащенко нервничал, ходил взад-вперед перед аудиторией. Вдруг он заметил меня.
— А это что там за малыш прячется?
— Это не малыш, это сын Лидии Марьяновны, ему уже 14 лет.
— Ничего, на худой конец сойдёт. Подойди-ка сюда, мальчик!
Я вышел красный как рак и пошёл на авансцену, проклиная свою судьбу. Ещё бы! Из слушателя внезапно превратиться в подопытного кролика. Хоть кому не понравится.
Я отвечал на вопросы вроде, сколько будет дважды два, проставлял в каких-то таблицах крестики и нолики, демонстрировал своё уменье вычертить на доске квадрат. Я успешно справился со всеми задачами, предназначавшимися для 8-летних дефективных детей. Наконец профессор со вздохом отпустил меня.
— Безнадёжно нормальный ребёнок. Никаких признаков имбецилика (слабая степень психического недомогания) или дебилика (врождённое слабоумие). Но, во всяком случае, на нём вы ознакомились с методикой постановки тестов.
Грянули морозы, и злобой дня вновь стало отопление. На дровяных складах было — хоть шаром покати. Там стояли очереди с какими-то талонами, выдававшимися только на предприятиях. Они ловили и растаскивал по салазкам всякую появлявшуюся с дровами подводу. Кашенкин завхоз отказал нам в топливе.
— Детям не хватает.
— Как же нам быть?
— Ухитряйтесь!
На другой день я ухитрился сломать на террасе перила. Потом на неделю хватило их палочек, тех самых, на которые запрещено было смотреть монахам, потому что они напоминают женские ноги. Когда и они были сожжены, в дело пошли половицы, которых могло бы хватить на ползимы. Но на третий месяц на этом деле меня застукал завхоз. Он страшно ругался.
— Вы ж сами велели ухитряться. Вот я и…
— Я не велел тебе казённые постройки ломать. Дом разнесёшь, где жить будешь?
Пришлось поискать в другом направлении. Однажды, бродя с топором по переулкам в надежде, где бы отломать, я увидел покинутый жильцами деревянный дом, над которым трудились несколько человек. Один обдирал с крыши железо, другой багром тащил обрешетники, третий топором крушил рамы.
— Дяденька, можно взять дощечку? — робко обратился я к дюжему малому.
— А ты сперва отломай сам, потом и бери. Ишь, какой иждивенец нашёлся. Дощечек ему наготовить!
— А ломать-то не попадёт?
— Смотри, чтоб бревном по голове не попало. Больше ни от кого не попадёт.
— А милиция?
— Она этот дом на шарап выдала. Вымороженный он.
Тут только я понял, что ломавшие были не рабочими, а такими же самозаготовителями, как я. У меня даже голова закружилась от радости. Ведь надо же: какая уйма дров!
Я влез на крышу. Мы быстро справились с обрешетинами, потом повалили стропила, порядком повозились с переводинами. Потом венец за венцом принялись разбирать стены. В жизни мне не приходилось делать такую весёлую, творческую работу! Мы уже давно наломали больше, чем могли увезти, но вошли в азарт. Народ слетался, как мухи на падаль. Я сбегал за салазками и нагрузил так, что едва мог сдвинуть с места. Потом ещё и ещё, и так до позднего вечера. Вот когда я понял справедливость лозунга, что труд при коммунизме должен стать потребностью!
На другой день прикончили стены, и я отвёз к себе четверо салазок. На третий день ломали половицы и народу было столько, что я едва урвал себе две штуки. Старухи и девчонки хватали из-под рук щепки и совали их в мешки. Фундамент, к сожалению, был кирпичный. С домиком было покончено, но я обеспечил нас дровами почти до весны. Не то, чтобы у нас было тепло, но ниже +10 °C не опускалось.
Иногда ко мне заходили старые товарищи: Коля Краевский, Коля Стефанович… Мы тогда менялись марками, смотрели книжки и некоторые, оставшиеся у меня от времени бабушки и дедушки, диковинные вещи.
Раз мы с Колей Краевским разглядывали в имевшийся у меня детский микроскоп, увеличивающий в 80 раз, всякую всячину: волос, семячко, хлебную крошку.
— Вот бы какое-нибудь насекомое посмотреть, — сказал Коля, — небось, и страшилище было бы. Да где его сейчас зимой взять! — Ничего не может быть проще, — возразил я и, взяв гребешок, чесанул свою лохматую шевелюру. Вывалилась здоровенная вошь. Коля взглянул на меня со страхом, но, как мне показалось, и с некоторым уважением. «Вот, дескать, какой ловкач, всё-то у него под руками». Вошь, действительно, на предметном стёклышке выглядела великолепно: страшнее мокрицы — с раскоряченными лапами, щетинками и жвалами, которыми она меня ела. Я сам удивился: как это я мог выдержать борьбу с таким страшным врагом?
Товарищи рассказывали мне, что делается в Алфёровке. Дела были удивительные. В старшем классе учился большой красивый и, казалось, спокойный парень Митя Михайлов. У него был всем известный роман с его одноклассницей — Олей Горбуновой, дочерью известного издателя и просветителя И. И. Горбунова-Посадова. И вот, то ли в связи с этим романом, то ли от мыслей о смысле жизни, он однажды влез на крышу пятиэтажной школы и сиганул оттуда на булыжную мостовую. Он сломал себе руку, обе ноги, штук пять рёбер, переносицу, проломил череп, одним словом всё, что можно было сломать и… остался жив. Врачи его буквально из частиц собрали. Школа долго жила этим событием.
Пришла и другая новость, больно меня поразившая. Наш патруль скаутов самораспустился, хотя мы продолжали считать себя скаутами и старались соблюдать скаутские законы и обычаи. Но не так поступили некоторые другие нелегальные патрули. Доходили слухи о некоем 16-летнем парне, якобы великом энтузиасте, но не лишённом духа мальчишества и авантюризма, который собрал вокруг себя группу скаутов, афишировал свою деятельность и похвалялся чуть ли не восстановить движение во всероссийском масштабе, во всяком случае, во всемосковском. К весне его арестовали и вместе с ним большую группу скаутов. Села по этому делу и Машурка, которой тогда было 15 лет. Она долго сидела, потом вышла. Не знаю, что стало с их вождём.
Я много времени проводил в очередях за продуктами, которые продавались по карточкам. Иногда я заходил к папе. После этого меня всегда долго не покидало грустное настроение. Денег у них не было. Двухлетняя Ира требовала питания и внимания. Тамара перепилила папу, что он не может достаточно заработать, в то время как у неё руки связаны ребёнком. Папа метался по редакциям, искал каких-нибудь переводов и, если ему давали статью, сидел над ней часами, исписывая страницы своим непонятным колючим почерком. Он всегда увлекался любой темой и, когда я приходил, он излагал с большим волнением какую-нибудь новую теорию, будь то из экономики, астрономии или биологии.
Тем временем подготовка колонии подвигалась вперёд[19]. С декабря месяца мама начала сколачивать коллектив. Екатерина Николаевна Чехова, Варвара Петровна Иевлева и сама руководительница Теософического общества, Софья Владимировна Терье согласились быть преподавателями.
Из нетеософов идеей такой школы загорелись Валериан Иванович и муж и жена Касаткины, старинные мамины знакомые.
Будущие педагоги собирались у нас каждый понедельник и разрабатывали общие принципы колонии и учебные программы. На принципах быстро сошлись: трудовое воспитание, самоуправление, доверие, дух братства между учениками и учителями. Цель: «Помочь подросткам… выработать из себя людей, для которых жизнь есть храм и мастерская, причём в Храме они должны себя чувствовать и сопричастниками божеству, и священнослужителями, и чернорабочими»[20].
Труднее было с программой. Популярный тогда Дальтон-план оказал влияние и на мамин коллектив: решили, что преподавание должно быть комплексным, по возможности практической задачей. Например, предполагалось, что придётся самим мастерить себе мебель. На этой основе намечали по математике пройти геометрию, по искусствоведению — стили, начиная с классицизма, следовательно, историю начинать с античных времён, из языков изучать итальянский (за него бралась Софья Владимировна). Кроме того, хотели установить связь куска дерева с растительностью, растительности — с миром, мира — с Богом. Отсюда внушить детям идею святости труда. Не обошлось и без анекдотов: так, Варвара Петровна предполагала прочитать курс астрономии, исходя из кладки печей. Очевидно, она предполагала, что топливо всё равно будет вылетать в трубу и согревать небеса. Считали необходимым внушить детям идею первостепенной важности труда и потому решили школу организовать в сельской местности, поближе к природе и с сельскохозяйственным уклоном, где бы дети в достаточной мере познали настоящий труд.
Свою роль мама представляла, кроме общего руководства, в ведении кружка по истории братства: изучение концепции братства, как оно понималось в разные эпохи у разных народов, знакомство с биографиями деятелей, проявивших себя на поприще братства. Она предполагала, что идею космического существа лучше всего выявить через браманизм, идею эволюции жизни и формы — через буддизм, уважение к чистоте стихий и идею воплощения чистоты в человеческой жизни… — через парсизм. «Ознакомление с каждой религией должно сопровождаться параллелями с христианством»[21].
Одновременно шли поиски «хозяина», т. е. какого-нибудь учреждения, которое взяло бы на себя патронат над школой и дало бы начальное материальное обеспечение. В те годы советской власти ещё не удалось провести в жизнь абсолютную унификацию всех сторон культурной деятельности. Кое-какие независимые дореволюционные организации ещё существовали. Их терпели, потому что чувствовали, что со всеми необходимыми делами не могут справиться сами. Маме было очень важно, чтобы патроны школы хотя бы приблизительно разделяли её идеи. Поэтому она всячески пыталась пристроиться в качестве филиала к гимназии М. А. Чеховой, к Дому изучения ребёнка, к колонии сектантов и толстовцев, к какой-то Лиге… Она прошла через шесть стадий надежд и разочарований. Одни соглашались приютить школу, но не имели или помещений или средств, другие без конца сами находились в стадии реорганизации, в третьих её отталкивала узость взглядов и догматизм и т. д.
Одним из неразрешимых вопросов казались поиски дома. Мама осмотрела ряд помещений, но все они не годились: были или малы, или безнадёжно разрушены, или походили на казённые казармы, где невозможно было создать желаемый семейный дух.
Однажды к нам пришёл один из организаторов кооперативного движения в Дмитровском уезде агроном Ростислав Сергеевич Ильин с молодой женой Верой Валентиновной. Они предложили пустующее имение их дяди, который жил там же, но не мог использовать и отапливать большой дом и переселился в маленькую избушку, где прежде жили его рабочие. Сами Ильины жили рядом и вели образцовое хуторское хозяйство. Вера Валентиновна мечтала о педагогической работе и ухватилась за мамин проект, как только о нём услышала. Самого Ильина мама характеризует в дневнике, как очень хорошего человека и работника, а по натуре — рыцаря.
Имение, которое по фамилии владельца называлось Ильино, помещалось в 4 километрах от станции Пушкино. По правую сторону от железной дороги у Вознесенского (теперь Красноармейского) шоссе. Мама съездила, посмотрела его. Деревянный двухэтажный с колоннами дом в стиле деревенского ампира ей понравился. Правда, многое надо было восстановить и доделать, но… волков бояться, в лес не ходить. Дом террасами выходил в парк. Через него по пашне шла дорожка, которая обрывалась к пруду. На пруду был круглый островок без моста. Направо — сосновый лес, за прудом — поля.
Имея в запасе готовое помещение, мама обратилась в последнюю инстанцию, в которую ей очень не хотелось обращаться — в Губнаробраз, впоследствии именовавшийся МОНО. Она предвидела, что там она не будет свободна. Будут навязывать казённую программу, будут ревизии, придётся кривить душой — не всё рассказывать начальству. Не послужит ли это для ребят примером лицемерия? Но другого выхода не было.
В МОНО настаивали, чтобы она брала не лучших, а худших ребят из всех детских домов, из бывших беспризорников. Но ей удалось заразить заведующую отделом детских домов Крупенину, чиновника в юбке, суховатую, но не злую, идеей «геометрической программы», которая могла быстро сработать именно при отборе лучших детей. Конечно, мама говорила, что будет их готовить для выполнения общественных функций. Как, в сущности и должно было быть, то есть для будущей жизни при коммунизме.
МОНО сказало «добро» и утвердило маму заведующей Пушкинской опытной школой-колонией II ступени, как ныне она официально и называлась. Но тут всё дело чуть не провалилось. Распался коллектив сотрудников. Когда выяснилось, что надо жить так далеко от Москвы или еженедельно ездить час на поезде и потом час идти пешком по грязи или в мороз, то многие оказались для этого просто слишком слабы, других не пускали семейные обязанности, третьи не смогли уйти с прежнего места работы.
Мама встретила симпатичную кассиршу-собственницу вегетарианской столовой — Настасью Николаевну Ушакову, которой мы с Колей Стефановичем аккуратно отсчитывали за обеды наши обесценивающиеся гроши. Мама уговорила её бросить свой бизнес и пойти в колонию хозяйственницей. Но Настасья Николаевна, как раз когда начиналось дело и предстояла куча работы для хозяйственника, ухитрилась заболеть тифом.
Мама подсчитала оставшиеся ряды: математика — Варвара Петровна, литература — Вера Валентиновна, две студентки с курсов Кащенко, Бэла Коникова и Женя Малинская, которые не могли ничего преподавать, но соглашались исполнять любые функции, да ещё маленькая простодушная толстушка Аннушка вдохновилась теософической идеей перевоплощения, дававшей ей шанс достигнуть совершенства, и поэтому пошла к нам на должность прачки. Не густо. Про себя мама писала: «Я не педагог, не организатор, не работник. Но я надеюсь и иду к цели без остановок»[22]. Мама ошибалась: она была и педагогом, и организатором, и работником. И если дело удалось, то именно потому, что она в сильной степени обладала всеми этими качествами.
Пока шли поиски «хозяина», педагогов и помещения, я помогал маме подыскивать учеников, агитируя среди бывших товарищей по школе и скаутов. Многим совместная жизнь в деревне казалась соблазнительной, но немногих отпускали родители. Тогда вторым эшелоном выступала мама, а против неё не многие родители могли устоять, хотя всем им было жутковато: шутка ли, отпускать детей в несуществующую школу, в деревню, где их ждала тяжёлая работа и полуголодное существование. Но надо сказать, что в то время и в городе их кормить было почти что нечем.
Кроме родителей, мама говорила с каждым кандидатом, старалась выяснить, чего он стоит, и давала написать сочинение на тему: «Кем я хочу быть в будущем». Определённость намерений, даже больше, чем их содержание, служила для неё главным критерием при отборе учеников. И потом — «искорка» в глазах. Ох, сколько раз потом обманывала её эта самая искорка!
В первую партию из старых друзей наметили Колю Стефановича, обоих Гершензонов, Женю Зеленина. Мама сама нашла в недрах толстовской колонии сироту Алёшу Ярцева и, не знаю где, Киру Тихомирову. Кроме того, с Варварой Петровной пришли её младший брат Шура Иевлев, племянница Таля, сын Настасии Николаевны — Серёжа Ушаков. Третьего Серёжу, Маленького, двоюродного брата того Мити, который прыгал с крыши, мама приняла то ли из жалости (у него недавно умерла мать), то ли потому, что отец за ним в приданое давал пианино. А какая же колония без пианино? Решили взять также племянницу моей няни Фросю. Её сперва предполагалось принять на роль полусотрудницы-полуученицы. Она была на 4 года старше остальных, но вскоре первая её должность отпала и она стала просто ученицей. Наоборот, Алёша, Кира, Серёжа Маленький и Наташа Гершензон были на два года младше остальных, и это заставило маму подумать об организации сразу двух групп, соответствующих 4-му и 6-му классам. Итого со мной колония начиналась при одиннадцати учениках.
Вот самые краткие характеристики этих ребят.
Коля Стефанович — младший любимый сын в семье Стефановичей, худенький, с тонкими чертами лица, умный и начитанный, но совершенно не приспособленный к физической работе — типичный интеллигент.
Серёжа Гершензон — красивый. Но до предела избалованный и плохо воспитанный барчук. Часто бывал неприятен.
Наташа, его сестра. Её звали негритёнком за короткие сильно курчавые волосы. Некрасивая, умная девочка.
Женя Зеленин — высокий, в очках, с длинным острым носом. Очень весёлый, но весьма легкомысленный юноша. Хорошо играл на рояле.
Алёша Ярцев — цыганёнок с иссиня-чёрными глазами и такими же волосами. С ярко выраженными чертами лица и характера.
Вася Озяблов — просто «Зяблик». Невысокий, круглолицый, типичный мужичок и внешне и по хватке на работе. Очень улыбчивый, его все любили. Он очень привязался к семейству Ильиных и вскоре, с согласия Лидии Марьяновны, ушёл к ним совсем и стал очередным их приёмным сыном.
Кира Тихомирова — тихая, скромная маленькая поэтесса, совсем куколка.
Шура Иевлев — за недолгое пребывание в колонии очень мало себя проявил. Тихий. Очень стеснительный, славный.
Таля — бесцветное растение.
Фрося — типичная деревенская девушка, старше всех самых старших из нас на 4 года.
На первые же деньги, полученные из МОНО, удалось с помощью Ильиных закупить 15 кубометров берёзовых дров. Чтобы начать переезжать, надо было их перепилить на швырок, переколоть и основательно протопить по крайней мере кухню. Для этого в Ильино был выброшен десант в составе Серёжи Ушакова (далее получившего прозвище Белого, в отличие от Чёрного — Гершензона), меня и Аннушки, задача которой состояла в том, чтобы мыть полы и варить для нас картошку.
С Серёжей Белым я познакомился впервые. Это был круглолицый подросток с сильно развитыми скулами, нависающими надбровными дугами и маленьким подбородком. Он был простодушным парнем, уже прошедшим через колонию общины трезвенников и расставшимся с ней без особого огорчения. Ихний вождь «братец» Иван Колосков отпустил его с ревностью и раздражением. Он сильно отстал от меня в образовании, но физически был более развит, крепок и способен в работе. Во время пилки дров (пилой, конечно, занятой у Ильиных) из него так и сыпались случаи из жизни и разные наивные поговорки, так что мне было не скучно. Я тянулся за ним и потому работал до полного изнеможения. Когда руки уже не могли держать пилу, мы «для отдыха» принимались колоть дрова. Когда уставали колоть, брались перетаскивать дрова на кухню, забивая ими её чуть не на половину. Так мы проработали каждый день с утра до вечера всю неделю, хотя никто нас не подгонял и никто не задавал нам урока. Мы хотели перепилить все дрова, но их некуда было укладывать, а снаружи распиленные легче было уворовать, и мы треть оставили в брёвнах.[23]
Когда я вернулся домой, квартиру невозможно было узнать. Всё это время мама бегала по учреждениям, которые все подряд назывались тогда «комиссариатами», получала ордера, авансы и бланки, спорила, доказывала, убеждала… Ноги у неё были больные, разбитые и потёртые, комиссариаты помещались в разных концах города, и проходила она ежедневно километров по двадцать. Бэла и Женя получали со складов снаряжение и на наёмных подводах свозили его в наш «особняк». Передняя была заставлена препаршивыми железными кроватями, в моей комнате до потолка были сложены соломенные тюфяки, на них лежали бельевые котлы, лопаты, ватники и прочие «пожитки бледной нищеты». В МОНО предупредили, что сапог, тарелок и карандашей не дадут — нету у них. Маму это не смутило.
— Что ж, буду побираться по знакомым.
Материальные заботы причудливо перемежались с интеллектуальными и эстетическими. Так, Бэла, целыми днями грузившая сковороды, противни и ухваты, по вечерам садилась переписывать с нот либретто оперы Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», которое предполагалось читать вслух в колонии. Мама, бродя по Сухаревке в тщетной надежде купить пилу, приобрела вместо неё «Сказки африканских народов», имея в виду впоследствии использовать их для кружка по истории братства. Одну женщину едва не приняли в сотрудницы единственно потому, что она обещала достать черенки роз. Всё это могло показаться чудачеством, но хорошо характеризовало основную установку мамы: как бы ни была физически тяжела жизнь, не забывать о приоритете пищи духовной.
Настал день переезда, 21 апреля.
С утра я с подошедшими Колей и Серёжей занялся упаковкой бесконечного имущества. Мама, Бэла и Женя разошлись по извозчичьим биржам нанимать ломовых. Они отказывались ехать так далеко, жаловались, что овёс теперь дорог, заламывали несуразные цены. Только к обеду сторговали троих по 50 тыс. Варвара Петровна для своих вещей наняла четверых. Заезжали к Серёже Маленькому за пианино, мама настаивала, что музыка должна быть с первого дня. Но пианино не лезло в двери. Принаняли каких-то красноармейцев, которые, наконец, выволокли его, оторвав кусок от двери и кусок от пианино.
В Ростокине возчики долго обедали в чайной, мы пока грызли сухари на возах. Была такая славная весенняя погодка и такое радужное, как теперь говорят — боевитое, настроение, что мы, мальчики, бросив на подводы куртки и шапки, побежали вперёд, пообещав в Мытищах дождаться обоза. Но что время терять? Ждать да догонять — последнее дело. И мы пошли дальше, да так и прошли все 30 километров. Когда спустилась ночь, а с ней мороз, нам в одних рубашках стало лихо. Но что ж делать? Надо быстрее бежать вперёд. Добежали, стуча зубами, полуживые от холода.
Ночью пришли возы. Пытались их разгрузить, но не было никакого света. Затопили печь, но тотчас задохнулись от дыма. Так и легли в холодной кухне, на столах, на лавках, все вповалку. Когда мы встали, подъехал кое-кто из отставших.
Начало новой эпохи
Утром неожиданность. Мама собрала всех, прочитала главу из Герцена. Помолчали. Потом Варвара Петровна сыграла что-то торжественное на пианино. Мама встала и поздравила всех с началом новой жизни. Я понял, что это вроде совместной зарядки. Этот ритуал потом свято соблюдался все 4 года существования колонии. Назывался он «утреннее чтение». Читали не обязательно из Евангелия, но из священных книг всех религий, из теософических авторов, из «Круга чтения» Толстого, из Тагора, иногда отрывки из совсем светских авторов, но всегда с этической направленностью. Обычно мама подбирала отрывки, откликавшиеся на злобу дня, или, если кто захандрит или профершпилится, то полезное ему — ободряющее или укоряющее, но не указывая пальцем на личность. Это у нас было вместо утренней зарядки.
Потом произвели деление комнат. На втором этаже было 5 комнаток маленьких, солнечных, всем хотелось в них. Мы, конечно, стали кричать:
— Чур, мы в эту!
— Чур, мы в ту!
Какое там. Разве у мамы это пройдёт! Она разъяснила, что хорошие комнаты следует отдать кому нужнее: мальчики должны уступить девочкам, здоровые — больным, молодые старшим и т. д. Ну. Мы почесали в затылках и согласились. Вместе обошли дом. В результате нам, пятерым старшим мальчикам, досталась самая тёмная угловая комната, на север и загороженная ёлками. Но мы утешились тем, что теперь, по крайней мере, ничью жизнь не заедало.
Распределили работы: делать из консервных банок коптилки, насаживать лопаты и грабли, собирать кости, жечь и толочь их на удобрение. Более серьезные сельскохозяйственные работы мы не могли начинать: без лошади, без плуга, без пилы и топора и даже без земли — её ещё предстояло отвоёвывать. А так как колупаться в земле хотелось, то мы выговорили себе право завести небольшие индивидуальные грядки около дома. Хотя мы собирались на 10 лет обогнать коллективизацию, учредив школу-коммуну, как опыт образа жизни при истинном коммунизме, но собственнические инстинкты были в нас ещё живучи. Мы собирались урожай со своих грядок отдать в общее пользование.
В ближайшие три дня подъехали ещё ребята: маленький полуглухой Лёня Шрейдер и моя одноклассница из школы Свентицкой Лида Кершнер. Я никак не мог понять, почему Лида попросилась к нам в колонию. Она была комсомолка-активистка, и родители её были коммунисты. Отец — ответственный работник Наркомвнешторга, правда что бывший меньшевик. Или уж и они пришли в отчаяние от безделия, царившего в «трудовых школах»? Ещё чуднее было то, что Лида, единственная из учениц игравшая на рояле, во время утреннего чтения исполняла «Ave Maria» и «Слава в вышних».
25 апреля устроили праздник официального открытия колонии. Было много гостей, пришли все Ильины — 8 человек, приехали из Москвы родители. Утреннее чтение прошло особенно торжественно. Столовую украсили гирляндами из еловых веток. Работы были отменены. Играли, болтали на солнышке, на лужайке. От обеда все гости пытались убежать, а колонистам хотелось щегольнуть гостеприимством. Всё же всех усадили и всем досталось по полпирожка из ржаной муки с картошкой. Мама преподнесла самодельный торт из той же муки с пшённой кашей и сушёными яблоками на блюде, украшенном травой. Вечером сидели у камина, читали стихи и даже я, сильно смущаясь, выдал стишок, не свой, конечно. Потом говорили о выборе профессии, а Ростислав Сергеевич рассказал историю нашего дома, который построил его отец, знавший несколько специальностей и владевший множеством ремёсел.
К нам приехал юноша-толстовец из Москвы, Яша, столяр и художник. Он первым делом принялся за изготовление скамеек, в которых ощущался острый недостаток. Он выпиливал на них уголочки, потом вырезал простенький орнамент, пускал в него красную или зелёную краску, и сразу получалось художественное произведение в русском стиле. В столовой он повесил свою картину. Там были ярко раскрашенные терема, река, ладьи с лошадиными головами, одним словом, что-то в стиле раннего Рериха или Аполлинария Васнецова. Очень здорово. Сам Яша был худенький, щуплый, застенчивый, как девушка. Его прозвали Яшица. Он пробовал по просьбе мамы давать уроки рисования, но из этого вышло мало толку.
Начали копать общественные огороды. Огородной земли не было и пришлось поднимать целину на лужайках в саду. Под густой травой была глина. Тяжёлое занятие. Но работа шла весело, потому что во время неё непрерывно болтали. Кто-нибудь начинал ораторствовать, чаще всего я, увлёкшись, бросал лопату. Постепенно останавливались и слушатели, и стояли, разинув рты. Бэла, которая к работе относилась фанатично, мрачнела и принималась копать изо всей силы, чтобы сделать работу за всех.
Однажды вечером мама предложила мне — не хочу ли я услышать о своих недостатках. Я удивился, полагая, что у меня остались одни достоинства, но согласился. Она сказала, что я груб с товарищами, заносчив, самоуверен, хвастлив и недисциплинирован. Всё доказала, как по нотам, проиллюстрировала конкретными примерами. Вот-те на! И всё вроде так и есть и возразить нечем. Я не имел склонности следить за своим поведением и воображал, что все эти грехи — в прошлом. Я всё же начал оправдываться:
— А вот Серёжка… А вот Колька…
— Ты мне зубы не заговаривай. Речь идёт не о Серёже и не о Коле, а о тебе. Ты — мой сын и с тебя потому спрос вдвое. То, что другие себе позволяют, об этом я буду говорить с каждым. Но ты должен быть для всех образцом. Держи себя в руках и не распускайся..
Да, ну и задачу она передо мной поставила! С тех пор я заболел самоанализом. Привык смотреть на себя со стороны. Только начну задираться или завираться, a alter ego тут как тут: «А как ведёт себя сын заведующей? Видно, она ему поблажки делает?» Это очень нудное свойство — самоанализ, и вначале это не больно-то мне помогало, но, в конце концов, вероятно, принесло некоторую пользу.
Были и другие причины, кроме моей болтовни, остановок в работе. У Лёни неожиданно оказались особые таланты, которые чрезвычайно подняли его авторитет. Во-первых, он знал азбуку глухонемых, на пальцах, и мы под его руководством стали в ней упражняться, стараясь достичь нужной скорости. Это было увлекательным занятием, но раз пальцы были заняты, делать ещё что-либо путное не было возможности. Затем он мог каждое данное ему слово мгновенно выворачивать наизнанку, задом наперёд. Хорошо, что Лёне, как самому слабому, поручали обычно собирать шишки для самовара.
Вообще, мы никак не могли привыкнуть к мысли, что работа — это главное дело в жизни. Мы просто забывали о ней и, когда начиналось рабочее время, преспокойно садились играть в шахматы или дулись в чижика. Когда нас мама призывала к порядку, мы не сопротивлялись. Но она говорила, что ей надоело быть надсмотрщиком, что она не нанималась на эту должность. Трудолюбие, чувство ответственности за судьбу колонии нам ещё не было понятно.
Еды нам не хватало с самого начала. Не было ни крошки хлеба. У Ильиных заняли мешок муки и пекли из неё лепёшки. Хорошая острота была:
— Здорово поел, если бы теперь ещё пообедать, совсем бы хорошо было!
Особенно не хватало еды большим мальчикам, на которых ложились более тяжёлые работы. Съевши свои порции и зная, что добавки не будет, они начинали вопить:
— Кому помочь? Предлагаю великодушную помощь!
И младшие девочки, сочувствуя нашим страданиям, часто разрешали им помочь, хотя прекрасно могли бы сами справиться со своей кашей. После обеда мы не давали дежурным мыть кастрюли, а набрасывались на них и вылизывали пригарки до полного блеска, так что потом и мыть было не надо. Мы уже съели в окрестностях всю крапиву и перешли на сныть.
В связи с этим тяжело стоял вопрос о бывшем помещике Алексее Александровиче Ильине. Старик был противоположностью своим племянникам. Нудный был старикашка. Ворчливый, обидчивый, прижимистый. Он жил во флигеле. Одевался он как нищий и с первых дней являлся на кухню, предъявлял претензии и попутно всё что-нибудь выпрашивал: то сольцы, то картошки… Об отношениях с ним был поставлен вопрос на собрании и решили: так как мы пользуемся его домом и землёй, то будем ему выдавать паёк, такой же как колонистам. Тогда он меньше будет выпрашивать и обижаться, а у нас совесть будет спокойной. Всё-таки как-то мы себя неловко чувствовали в роли экспроприаторов. С тех пор он по три раза в день приходил со своей миской и получал на всякий случай немножко больше, чем остальные.
После длительной тяжбы с соседями, жителями села Новая Деревня, уездный совет отвёл нам 7 гектаров земли. Дело было за лошадью. Денег на неё не дали, и, наконец, Ростислав Сергеевич в Москве на конной площади купил нам за 300 тысяч рублей молодого мерина, рыжего и симпатичного. Мама, которая была в Москве, взялась привести его в колонию. 40 километров пешком для женщины с больными ногами, никогда не имевшей дела с лошадьми, это был подвиг. Сперва они с Рыжим дружили и дело шло хорошо. Но потом где-то попался ручей, и здесь мнения разошлись. Мама настаивала, что его надо перейти, Рыжий не хотел мочить копыта. Дискуссия кончилась тем, что он вырвался, убежал и стал пастись на соседней лужайке. Все мамины попытки воззвать к его благоразумию, наконец, к долгу, кончились ничем. При её появлении он поворачивался задом и начинал лягаться. Она уже ходила вокруг него полчаса и пришла в полное отчаяние. В конце концов она остановила проезжавших крестьян. Они помогли поймать Рыжего и подвезли её около трети пути.
Рыжий никогда ещё не ходил ни в телеге, ни в плуге. Естественно, ему это не понравилось. Объезжать его взялся Юрий Сергеич, брат Ростислава Сергеича. Рыжий пятился назад или прыгал вперёд, так что плуг вылетал из земли, или вставал на дыбы. Мы по очереди водили его за повод, причём то повисали на уздечке, то отскакивали, то проезжали, присев на пятки, стараясь его удержать. Хорошенький был цирк. Юрий Сергеевич проявлял чудеса терпения, но к вечеру и он, и лошадь, и все мы были в мыле и в пене, а вспахали всего 5 борозд.
Хотели уже продавать Рыжего, но потом решили отдать его в хозяйство Ильиных для повышения квалификации. Взамен они нам дали свою покорную Чайку. С ней у нас дело пошло гораздо лучше и к концу месяца уже и Коля, и Серёжа Чёрный, и я научились пахать. А через месяца два Рыжего нам вернули уже обученного — лошадь как лошадь.
Меня очень мучила необходимость бить лошадь во время работы. Как ни верти, всё-таки временами это приходилось делать. Я даже стал из-за этого колебаться в своих планах всю жизнь заниматься сельским хозяйством. Потом я решил посвятить себя изобретению железной лошади, которую можно было бы не хлестать кнутом, а только нажимать кнопки на задней части. Я и не знал, что Форд в то время уже разрешил эту задачу.
Рожь сеять наняли старичка-лесовичка из Новой Деревни, Фрола Николаевича. Он сеял, как священнодействовал. Повесил через плечо лукошко с житом и шагал по полю размеренным шагом, брал правой рукой по горсти зерна и с силой бросал его об лукошко. Зерно разлеталось веером во все стороны. Сделав два шага и выйдя за пределы конуса рассеяния, он выбрасывал другую горсть и т. д. Я поражался народной мудрости: если бы он ударом о плоскую поверхность или прямо бросал зерно на землю, ничего бы не получилось. Равномерность распределения могла достигаться только ударом о цилиндрическую поверхность лукошка. Всё же я не был уверен, что рожь взойдёт равномерно, ведь ряды Фрол Николаич никак не различал и свой маршрут ориентировал по уже брошенным зёрнам, едва различимым на земле. Так ведь нет: рожь взошла поразительно ровно!
Когда сеяли овёс (его было гораздо больше), взяли у Ильиных конную сеялку Эльворти. Вот когда я добрался до первой сельскохозяйственной машины! Здесь вам не Липовка, здесь я был из самых старших. Предварительно мы сами изготовили маркер и разметили поле. Работа на этой нехитрой сеялке доставляла мне громадное удовольствие. Маме хотелось, чтобы все ребята почувствовали «мистическое значение» сева, но из этого ничего не вышло. Большинство глядело на это дело вполне прозаически. Вслед за сеялкой мы овладели бороной и рондалём.
К нам продолжали поступать новички. Лида Кершмер привела в колонию двух ребят: Митю Михайлова, злополучного самоубийцу из Алфёровской гимназии, и большую девочку Веру Пашутину из 7-го класса. Митя, бывший высокий красавец, сильно хромал, весь перекосился, шея смотрела вбок, лицо было испорчено шрамами, сломанный нос провалился. Он был очень добрым, даже кротким, парнем, окончил 9-й класс, но пришёл к нам, потому что стремился физически работать, лишь бы приносить пользу. Его взяли, потому что после тяжёлых потрясений он нуждался в дружной атмосфере и искал, так сказать, «санатория для души». Он ушёл от нас через год и говорил: «Как хорошо жить на свете!» Вера Пашутина была для нас переростком. Взяли её не знаю почему: то ли потому, что у неё не обнаружилось никаких отрицательных качеств, то ли потому, что она была очень дружна с Митей.
Занятия начались довольно по-дилетантски, что и следовало ожидать при случайном составе преподавателей. Я начал интересоваться математикой, хотя меня раздражало стремление Варвары Петровны связывать её с делением частных грядок или вычислением объёма печных труб. Из маминой истории братства меня увлекла книга П. А. Кропоткина «Взаимопомощь среди животных» да история кооперативного движения. Когда мама пригласила мою тётушку Наталью Эмильевну, жившую в Пушкине, давать у нас уроки рояля для желающих, я от них отказался, сославшись на полную свою бесталанность. То же и с драматическим искусством. Затеяли инсценировать «Ноа-ноа» Гогена, причём уготовили мне роль автора. Готовых слов не было, нужно было импровизировать в общем духе повести. Я на это был решительно не способен, мне казалось, что легче заучить большую роль, чем придумать два слова от себя. Впрочем, я соглашался дублировать роль Гогена в том месте, где ему по ходу действия нужно нырять в воду. Пьесу предполагалось поставить на берегу пруда. Постановка так и не состоялась.
Всё время происходила борьба двух течений. Маме хотелось, чтобы основное время уделялось занятиям, искусству и этическому воспитанию. Её очень поддерживала в этом Софья Владимировна. А жизнь тянула в обратную сторону: надо было пахать, сеять, копать огороды в количестве большем, чем было нужно для трудового воспитания. Было ясно, что на пайке, получаемом от МОНО, нам не прожить. Что сельское хозяйство нам необходимо как жизнь, что без него не будет ни науки, ни искусства. Главной радетельницей этого направления была Бэла. А извне Ильины, которые постоянно напоминали, что хозяйство можно вести только всерьёз и упрекали нас за то, что у нас оно на последнем месте. Я всё больше переходил на их сторону и, хотя от природы был ленив и болтлив, пересиливал себя и дулся изо всех сил, например, при поливке огородов, которую приходилось проделывать ежедневно от ужина до ночи, или при дежурстве по воде, когда надо было перетаскать на кухню 50 вёдер на расстояние 200 метров.
Ростислав Сергеевич по воскресеньям читал нам серьёзные лекции по агрономии: о машинах, агротехнике, удобрениям. Я жадно их впитывал. Но иногда он на закуску предлагал почитать стихи, которых помнил великое множество. Раз он прочёл на память «Двенадцать» А. Блока — вещь, которая нас глубоко взволновала. Она была тогда новинкой. Чтение стихов показывало, что Ростислав Сергеевич совсем не был сухарём и делягой, но глубоко чувствующим и любящим Россию человеком. Иной раз он бывал в весёлом настроении и читал нам свои юмористические стихи, которые, будь они написаны на 50 лет позже, попали бы в категорию «самиздата». Помню отрывки из поэмы про поездку Карла Маркса в РСФСР. Вождю 1-го Интернационала пришлось пережить ужасную посадку:
«Забыв моральные законы, Детей толкают под вагоны…»У Маркса в давке срезали часы, но
«На самый крайний оборот Цепочку он засунул в рот».Мужички в вагоне ему расхваливали Москву, Кремль, «электричество», которое сияет везде на улицах. Но, приехав в столицу, он убедился,
«Что жители московские Там камушки кремлёвские В прикуску с электричеством едят».Он был в отчаянии, что все глупости и несуразности творятся его именем. Наконец, на Триумфальной Садовой перед Наркомземом, который тогда там помещался, он увидел свой бюст «полубыка, полулягушку» и злобно в него плюнул.
Бюст, правда, был ужасен. К счастью, его скоро убрали. Но убрали и Ростислава Сергеевича, вероятно, за неуважение к бюсту.
Призывы к серьёзному отношению к хозяйству не пропали даром. Мы организовали сельскохозяйственную комиссию, которую сокращённо назвали «сельхозом». В сельхоз вошли Коля, Серёжа Чёрный, Фрося и я. Мы разделили между собой функции наблюдения за полями, огородом, покосом и инвентарём. Нам поручили каждое утро за завтраком распределять людей на работы. Я, влезши в это дело, и не предполагал, какую роль оно сыграет в моей жизни в ближайшие 4 года и какое изменение в психологии произведёт.
Как-то вышло, что распределение работ легло, главным образом, на меня. Здесь уж всё перемешалось — и поле, и огород. Надо было всё предвидеть, учесть, спланировать, не упустить. Я впервые в жизни почувствовал на себе ответственность за серьёзное общее дело. Я, озорник, пустомеля, каким я себя считал, совершенно не был подготовлен к такой ответственности, и она легла на мои плечи, как непосильный рюкзак на альпиниста. Когда народа не хватало, я пытался заткнуть собой все дыры.
Коля работал ровно и методично, Серёжа Черный, хоть и член сельхоза, как-то внезапно обмякал, часто по лености увиливал от работы. После очередного объяснения с мамой каялся, вдохновлялся, но потом опять быстро приходил в состояние упадка. Фрося работала неутомимо, но она одновременно входила в домовую комиссию и несла много обязанностей по дому: убирала, мыла, стряпала… Внезапно истинным кладом оказалась Вера Пашутина. Она бралась за всякую мужскую работу и тянула как хорошо выезженная лошадь в упряжке. Из остальных основных работников Серёжа Белый оказался не так прост, как показался вначале: он на всё имел своё мнение и хоть мог работать лучше всех, часто взбрыкивал и затем погружался в мрачную прострацию. Иногда он проделывал над собой опыты. Чтобы развить своё духовное я, подавлял телесное, т. е. вовсе отказывался есть и доводил себя до полного истощения. Женя Зеленин был легкомысленным и ленивым малым, к тому же страстным меломаном; он то и дело уезжал в Москву на концерты. Шура, домашний ребёнок, ранее ни с кем из нас не знакомый, трудно ассимилировался. Серёжка Черный его постоянно дразнил и раз с ним всерьёз подрался, что было «чэпэ», почти единственный случай за все годы колонии. Я вылил на них ковш холодной воды, а подоспевшая мама целый ушат моральных увещеваний и упрёков. Таковы было все главные силы, которыми располагал сельхоз.
В конце июня положение улучшилось. В качестве заведующей хозяйством пригласили мать Варвары Петровны Елену Ивановну, добрую и опытную старушку, но привыкшую вести хозяйство совсем в других условиях. А Настасья Николаевна, Серёжина мать, когда оправилась от тифа, тоже приехала к нам посмотреть, не надо ли чего помочь. Она с энергией необычайной мыла полы, таскала мешки, месила тесто, топила печи и вместе с нами работала на огороде. Такие налёты она повторяла раза по три в год все 4 года существования колонии. Удивительной силы и бескорыстия человек.
В первый раз она привезла двух мальчиков, взбунтовавшихся против слишком уж постного режима общины трезвенников — Николю и Костю. Николя Комков — круглолицый, белобрысенький и до того улыбчивый мальчик, что сразу заслужил прозвища. Девочки прозвали его Солнышком, а мальчики — Пузырём или Пупырём, хотя он вовсе не был толстый. Только психологически мыслился, представлялся как шар. Его сразу очень полюбили за открытый, добродушный нрав, и работал он хорошо.
Костя, наоборот, был всегда весел, но не добродушен, любил анекдотики с сальцем и, вырвавшись из-под недремлющего ока «братца», пробовал, а как это пройдёт на новом месте. У него было одно преимущество — он умел пахать и работал свирепо и вспахивал нам не одну десятину. Однако, когда пришлось с ложек соскабливать нацарапанные им похабные слова, мама начала подумывать, что надо бы от него избавиться.
Но самое ценное наше приобретение был Всеволод Блаватский, юноша лет 25-ти. Он работал километрах в 20-ти в толстовской коммуне на станции Перловская. Когда они отсеялись и у них напряжение спало, он на месяц приехал к нам, прослышав, что у нас тяжёлое положение с рабочей силой. У него был принцип: всегда находиться там, где он был всего нужнее, там, где работа была труднее. Он родился в Керчи, происходил из интеллигентной семьи учёных, о чём свидетельствовали его тонкие пальцы и нежная кожа. Он имел неоконченное высшее образование, помешала война 1914 года. Но он сознательно «опрощался»: оброс вихрами и бородой, ходил оборванный и в лаптях, играл под серого мужичка. Впрочем, не играл — эти лапти и борода стали уже его второй натурой. Никаких лишних вещей он не терпел.
На работе он был незаменим и неутомим, брался всегда за самую трудную и грязную работу. Если что-нибудь не ладилось — отчаянно, хотя и добродушно ругался, если всё шло хорошо, во всё горло орал свои две любимые песни:
«Крамбамбули, отцов наследье» и
«О Италья, о Италья, о Италья! Гарибальди, Гарибальди, Гарибальди! Макарони, макарони, макарони! Аль Триесте, аль Триесте, аль Триесте!»Последнюю (он уверял, что это итальянский национальный гимн) он выучил у итальянцев, с которыми вместе сидел в австрийском плену в первую мировую войну.
Всеволод был очень добрым и чутким человеком, внимательным к чужой беде или слабости. Но он стыдился своей доброты и скрывал её под напускной суровостью и грубостью. В чём он был до конца искренен, так это в неряшливости. Мы все были неряхами, но он превосходил нас всех. Поселившись в проходной комнате, где он спал на верстаке (от лучшего помещения он отказался), он мгновенно превращал всё вокруг себя в помойку. Между тем, двери из неё шли в кухню, столовую и библиотеку, через неё целый день сновал народ, проходили гости. Мама не выносила хаоса и, испытав все средства увещевания, взялась сама прибирать каждый день его комнату. Он злился:
— Ах, чёрт возьми, крамбамбули, бросил вчера шапку на пол, а лапти на одеяло, а сегодня Лидия Марьяновна куда-то их засунула! Пропади они пропадом с этим порядком! Так работать невозможно! Уеду снова в Перловку!
Он действительно ненадолго уезжал, но ему так понравилась наша колония и так не понравилось в Перловке после житья у нас, что он вскоре же вернулся и уже насовсем.
Ещё к нам приезжала дочь одного из вожаков Дмитровского кооперативного движения Нина Скотникова, наречённая Чёрная, в отличие от Нины Белой, Зотовой, которая уже у нас имелась. Это была высокая, черноглазая, красивая девочка. Она тоже хорошо знала все сельские работы, хотя приехала с мечтой учиться. Её отец, Филипп Егорыч, дал за ней приданое: токарный станок с ножным приводом и бочку квашеной капусты. Нина тоже была бы хорошим работником, если бы её не тянуло назад в родную деревню Кекешево к тятеньке и к десяти братьям и сёстрам, которым она старалась помочь и в покос, и в жатву, и потому постоянно разрывалась между домом и колонией.
Так или иначе, минимум рабочей силы к началу сенокоса у нас набрался. У нас было 3 косы, 2 бруска и 1 бабка. Косить умели Всеволод, Серёжа Белый и Костя. Покосы были в саду, вокруг дома по канавам и, с разрешения лесника, на большом пространстве по лесным полянам. Работа это весёлая, ворошить и копнить выходили всей гурьбой. Иногда, когда приближалась гроза, выскакивали даже из-за обеда и это не считалось нарушением дисциплины. Порядок дня пришлось перестроить. Побудку косцов перенесли с 6 на 3, пока есть роса и нет оводов. А потом днём отсыпались. Я страстно хотел научиться косить. Хорошую косу мне не давали. Косил какой-то кривой, не насаженной как следует косой. Всё-таки начало получаться, так же, как ездить на сломанном велосипеде. Зато я научился отбивать и насаживать косы. О, это было целое искусство. Надо было насадить так, чтобы коса не тупилась о кочки и камни и в то же время не было высколёза, то есть не мазала по верхушкам травы. Надо было отбить так, чтобы жало не было змееобразно и чтобы по нему не пошли хлопушки, вогнутые в ту и другую сторону.
Когда начался покос и одновременно прополка огородов, то под давлением народных масс мама вынуждена была уступить и объявить перерыв в занятиях до осени. Теперь уже рабочая лихорадка охватила всех. Хоть с ног валились, а готовы были работать день и ночь.
Беспокоило меня мамино здоровье. Она старалась принимать участие во всех физических работах вплоть до косьбы, чтобы не терять живого контакта с ребятами. В то же время она имела сотню других обязанностей: готовилась к урокам, следила за порядком, проводила утренние чтения и всякие собрания, мирила конфликты, вела финансовую и учебную отчётность для МОНО, два раза в месяц, а иногда и чаще совершала изнурительные поездки в Москву, чтобы выколачивать продукты, семена и инвентарь, вставала в 3 часа будить косцов и ложилась в 11, перецеловавши всех в кроватях, без чего многие решительно отказывались засыпать. И постоянно находилась чья-нибудь мятущаяся душа, которая была готова исповедоваться и просить у неё утешения до полночи. А ещё надо было вести дневник колонии — историю свершений и переживаний каждого большого и маленького колониста. Любой мужчина свалился бы с ног. А мама держалась на вере в нужность своего дела. Но у неё всё больше болело сердце, отекали ноги, мучили мигрени.
Мамин день рождения — 7 июля — стал нашим вторым «национальным праздником» после открытия колонии. Сколько ей натащили цветов, сколько подарили всякой самодельной чепухи: корзиночек, рамочек, рисуночков! Вечером поставили втайне подготовленный концерт, а закончили его беседой у костра.
Мы вообще часто просили маму что-нибудь рассказать, и она охотно это выполняла. Особенно любили рассказы про разные страны, где она жила. Про Италию, Германию, Норвегию. Самыми волнующими были рассказы из жизни революционеров, в которых она всегда делала ударение на самопожертвовании ради идеи. Мне запомнились её рассказы про Желябова и Перовскую, Веру Засулич, молодую эсерку Толю Рогозникову, погибших в царской тюрьме.
Мы также не упускали случая поэксплуатировать гостей. Плату за гостеприимство мы взимали рассказами. Пришла к нам раз в мамино отсутствие простая бабёнка в платочке и попросилась переночевать. Мы её накормили и спать уложили. А наутро, когда приехала мама, она оказалась её старинной знакомой, народной артисткой республики, сказительницей былин и сказок Ольгой Эрастовной Озаровской. Классически простую бабу разыграла, хотела наше гостеприимство проверить. А вечером дала нам умопомрачительный концерт и рассказывала о том, как собирала на реке Пинеге фольклор. После этого она приезжала к нам ещё не раз.
Но бывали гости и в другом роде. Однажды к нам приехал сверхтолстовец Серёжа Попов. Это был мужичок лет 40, святости неправдоподобной. Его не надо было просить что-нибудь рассказывать, он для того и приехал. Он провёл с нами предлинную беседу. Толковал нам, что вся жизнь только иллюзия, что существование человека это непрерывная борьба духовного с материальным, что материальное подлежит подавлению, в особенности «эмоции: гнев и гордость, лженаука и любомудрие, половое чувство». Он это перечисление повторил раз пять, и я разозлился на то, что он мешает в одну кучу самые разные вещи, а постоянное упоминание о половом чувстве счёл неприличным. Потом он говорил о том, что нельзя принуждать к труду животных.
— А как же пахать? — спросил кто-то из нас.
— Надо возделывать землю мотыгой. А животных надо возлюбить, как своих братьев. — Попов показался мне не столько святым, сколько юродивым.
Отрицательное отношение к святошам усилилось от следующего посещения. На этот раз приехал некий Ефремушка. Святость его была агрессивна, воинственна. В начале и в конце каждой еды он вставал и долго произносил импровизированную молитву. Он молился за то, чтобы не пошёл дождь и не сгноил наше сено, чтобы у Алёши зажил пораненный палец и чтобы соседские куры не залезали к нам в огород и не вводили в грех, заставляя выгонять их оттуда палками. Мы очень смущались, из вежливости тоже вставали, ждали, молчали, пока он кончит. А я думал: «Вот и хороший человек как будто, но почему же такой несносный дурак?» Он тоже проводил беседу, причём нападал на нашу греховную жизнь, особенно громил танцы, светские песни, ленточки в косах у девочек.
Мама после отъезда проповедников всегда проводила «корректирующие» беседы, стараясь смягчить общее отрицательное впечатление, как-то оправдать святош и в то же время подчеркнуть их крайности, пережитки, вредное гонение на науку, искусство и житейские радости.
Я было совсем утвердился в отрицательном отношении к толстовству и сектантству, которое было, по моему мнению, неотделимо от ханжества, как приехал третий проповедник, кажется, глава группы евангелистов, Серёжа Булыгин. Они к нам слетались как мотыльки на лампу, прослышав, что организовалась новая колония духовного направления.
Серёжа Булыгин был красавец-мужчина лет 35, высокий, черноглазый, с одухотворённым и добрым лицом. Он не молился вслух, не обличал наши грешки, а, придя, первым делом попробовал на палец нашу пилу и топор. Покачал головой и принялся точить. Проработал полдня и наточил пилу так, что она прямо-таки сама пилила, а топором можно было бриться. Потом он, увидев, что у нас несколько проходных комнат, а прямого выхода на террасу нет, предложил прорубить прямой ход в капитальной стене и, проработав два дня, сделал не только ход, но и обшил косяками и навесил дверь. Всё он знал, всё умел, и любое дело горело у него в руках. К нам он относился запросто, без тени, с одной стороны, самоуничижения, с другой — духовного превосходства.
Серёжу мы тоже попросили рассказать «как дошёл он до жизни такой». Рассказ его оставил глубокое впечатление на всех нас, которое я лучше передам мамиными словами: «Это было захватывающее впечатление от души, безостановочно, по прямой линии восходящей к чистоте и силе, дающей предчувствовать совершенство… И форма этой души — безупречная красота, сила и нежность и ровное сияние радостной, но серьёзной любви»[24]. Впоследствии он перешёл в православие.
Кончился покос, мы решили, что заслужили трёхдневный отдых и поехали в две смены на экскурсию. Сперва старшие, потом младшие. Поехали в Ростов Великий (Ярославский). Это был первый в моей жизни поход в компании, с ночёвками и без взрослых. Собственно одна взрослая была — Вера Николаевна, сестра Коли Стефановича, которая у нас числилась сотрудницей, но она была так молода, так застенчива (и к тому же поэтесса), что нисколько нас не стесняла.
Первым делом мы осмотрели окрестности Ростова. Это было то, что называется Ростовским опольем. Бескрайние поля и луга, нигде ни деревца. На полях рос лук. Никогда не думал, что где-нибудь на свете есть столько лука. Часть ополья была осушена и хранила следы прежнего подтопления в виде глубоких торфянистых почв. Начиналась засуха, и торфяники уже горели. Это было жутко, когда горит земля. Ветер дул в другую сторону, и потому мы могли подойти к пожару вплотную. Торф тлел и дымился, местами выходил из почвы дым без огня.
— Ребята, не подходите — предупредил нас прохожий, — здесь торф глубокий и может гореть под землёй. Провалитесь — прямо к чёрту в пекло попадёте.
Мы поскорее ретировались и пошли в город. Кремль был замечательный, сказочный, хоть и запущенный. Мы лазили по стенам, осматривали храмы, разбирали надписи на могилах епископов и протоиереев. В палатах митрополита был устроен антирелигиозный музей. В нём были собраны кадильницы, распятия и евангелия в кожаных окладах. Гвоздём экспозиции был альбом с изображениями голых женщин, который якобы был найден в келье архимандрита. Наши ребята чуть приоткрыли, застыдились и отошли. Один Костя как врезался в него, так и простоял всё время, пока мы осматривали Кремль.
На третий день взяли лодку и поехали кататься по озеру Неро. Отъехали от города километра на два. За городом как раз садилось солнце. Все его бесчисленные купола, звонницы и башни вырисовывались чётко на фоне зари. Это было так красиво, как бывает только на картинах Билибина. Сказка, да и только!
Когда солнце село, задумали купаться. Ох, небось и глубина здесь! Берега-то еле видны. Мальчики разделись и по команде прыгнули вниз головой с лодки, надеясь нырнуть поглубже. Эффект оказался неожиданный: когда ноги ещё были на воздухе, тела по пояс погрузились в жирный вязкий ил (сапропель, как мы после узнали). Мы насилу вылезли из грязи, но подняли при этом такую муть, что отмыться не было никакой возможности. До чего же мелко это громадное озеро!
Ходили мы и к истоку реки Которосль, чтобы посмотреть, что же вытекает из Неро. Поход этот ознаменовался тем, что мы подобрали там брошенного котёнка и привезли его в колонию, и нарекли по месту нахождения Которашкой.
Навалилась жатва. Вначале я думал, что самая тяжёлая работа — пахота, потом решил, что косьба тяжелее. Но выяснилось, что жатва требует наибольшего физического напряжения. Вот когда вспомнилось стихотворение Некрасова.
Мы вполне хлебнули этой «женской долюшки». Разве что младенцы на меже не плакали. До чего же болит спина, когда с утра до ночи простоишь согнувшись. Перед глазами оранжевые круги. Руки горят, потому что поле заросло колючками, осотом и глухой крапивой. Жало у серпов в зазубринках как мелкая пила, чуть задень по пальцу, прорежет до кости. Первый год почти никого не осталось с незабинтованными руками.
А население колонии всё росло. Женя Малинская, всеобщая любимица, бывала в колонии только наездами, всегда шумными, вносившая веселье, оживление, суматоху, за что её строго осуждала фанатичная труженица Бэла. Но с Женей охотно беседовали наедине мальчики и девочки, поверяя ей свои душевные тайны. Однажды Женя привезла и оставила в колонии свою сестру Берту — девочку способную, «вострую», но какую-то угловатую, лишённую интуиции и постоянно приходившую в столкновение с окружающими. Поступила Ирочка Руч. Она в то время была у нас всех меньше. К тому же она была сентиментальной и удивительно неприспособленной к жизни. Она писала стихи, поэтому её дразнили, особенно Алёша, который даже куплет сочинил и проходу её не давал:
«Высколёза, Каблучиста, Поэтесса — Ира Руч».После долгих и мучительных раздумий педагоги решили удалить из колонии Костю. Он принял изгнание без огорчений, даже весело. Наша кладовая помещалась в передней, парадный ход был забит досками. На прощанье Костя сговорился с деревенскими парнями, за долю в добыче указал им лаз. Они ночью взломали дверь и вывезли продуктов и одежды на несколько сот тысяч рублей. Поймать никого не удалось. Приближалась зима, и шансы на то, что она будет голодной и холодной, резко увеличились.
Но до зимы ещё много нам предстояло пережить. В конце августа заболели мама и Бэла. У мамы температура доходила до 40°. Сознание её помутилось, её непрерывно мучила мысль о том, что будет с колонией, если она долго проболеет. Она заботилась, беспокоилась то об одном деле, то о другом, придавала значение часто совсем второстепенным событиям. Она вызвала телеграммой из Петрограда свою самую младшую сестру Маргариту Мариановну, или Магу, думая, что она может её заменить. Она очень волновалась, что Мага не найдёт дорогу в колонию, и послала меня её встречать. Подтверждения от Маги не было и поезд был неизвестен. Я поехал на заре, чтобы встретить все утренние поезда. Маги не было. Я сидел на Ярославском вокзале целый день, ожидая какого-то «максима» (так называли тогда товарные поезда). Опять она не приехала. «Почему мама решила, что Мага должна приехать именно сегодня», размышлял я. Я уже давно съел кусок чёрного хлеба, который взял с собой. После прихода «максима» я поехал назад в Пушкино и пришёл домой поздно ночью.
Утром я рассказал маме, что Мага не приехала. Она поглядела на меня с гневом и возмущением.
— И ты мог вернуться, не выполнивши поручения? Сейчас же езжай опять на вокзал и сиди там, если понадобится, хоть три дня.
Я вышел чуть не плача. Я никогда не слышал, чтобы мама говорила таким тоном. Блеск её глаз показался мне безумным. Господи, неужели она сошла с ума!
Посовещавшись за дверью со старшими, решили, что мне не надо ехать. Лидия Мариановна не в себе и не надо всерьёз принимать её распоряжения. Лучше сейчас же послать за доктором. А мне не показываться ей на глаза. Друзья скажут, что я уехал встречать Магу.
Приехал доктор. Констатировал у мамы и Бэлы брюшной тиф. Надо везти их в больницу в Москву. Легко сказать. Пока удалось организовать перевозку, прошло два дня. Я всё время прятался за дверью, прислушиваясь к маминому бреду. Но войти боялся. Ожидание Маги застряло у неё в мозгу, как навязчивая идея. Она постоянно всех спрашивала об этом и успокаивалась только, когда ей говорили, что я дежурю на вокзале. Я думал: «Вот умрёт, а я так её и не увижу».
Маму положили в Старо-Екатерининскую больницу на III Мещанской. Мага приехала через неделю. Она была подавлена выпавшей на её долю ответственностью, нервничала и никак не могла взять правильный тон. У неё не складывались отношения с Варварой Петровной, хотя обе были теософами. Варвара Петровна считала себя главной в школе после мамы, как по старшинству, так и по стажу. Он пыталась руководить как-то уж очень прямолинейно, педантично, по-доктринёрски. Ребята разделились на две партии: Серёжа Чёрный, Лида и Берта поддерживали Варвару Петровну, даже тогда, когда она предложила распустить колонию, хотя бы до выздоровления мамы. Остальные решительно восстали против этого плана. Как, бросить урожай, разъехаться накануне уборки картофеля? Надо отеплять дом и готовиться к зиме. Отказаться от всего этого было бы предательством всего дела колонии. «Ликвидаторы» говорили, что всё равно мы с этим делом не справимся, что у нас половина больных, остальные покрыты фурункулами. Главное сберечь живую силу.
Мага, имевшая до этого дело только с литературой и поэзией, мучительно решала задачу. Распустить ребят — погубить всё дело сестры. Да и куда распускать! Половина сирот — им некуда деться. Держаться во что бы то ни стало — рисковать здоровьем, может быть, жизнью детей. Она долго мучилась сомненьем. Её исключительная нерешительность и неопытность в педагогических вопросах не давали ей остановиться на чём-либо твёрдо. В конце концов она положилась на большинство, на решимость и колониальный патриотизм самих ребят. И сама Мага «пока» всё же осталась, как-то по инерции. Откровенно сказать, пользы от её пребывания для нас не было. Но она и не мешала, занимаясь только своей поэзией[25].
«Ликвидаторы» тут же уехали, мы сразу принялись за дела. Ильинский дом был довольно ветхий, к зиме не приспособленный. Начали работы по отеплению. Первым делом надо было навозить возов сто торфа и поднять его на чердак. Как же его поднимать? Выручил Всеволод. Он укрепил бревно наподобие пушки в слуховом окне. Конец его распилил вдоль, в прорезь вставил спил сосны на шкворне в качестве оси. Перекинул через ось верёвку, к которой привязал большую корзину. Получился блок, как известно из курса физики, относящийся к простым машинам. Таким образом нашлось применение науки к практике.
Двое мальчиков раскапывали торфяное болото около пруда, метрах в двухстах, и раскладывали глыбы для сушки. Один накладывал их на телегу и циркулировал с Рыжим от пруда вверх к дому и обратно. Один накладывал глыбы в корзину, и Всеволод или я поднимали корзины на крышу на блоке и втаскивали на руках на чердак через окошко. Последний седьмой человек резал глыбы на плиты и устилал кусок за куском пол чердака. Мальчиков катастрофически не хватало, зато Вера Пашутина сходила за мужика.
Но нужно было копать картошку. А кого же я мог назначить на это дело? Остались одни малыши и почти всё девочки. Делать было нечего. И так как лошадь была занята, они шли в поле, впрягались в плуг человек по десять-двенадцать и кто-нибудь постарше, чаще всего Шура, выпахивал картошку один ряд за другим. Потом все принимались её выбирать. Совсем как солдатки военного времени.
Каждое воскресенье я ездил в Москву к маме. Кризис миновал, она лежала покорная, не похожая на себя, стриженная под машинку. Говорила каким-то чужим голосом, а из моих рассказов больше половины не понимала. Неужели так и останется, с ужасом думал я.
Зима внедрения
В октябре пришли 25 обещанных с весны ремонтных рабочих. Пришлось отдать им полдома, а самим уплотниться вдвое. Они принялись перекладывать все печи. Старые разломали, между первым и вторым этажами образовались огромные дыры. В первом этаже сломали полы, делали новый накат. Во втором во многих местах проломали потолок для вывода дымоходов. Одновременно чинили и заменяли оконные рамы. Ремонт длился два месяца и в иные дни температура в комнатах падала до − 4°. Целый день стоял шум и грохот, чтобы пройти к кровати, приходилось лезть через кучи кирпичей, грязь была невероятная. В воздухе хоть топор вешай от дыма, пыли и матерщины. Мы должны были кормить рабочих, а их требования всё росли. И к тому же они без конца воровали вещи и продукты. Из сотрудников были только две девушки: Мага и Вера Николаевна. То, что коллектив в это время не распался, то, что мы выдержали «годину бедствий», — за это им и нам надо поставить пятёрку.
Работы наваливались одна за другой. Покончивши с чердаком, принялись за завалинку. Надо было её обвести вокруг всего дома, который имел в первом этаже 9 комнат. Для этого пришлось срубить в лесу несколько сот слег, перетаскать их на плечах к дому, уложить стенкой между вбитых в землю кольев и засыпать землёй промежуток между этой стенкой и стеной дома. Справились и с этим. Вместе с ремонтом, произведённым рабочими, было сделано всё возможное, чтобы отеплить дом.
Было ясно, что имеющимися голландскими печами, даже отремонтированными, дом протопить нельзя. Километрах в трёх нашли какой-то разрушенный дом на кирпичных столбах — источник кирпича и брёвен. Ездили туда, ломали столбы и возили глыбы к себе. Потом мучительно долго разбивали их на отдельные кирпичи и очищали от извести. Много трудились над конструкцией печи-времянки. Главная трудность была в том, что не хватало чугунных плит и приходилось делать своды. В конце концов разработали чертежи на времянку в 70 кирпичей и начали класть. Эта работа мне нравилась. Сложили 7 печей, из них 3-я. Потом ездили в Москву за трубами и коленами. Часть купили на Сухаревке, часть подарили знакомые. Трубы были разного диаметра, стыки затыкали глиной. Всё же наши печки дымили немилосердно. Они давали экономию дров, быстро нагревались, но так же быстро остывали.
При ломке дома у меня были приключения. Раз бревно одного из верхних венцов, на котором я сидел, свернулось и полетело вниз. Я ухватился за него всеми четырьмя конечностями, причём бревно оказалось на мне. На земле были навалены кирпичи и разные обломки. Но, не долетая до земли, бревно легло концами на распахнутые ставни окон и я повис на нём. Другой случай окончился менее благополучно. Серёжа Чёрный ломал дымоход и кидал кирпичи. Так как он всегда работал, не думая о работе и не стараясь о качестве её, швырял кирпичи, не глядя, куда они падают. Я был внизу, и один кирпич угодил мне по голове. На мне была заячья шапка на ватной подкладке, только потому я остался жив. Всё-таки он мне рассёк голову до черепа и вызвал небольшое сотрясение мозга.
Параллельно со сломом дома мы хлопотали об отводе лесной делянки. А пока два человека ежедневно назначались таскать сушняк и хворост из лесу. Лесник выделил участок не дальше версты от дома. Валить лес, обрубать сучья, раскряжёвывать стволы, возить брёвна — всё это были для нас новые операции. Я поправился и занимался ими с увлечением. Почему-то тогда не жалко было (как впоследствии), когда столетняя сосна со стоном начинала падать, ломая свои и чужие ветки, потом глухо ухала на землю, ветви трепетали с минуту и затихали. Я находился в азарте разрушения и старался лишь бы во время выдернуть пилу, чтобы её не зажало, увернуться от вздымавшегося комля, сообразить, легла ли сосна в нужную сторону. Потом являлась злорадная мысль: «Ага, ещё одна!». До весны мы оголили порядочную вырубку.
Но и молотьбу нельзя было откладывать. Цепы, конечно, заняли у Ильиных. Молотить решили на террасе, поскольку другого тока у нас не было, а шли дожди или снег. Молотили в четыре цепа. Сперва ничего не получалось, били в разнобой, друг друга стукали по цепинкам, а то и по голове. Долго пришлось прилаживаться, пока не добились чёткого ритма и очереди ударов, из которых один был сильнее других и как бы вел остальные за собой: «Тра-та-та-та…»
Картошку свезли в одну комнату, опять-таки за отсутствием погреба. Боясь, что она будет прорастать, комнату не топили. Часть картошки помёрзла. Затопили — загнила. Всех незанятых на валке леса и пилке дров ежедневно назначали её перебирать. Отбирали семенную на будущий год. За зиму её перебирали 7 раз. Это была удивительно нудная работа, тем более, что мы берегли даже картошечки величиной с горошину, которые обычно идут на корм свиньям. Немудрено, что младшие мальчики и девочки всячески старались скрасить свою жизнь, совмещая переборку со словесными играми в «интуицию», в «города» и т. п. Но, странное дело, руки и языки не могли работать одновременно и чем оживлённее шла игра, тем больше забывали играющие, зачем, собственно, они сидят на грудах картошки. Когда я заходил в комнату, где сидели переборщики, настроение у меня сразу портилось, я ругался, иногда грубо, отравляя жизнь другим, а сам с горечью думал, что я ведь тоже не рассчитывал быть надсмотрщиком.
К концу ремонта вернулась мама. Я был бесконечно рад этому и в то же время огорчён и испуган. Она была какая-то та и не та, словно чужая, словно душу в ней подменили. Относилась к нам строже, формальнее, подозрительней. И голос у неё стал другой. Я понял, что тиф глубоко изменил её психику и что облегчения мне не будет. Однако я напрасно предавался пессимизму. С течением времени сквозь новую маму всё больше проступала прежняя, привычная, родная. Изменения психики оказались обратимыми. Мамина душа возвращалась в тело вместе с отрастающими волосами, и через два месяца мама была как до болезни.
Мама сразу настояла на возобновлении занятий. Она приняла ещё ряд сотрудников и учеников. Так, поступила к нам Вера Павловна, преподавательница всех искусств. Это была высокая, очень худая девушка лет 30-ти, с длинными тонкими руками и маленькими чёрными глазками, лысоватая, почему всегда не снимая носила на голове кумачёвый платочек, из-под которого виднелись перед ушами два тоненьких колечка волос. Она была очень живая и не гордая характером. Девочки сразу стали её звать в глаза и за глаза Верочкой Палочкой. Она была художницей и, к великому облегчению Яшицы, взялась за уроки рисования. В то же время она преподавала дикцию, которая сводилась к коллективной декламации. Наконец, она наладила уроки «пластики», то есть пластической гимнастики. Я сам удивился, что охотно принял участие во всех этих занятиях. Очевидно, это была реакция против изматывающей физической работы. Вера Павловна, кроме того, охотно дежурила по дому, по мытью посуды, перебирала картошку. Справедливость требует признать, что на последней работе от неё было больше вреда, чем пользы — она была главной заводилой словесных игр.
К этому времени, в результате маминых хлопот, МОНО выдало колонии сколько-то метров ситца розового в полоску и голубого в крапинку. Из них были сшиты маленьким мальчикам розовые рубашечки, а маленьким девочкам — голубые сарафанчики. Кроме того, получили несколько детских беличьих пальтишек, которые стали носить младшие девочки. Это был единственный богатый дар МОНО за все годы. Всеволод приклеил младшим мальчикам прозвища «полосатые», а девочкам — «киски».
К нам привезли Марину Бурданову, девочку тоненькую, хрупкую, способную ко всяким искусствам, но неясно, к каким именно. Она производила впечатление очень одухотворённой и потому сразу очаровала маму.
Немного позже к нам приехала другая девочка, сирота, тоже красивая, с большими синими глазами, с тёмными волосами и итальянским типом лица, Ляля. Она воспитывалась в православной семье и была очень набожна.
Алёша, всеобщий любимец, был большой задира и дразнила, прозвал их обеих, а заодно и всех «кисок» «фейно-лилейными», что, по его мнению, означало полную неприспособленность к практической жизни и было самым последним делом.
Наконец, к нам поступил Гриша Каплан, умный, хороший, нескладный еврейский мальчик, всезнайка, но очень неумелый в физической работе. Серёжа Чёрный, ощущавший органическую потребность кого-нибудь дразнить, нашёл в нём отличную жертву и даже дал отдохнуть Шуре Иевлеву.
Вместо изгнанного Кости приняли сразу двух Костей, по прозвищам Большой и Маленький. Большой был великоват, но по учёбе отстал и вполне подходил в нашу группу.
Как-то утром появились у нас мой двоюродный брат, семилетний Мишутка, живший в Тарасовке с родителями Леной и Сашей, полуторагодовалой сестрёнкой Наташей и няней Анютой. Он пришёл в конце зимы, в оттепель, насквозь промокший и продрогший. Он вышел после обеда и заночевал в какой-то избе. Он не знал дороги, несколько раз сбивался и плутал. Оказывается, он пришёл за 14 километров искать своих родителей, которые уехали на работу в Москву и уже два дня не возвращались. Он думал, что родители у нас. Но у нас их не было. Мама сразу догадалась о причине их отсутствия. И действительно, вскоре подтвердилось, что оба они были опять арестованы прямо в городе на работе. Пришлось взять в колонию на правах членов маминой семьи не только Мишу, но и Наташонку с няней Анютой.
Наташонке исполнилось 2 годика. Это была настоящая фарфоровая куколка, крохотная даже для своих малых лет и прелестная. Она носила сшитое Анютой синее тёпленькое платьице и любила, чтобы её называли «Мальчик Василёк».
Миша питался с колонистами в столовой, а Анюта с Наташонкой в своей комнате. Анюта была настолько стеснительна, что не могла себя заставить приходить в столовую за пищей, когда там были все колонисты. Поэтому она посылала Наташонку. Это было курьёзно. Еле видная от пола, с тарелкой в тоненьких крошечных ручках, она, подходя к дежурным, говорила: «Вторлого на двоих».
За арестом Гельфготов последовал обыск в колонии, главным образом в комнатах сотрудников. Мама успела спрятать свои дневники, хотя в них ничего предосудительного не было, а больше брать было нечего. К тому же чекисты были так удивлены предложенным им обедом, что не очень усердствовали.
Последним нашим приобретением за эту зиму была Тоня. Её роль в дальнейшей истории колонии была громадна и ужасна. Если последующая жизнь в Пушкине представляется большинству участников как самый светлый, самый радостный период нашего существования, то Тоня играла роль демона, вселившегося в самую душу колонии и систематически отравлявшего существование мамы и всех нас. Благодаря маминому терпению и сдержанности только через 50 лет мы, когда расшифровали её дневники, в полной мере узнали о тех страданиях, которые ей причиняла Тоня, и о тех поистине титанических усилиях, которые та прилагала, чтобы оторвать маму от колонии.
Тоня Павловская была дочерью профессора, жившего в Петрограде. По её словам, родители били её, плохо обращались с ней, постоянно наказывали. Когда она подросла, она стала посещать церковь, настоятель которой, отец Иоанн, создал религиозную общину с чрезвычайно строгими правилами. Тоня стала экзальтированной последовательницей этого вероучителя. По её словам, родители, которым она надоела, попросту выгнали её из дому. В это время с ней познакомилась Мага и приняла в ней участие. Приехав к нам, Мага принялась хлопотать и за Тоню. Она говорила, что ей совершенно некуда деться, а её тяжёлый характер исправится под влиянием нашего здорового коллектива.
Мама решила взять Тоню на испытание. Когда та приехала, мы были поражены её отталкивающей внешностью: узкие всегда опухшие глазки свинцового цвета, очень низкий, словно срезанный лоб, одутловатые щёки, выпяченные негритянские губы, широкий нос.
Месяц испытания Тоня держалась сравнительно хорошо. Она добровольно принялась за приведение в порядок нашей библиотеки и занялась этим очень усердно. Как всегда в таких случаях, после испытательного срока, когда человек привыкает и вроде становится членом коллектива, кажется очень жестоким его отправлять на все четыре стороны. И в этот раз мы проявили малодушие и, хотя с тяжёлым сердцем, с большой неохотой проголосовали за принятие Тони в колонию. Вот тут мы и почувствовали, какую услугу нам оказали нежные Тонины родители: они, как кукушки, снесло яйцо и подсунули его в чужое гнездо. А кукушонок, когда вырос, стал выпихивать из гнезда основных птенцов. Но об этом потом.
Продолжу о занятиях. Мама, кроме истории братства, начала ещё два предмета, совершенно невозможных в советских условиях: историю религий и историю утопий.
Вообще-то, история религий не была новостью. Но везде, где она преподавалась, это делалось под углом зрения какой-то одной религии, причём она утверждалась, а все остальные опровергались. Или же они все проходились с точки зрения антирелигиозной пропаганды. А так её изучать, чтобы во всех религиях подчёркивать положительные стороны и, отводя на второе место различие обрядов и некоторых догматов, выделять то общее, главным образом, этическое, содержание, которое во всех них имеется, — это, действительно, было невиданно. Разве что есть где-нибудь ещё теософические школы?
История утопий была задумана как обзор мечтаний лучших умов человечества о социальной справедливости. Познакомившись с целым рядом таких мечтаний, мы должны были разобраться, что в их утопиях «утопично», а что реально, к чему нужно и стоит стремиться, и при каком строе человечество получит наибольшие возможности умственного и духовного развития. К остальным предметам у разных ребят было разное отношение. Но история утопий, начиная с Фомы Кампанеллы и кончая А. А. Богдановым, увлекла решительно всех. При этом не был забыт и Маркс и в научном коммунизме, как в одной из утопий, мама тоже постаралась выявить рациональное зерно.
Мага преподавала историю. Она начала с Индии и чересчур подробно остановилась на разборе «Махабхараты» и «Рамаяны». А так как историю религий мама тоже начала с индуизма, то мы были пресыщены событиями, происходившими на поле Курукшетра, которые причудливо переплетались с прозаическими событиями нашей рабочей жизни. Если бы надо было изобразить эмблему жизни колонии в то время, то на щите её я бы нарисовал царя Дритараштру и кота Которашку.
Мага, освободившись от ответственности за колонию, заняла своё место. Кроме преподавания истории, она многим помогала найти себя, особенно ребятам, склонным к искусству. Вера Павловна руководила формой, а она глубоко чувствовала внутреннее содержание искусства.
Вера Валентиновна вела литературу. Это был её первый опыт. В первый год она подробно остановилась на творчестве Пушкина и Тургенева. Она глубоко разбиралась во внутренней идее каждого произведения, исчерпывающе раскрывала мир каждого героя. Её уроки были трудными, но очень интересными. Она задавала нам писать сочинения. Я помню, как огорчил и возмутил её, написав сочинение на тему «Сравнительная характеристика Рудина и Лежнёва». В нём я доказывал, что Рудин — пустоцвет, стремится ко всяким там идеалам, но ничего не делает, только сумел умереть красиво. А Лежнёв — работяга, не претендуя на высокие цели, понемножку делает своё маленькое дело и приносит людям маленькую, но конкретную пользу. Отсюда мораль: будем как Лежнёв. Вера Валентиновна чуть не плакала, она столько красноречия потратила, чтобы доказать превосходство Рудина. Но я был упрям, и надо мной довлела философия молотьбы и переборки картофеля.
Над всеми предметами господствовали математика и физика. Варвара Петровна вела их с педантизмом опытного преподавателя. Идеи Дальтон-плана показали свою нежизненность и его отмели. Материала было очень много, она ездила за программами МОНО и боялась отстать. Из-за сельскохозяйственных работ наш учебный год был гораздо короче, чем в московских школах. Она пыталась компенсировать его краткость обильным задаванием уроков. В результате мы три четверти времени просиживали над её задачами и недоделывали уроки по остальным предметам. Математика такой предмет, что задаётся по номерам; их можно сделать или не сделать. А остальные уроки можно недоделать, недоучить и это не очень заметно. Поэтому математика у нас всегда пользовалась приоритетом, и остальные преподаватели сильно ревновали к Варваре Петровне.
Физику нельзя было проходить на пальцах, и Коля был выделен для изготовления приборов. Как он ухитрялся их делать голыми руками из деревяшек и консервных банок при почти полном отсутствии инструментов, я диву давался. Он ухитрился даже паровую турбину изготовить. Ну, на то он и был технарь и алхимик.
Кроме того, в то время я страдал лунатизмом. Это вообще была у нас распространённая болезнь. Многие ребята презабавно разговаривали во сне, и я вместе с другими любил слушать и потешаться над говорящими. Но то, что выкидывал я сам, превосходило остальных. Однажды ночью мне приснилось, что я верхолаз. Мои соседи по комнате Коля и Серёжа рассказывали, что после длинного монолога на тему: «Давай, давай, полезай, зацепляй вот за ту балку» и т. д., я вскочил на кровати и полез на полку, висевшую над ней, где хранились семенные брюквы, здоровенные дули с детскую голову величиной. Влезть на полку я не мог и стал подтягиваться не руках, держась за её край. На третьем подтягивании полка рухнула и я оказался на кровати весь заваленный брюквой и засыпанный землёй. Тут я проснулся.
Незадолго до нового года к нам в колонию нанялся рабочим юноша Сигизмунд. До этого он служил работником у бывшего хозяина имения, Алексея Александровича, но, будучи парнем культурным, он сравнил душную атмосферу его жизни с культурной, хоть и голодной, жизнью колонии и предпочёл последнюю. С этим Сигизмундом я в начале января отправился в дальнее плавание за коровой, на которую мама выхлопотала ордер в Москве, в Мосземотделе. Корову надлежало получить в совхозе Шпилёво около Дмитрова, километрах в 50-ти от нас.
Запрягая Рыжего, взяли ему на 3 дня сена, да маленько на корову, себе на 3 дня хлеба и поехали. Ехали сначала по знакомым местам через Братовщину, Ельдигино, Бортнево. Первую ночь ночевали в Володкине в знаменитой местной школе, построенной силами тех же Дмитровских крестьян-кооператоров. Эта замечательная школа жила, не получая от государства ни копейки, на заработки школьной столярной мастерской. Ребята изготавливали на продажу мебель, профессионально сделанную и украшенную резьбой по абрамцевским образцам.
Второй день был тяжёл: въехали на Клинско-Дмитровскую гряду и просёлок пошёл нырять в такие глубокие долины и овраги, что Рыжий насилу вытягивал дровни, а мы, чтобы облегчить его, шли в гору. В Шпилёве нам корову не дали — заведующий уехал в Москву. А послали в деревню Драчёво за 10 км догонять какую-то могущественную комиссию. Комиссия приняла нас на 3 км к югу в Ермолине, где с нас взяли 3500 руб., но корову не дали, а послали опять на 15 км к северу во Влахернскую. Наконец во Влахернской нам выдали корову, первотёлку, маленькую как телёнок и дававшую 1,5 литра молока в сутки. Нас предупреждали, что она до Пушкина не дойдёт, поэтому мы взгромоздили её на сани и привязали верёвками. Самим места не осталось и мы опять шли пешком. Прошло уже 5 суток с тех пор, как мы выехали, вместо 3-х, на которые рассчитывали. Хлеб давно кончился. В отдельных совхозах нам перепадало немного картошки, а Рыжего мы кормили выпрошенной соломой или воровали на ночлегах сено.
Поднялась страшная метель, дорогу занесло. Идти, да ещё голодным, было очень трудно. Наконец дорогу занесло совсем. Рыжий сбился с неё, провалился по брюхо и перевернул сани на корову. Мы с трудом его распрягли, подняли сани и отвязали коровёнку. Между тем, Рыжий вскочил и отправился куда-то в белую мглу. Мы погнались за ним, тут корова встала и отправилась в другую сторону. Сигизмунд бросился за ней, а я за Рыжим. Мы проваливались по пояс в снег, растеряли рукавицы. В нескольких метрах ничего не было видно, я почти терял лошадь из виду. Наконец, я догнал её и с радостью увидел рядом какой-то тын. Я привязал Рыжего к нему и по следу вернулся к месту катастрофы. Между тем Сигизмунд поймал корову и привязал её сзади к саням. Мы впряглись в оглобли и с большим трудом вытащили сани из сугробов к тому месту, где стоял Рыжий. Это оказалась околица деревни. Снова запрягли, снова уложили и привязали корову.
Деревня оказалась Алёшиным. В ней была чайная. Мы задали скотине последние клочки соломы, а сами на радостях выпили по 10 стаканов чая. Это был рекорд всей моей жизни. Выехали уже в темноте, нам оставалось 25 вёрст. Приехали в 2 часа ночи. Я ног под собой не чувствовал и не знал, жив я или мёртв.
Корова была тугосисая, но всё-таки её удалось раздоить до 3-х литров, что обычно хватало на 5–6 больных, всегда имевшихся в колонии.
Надо сказать, что, отправляясь за коровой, я находился в особо возбуждённом состоянии. За неделю до того наша единственная комсомолка Лида Кершнер, уезжая на несколько дней в Москву, бросила мне записку, содержащую объяснение в любви. Это произвело на меня ошеломляющее впечатление. Я привык к мысли, что романы мои могут быть только невысказанными и неразделёнными, храниться исключительно в моём сердце и воображении. Но что меня может полюбить какая-нибудь девочка и признаться мне в этом — это совершенно не приходило мне в голову, не лезло ни в какие ворота!
Поэтому, получив записку, я был на седьмом небе от счастья, хотя я Лиде не симпатизировал. Её критические выступления на собраниях, её сарказм, насмешки, какое-то холодное колючее остроумие меня раздражали. Но тут вдруг Лида представилась совсем в другом свете. Она так хорошо, так искренне написала. Как надо было ей ответить? В духе Онегинского ответа Татьяне? Это было бы жестоко, противно. Я написал ответ, который в третьем варианте (я всё смягчал его) выглядел так: «Лида, мне очень не хочется сделать тебе больно, но по чистой совести я не могу дать тебе другого ответа: я не люблю тебя так, как ты меня любишь. Пожалуйста, будем друзьями. Если можно. Даня». Я сунул ей записку, уезжая за коровой.
Понятно, что в дороге я находился в волнении. Как она приняла мой ответ? Наверно, огорчилась. Не слишком ли прямо я ей отказал? Ведь у неё расширение сердца!
Вернувшись, я с радостью увидел, что Лида изменилась: стала тихой, кроткой, внимательной к людям. Я уже думал, какая жалость, что я её не люблю, эдакая редкость: первый раз в жизни меня полюбили, а я нос ворочу. А почему, в сущности, я её не люблю? Вон она какая хорошая стала, даже внешне похорошела и чёрную бархотку на русых волосах носит. А тут ещё весна! Дело дошло до устного объяснения, во время которого я признался, что не распробовал самого себя. Конечно же, я тоже люблю!
Раз я сидел на крыше одноэтажной кухни. Лида стояла внизу:
— Даня, ты сделаешь, что я прошу?
— Что хочешь, хоть с крыши прыгнуть.
— Ну, прыгни.
Она не успела глазом моргнуть, как я уже был на земле и тщетно старался подняться — я сильно растянул себе связку. Лида подбежала.
— Ну какой же ты дурак, ведь я же пошутила, я не думала, что ты всерьёз прыгнешь. — С месяц продолжалась у нас идиллия, потом мы решили, что надо рассказать о нашей любви обеим мамам. Реакция была различная. Моя мама была очень огорчена, не о такой девушке для меня она мечтала. Но она постаралась подавить в себе неприязненное чувство, чтобы не омрачать нашей радости. Постаралась понять, полюбить Лиду (она как-то усилием воли могла это делать). И сказала нам, что всей душой благословляет нашу любовь. Лидина мать, Полина Лазаревна, напротив, возмутилась, растревожилась, что Лида «растрачивает нервы» на всякую ерунду. Она ей сказала:
— Чего ты радуешься? Полюбила мальчика, который к тебе равнодушен, вложила в него свою любовь, потом вынула её назад, и думаешь, дело сделала. Да он тебя через полгода разлюбит.
Надо сказать, что анализ наших отношений был совершенно правилен. Но она и сама способствовала нашему охлаждению. По болезни Лида должна была большую часть времени проводить в Москве и находилась под сильным влиянием матери. Я ездил навещать её, и хотя меня принимали вежливо, я чувствовал себя в их квартире, как во вражеском штабе. Полина Лазаревна написала маме письмо, обвиняя её в потворстве нашей незрелой любви, в пренебрежении Лидиным здоровьем и даже в антисемитизме (!)
Во время кратких приездов в колонию к Лиде стали возвращаться прежние привычки язвительности. В это время её отцу вышла годичная командировка в Англию. Он хотел взять с собой всю семью. Дело долго тянулось. Наконец в июне все формальности были окончены. Я очень переживал Лидин отъезд. Накануне его она и Серёжа Чёрный устроили общее собрание без педагогов, на котором они выдвинули против нас и против наших порядков множество обвинений, в значительной степени несправедливых.
В колонии была в моде глупая игра в «бери и помни». Два играющих старались передать друг другу какую-нибудь вещь. Берущий её должен был сказать «беру и помню» (à discrétion). Если он это забывал, то он считался проигравшим и должен был исполнить любые требования победителя. Я только один раз впутался в это грязное дело. Моей партнёршей была Берта. Во время какой-то запарки Николе срочно понадобилась лопата, Берта передала через меня свою и я, думая в этот момент только о работе, забыл сказать сакраментальное слово. Берта обещала подумать, что от меня потребовать. Вечером она сказала, что завтра я должен говорить только по-французски, послезавтра вообще не говорить, а только петь, как в оперетке, на третий день я должен на любое обращение отвечать глубоким средневековым поклоном, проводя шляпой по земле. Я был так поражён этими требованиям, что не нашёлся даже, что ответить, и ушёл на целый день в лес. Как я буду распределять работы? Со дня на день ожидали агронома из МОНО, которого я должен был принимать как председатель сельхоза, предстояло обсудить с мамой ряд хозяйственных вопросов. Но главное — послезавтра Лида должна была уезжать в Англию, я предвидел мучительное и трогательное прощание, и вдруг я должен буду прощаться нараспев! Вечером я пришёл к Берте.
— Ты можешь считать меня подлецом, но твои требования я выполнять не буду.
При этом у меня был такой отчаянный вид, что Берта смутилась.
— Да я что, я ничего! Это Лида меня научила, что с тебя потребовать.
Я был как громом поражён. Так это сама Лида постаралась приготовить нам прощанье в виде опереточного кривлянья! Я ничего не сказал Лиде и провел прощанье на уровне мировых стандартов. Но я понял, что нашей любви пришёл конец.
В первую зиму мы готовили много спектаклей. Я изменил своё отрицательное отношение к артистической деятельности. Ставили «Двенадцатую ночь» Шекспира, причём Лида играла Оливию, а я — Виолу, женщину, переодетую мужчиной. Для этой роли мне прицепили косы Веры Пашутиной, которая незадолго перед этим остриглась. Я находил, что они мне очень к лицу и долго вертелся перед зеркалом.
Затем, уже в разгар романа мы репетировали «Где тонко, там и рвётся» Тургенева. И опять-таки Лида играла Веру, а я Горского. Роль мне не нравилась, я капризничал, и был рад, когда спектакль не состоялся. Полина Лазаревна нашла, что Лида опять-таки тратит много нервов на исполнение своей роли, и запретила ей играть.
Наконец, к весне поставили грандиозную постановку в Магиной инсценировке, не помню, как пьеса называлась. На неё пригласили соседние колонии. Спектакль длился четыре с половиной часа и кончился полным изнеможением всех артистов и зрителей. Я в нём играл небольшую роль.
Весной к нам пришёл новый сотрудник — Олег, сводный старший брат Маринки. Высокий, красивый юноша с чёрными кудрями, он, казалось, обладал всеми талантами и добродетелями. Хорошо рисовал, писал стихи, самоучкой научился играть на рояле и даже импровизировал, знал математику и физику и брался преподавать её в младшей группе, был начитан, хотя терпеть не мог романов. Он основательно изучил все философские системы и остановился где-то между толстовством и православием, был последовательным вегетарианцем, даже обувь старался носить вегетарианскую, и мечтал о безлошадном, мотыжном земледелии. Он был строго целомудрен, никогда не допускал в разговоре каких-либо грубых, не то что бранных, выражений. Когда у нас начинались танцы, он уходил, считая это занятие неприличным. В то же время он не брезговал никакой тяжёлой физической работой, хорошо владел топором и был изобретателем, то есть умел конструировать и строить самодельные машины. У нас построил: картофельную тёрку для изготовления крахмала, картофелесортировку, чигирь для поливки поля в засуху, наблюдательную сторожевую вышку, овощехранилище на 2000 пудов овощей и картофеля и, наконец, избу для себя и ещё двух человек. Очень практичным его вкладом явилась сконструированная им печь на 200 кирпичей с духовыми камерами, вокруг которых лабиринтом извивался дымоход. Печь была в рост человека и называлась «бегемот». Она была очень экономна и хорошо держала тепло. Я тоже научился их выкладывать. Бегемоты, поставленные в нескольких комнатах, сильно улучшили их климат. При большой серьёзности Олег никогда не отказывался принять участие в подготовке наших праздников, внося в них дары своего таланта и мягкого юмора. Таким примером может служить его сочинение — опера «Фауст». Таких его произведений было не одно, некоторые в соавторстве с его матерью, хорошей певицей, музыкантом и композитором, впоследствии ставшей нашей преподавательницей музыки и пения. Она поставила у нас много детских опер собственного сочинения, была таким образом душой колонии, любимой всеми, и детьми и взрослыми.
Из новых ребят мы приняли зимой двух «церетеллят» — младших братьев известного артиста Камерного театра Николая Церетели Жоржа и Валерия. Они каким-то образом были наследниками эмира бухарского, их полная фамилия была Церетелли-Мансур-Мангит. Впрочем, они ни в малой степени не претендовали на бухарский престол. Они были высокими брюнетами с типичным оливковым цветом лица, выдававшим их грузинско-узбекское происхождение. Впрочем, лицо младшего, Вали, было весьма миловидным. Он был ловок, игрив, недисциплинирован, во всех случаях предпочитал женское общество, в котором играл роль эдакого Керубино. Мага взяла над ним покровительство, стараясь сделать из него человека. Но это не имело успеха. Она не была педагогом, а Валя был неподатлив. Жорж был некрасив, косоглаз, но спокойный и уравновешенный скромный мальчик.
Ребята, которые не были сиротами, врастали в колонию семьями. Их родители составляли как бы второй внешний круг сотрудников колонии. Они приезжали и иногда попросту гостили у нас. В свою очередь, они снабжали нас чем можно, исполняли деловые поручения, хлопотали по нашим делам в МОНО и других организациях. А если у колониста были братья и сёстры, то они постепенно перекочёвывали к нам в колонию. Так вышло и с новым мальчиком Костей Архангельским, или Костей Большим, но об этом далее.
Вера Павловна задумала читать по вечерам старшей группе Ибсена. Мы прочли «Пер Гюнт», «Доктор Штокман», «Строитель Сольнес», «Росмерсгольм», «Кукольный дом». Мы были подавлены обилием трагических ситуаций. Многие по ночам не спали, почти впадали в истерику. Хорошо, что мама вовремя прекратила эти чтения и попросила Магу дать нам противоядие. Мага читала нам «Балаганчик» и «Незнакомку» Блока и умно и глубоко комментировала их на основании личного знакомства с Блоком. Хотя Блок был непрост, однако он помог нашим душам вернуться на своё место и к концу зимы избавиться от полученной порции неврастении.
Первое нормальное лето
С весной остро встал вопрос о купанье. После тяжёлой работы и весёлой возни нам страх как хотелось выкупаться. Но начало сезона ещё не было объявлено. Мама заявила, что она его объявит, только когда градусник в воде дойдёт до 16°. Он, проклятый, никак не дотягивал. Уж мы его трясли и вверх ногами переворачивали… никак! Раз я дотряс его до 15.5, пришёл к маме, говорю:
— Не будем мелочиться, полградуса погоды не делает.
— Нет, цены государственные, здесь не базар, я не торгуюсь.
Что ты будешь делать с такой принципиальностью! Мы приняли контрмеры. Принялись чинить, конопатить лодку. Но ведь отремонтировав, её надо испытать. А если испытывать, особенно вчетвером, то (если раскачать) она может и перевернуться. Да и ремонт был такой, что лодка всё же сильно промокала. И перевёртывалась-таки! Но ведь… это авария, катастрофа, тут уж ничего не пропишешь, надо спасаться вплавь!
Ещё лучше это удавалось с плотом, когда на него вставали не двое ребят, которых он мог выдержать нормально, а 5–6. Он немедленно накренялся (конечно, с помощью стоящих на нём) и… все с шумом и смехом кучей летели в воду. Вскоре Лидия Марьяновна вынуждена была запретить катанье на лодке и на плоту. Но разрешила мыться на пруду до пояса. И тут ребята изобрели способ фактически купаться, вернее, окунаться. Они мылись до пояса. А после с честными глазами объясняли Лидии Марьяновне:
— Ну, вы ведь до пояса разрешили?!
Так мы, по мере сил, обманывали маму, пока градусник не добрался до 16°.
На вторую весну я выучился пахать и находил в этом немалое удовольствие. Приятно было глядеть на бархатную свеже-вспаханную загонку, приятно запахивать под пласт сорняки: «Ага, попались!» Приятно было, как маятник, ритмично ходить из конца в конец поля.
Вообще поэзия сельского хозяйства меня увлекала. Я рассуждал: если я этим займусь, когда кончу школу, 1) я обеспечу себя продуктами и ни от кого не буду зависеть, 2) я буду улучшать, украшать природу, 3) я буду жить зиму, свободную для умственных занятий. Я напишу книгу: как начинать сельское хозяйство людям, которые ничего об этом не знают, чтоб им не пришлось вначале мучиться, как мне. Правда, я жалел, что променял Машутку на Лиду, с Машуткой это было бы куда складней, Лида же решительно не вписывалась в мою агрономическую идиллию. Ах, Лида, Лида… Как ты некстати мне подвернулась!
Пришли новые ребята. Упомяну только некоторых. Мы приняли Иру Большую, высокую худенькую девочку, вначале бывшую грустной, отчуждённой и постепенно за все годы колонии (как и всей жизни) расцветавшую. Вероятно, она была грустна, потому что была сирота, как, впрочем, и все принятые в ту осень.
Наконец, раз приехали сразу трое: две сестры и их тётка-ровесница старшей. С ними вышел смешной случай. Дежурной по дому в тот день были Нина Белая, Нина Чёрная и новая сотрудница, преподавательница ритмической гимнастики Нина Сергеевна. Они спросили одну из новеньких:
— Как тебя зовут?
— Нина.
— А тебя?
— Нина.
— И ты, небось, тоже Нина? — И, не дождавшись ответа, одна из дежурных с досадой сказала. — Ну не шутите! А как по-настоящему то?
— А вас как зовут?
— Нина, — ответили хором дежурные, а преподавательница ещё добавила: — Сергеевна.
— Это вы шутите, а не мы. Ну как по-настоящему-то?
Но скоро все они поняли, что из шести человек оказалось пять Нин, считая и преподавательницу, и только одна Галя. Новеньких нарекли Нина Большая и Нина Маленькая, в отличие от уже имевшихся Нин — чёрной, беленькой и зелёной, как звали девочки Нину Сергеевну.
Отрицательной стороной сельского хозяйства является необходимость всё сторожить. Это хозяйство распространено по площади и каждую частицу норовит кто-нибудь украсть.
После того как вывезли нашу кладовую, мы сломали лестницу, которая вела к кладовой снаружи.
Но ведь надо было сторожить лошадь; ребята сначала трусили ночью сторожить. Мама решила показать им пример и несколько ночей сторожила у конюшни сама. Потом появилась корова. Тогда Коля сконструировал кибернетический автомат для её охраны: верёвка натягивалась, когда открывалась дверь коровника. Она была протянута в помещение, где спал Сигизмунд. Верёвка сдёргивала слегу, укреплённую под потолком.
Слега падала на пустое ведро. Сигизмунд от грохота просыпался и поднимал тревогу. Ох, и механик этот Коля, предвосхитил эпоху автоматики!
Когда стали гонять Рыжего в ночное, я опять не удержался и написал стихотворение, которое называлось:
Опытно-показательная идиллия
Сквозь беззвучный чёрный фон Смотрят звёзд предвечных очи, Только тихий чудный звон Нарушает тайну ночи. То не грешных душ стенанье, Что горят в безбрежье мук, То не звёздных стад блеянье, То не арфы мира звук, То не судеб грозный лист Парка старая прядёт — То несчастный колонист Рыжего пасёт; А инструмент, что в аллее Вызывает отзвук бледный, То у Рыжего на шее Колокольчик медный. В доме спят все безмятежно, Лишь один средь тьмы завесов Стережёт ночной прилежно — Жертва общих интересов.Далее следовало описание, как ему хочется спать, как у него промокли ноги, как Рыжий залез в соседский овёс, лягается и не хочет оттуда уходить и т. д. Когда всю ночь нечего делать, а спать нельзя, поневоле станешь поэтом.
Поступили и новые сотрудники. Мы получили, наконец, естественника — Сергея Викторовича Покровского. Это был биолог старой школы, один из тех скромных учёных, которые, не претендуя на вклад в теорию, видит свою цель в полевых наблюдениях, обучении молодёжи любимой науке и издании книг и статей о ней. При этом он не помышляет ни о степенях, ни о званиях и потому всегда перебивается на грани нищеты. Сергей Викторович имел жену, трёх сыновей и приёмную дочь и приёмного сына, поэтому он не мог к нам переехать и только приезжал из Москвы раз в две недели. В эти дни отменялись все другие уроки и время отдавалось только ему.
Сергей Викторович был невысоким человеком, склонным к полноте, с длинным и острым носиком и в очках. Преподавал он увлекательно, в каждом живом существе он подмечал неповторимые особенности и рассказывал о нём так живо и образно, что не заинтересоваться его предметом было невозможно. Для меня, по крайней мере, его приезд всегда был праздником.
У нас работала портниха Ксения Харлампиевна, вдова лет сорока. Шила ребятам розовые рубашки и девочкам голубые платьица из ситца. Она решила одеть также Всеволода. Часто требовала его на примерку в свою комнату, выходившую в столовую. Раз, когда мы обедали, оттуда вылез Всеволод, красный как рак и с такой смущённой и сияющей рожей, что для меня сразу стало ясно, что там произошло объяснение.
Несомненно, Ксения Харлампиевна проявила инициативу. Всеволод не помышлял ни о какой любви. Он был так тронут, что сразу клюнул. Она никак ему не подходила. Она была лет на 12 старше его, к тому же рябовата, он был тогда бодр и деятелен и с исключительно привлекательным лицом, она — с ленцой и плаксива, он был почти всегда весел, она мрачна, он был бессребреник, она скопидомка. Но ситуация была мне хорошо знакома — он полюбил её за то, что она полюбила его. Хорошо, что мне было 15 лет и я не совершил рокового шага. Всеволод же через две недели женился на Ксении Харлампиевне. Мы торжественно отпраздновали их свадьбу, после чего он увёз жену к себе на родину, в Керчь. Мы с большой грустью распрощались с этим добрым, замечательным чудаком. После войны я разыскивал его в Керчи, но только тогда узнал, что он погиб на фронте.
Наконец, уход Всеволода, а вскоре и Сигизмунда, который поступил куда-то учиться, заставил нас взять рабочего — один взрослый мужчина был необходим. Подвернулся некий дядя Николай, мужик лет 50-ти с утиным носом и выпирающим брюхом. Очень не хотелось брать случайного, не идейного, человека, но нечего делать. Идейного не находилось.
Дядя Николай вначале был очень хорош. Крестьянин из Рязанской губернии, прекрасно знавший сельское хозяйство, добросовестный работник, он был очень полезен на всех работах. Вообще молчаливый, объяснявший это поговоркой «много баить не подобаить», он, тем не менее, иногда любил сострить. Например, когда я раз пожаловался на дырявую обувь и сказал, что у меня из-за этого всегда мокрые ноги, он ответил:
— Сам виноват, потому что только одну дыру проделал. Вот у меня в каждом сапоге по две дыры, в носке и в пятке. Вода с одного конца втекает, с другого вытекает, и ноги всегда сухие.
Несмотря на то, что мы старались наладить наилучшие отношения с соседней Новой Деревней, у нас с ней вышла настоящая война. Новодеревенцы не удовлетворились прошлогодним решением уездного совета и потребовали отдать им два с половиной гектара земли. По настоянию мамы мы, не желая ссориться, решили отдать им землю, но после того, как выиграем дело. Однако в волостном совете мы его проиграли и не стали обжаловать. Как только они получили опорный участок, они стали претендовать на всю остальную землю, причём с посеянным нами урожаем этого года. Урожая этого мы дожидались как манны небесной. Половина ребят уже была нетрудоспособна на почве голода. Фурункулёз, кровавые поносы из-за питания снытью и всякой дрянью, у всех старших мальчиков — расширение сердца. Я пытался затыкать все дыры в работе, но, наконец, свалился и я.
Сельхоз лег на узенькие плечи неумелого и вовсе неспособного ни к какой работе Серёжи Чёрного. А крестьяне говорили при частых встречах:
— Лучше отдайте урожай, а то ведь он у вас всё равно сгорит. — И действительно, когда осенью свезли необмолоченные ещё снопы и сложили их за неимением другого места на террасу, ночью крестьяне их подожгли. К счастью Бэла, дежурившая в ночном, быстро заметила пламя и двух убегавших мужчин. Она подняла всю колонию. Выскочивши полураздетыми, мы быстро организовали цепи от пруда, по которым передавали вёдра с водой. Всеволод влез в холодную воду (дело было в октябре), черпал и подавал их на высокий берег, кто-то растаскивал снопы граблями. Всеволод и Костя влезли прямо на гору горящей соломы, им подавали вёдра и они поливали сверху, вилами сбрасывали горящие снопы.
В жизни не видел такой дружной, такой самоотверженной работы. Мы спасали не только урожай, но всю колонию. А вместе с ней все наши надежды на будущее. Ведь снопы горели на деревянной террасе деревянного здания!
Маленький Алёшка пытался не отстать от больших. Олег спокойно, не бегая, давал всем, не участвовавшим в тушении, деловые поручения и успокаивал испуганных девочек. Галя, чувствуя себя ответственной за всю группу маленьких и больших, обращалась с разными словами то к одному, то к другому. Ей поручили одеть и вывести из дома всех больных и маленьких на случай, если загорится дом. Эта группа, закутанная в одеяла поверх одежды (ночь была холодная), стояла в стороне у дома Алексея Александровича. Бывший владелец дома, наш сосед, стоя в стороне от всех, схватившись за голову руками, громко стонал, раскачиваясь.
Снопов погорело много, но колонистам всё же удалось справиться с огнём. Как-никак у нас был немалый опыт в тушении пожаров, постоянно возникавших из-за времянок и коптилок. Этот пожар был двенадцатым. Мы, на всякий случай, заранее распределили роли, избрали Всеволода Бранд-майором.
Подобный поджог повторился ещё раз той же осенью.
Во время большого пожара мама была в Москве. Она отчаянно боролась за жизнь колонии. Ходила по учреждениям, выхлопатывала «бронированный» паёк, санаторный паёк, пыталась связаться с американскими квакерами, помогавшим детским колониям, добывала вторую корову, книги, искала технических сотрудников. Опять проходила почти босая по 30 верст в день. Просила, умоляла. Спорила, но была спокойна душой, потому что верила, что делает нужное и важное дело.
Вся педагогическая работа тоже держалась на маме. Вот как вспоминает своё знакомство с ней одна из колонисток, Галя.
При первом же знакомстве Лидия Марьяновна поразила меня своим лицом, главным образом своими проникновенными, внимательными и бесконечно добрыми глазами. Сила её взгляда и слова были огромны, как ток магического действия, при обращении не только к нам, детям, но и ко взрослым. Любовь её и моя к ней помогли мне справиться с большим детским горем: мы недавно потеряли обоих родителей. С годами моё восхищение и удивление только росло: где берет силы на все свои обязанности эта невысокая, худенькая и слабая женщина. Лидия Марьяновна вникала абсолютно во все стороны жизни воспитанников, сама очень деликатно разрешала неполадки и споры, случавшиеся между педагогами и техническими сотрудниками. При этом мы, дети, были уверены, что у нас — полное самоуправление. Наш сельхоз и наш домхоз состояли только из ребят. Мы участвовали и в заседаниях педагогического совета, мы сами, на общем собрании, решали, принять ли того или иного новенького. Только взрослыми мы поняли, что только исключительный такт и педагогический талант позволяли Лидии Марьяновне вникать во все мелочи и всем руководить, не оставляя никакого впечатления о каком-то давлении. По утрам нас никогда не поднимали звонком; она каждого обязательно будила сама, поглаживая по голове, со словами «Пора вставать, детка». Так же обходила всех и вечером, а нас было до 60 человек!
В то же время в колонии было не всё благополучно. Три вещи разъедали её изнутри.
Первая была наша общая несобранность, разгильдяйство, внешняя грубость. Мама очень страдала от этого. У нас выработался даже специальный жаргон. Нередко можно было услышать такой, например, вполне дружественный диалог:
— Посунься, отсвечиваешь.
— Заткни харчевню, селёдками воняет.
— А ты не пищи. Посунься, говорю.
— В семнадцатом…
— Не понял.
— Отнеси это за счёт своего несовершенного понимания! Я говорю, в 17-м году холуи отменены.
— Я думал, ты дурак, а ты из деревни.
— Думают только индейские петухи.
— А вот сейчас как дам по хряпалу!
Это, конечно, только упражнение в словесности, изобилие эпохи. Никто никому никогда по хряпалу не давал. Странно, но мы испытывали потребность во внешней грубости. Это, вроде бы, возвышало нас в собственных глазах. Мама отчаянно боролась с привычкой к грубости. Она надеялась, что чтение отрывков из священных писаний всех народов пробудит в нас чувство братства и милосердия по отношению друг к другу. Она немного перебарщивала в этом отношении. В 15 лет мы не могли воспринять религиозные поучения в той мере, в какой она их принимала в 40. Тогда она вспомнила о скаутах и посоветовала нам воссоздать скаутский отряд.
Эта мысль показалась нам сначала странной. Разве скаутизм не был приготовительной ступенью к колонии? Разве мы не выросли из него? Но поразмыслив, мы решили, что он ещё может быть нам полезен. Собрали сбор, провели запись. Записались почти все, кроме пяти человек. Разбились на два патруля, патрульными выбрали Колю и меня.
Скаутизм очень помог подтянуть трудовую дисциплину, добиться внешнего порядка, смягчить стиль разговоров кружкой за рукав (т. е. за каждое бранное или грубое слово заливали грубияну кружку холодной воды за рукав вытянутой кверху руки). Ну и потом мы, «старички», передали новым скаутам полезные практические навыки: первую помощь, узлы, посохи, раз-ведение костра, варку пищи. С удовольствием освоили колонисты скаутские игры: на развитие памяти, сообразительности, выносливости, ориентировки на местности и военную игру «набег на знамя».
К нам в гости приезжал бывший наш патрульный Коля Эльбе.
Вторым трудным пунктом оказалась Варвара Петровна. Она хорошо преподавала математику. Я очень увлёкся этой наукой. Меня пленили чёткость и логичность выводов. Ах, если б и аксиомы были доказуемы! Ну, в крайнем случае одну надо было бы пронимать на веру, а все остальные всё же выводились бы. Но Варвара Петровна требовала, чтобы на математику мы отдавали всё своё время. Когда другие педагоги говорили, что должно же что-то оставаться и на их предметы, она возражала, что в таком случае надо отменить сельскохозяйственные работы.
— Но тогда ребятам есть нечего будет, — возражала мама.
— А вы наймите нескольких рабочих и их силами ведите сельское хозяйство.
— Значит, колонию превратить в помещика? Но наш главный принцип — трудовое воспитание.
— Это второстепенно.
По всем вопросам она всегда имела особое мнение. Помимо труда, она нападала на семейный дух, царивший в колонии. Требовала участия выборных делегатов от групп в педагогическом совете, как это было в московских школах, настаивала на исполнении всяческих формальностей. В день маминого рождения она в виде подарка преподнесла и зачитала двухчасовую обличительную речь. Наконец, лишившись единственного союзника — Лиды, вечно со всем соглашавшейся, убедившись, что не может сработаться с коллективом, она ушла из колонии. Все вздохнули с облегчением, хотя и мы и мама считали её хорошим человеком и верили, что она желала колонии добра. Как часто люди, идущие к общей цели, не могут сработаться лишь потому, что по-разному смотрят на средства её достижения.
Третьим и главным злом, настоящей трагедией колонии стала Тоня. С самого начала она сказалась больной. У неё постоянно болел живот и были мигрени. Поэтому её сразу же перевели на больничное питание и освободили от полевых работ.
Она стала жаловаться, что у нас казёнщина и всё попрекала нас, что у нас не так, как в общине о. Иоанна, и требовала чего-то неизвестного. Мы очень удивились, так как считали, что семейные, тёплые отношения — главное преимущество нашей колонии. Но мама решила, что Тоня настрадалась в семье от жестокости родителей и ей нужно создать особенно интимную уютную атмосферу. Тоня заявила, что не может спать в комнате с другими девочками и потребовала себе отдельной комнаты. Так как её не было, то мама взяла её к себе. Девочки, жившие с ней в одной комнате, очень страдали от деспотизма Тони: днём она отдыхала и требовала абсолютной тишины, по ночам, наоборот, хохотала и громко разговаривала, не давая остальным спать. Поэтому они были и рады отселению Тони, но нередко и плакали перед сном, жалея Лидию Марьяновну. Мамин нормальный рабочий день длился 17 часов, но Тоня потребовала ещё часа 3, а то и более, ночного времени для объяснений, сомнений, излияний. Мама уже валилась с ног, но ей казалось, что она единственный якорь спасения для этой больной души и что она должна ей помочь. Ночные беседы всё чаще переходили в истерики, во время которых Тоня валялась по полу, опрокидывала и разбрасывала по комнате все вещи, включая ночной горшок, и, вымазавшись в моче «жидовской», ругала и даже очень нередко била маму. А после этого у неё делались спазмы и мама до утра массировала её живот. Позже выяснилось, что всё это была хитрая симуляция.
Маму подкупало то, что иногда на Тоню находило просветление, она становилась кроткой и ласковой, высказывала якобы глубокие религиозные мысли и каялась, что будет всегда хорошей и послушной. Периоды просветления заканчивались необузданным, шумным весельем, хохотом, озорными выходками, переходившими в приступ истерики. Если Тоня не хохотала, так она ходила мрачная, заспанная, растерзанная. Ночью она не давала маме спать, а днём валялась в постели до обеда и при этом не отпускала от себя Лидию Марьяновну ни на минуту.
Тоня надумала покончить самоубийством и приняла сулему. Её отвезли в больницу. В больнице сомневались, что это была сулема. И всё прошло. При второй попытке она, по её словам, наелась булавок. Но странно — это снова не имело никаких последствий. Очевидно, её больной желудок прекрасно переваривал стальные предметы. В обоих случаях это была явная симуляция. Она заявила, что согласна жить, только если мама её удочерит, а я буду к ней относиться как брат. Мама спрашивала моё согласие. Я ответил, что как брат относиться к Тоне не могу, но в их отношения вмешиваться не буду. Тоня перешла с мамой на «ты» и стала называть её «мамо́к». Мне было тяжело: когда-то Тамара Аркадьевна оторвала, отделила от меня отца, теперь Тоня отрывала меня от матери. Я чувствовал, что любовь мамы ко мне не уменьшилась, но словно грубый и безобразный клин вошёл между нами и отделил друг от друга.
Когда среди ребят поднималось недовольство, мама устраивала беседу. Она призывала нас проявлять к Тоне особую чуткость, терпимость. Она говорила, что Тоня страдает раздвоением личности: чистую сердцевину временами затуманивает какое-то тёмное начало, то, что в средние века считалось вселением бесов, и разве не благороднейшая цель помочь победе доброго начала над злым?
Я думал, что уступками и мягкостью победу над злом мы не одержим. В редких случаях, когда мама разговаривала с ней сердито и властно, Тоня приходила в себя.
Мама сама чувствовала, что изнемогает под тяжестью двойной нагрузки, колонии и Тони. Чем пожертвовать? Нельзя ничем: колония — дело её жизни. А Тоня — испытание, посланное Богом, чтобы проверить её веру, её карму. Она должна вынести обе нагрузки. Она советовалась с Софьей Владимировной, авторитет которой был обычно непререкаем, но это был единственный случай, когда мама не послушалась её совета отправить Тоню в психиатрическую больницу. Тоня была раковой опухолью на теле колонии. Но все сотрудники и ребята очень любили маму и ради неё терпели Тоню.
У мамы был принцип: брать на себя все самые неприятные и тяжёлые обязанности. Например, все охотно брались ухаживать за больными, все готовы были отдавать им часть своего пайка, но брезговали выносить горшки. Мама взяла это на себя. В уборной царила грязь. Она объявила, что уборную будет мыть она. Она надеялась, что тогда люди постесняются там пачкать. Когда возникала потребность в какой-нибудь грязной или неприятной работе, естественной нашей реакцией было: «А почему именно я?» Мама же всегда ставила обратный вопрос: «Почему именно кто-нибудь, а не я?»
Постепенно мы усваивали эту «жертвенную» точку зрения. К осени, когда надо было вывозить на поля «золото» из уборных, в желающих уже было четверо. Приспособили бочку на передок телеги, Олег сконструировал равномерно разливающий лоток, из ведра на длинной палке сделали черпак. Прорезавши дырки в картофельных мешках, изготовили для золотарей защитные «туники». Олег и Всеволод открыли сезон. Через неделю их сменили Костя и я. Другие старшие мальчики в этом не участвовали. Несмотря на туники, от золотарей так воняло, что их приходилось кормить за отдельным столом на кухне. А мы даже несколько рисовались своей профессией.
Угрожающий рост числа больных заставил маму задуматься о собственном враче. Ближайший врач был в Пушкине, в четырех верстах. Больница была перегружена, попасть к нему на приём было нелегко, а заполучить его в колонию не удалось ни разу. Иногда к нам приезжала из Москвы старинная мамина знакомая, врач-педиатр Анна Соломоновна Шлепянова. Но этого было недостаточно. Маме пришла в голову мысль выписать из Петрограда своего отца, моего дедушку Марьяна Давыдовича. По причине преклонного возраста он уже не мог работать в детской больнице. Он согласился, и Мага перевезла его к нам. Сама Мага ушла из колонии, так как её творческие поэтические устремления распирали её, а в колонии писать не было никакой возможности. Дедушка пришёлся нам очень ко двору: он ловко выдавливал фурункулы, клал горчичники и прописывал порошки и микстуры. Кроме того, он имел небольшую бесплатную практику у местного населения. Присутствие старого добродушного доктора сразу придало патриархальность нашей большой семье.
Уехала Женя Малинская, как всегда бросившаяся на наиболее трудную и опасную работу из всех, представлявшихся в данный момент. В Белоруссии начались еврейские погромы. Из Москвы ряд студентов поехал защищать еврейское население. Записалась в дружину и она. Работая там, находилась на волосок от смерти. Однажды ей с некоторыми товарищами самим пришлось скрываться в лесу. Они заблудились и оказались на польской территории. Их окружили и интернировали польские пограничники. Через некоторое время им разрешили выехать в любую страну, кроме РСФСР. Какой-то еврейский комитет предложил Жене эмигрировать в Аргентину. Она согласилась и прожила там до глубокой старости.
МОНО выплачивало зарплату служащим колонии деньгами только менее половины полагающейся, а большую часть — облигациями государственных займов, которые можно было начать реализовывать только через 25 лет. Учитывая ещё, что часть необходимых сотрудников колонии не были утверждены в МОНО и на них денег не давали, а платить им тоже надо было, можно себе представить, сколько денег оставалось на всех. Кроме того, Николай и все технические служащие получали свою зарплату полностью, а преподаватели делили остатки денег между собой поровну. Это были жалкие гроши.
В колонии был второй обыск. Забрали все бумаги, которые нашли у мамы в комнате, в том числе последнюю тетрадь «Дневника колонии».
Но были по этой части и радостные события. Освободили из тюрьмы Ростислава Сергеевича. Впрочем, как потом оказалось, весьма ненадолго.
К Мише и Наташе вернулась из тюрьмы Лена. Саша надолго поехал на Соловки. Наташонку с няней Анютой Лена взяла к себе, Мишу оставила у нас, думая, что здесь за ним будет больше надзору. Но надзор не получался: у мамы не доходили до него руки. Одно время, когда мы, в порядке углубления скаутской работы, разобрали для личного шефства нескаутов, нуждающихся в поддержке, я взял себе кузена Мишутку. Но это был трудный номер. Он был слишком мал, чтобы с нами учиться, и целые дни не знал, чем заняться, балясничал, не умея плавать, катался один на лодке, что было строго запрещено. Он колотил маленького мальчика Костика — сына слепой прачки Агаши, которая пришла на смену Аннушке, дразнил старших ребят, за что нередко сам бывал бит, и всё в этом роде. Единственное дело, которое я мог ему придумать, это собирать стёкла, усеивавшие нашу территорию, чтобы ребята не резали ноги. Единственный моральный успех был, когда он заявил, что его больше не тянет бить из рогатки воробьёв и давить лягушек. В общем, на экзамене шефской работы я провалился.
Зима успокоения
Под Новый год, когда многие ребята уехали в Москву, я заболел малярией. Смерил температуру — 41°, смерил через час с четвертью — 41,4°. Я где-то вычитал, что когда доходит до 42°, человек умирает, так как белки, входящие в его состав, свёртываются. Я сосчитал, что через 1 ч. 42,5 мин. я умру, и… заснул. То, что я пишу об этом в возрасте 71 года, доказывает, сколь ненадёжны прогнозы, основанные на прямой экстраполяции.
В колонии осталось совсем мало народа.
Многие ребята, у кого были родные, ездили в отпуск. А мне некуда было ездить. Мама встретила в Москве Соню Доброхотову. Пути их совсем разошлись, но в знак старой дружбы Соня пригласила меня погостить у них. Учитывая, что я только что и сильно переболел, мама отпустила меня к ним на недельку. Я наслаждался жизнью. Целыми днями я ходил по музеям, особенно по Политехническому, по публичным лекциям. Вечерами часто шёл в театр, хотя и смущался отчасти, потому что был я в лаптях и на брюках у меня было 16 заплат другого цвета, чем первоначальный. Я их сам поставил на уроках, причём белыми нитками и очень этим гордился, но чувствовал, что в театре они как-то не звучат, стиль не тот. Контрамарками в Камерный меня снабжал сам Николай Михайлович Церетели. Помню, что мне понравился «Король-арлекин» и не понравилась «Сакунтала». Все декорации, жесты, костюмы, выдержанные в стиле персидских миниатюр, казались мне жеманными, неестественными. Что мне в Москве понравилось больше всего, так это моя полная свобода и безделье. Я уже забыл, как это бывает.
Хуже было вечерами у Доброхотовых, хотя они за мной ухаживали, старались развлекать, а Миша едва не выжег ради меня себе глаз. Он пустил бегать по воде кусок натрия (он был химик), это было очень забавно. Но натрий внезапно взорвался, и крупинка попала ему в глаз. Скверно было то, что супруги всё время грызлись между собой. Я первый раз наблюдал семейные сцены и не знал, куда деваться. Ссоры возникали поминутно из ничего. Соня и Миша ругались зло, грубо, стараясь друг друга унизить и не стесняясь моим присутствием. Отношения так обострились, они так осточертели друг другу, что я не понимал, как можно так жить. В немногие мирные минуты они читали вслух «Любовь в природе» Вильгельма Бёльше. Они считали крайне полезным просвещать меня в этом отношении. Но я застал их чтение на середине — про любовь у рыб. Я запомнил место про селёдок. Они идут на нерест огромным косяком. Плотно прижимаясь друг к другу. Взаимное трение вызывает у них чувство сладострастия и они выпускают икру и молоку. Так что вся стая ими пропитывается и облипает. Всё это было довольно противно. Я размышлял о том, как у селёдок обстоит с семейными сценами, когда они живут в свальном грехе.
В общем от семейной конституции Доброхотовых у меня осталось тошнотворное чувство. Я вспоминал их пребывание в Ельдигине и думал: «Как могли такие весёлые, такие влюблённые молодые люди дойти до жизни такой?»
Раз ночью я совершил позорный поступок. Я спал в столовой на диване, тут же на раскладушке спала домработница. Рядом стояла китайская фарфоровая ваза с меня ростом — фамильная драгоценность. Домработница наутро рассказывала:
«Софья Ивановна, ночью я проснулась, потому что гость-то ваш уж больно кричал во сне: „Держи его, лови его, бей! Ты будешь солому поджигать? Вот я тебя сейчас!!!“ Я обмерла. А он, родимый, как вскочит, как схватит стул. Да по вазе! Она на мелкие кусочки рассыпалась». Мне было ужасно стыдно. Так-то я заплатил за гостеприимство. За взрыв натрия и за влюблённых селёдок! Больше я Доброхотовых не видел.
В это время я стал вегетарианцем. В колонии было много вегетарианцев: все теософы — мама, Мага, Варвара Петровна, все сотрудники и ребята, пришедшие из толстовских и трезвеннических колоний — Олег, Всеволод, Яша, из учеников — Серёжа белый, Алёша. Было неприятно и неудобно делать два разных обеда, а МОНО нам изредка выдавало мясо. Поэтому все согласились, когда мама предложила менять мясо на масло. Но первый год менять было особенно нечего.
Желающие могли есть мясо у себя в комнате, если родные привозили им его в подарок. Все такие счастливчики делились с соседями — мясоедами.
Я прочёл рассказ Короленко про чикагские бойни. Он произвёл на меня очень сильное впечатление. Я подумал, что надо бросить есть мясо. Да, боязно, всегда голодный как волк, а ещё от мяса отказываться! Потом подумал: «А когда ты в последний раз видел мясо? В тот день, когда красноармейцы умыкнули у тебя конину. Три года назад! И не умер». Выходило, что без мяса можно обойтись. Зато совесть будет спокойна, что никого не заставляю резать телят, чего сам не смог бы делать. Правда, было ещё одно препятствие: придётся тысячу раз объяснять, почему я отказался от мяса. Я не обладал маминым талантом проповедника и боялся, что надо мной будут смеяться. Но это соображение, конечно, было постыдное. И я завязал.
Случай проверить свою стойкость представился немедленно. В колонию приехал папа и привёз мне полкило сала. Ох, как хотелось его съесть! В «последний раз», а уж потом завязать. Но я чувствовал, что потеряю к себе уважение, если сделаю это. Кроме того, было ещё одно соображение: я знал, что папа оторвал этот кусок у себя, у своей семьи, хотя они голодали не меньше меня. Может, ему пришлось выдержать Тамарины слёзы или даже семейную сцену. Он получит амнистию, если привезёт сало назад. И я ему первому сказал, что стал вегетарианцем.
Мама пригласила папу преподавать у неё историю в связи с отъездом Маги. Он согласился приезжать раз в две недели, чередуясь с Сергеем Викторовичем. Для него был ценен хоть такой грошовый заработок. Он начал со средних веков, преподавал учёно, трудно, как в университете. На первом уроке читал нам Риккерта, которого слушал в Гейдельберге. Он увлекался и забывал, что перед ним не студенты, а мальчишки и девчонки, да и те в лаптях. Но мама считала, что нам полезно напрячь мозги, понюхать, наконец, как пахнет настоящая наука.
В колонии наступил спокойный период. К Рождеству отмолотились и погрузились в учение. На уроках, если не надо было записывать, девочки шили, делали пояски, ёлочные игрушки — тоже зарабатывали на пропитание. Коля изобрёл способ лить из свинца ёлочные подсвечники и сбывал где-то в Москве в пользу колонии. Мальчики стремились создать столярную мастерскую. Я с опытным столяром Николей сочинял заявку на инструмент в МОНО. Он диктовал:
— Шпунтубель, зенцубель, цинубель, ресмус, малка, всего по две, нет, лучше по три штуки…
Мы потом составляли эти заявки каждый год, но так ничего и не получили. Я до сих пор не знаю, что значат эти шпунтубели и для чего они нужны.
Мы очень сплотились и привыкли друг к другу. Мамин девиз: «природа и труд» себя оправдывал. На предложение некоторых родителей просить помещение в Москве или разобрать ребят по домам, чтобы подкормиться хоть немного, большинство отвечало: «ни за что».
От чего я устал, так это от двойной ответственности: председателя сельхоза и патрульного скаутов. Особенно тяжело было второе: заботиться о моральном состоянии десятка человек. Я к этому не чувствовал вкуса, и у меня это не получалось. На одном сборе я решительно отказался от поста, сказав: «Пусть Коля заботится о душах, а я буду заботиться об овсе».
А Колю, тоже отказавшегося, заменили двумя девочками — Галей и Бертой. Но о своей душе я всё-таки продолжал заботиться, потому вошёл в кружок «Обещаю», который занимался этическим усовершенствованием и углублённым разбором маленькой белой книжечки Кришнамурти «У ног Учителя». Это была очень мудрая книжечка, нечто вроде теософического Евангелия. Про Кришнамурти поговаривали, что он был посвящённым, последним воплощением Великих Учителей. У мамы постоянно висел на стене его маленький портрет — юноша индус удивительной красоты.
Кружок состоял из четырех человек: Галя, Нина Белая, Коля и я, под руководством мамы. Мы на каждое занятие брали несколько строк из «У ног Учителя», готовились по ним, потом делились своими мыслями, разбирали, какие выводы надо сделать для себя из данного отрывка, ставили перед собой этические задачи: вырабатывать терпимость, внимательность, заботливость к людям, иногда к какому-нибудь особо трудному члену колонии. В следующий раз отчитывались в своих успехах или неудачах. Иногда отчёты представляли в виде символического рисунка. Всё это было очень полезно и, кроме того, сильно сближало нас, членов кружка. Таких кружков было в колонии несколько.
А Галя определённо мне нравилась. Она была молчалива, скромна, в то же время очень трудолюбива, охотно бралась даже за мужскую работу. Да и внешне — круглолица, курноса. Все мои прежние симпатии, кроме Лиды, обладали этими же качествами. Высказывалась на уроках, на кружке она редко, но когда высказывалась, её мысли казались мне близкими. Что-то будет? Только не надо спешить.
Надо было первым делом кончать с Лидой. Я написал ей, что, исполняя обещание говорить всегда правду, я должен признаться, что никаких чувств к ней у меня не осталось. Но я всё-таки с волнением ждал ответа, боясь прочесть в нём мольбы, отчаяние слёзы… Через месяц я получил письмо, где говорилось, что я молодец, снял с её души камень, что она давно уже собиралась написать мне письмо такого же содержания, да никак не могла решиться.
Опять готовили постановки. Веру Валентиновну тянуло на классику. После неудачи с Тургеневым она посягнула на Софокла. Но «Антигона» так явно не подходила к стилю нашей жизни, показалась нам такой напыщенной, ходульной, что ей пришлось от этого плана отказаться.
Стали разучивать «Снегурочку» Островского. Я был Берендеем, Галя — Снегурочкой, Фрося — Купавой, Ира Большая — весной. Но и эту пьесу Вера Валентиновна не довела до конца.
Позже, уже без Веры Валентиновны, мы эту постановку всё-таки осуществили, но без Иры и без меня. Прошёл спектакль с большим успехом.
Олег подал идею поставить пьесу собственного сочинения. Текст был весёлый, псевдонаучный и сатирический, пародийный и в то же время вещий. Вряд ли сам Олег предполагал, какие великие потрясения в нашем мире он предсказал в этой пьесе. Она называлась «Хламида-монада». Мы горячо на неё отозвалась, а Вера Валентиновна реагировала бурным отчаянием; ей это казалось профанацией театрального искусства. Мама нас поддержала. Она была за инициативу в искусстве, иначе говоря, за отсебятину. События заставили нас на год отложить постановку. Поэтому о содержании пьесы я расскажу позже.
Многим наша колония нравилась. Несмотря на голод и трудные условия, люди охотно отдавали к нам своих детей. Приехал раз агроном из МОНО, ревизовать наше сельское хозяйство, немец, сухарь, но поставил нам 5+. Видно, уж очень плохо было поставлено дело в других колониях, если мы удостоились такой отметки. Более того, он просил принять к нам свою дочку. Так мы заимели простую и старательную девочку Тамару. Её и Костю избрали в Домхоз, организацию, параллельную сельхозу и призванную наводить порядок в доме, в котором с удивительной настойчивостью все создавали кавардак и захламлённость.
Материальные условия были по-прежнему неважные. Бывало так, что по месяцу ели одну мороженую картошку без масла, пили кипяток без сахара, по неделе не видели хлеба. Когда была ржаная мука, старшие мальчики, а также Фрося, Вера и Галя пекли хлеб по очереди. Дело это я делал с удовольствием. Заваривали большую квашню-кадушку. Месить приходилось в майке, рука уходила по плечо. Истопить русскую печь тоже было искусство. Выкладывали тесто на 6 больших противней. Задвигали в печь ухватом. Угли разгребали так, чтобы хлебы покрылись блестящей корочкой, но не подгорели. Цимес состоял в том, что комья теста, попавшие на края противня и заусенцы на хлебе пекарь имел право съесть.
Когда печь немного остывала, устанавливалась очередь из мальчиков в ней же мыться. Это было предельно неудобно: мыться приходилось лёжа на боку, в страшной духоте, чуть пошевельнёшься — вымажешься в саже как чёрт. А уж вылезать! Но это было единственное место, где было тепло и не было риска простудиться.
Жилось по-прежнему трудно. Некоторые колонисты стали уходить из колонии. Но это всё были скорее случайные ребята: Женя Зеленин, Жора и Валя Церетели. Уехала Варвара Петровна и увезла с собой мать Елену Ивановну и брата Шуру. Женя и Шура мотивировали свой уход желанием серьёзно учиться музыке. Но музыкой ни тот, ни другой и в Москве не занимались.
Ремонт дома мешал наладить нормальную жизнь. Первые рамы рабочие починили, но вторых не сделали. При одних рамах натопить дом было невозможно. С 4-х часов дня в доме становилось темно. Занимались при коптилках, а когда достали 3 лампы на 16 комнат, то всё равно для них не было стёкол.
Уже три преподавателя были приезжающие, а сообщение с Москвой оставалось ужасным. Однажды мама, возвращаясь из Москвы, сутки провела на вокзале. Под дачные поезда подавались составы из товарных вагонов. Их штурмовала такая толпа народа, что милиция стреляла, чтобы отогнать пассажиров. Поезда уходили с опозданием на 3–4 часа и более.
Вера Валентиновна наметила очередную постановку. Это был роман Твена «Принц и нищий», где Галя и Берта играли принца и нищего. Работали над ней по вечерам с большим энтузиазмом. На этот раз спектакль удался на славу, все остались довольны.
Наконец, нашёлся молодой человек, Гавриил Осипович, он же Ганя, который согласился разгрузить маму хотя бы от обязанностей агента по снабжению колонии продуктами. Он был сухой, стройный, чёрный как цыган, с сумасшедшинкой в глазах, очень самолюбив и не менее энергичен. Свои обязанности он выполнял отлично: проводил отчёты, выколачивал ассигновки, зубами выдирал продукты. Когда пошло мясо, продавал его на рынке и покупал масло, сам грузил мешки и всё это постоянно голодный. Подкормить его старались, когда приезжал, наконец, в колонию; ему давали дополнительный паёк как больному.
Ганя переехал к нам с женой Ольгой Афанасьевной и падчерицей Лилей. Ольга Афанасьевна приняла от Ксении Хар-лампиевны обязанности портнихи. Была она лет на 10 старше мужа. Когда-то прежде спасла его от пьянства и чуть ли не уголовной дорожки и для крепости женила на себе. У нас она была как парализованная, спала в шкафу, опасаясь холода и воров. Её дочка Лиля была весёлая и смазливенькая девочка, по знаниям подходившая в нашу младшую группу, но по возрасту на 2–3 года старше.
Кроме Лили мы приняли за эту зиму четырёх ребят.
Петя Карпов, большой и сильный мальчик с лицом русского молодца, но некрасивый, с политическим зачёсом на русых волосах, пришёл к нам из толстовской коммуны на Кавказе, на Михайловском перевале. Это было довольно случайное приобретение, оно основывалось только на том, что Петя, попав в Москву, разыскивал вегетарианскую колонию. Он был напичкан толстовскими идеями. К нашей колонии он относился иронически. Несколько его словечек вошли в историю. Когда ему говорили, что у нас, мол, принято делать так-то, он криво усмехался:
— Тхе, интэрэсно… — И затем пускался в критику. Затем, переходя к позитивной части, начинал:
— А у нас на перевале… — Тут следовала дидактическая часть, поучение, как надо жить.
В работе он преимущественно ссылался на расширение сердца и всячески отбояривался от неё. Но мог сделать многое, особенно когда на него глядели девочки. Однажды он разгружал полок с продуктами, взваливая на спину по два пятипудовых мешка и свободно вносил их по лестнице. По вечерам Петя с упоением танцевал со всеми девочками по очереди, но большинство из них скоро стало чуждаться его. В нём ни на грош не было деликатности, рыцарства, свойственного мальчикам-колонистам. Удивительно, что некоторым из девочек он нравился.
Вторым приобретением, как оказалось, более удачным, был Боря Корди. Это был маленький мальчик, самый маленький в младшей группе. Он был греческого происхождения, хотя родился в Ростове Ярославском. В Колонии он получил целый ряд прозвищ: Борица, омо-Борица, Боря-Чижик, Боря Маленький (так как вскоре появился и большой). Вначале он был не в меру простоват, наивен и тянул всё под себя, как кулачёк. Но он быстро развивался и вышел отличным молодым человеком. А внешне он действительно был похож на чижика своим носом с горбинкой.
Он с двумя сёстрами постарше остался сиротой. Сергей Викторович Покровский, как-то встретившись с ним в Ростове и узнав его судьбу, взял его в приёмные сыновья, хотя в то время у Покровских, весьма небогатых людей, было собственных три сына и приёмная дочь. Какое-то время спустя Сергей Викторович привёз Борю к нам, и тот стал отличным колонистом.
Мать Кости Большого, Вера Иосифовна, нередко приезжала в колонию и скоро стала своим человеком, всеми любимым. А потом она привезла своих двух младших детей, близнецов по 12 лет — Витю и Галю. Для колонии эти дети были малы, их не хотели брать, так как им негде было учиться. Но Витя очаровал всех, поэтому было решено их оставить.
Внезапный переезд
Приезжала ревизия из МОНО. После некоторых идеологических споров признали работу очень хорошей, но ужаснулись условиям, в которых мы живём. Даже в упрёк нам это поставили. Как будто мы добровольно создали себе плохие условия и как будто не они нас в такие условия поставили. Стали подыскивать нам другое помещение. Наконец предложили бывшее имение Тальгрен, принадлежавшее выходцам из Швеции и находящееся ещё дальше по Вознесенскому, ныне Красноармейскому шоссе. До него от станции было короткой дорогой 10 км.
Съездили посмотреть. Дом прекрасный каменный, выстроенный в подражание рыцарским замкам. Огромный двухсветный зал с камином и громадным, во всю двухэтажную высоту стены, стрельчатым окном. Стены до половины покрыты дубовыми панелями с резным рисунком. С другой его стороны дубовая внутренняя широкая винтовая с колоннадой лестница, ведущая на хоры. Над лестницей в круге горельеф «Младенец Христос» Делла Роббиа. Из одной верхней комнаты окно открывается в зал, с дубовой же фигурной дверкой, как в старинном тереме. В библиотеке также с дубовыми стенами чудесные дубовые шкафы во всю стену и ещё какая-то старинная мебель, уцелевшая от хозяев. Наверху — жилые комнаты. Террасы на первом и втором этажах и 3 балкона на 2-м и 3-м этажах. Очень высокий чердак под крутой готической крышей. Сбоку круглая башня с винтовой лестницей внутри, соединяющей все этажи, чердак и обширную кухню в полуподвале.
Кроме дома имелся обширный флигель, построенный в стиле швейцарского шале — охотничьего домика бледно-жёлтого цвета, украшенного снаружи крупным бордовым рисунком. К флигелю примыкали сеновал, коровник, конюшня и навес, образующие замкнутое каре. С другой стороны главного дома — гараж с жилой комнатой, большущий сарай и баня. Перед домом когда-то имелся сад с громадной трёхвершинной пихтой, видной отовсюду над лесом за 10 км, со многими разбросанными вокруг пихтами и лиственницами поменьше. Сад переходил в лесопарк. С другой стороны к дому подходил луг, идущий под откос к пруду и украшенный кустами туи и клумбами лилий и ирисов, в то время уже вытоптанных. Дом стоял около шоссе, отделённый от него лесной полосой из 20 елей. За шоссе лежало 14 гектаров земли, давно не обрабатывавшейся. По шоссе в километре была деревня Жуковка, за прудом — Вынырки.
Я подумал: мой предок, бабушкин брат, всю жизнь потратил на поиски фамильных шведских замков, а мне они сами в руки идут.
Всё было бы замечательно, если бы не расстояние. Ну как будут к нам ездить московские преподаватели? Как ездить по делам в Москву маме и Гане, имея одну лошадь, когда начнутся весенние работы? Смущала и близость двух деревень и опять наличие двух спорных гектаров. Сарай был набит торфушками, которых предстояло выселять. Всё утопало в грязи. Мама долго колебалась. Советовалась с педагогическим советом, с родительским собранием, с общим собранием ребят. Наконец, нас подтолкнул голод на Волге, который вызвал прилив ребят, оставшихся без родителей. Нам сказали: «Или переезжайте сейчас, или мы займём имение под ребят с Волги, а вы останетесь на бобах». Мы решились.
Всё же мы поставили свои условия: вторая лошадь, немедленный ремонт и переселение торфушек. МОНО пообещало и, конечно, надуло. На лошадь нужно было дать 5 млн рублей, но в обмен с нас потребовали 25 пудов овса. У нас овса и на одного Рыжего не хватало. После долгой торговли МОНО научило, как его обмануть. Нужно представить фиктивных счетов на сумму, равную стоимости овса, получить на их оплату деньги и внести их назад им же или купить на рынке овёс и им отдать.
Когда был конгресс хирургов, английский делегат расхвастался, что они произвели операцию на мозге, француз уверял, что они произвели операцию на сердце. А наш делегат заявил, что доктор Иванов вырезал у больного гланды через задний проход. Удивились:
— Зачем же через задний?
— А у нас всё так делается!
Я думаю, этот анекдот сочинён как раз про тот случай с овсом. Но так или иначе, пока торговались, цена лошади поднялась до 12 млн рублей, и мы к переезду не смогли её купить.
Мы находились поочерёдно и одновременно в ведении разных отделов МОНО: показательных школ, сельскохозяйственных колоний, детских домов. Все они по-разному относились к нам. Иногда враждовали друг с другом и с финансовым отделом. Бывало, один начальник давал нам продукты или деньги, а когда мы приходили за ними, другой начальник их отнимал.
На переезд нам дали 3 млн. На эти деньги можно было нанять 6 подвод. А одних вещей было на 30, не считая картофеля и фуража. Всё остальное ложилось на Рыжего.
Мы начали, как и в Ильине, с заготовки дров. Ежедневно назначались двое пильщиков и дровокол. Пильщиками назначали только мальчиков и только старших.
Тут Галя проявила неожиданное упорство в желании тоже поехать подготавливать новый дом. Мама протестовала: «Девочка, да ещё из слабых, куда же ей ехать». Но я позаботился о том, чтобы мне пришлось поехать с Галей, и мама сдалась. Предложила только, чтобы поехали две девочки — ещё Берта. Следующей операцией была чистка дома. До нас там жила какая-то детская колония, очевидно, состоявшая из троглодитов. Все шкафы в библиотеке были полны человеческими испражнениями, так же как и кастрюли на кухне. Это уже специально для нас постарались. Их эксперименты с экскрементами достигли такой виртуозности, что говном были залеплены даже оконные стёкла второго этажа с наружной стороны. Промежутки между рам забиты гнилой картошкой. Стекла в обеих рамах вырезаны, а два ящика запасных стёкол перебиты в крупу. Мы вывезли из рыцарского замка и с площадки перед ним около 30 возов грязи и мусора! В противоположность этому мы идеально прибрали оставляемый дом в Ильине, даже полы вымыли. Знай наших! Правда, все гвозди со стен повыдергали: гвоздь — большая материальная ценность!
Всё-таки жить в новом доме было нельзя из-за тысяч клопов. Так как ремонтных рабочих нам не прислали, мы начали ремонт своими силами. Обдирали обои, где они были, купоросили, белили потолки и стены, чинили шкафы, забивали картоном вырезанные стёкла. Через две недели дом нельзя было узнать.
Ох, и болела же у меня спина после переезда! Большая доля загрузки и выгрузки 30 возов имущества и такого же количества возов грязи легла на мои плечи.
Ко времени переезда количество больных, главным образом фурункулёзом, достигало 13 человек. На мне ещё лежала обязанность перевезти, оборудовать и устроить дедушку. Я старался сделать это так, чтобы он испытал как можно меньше лишений и неудобств.
Мы переехали в феврале. И хотя кругом был лес, лесничество упорно тянуло с выделением нам участка для порубки. Мы замерзали в нашем величественном каменном замке. Наш минимум был воз дров в день. Сельхоз принял решение валить деревья в саду. Это было, конечно, варварство. Основная вина в этом была моя. Ну, а что было делать?
Свалили две прекрасные пихты, лиственницу, несколько сосен. Вынырские крестьяне ругались: «Такие же грабители, как и прежние». Бывшие хозяева, к которым мама ездила в Москву насчёт возвращения им кой-какого имущества, узнав про порубки, обозвали нас «дикарями». Впрочем, после более близкого знакомства они с нами подружились.
В первые же дни после переезда на шоссе, недалеко от нашего дома был ограблен и убит угольщик. Его увидела, возвращаясь со станции, Рахиль, сестра Бэлы, недавно принятая в старшую группу. Она прошла, зажмуривши глаза, не удостоверившись, действительно ли он убит, нельзя ли ему ещё помочь. И дома не сразу об этом сказала, очень уж испугалась. Проступок для скаута непростительный. Нарушение 3-го закона: «скаут помогает ближним». Коля устроил над Рахилью суд чести в присутствии всего отряда. Рахиль горько плакала.
Чтобы углубить и оживить скаутскую работу, Коля начал проводить беседы о скаутских законах, по одному в вечер, а мама — об их глубоком значении. И те и другие беседы были интересны и мы ходили на них с удовольствием. И когда мама успевала заниматься скаутскими делами, ведя по три предмета в обеих группах и ряд кружков, которые она возобновила, как только разобрались на новом месте?
Горе колонии — Тоня во всё время переезда мучила маму невероятно. Когда она бывала в хорошем настроении, она все предметы называла в уменьшительной форме, например: «у девоньки животок пустой, надо бы обедик скушать». Это просто значило: «я хочу есть». Вообще она сюсюкала и коверкала слова, как трёхлетний ребёнок. Ей было уже 19 лет. Она непрерывно гладила маму по лицу и целовала её, не давая ничем заниматься. Приступ нежности означал приближение припадка. В припадке ярости она не раз валила маму на пол и однажды едва не задушила её. Потом признавалась, что всё это проделывала в полном сознании.
Тоня обладала повышенной сексуальностью и постоянно думала о мужчинах, не раз пытаясь показаться старшим мальчикам в голом виде. Мама очень боялась этого, она доказывала ей, что это жестоко, что почти наверняка у неё родятся такие же нравственно и физически больные дети, как она сама, с которыми она же будет мучиться всю жизнь. Тоня весело возражала:
— Ну что ж, ты мучаешься со мной, это твоя карма. А я буду мучиться с ними, это будет моя карма.
Потом Тоня пожелала руководить религиозным кружком, как руководит мама. Две девочки, Галя и Берта, в порядке скаутского шефства взяли на себя обязательство заботиться о Тоне. Их она и вовлекла в кружок под своим председательством. Несколько месяцев всё шло ничего, хотя Тоня оказалась весьма деспотичным руководителем. Затем ей показалось, что на неё снизошёл дух святой, объявила, что она есть Христос, начала вещать от имени самого Христа. Это уже было нестерпимо, и девочки перестали посещать кружок. Окончилось это страшнейшим скандалом.
Пришло известие, что умер о. Иоанн и община там осталась без пастыря. Тоня решила, что её долг ехать её спасать и быть там за пастыря. Но вот беда — не в чем ехать! Девочки наперебой дарили ей вещи, Ольга Афанасьевна шила ей платья и целое приданое — только бы уехала. Мама, наконец, вздохнула свободно и окунулась в запущенные дела колонии. Неужели этот камень снят с её души? Кроме того, сотрудники собрали Тоне все наличные деньги. Но Тоня прожила в Петрограде две недели, разругалась с паствой, разругалась с родными и вернулась назад. Мама решила, что больше в колонии ей жить нельзя. Она её поселит в Москве и будет к ней ездить каждую неделю. Таково было положение к концу освоения нового дома.
Весна и лето в Тальгрене
В колонии преподавались всякие иностранные языки. Каждый мог выбирать, какой ему нравится. Вначале французский, немецкий и итальянский преподавала мама, занимаясь с каждым учеником индивидуально. Потом она передала итальянский Софье Владимировне, которая, однако, смогла приехать всего два раза. Обучать нас английскому взялись ребята Гершензоны, особенно Наташа. Я очень ретиво взялся за английский, несмотря на необычность ситуации — учиться приходилось у маленькой девочки. Мы сразу принялись читать детскую книжку, аппетитно изданную: «Blackyʼs model readers»[26]. О чём там была речь, не помню, но первая фраза на всю жизнь врезалась в память: «Once upon a time so long ago that everybody has forgate the date…»[27] Мы также усвоили комплименты, которыми обменивались английские мальчики и девочки: «The girls are made from sugar, spices and all that nice. — The boys are made from frogs and snails and pappy dogʼs tails»[28]. Помню, что потом мы занимались по учебнику Эрча, причём там был мистер Бэйли и мистер Аткинс, которые на протяжении всей книги вели друг с другом милые разговоры.
В конце Ильинского периода к нам поступила полиглотка Анна Николаевна Шарапова, знавшая чуть ли не все европейские языки. Это была крохотная старушка с седыми подстриженными волосами, спускавшимися ей на лоб и во все стороны, в белой бумажной панамке с лицом как печёное яблочко и голубыми глазками, выражавшими детскую невинность души и постоянную на всех и вся. На обеих руках у неё висели мешочки, в которых находились всевозможные брошюрки, открытки, письма на разных языках, в одном — на английском, в другом — на французском и т. д.
Обнаружилось, что Анна Николаевна болезненно разговорчива. Он трещала без умолку на всех языках сразу и, поймав первого попавшегося человека во время обеда или работы, засыпала его переводами, новыми словами, объясняла их происхождение, не отпуская его и доводя до полного изнеможения. Преподавать она не умела совершенно, уроков не задавала и не спрашивала, непрерывно что-то рассказывала сама. В то же время была очень трудолюбива, доброжелательна и бескорыстна: отдавала в общий котёл свою зарплату и посылки, которые получала из-за границы, не оставляла себе ни крошки. Но главное, мы от неё впервые услышали об эсперанто[29].
Эсперантизм усвоился нами сразу и полностью. Идея международного языка показалась настолько прозрачной, что мы не колеблясь принялись за его изучение. Соблазняла также и лёгкость языка. Анна Николаевна говорила, что его можно усвоить в 10 раз быстрее, чем английский или любой другой иностранный язык. Попутно мы имели хитрую цель: научиться шифрованному разговору, который был бы непонятен сотрудникам. Анна Николаевна без устали пропагандировала эсперанто и снабжала нас литературой. Она получала литературный журнал «Nova ероко» и имела порядочную библиотеку. Она была заслуженной эсперантисткой: членом Международной эсперантской ассоциации U.E.A., участвовала в ряде конференций и даже была на каком-то конгрессе в Швейцарии, переводила на эсперанто рассказы Л. Н. Толстого, сотрудничала в журнале «La ondo de esperanta», издававшемся в Петербурге С. В. Обручевым.
Несколько раньше, чем я узнал про эсперанто, я всерьёз принялся за французский. Занимался я самостоятельно, только когда составлял фразы, шёл к маме их проверить. Это удивительно, как плохо усваиваются языки, когда их вдалбливают насильно, и как легко они идут, когда их учишь по доброй воле. Обычно делают вывод, ссылаясь на опыт предыдущих поколений, что надо языки учить в детском саду. Чепуха. У людей прошлых поколений была у каждого персональная гувернантка, что теперь невозможно. Наоборот, учить надо студентов, когда они знают, чего хотят и какой язык им нужен.
Когда в колонии я стал учить французский, я запоминал в день минимум 40 новых слов, писал с этими словами фразы, после проверки переписывал. Дело пошло. Вскоре я одолел роман Жорж Санд «Colomba», вслед затем «Sur mer»[30] Мопассана, затем восточные рассказы Пьера Лоти. Когда я прочёл Мопассана, я пришёл в восторг от музыки французского языка и понял, что прочувствовать всю прелесть автора можно, только читая его в оригинале. Но это нисколько не охладило моего рвения к эсперанто. Я рассуждал так: Мопассана лучше всего читать по-французски, но ведь всех разноязычных авторов в оригинале все равно не прочтёшь. Так лучше составить о них представление в переводе на эсперанто. Кроме того, есть громадная область применения языка, не требующая особого изящества: наука, техника, дипломатия.
Французским я занимался, когда удавалось поболеть, 6–8 часов в день.
В поисках времени для изучения эсперанто я решил использовать 10-минутные перерывы, которые делал каждый час. И что же? Я в течение лета выучил эсперанто, а французским плохо владею до сих пор.
Особенно поднял наш энтузиазм следующий случай. К Анне Николаевне в гости приехал её ученик, который много лет перед этим прожил за границей в восточных странах, Василий Ерошенко[31]. Слепой писатель, он один, без поводыря объехал полмира. Поводыря ему заменяло эсперанто. Он подолгу живал в Англии, Японии, Таиланде, Бирме, Индии, Китае. Эсперантисты встречали его, устраивали, рассказывали про свою страну, знакомили с интересными людьми, становились ближайшими его друзьями и помощниками. Он везде принимал участие в революционном движении, работал по организации обучения слепых, преподавал эсперанто. После нашей революции его арестовывали в ряде капиталистических стран, высылали как большевика. Он вечерами рассказал нам свою удивительную жизнь и закончил рассказ словами:
— Я, слепой, видел и узнал с помощью эсперанто в дальних странах больше, чем зрячие туристы, которые смотрят по сторонам, но ничего не понимают.
После приезда Ерошенко ребята почти поголовно принялись учить эсперанто. К сожалению, лишь у немногих хватило терпения довести изучение до конца. Олег, как оказалось, уже раньше был эсперантистом.
Чудаки, как известно, украшение жизни. Среди чудаков, украшавших нашу колонию, не последнее место занимал Лера. Милый большой парень, предельно запущенный и оборванный, он свалился к нам прямо с Луны. Отрекомендовался искателем оккультных путей. Просил разрешения пожить и поработать. Ни на что не претендовал. Денег не брал. Работал как вол на самых грязных работах. Спал, где попало. Неизменно улыбался. Через несколько месяцев ушёл, так как говорил, что жить на одном месте противоестественно. К осени обещал вернуться.
Ещё на меньшие сроки приезжал к нам Митрофан Нечёсов, приезжал из бескорыстного желания нам помочь, так как был мастером на все руки, прекрасно знал сельское хозяйство, плотницкое дело, строительство. Топор так и ходил у него в руках, не хуже, чем у Серёжи Булыгина. Он был высок, сутул, имел нос лопатой и чёрные, с лукавинкой, глаза, знал множество не то чтоб анекдотов, а случаев из жизни, и был мастерским рассказчиком. По убеждениям — толстовец, правдоискатель и в то же время прекрасный хозяин, педагог и директор трёх огромных колоний для беспризорных по Виндавской (теперь Рижской) железной дороге в Опалихе, Нахабине и Снегирях. Колонии, каждая на сотни детей, он сам организовал с помощью своих единомышленников. Дело было поистине макаренковское, масштаб значительно больший. Это было время, когда советское правительство, не в силах справиться с волной беспризорных, обратилось к религиозным общинам, преимущественно сектантам, прося помощи в этом «богоугодном» деле. Обещали помогать так же как и нам, в половинном размере. Многие общины на это откликнулись. В частности, толстовцы, трезвенники, евангелисты, кажется, семидесятники, Армия спасения… Толстовцы, среди которых было больше всего интеллигентных людей, проявили себя прекрасно. Мне в связи с этим особенно хочется написать о Митрофане Ивановиче — крупном педагоге, который спас тысячи детей, а сам кончил жизнь трагически.
Нередко приезжал к нам очень отличавшийся от всех человек. Это был Михаил Васильевич Муратов. Он нам всегда казался и привлекательным, и непонятным, каким-то таинственным. Был он невысокого роста с серыми добрейшими глазами, чёрными волосами и бородкой. Он всегда улыбался. Иногда молчал, но когда что-либо нам рассказывал, говорил негромким голосом и внимательно смотрел на всех нас. Говорил так интересно, просто завораживал всех и ему было что рассказать.
Мы его любили и побаивались, но приезда его всегда ждали с нетерпением. Между собой называли его не иначе как «Чёрненький, улыбающийся».
После колонии мы узнали Михаила Васильевича близко и очень, очень подружились с ним. Это был истинно Большой Человек, редкостный, отдавший свою жизнь людям[32].
Улучшение, обязанное большему участку пашни в новом имении, обещало сказаться только к осени, а между тем мы изнемогали. Хотя бы хлеба и сапог! С начала НЭПа снабжение от МОНО резко ухудшилось. Мама металась, прося помощи в Земотделе, Обществе сельского хозяйства, Управлении Северной железной дороги, Американском комитете помощи голодающим, у баптистов, квакеров… Везде отказ: или нет денег, или мы не из той категории, которой помогают, или живём не в том районе. Родители собирали для нас по 100 тысяч рублей в месяц, но это была капля в море. Деньги так быстро обесценивались, что скоро уже даже нищие не принимали миллион.
Внезапно наступило улучшение. Получили, наконец, вторую лошадь, двух овец (можно связать к зиме варежки). К тому же корова отелилась. Гершензоны отдали нам академический паёк, целых два пуда муки. Из МОНО выдали остаток постного сахара, предназначавшийся какой-то ликвидированной колонии. Пакет с ним мы приняли сначала за ожидавшуюся ткань, и с тех пор за постным сахаром у нас утвердилось название «мадапаланчик». Наконец, получили две посылки Американской организации помощи (АРА).
Все ожили. Улучшение это удачно подоспело ко второй годовщине колонии.
За обеденным столом было всегда оживлённо, особенно летом. Когда столовая размещалась на большой открытой нижней террасе дома, кто-то, кажется Всеволод, за неимением настоящего гонга, притащил в колонию буфер от товарного вагона и повесил его вниз расширенной стороной на сучок дерева, поблизости от дома. Звук его был похож на колокольный.
После звука «гонга» все оставляли работу и занятия, летом мчались вниз по лугу к запруженной речке Вынырке, мылись и купались до следующего гонга. Потом летели на всех парах к столу и рассаживались у приготовленных уже дежурными мисок с едой. Постоянных мест не было, садились кто где хотел. Только Лидия Марьяновна всегда сидела у торца длинного стола, чтобы видеть всех ребят со своего места. С первых дней колонии она ввела такое правило: когда все уже сидели, он тихо стучала своей ложкой по миске, все замолкали и она с улыбкой говорила «кушайте на доброе здоровье». В тот же момент поднимался дружный стук ложек о миски — колонисты насыщались молча и только минут через 5 начинались разговоры (это вовсе не возбранялось), соседи делились своими впечатлениями.
Вспоминает Галя.
В середине трапезы раздавался громкий голос Дани — «Тише, ребята». Это сельхоз распределял работу. «Требуется 3 больших мальчика на постройку погреба… кто? Костя? Отлично. Олег, ну и я. Теперь, надо ехать на вокзал, встречать Сергея Викторовича, кто хочет? Я так и знал — Галя не пропустит этой возможности.»
Мама, ты не против? Отлично. «Полосатые» будут рубить и носить из леса слеги для погреба. Нет возражений? А «киски» и все остальные свободные — с Фросей полоть огород. У меня всё.
Это было время, когда впервые дежурные объявляли: «Мальчикам можно добавки», а иногда даже: «Сегодня всем можно добавки». Тем не менее, всегда находились желающие ещё и выскрести кастрюлю.
Перед самым концом обеда почти ежедневно раздавались не очень смелые голоса, один — два:
— Кто нашёл мой ботинок, номер 39…?
— Кто видел, где Краевич (учебник физики)? Завтра урок, а он куда-то девался.
— А кто видел Короленко, II том?
Тут уж Лидия Марьяновна не могла не вмешаться. Её очень мучили ребята своей неаккуратностью:
— Как вы можете терять книги?! Это совершенно недопустимо! Когда я научу вас порядку?! — Да я не терял… Положил…
Ребята смеялись:
— Положил, ну и возьми, где положил.
Но всегда находилась добрая душа:
— Серёжа, да ты на Костиной кровати её забыл.
В конце концов всё приходило в порядок.
Заканчивался обед по большей части объявлением преподавателей об уроках и рассказом приехавших из Москвы ребят или сотрудников о делах, о впечатлениях. Чаще всего это была сама Лидия Марьяновна.
С первых дней Лидия Марьяновна ввела в колонии коммунизм в самом высоком смысле слова. Все вещи были общими, кроме очень немногих самых личных, памятных от родителей и т. п. Это было и жизненной установкой и суровым требованием времени. Когда кто-нибудь ехал в Москву, на его зов за столом: «Кто выручит шапкой, штанами поприличнее, ботинками» все несли, что могли, а сотрудники снабжали деньгами из своих мизерных зарплат.
Случалось нам ездить и большими группами, когда знакомые артисты дарили колонистам контрамарки в свои театры. Среди наших друзей были такие известные лица, как Н. А. Смирнова, М. М. Блюменталь-Тамарина, Н. Церетели, И. Ильинский, И. Шлепянов, О. Э. Озаровская. После спектаклей приходилось ночевать у тех же артистов. Некоторые из них привозили нам в колонию отрывки из своих спектаклей.
Незабываемым было время сенокоса. Когда за обедом Даня объявлял: — Все на сено! — это воспринимали как общий праздник. В сенокосе участвовали и большие, и маленькие, и многие сотрудники, и даже ребята с фурункулами не оставались дома. Дружно, радостно шла работа. Все особенно ждали собирания сухого сена в копны. Тут заваривалась весёлая кутерьма, «слоёный пирог». На сено валили кого-то, сверху бросали сено, выше — ещё одна «начинка» пирога, ещё сено… Копна рушилась на бок, начинал расти новый «пирог». Шум, крик, смех.
Но бывало иначе. Шла репетиция спектакля. Кто-то замечал надвигающуюся тучу. Сельхоз звонил в гонг и чем бы кто ни занимался, в том числе «артисты», всё бросали и мчались собирать сено. Тут уж было не до игр. Собирали быстро, дружно, серьёзно.
Для меня, девчонки, это было не только воодушевлением слаженной коллективной работы, не только восторгом ранней встречи с солнцем, но ещё и предметом особой гордости. Я была единственной девочкой, которой доверяли тяжёлую мужскую работу, косить.
Хорошо отпраздновали вторую годовщину. Гвоздём её была постановка «Хламиды-Монады» Олега. Вот её содержание.
В связи с необычайными успехами медицины в царстве «нимфозорий» наступила паника. Собравшись в кружок, гонимые и преследуемые нимфозории горестно поют:
О гонококк мой, гонококк, Тебя сгубил жестокий рок! О спирохета, спирохета, Ты пала жертвой санпросвета!Среди нимфозорий находится герой, Хламида-Монада (был представлен в виде красивого юноши, жениха другой нимфозории — в виде девушки), который берётся победить и разгромить человечество. Но как это сделать такому ничтожному микроскопическому существу? Хламида-Монада отправляется в лабораторию профессора Резерфорда, пролезает в тубус микроскопа снизу вверх и увеличивается в тысячи раз. Он является перед учёным в виде огромного чудовища и, приставив ему нож к горлу, требует, чтобы он освободил атомную энергию, которая находится у него в заточении. Напуганный Резерфорд отпирает темницу (шкаф со столярными инструментами), выводит атомную энергию и отпирает наручники с её рук. Раздаётся страшный взрыв (4 человека били в кастрюли), в зале гаснут коптилки, и человечество (зрители) погибает под грудой обломков Вселенной (с хор и из терема зрительный зал бомбили дождём подушек). Режиссёр Олег сказал короткую речь, что кто не понял вещего смысла представленной драмы, может отнести это на счёт своего несовершенного понимания.
А что, ведь не дурно за четверть века было предсказано Олегом возникновение атомного и бактериологического оружия?
Отлично сыграли роль нимфозорий — ребята, завёрнутые в простыни с громадными шарами вместо голов. Пьеса имела шумный успех, который был несколько омрачён гибелью очков Сергея Викторовича при прямом попадании одной из подушек.
А я в тот день психовал. Злился, как во время оно дедушка Эмиль Евгеньевич, что из-за этого праздника гоняют за гостями лошадей на станцию, а мы опаздываем с пахотой под яровые. Что лошади очень устают, так как и при холостом прогоне дядя Николай подрабатывает налево, возит «королей», что на кухне обнаружены крупные хищения продуктов со стороны нанятых кухарок. В виде протеста я отказался играть роль внутриатомной энергии. Впрочем, меня с успехом заменил приехавший в гости Женя Зеленин. Можно было не репетировать. От него требовалось только явиться перед публикой полуголым и в момент освобождения крикнуть: «Вам!». Однако, к вечеру я немного отошёл и принял участие в бомбардировке публики подушками. В заключение скауты изобразили ингоньяму — индейский фольклорный танец, который отлично исполнялся скаутами, и не раз. В этом танце изображалась охота индейцев на бизонов и последующий праздник около вигвамов.
На праздник приехало к нам много народа. Среди них были близкие или потом ставшие близкими, друзья колонии.
Так, приехала старая мамина знакомая, детский врач — Анна Соломоновна, приезжавшая и раньше, чтобы лечить ребят, когда ещё не было в колонии дедушки. Человек живой, прямой, предельно коммуникабельный, она быстро становилась интимным другом самых разных ребят. Многие охотно поверяли ей сердечные тайны, советовались, как им поступить в романтических и драматических ситуациях. Мама не раз просила её побеседовать с тем или другим из захандривших ребят. Взгляды мамы и Анны Соломоновны на мораль полностью совпадали, несмотря на то, что они придерживались диаметрально противоположных мировоззрений, — Анна Соломоновна была безнадёжная атеистка.
Она постоянно и много играла на пианино (кроме медицинского института она в своё время окончила консерваторию). Никогда не отказывалась, какой бы усталой ни была. Мы её звали ласково «Саламатовной», по аналогии с любимой нами кашей из муки, саламатой. Она, в свою очередь, называла нас «чертяками». По-видимому потому, что, когда она появлялась у нас, ребята её окружали и от радости прыгали, бесились и громко кричали: «Саламатовна приехала!» Сыграйте, сыграйте «Думку», нет Шопена, Грига, Грига «Шествие гномов», «Песню Сольвейг». И она играла и играла. Сама она больше всего любила Шопена.
В молодости была она красива и смела, одна объездила всю Швейцарию на велосипеде. Однако замуж не вышла, вследствие какой-то печальной истории, и вся отдалась работе и заботам о всякого рода злосчастных людях. Квартира её всегда была полна бедных студентов, которых она приючала, кормила и прятала от полиции. Ей уже и некогда было думать о замужестве. Для её энергии характерен следующий случай. После первой мировой войны, когда на Ходынке базировались немногочисленные наши самолёты и когда о пассажирской авиации не было и речи, она раз направилась на аэродром и заявила коменданту, что она должна полететь, что она скоро умрёт (у неё было больное сердце, но перед смертью ей необходимо побывать в небе). Напрасно комендант уверял её, что военные лётчики не берут пассажиров, что её просьба беспрецедентна, она возражала: «Вот и создайте прецедент». Она настаивала целый час и он, наконец, сдался, приказал какому-то лётчику сделать несколько кругов над лётным полем. Бывали и ещё случаи, когда она добивалась самых невероятных вещей, но главным образом не для себя, а для других.
На праздник к нам приехала мать Олега и Марины Марина Станиславовна. С этого дня она стала нашей учительницей музыки и пения. Её сразу полюбили и радовались её приезду больше, чем чьему-либо ещё. Она обладала замечательным голосом, сопрано. И в свободное время она сама пела ребятам арии из русских опер: «Исходила младёшенька» из «Хованщины», «Плач Ярославны из „Князя Игоря“», арию Февронии из «Сказания о граде Китеже». Она поставила у нас ряд детских опер собственного сочинения, из которых я помню только названия: «Ваня и Маша», «Цветики», «Сапог и сюртук». По сравнению с нашими предыдущими постановками это был возврат в детство, но ребята были им рады, тем более, что оперы выбирались со вкусом, в них не было и тени пошлости или сюсюканья, все они были высоко художественны и музыкальны. Марина Станиславовна не сходилась близко с ребятами, как Анна Соломоновна, но от всего её существа веяло спокойствием и уравновешенностью и вся атмосфера вокруг сразу гармонизировалась. Красива она была замечательно. В ней была польская кровь. С карими добрыми глазами под чёрными бровями, с седыми, гладко зачёсанными на прямой пробор волосами и косой, положенной венцом вокруг головы, она выглядела королевой. Трудно себе было представить, что она жила в постоянной нужде. Она и её второй муж, художник, оба педагоги, зарабатывали мало и с трудом могли прокормить и одеть пятерых детей, двух от первого её брака и трёх от второго.
С Мариной Станиславовной приехала её старшая дочь Тамара, высокая брюнетка с двумя длинными чёрными косами, ученица консерватории уже на старших курсах. Она собиралась прожить у нас всё лето и вести уроки музыки и пения в отсутствие матери, но осталась постоянным вторым преподавателем музыки. Кроме того, она не брезговала никакой работой. Она соединила в себе музыкальность матери с поразительной художественностью, талантливостью и рабочей ухваткой брата Олега. Оба годились ребятам и в учителя и в товарищи. Её крепко любили колонисты.
Приехали два оруженосца. Надо пояснить, что это такое. У теософов существовал своеобразный рыцарский орден. Зрелые, заслуженные люди, пользовавшиеся всеобщим уважением, посвящались в рыцари. Это накладывало на них ряд моральных обязательств. Чуткое, внимательное отношение к ближним, братство внутри ордена и всемерная помощь всем нуждающимся, упорная работа над собой, обязательные медитации утром и вечером, во время которых обдумывался план грядущего и производился самоотчёт прошедшего дня, периодические отчёты на собраниях теософского общества о своих успехах и неудачах. Мама была рыцарем. А молодёжь, в большинстве студенты, проходили предварительную стадию — оруженосцев. Кажется, каждый для руководства прикреплялся к кому-либо из рыцарей.
Вот два таких молодых человека приехали к нам. Юра Бобылёв был учеником театрального училища, а Юлик Лурье кончал или уже кончил химический факультет. Собственно, он уже был полный Юлий Ильич. Оба пришли в восторг от нашей жизни, от дружного коллектива, от гостеприимства, от Хламиды-Монады и, главное, от налаженного трудового режима. Оба намеревались и впредь приезжать помогать, а Юлик даже подумывал взять на себя преподавание химии и математики. Это очень нас обрадовало. Отсутствие химика всегда было нашим больным местом, а по математике Олег собирался оставить за собой только младшую группу.
Наконец, у нас собрались разные лица, которых мама приглашала на роль своей заместительницы — вести хозяйство вместо ушедшей Елены Ивановны и заботиться о душах ребят. Собственно последнее дело мама считала кровно своим, но Тоня заявляла, что «хочет выпить её сердце» и успешно это осуществляла. Мама чувствовала, что у неё не хватает душевных сил на всю ораву и искала себе помощника.
Пришедшая ещё в Ильине Елена Алексеевна оказалась бестолковой хозяйкой и неудачной душеспасительницей. Она всё ждала, что ребята запишутся к ней в очередь со своими душевными невзгодами. А ребята прозвали её «классной дамой». Она обиделась и в Тальгрен с нами уже не поехала.
Долго ещё место хозяйки оставалось свободным. В Таль-грене пригласили Александру Михайловну, чувашку, странный гибрид коммунистки и теософки. Она очень старалась по хозяйству, пилила и учила кухарок, воспитывала в ребятах любовь к порядку и много сделала в этом направлении. Кроме того, прочла нам несколько лекций по марксизму. Но ребята её недолюбливали, считали «занудой». Она привезла с собой сына — от какого-то немца, — который старался догнать нашу младшую группу. Он был хороший малый, но вертлявый и надоедливый, притом косой, удивительно напоминал карикатуру на зайца. Его звали Андрей Франкфурт, мать звала его Люсей, а в колонии за ним закрепилось прозвище Существо или Субчик.
Пожилой, солидный мужчина в чёрных очках — Александр Петрович Прозоров, не то кооператор, не то агроном, предназначался на должность руководителя сельского хозяйства. Обещал достать нам партию лаптей и сбрую, наточил топоры и пилы, съездил несколько раз похлопотать в МОНО. Определил к нам братишку и скрылся.
Братишка был добрейший парень. Звали его Павлик, в колонии прозвали Шпалей, так как он несколько шепелявил, а брат его звал Паля. Они были из Олонецкой губернии. Павлик, когда падал, говорил: «Ох, сголзнул». Когда шёл косить, сокрушался, что мы косим косами, а не горбушами «как все люди», т. е. олончи-молодчи. Ходил он как-то животом вбок, а на длинном утином носу всегда блестели крупные капли пота. Мы немало потешались над беднягой, на что он никогда не обижался, но хоть и потешались, но любили его.
Ещё к нам Петя Карпов перетащил своего младшего брата Саню. Добродушный парень, крупитчатый, рыхлый, склонный к полноте. Весельчак, танцор, усердный пианист. Впрочем, тоже хлебнул Михайловского перевала. У него было плоское жёлтое лицо с толстенными веками, которые никогда совсем не поднимались и закрывали половины обоих глаз.
Наконец, поступил к нам Боря Большой, по прозвищу Лапша, потому что был левша. Худенький, высокий нескладный мальчик, бледный; скептик и насмешник, но великий шахматист, чуть ли не разрядник. Его привезла мать Нина Александровна, тоже гибрид коммунистки и теософки, и симпатичный отчим, которого Боря называл «этот типиус».
После праздника накатились работы, и всё остальное отступило на второй план. Первым делом пришлось заняться колодцем. Колодец ещё Тальгренами был сделан весьма совершенным. Грунтовые воды залегали глубоко, поэтому до воды было 20 метров. В колодце на полдороге был настил, на котором стояли насосы. Всасывающий поднимал воду до настила, переливал её в большой резервуар, откуда нагнетающий поднимал на поверхность. Приводились насосы вручную вращением большого колеса, стоящего наверху. За время хозяйничанья предыдущей колонии настил под насосами сгнил, насосы заржавели, патрубки прохудились.
Мастеров было не достать, да и денег на них не было. Решили чинить хозяйственным способом. Связали две верёвочных вожжи, спустили на 10 метров. За ремонт взялись Олег и я. Спускаясь вниз по верёвке в мрак, холод, сырость, я не мог отделаться от ощущения, что там и останусь. Внизу зажигали лампу без стекла, она безбожно коптила и почти не давала света. Почти на ощупь приходилось разбирать насос. К тому же гнилой настил, на котором мы стояли, грозил обрушиться. А под нами было ещё 10 метров пустоты и затем ледяная вода. От лампы в колодце скапливались копоть и углекислота, часа через два мы начинали задыхаться и лезли наверх, так как боялись потерять сознание. Лезть по верёвке в таком состоянии было очень тяжело, хоть мы и упирались ногами в сруб и наделали на вожжах узлов, чтобы лучше цепляться. За сутки копоть оседала, а углекислота просачивалась вниз сквозь щит в настиле. На другой день мы повторяли операцию. Удивительно, что сеансов за пять мы починили насос. Правда, на будущий год пришлось повторить ремонт, но это уже было легче. В жизни я не делал более противной работы. Особенно доставалось Олегу. У него была болезнь, вроде туберкулёза горла, на шее вздулись шишки — страшно глядеть. Атмосфера и температура в колодце были для него гибельны. Счастье наше, что мы быстро справились с ремонтом.
Олега, так же как и меня, угнетала необходимость при работе бить лошадей. Но если я видел выход в изобретении механической лошади, то он мечтал о ручном земледелии по японскому образцу и даже готов был из-за этого уйти из колонии. Мама выделила ему лужайку в парке и просила сельхоз освободить его от всех работ, чтобы он мог заняться обработкой земли в соответствии со своими убеждениями. Он целыми днями ковырял лопатой землю, а по ночам писал религиозно-философское сочинение, называвшееся «Остров достоверности».
Вылезши из-под земли, я бросился налаживать пахоту. Надо было поднять 12 гектаров, из них 10 — целины или старой залежи. «Упорство и труд всё перетрут, и первым делом самого трудящегося» — вспоминал я бывшую у нас в употреблении пословицу. У нас было только два одноконных плуга, что было очень тяжело для лошадей. К тому же то Рыжего, то Старика постоянно отрывали для поездок на станцию. На одной лошади пахал дядя Николай, на другой большей частью — я. У других ребят были другие заботы. Коля провёл почти весь сев. Фрося — командовала огородами. Внезапно мы получили от Союза потребительских обществ жнейку канадской фирмы Мак-Кормик и конные грабли. Жнейку дали в разобранном виде, и пришлось отрывать Олега от его ручного земледелия, чтобы её собирать. Ему с энтузиазмом помогал Серёжа Чёрный. На жнейку мы не могли наглядеться. Мы не думали, что когда-нибудь дойдём до таких высот механизации. И не придётся жать серпами! При большом размере полей эта перспектива пугала нас больше всего.
Ребята, которые ездили за конными граблями в другую колонию, были в ужасе от нравов соседей. У нас было принято в самые несчастливые моменты делиться пищей со всеми гостями, а там не только не накормили наших мальчиков, которые приехали перед обедом, но даже не дали есть «своим», которые собирались переходить в другую колонию и были «списаны» с пайка. Да что и говорить, когда в одной из ближайших колоний сотрудник избил ученика, за это ученики, напав на него скопом, повесили его на суку. Довольно нередко из таких колоний отправляли девочек в родильные дома.
Большие возможности нашего нового хозяйства подняли трудовое рвение. Больные выползали на огород, большие мальчики, кроме разве Пети, с фурункулами на ногах, рвались пахать, девочки пытались дорваться до косы. Галя косила уже наряду со всеми. Берта попробовала, но скоро отказалась. Маме уже почти не приходилось стыдить отлынивающих от работы, наоборот, она уговаривала не браться за работу, если не по силам.
Особенно дружно провели покос. Мы уже могли выставить до семи косцов. Меня особенно радовало, что первой и вообще единственной девочкой, получившей право на собственную косу, была Галя. Это всё-таки класс!
Когда сажали картошку, даже дедушка соблазнился, пришёл на поле и, с трудом нагибаясь, брал из мешка две-три картошки и, улыбаясь, бросал в борозду. Он быстро старел, но героически продолжал выполнять свой долг. У него уже дрожали руки, и потому ребята боялись давать ему резать фурункулы. Так как у меня был большой опыт по вскрыванию и выдавливанию своих собственных, а также по наследству, эта обязанность перешла ко мне. Я стал форменным живодёром и занимался этим делом даже с некоторым удовольствием.
Однажды пришёл крестьянин из Вынырок и сказал, что жена его умирает. У дедушки, как на зло, был сердечный припадок. Всё-таки он встал и пошёл в деревню. Я обнял и поддерживал его всю дорогу. Через речку надо было переходить по доске. Мы с крестьянином почти несли его. У женщины оказалась холерина. Дедушка не мог выписать рецепт, и я написал под его диктовку. Женщина выздоровела.
Примерно в это же время вышел у нас комичный случай. Только я заснул, врывается ко мне жуковский парень с ружьём:
— Моего отца на шоссе конокрады жгут за то, что он у них свою лошадь отбил.
Я вскочил в штаны, схватил какую-то палку и понёсся по шоссе. Впереди бежит Коля тоже с палкой, сзади Серёжа Белый, Алёша и Вася с топорами, дядя Николай с вилами, за ним вся орава. Все до одного колониста. Пробежали с полверсты, видим, едут четыре подводы, а в лощине на шоссе костёр горит. Я говорю Коле:
— Подождём остальных, мы вдвоём с ними не справимся. Сзади на расстоянии полкилометра бежала большая толпа мужчин из двух соседних деревень, все вооружены топорами, граблями, просто палками, а впереди них Олег с прутиком. Оказывается, Олег поднял деревню Жуковку на выручку. Замыкали шествие девочки-колонистки, уже безо всякого оружия.
Как только пять ребят подбежало, мы набросились на подводы.
— Стой! — кричим — сдавайся! Где мужик?
Возчики перепугались насмерть.
— Да что вы… Да мы не знаем никакого мужика… Да мы люди честные…
Тут подбежали крестьяне из Жуковки, большинство с ружьями. Взяли возчиков за грудки.
— Кого жгли? Эн, костёр горит. Банка с мазутом. Прохудилась она, мы её и бросили. Ну и подожгли, чтоб не растекалась.
— Врёте вы всё! А кто ж кричал, как зарезанный?
— Задний кричал, чтоб подождали, у него колесо соскочило.
Мы настаивали, что возчиков надо задержать до проверки.
Их окружили, толпа всё росла, а мы втроём отправились в лощину. Видим, действительно догорает банка с мазутом. И чеку сломанную от колеса нашли. Пришли, возчиков неохотно освободили. Развоевались, хотелось по крайней мере надавать по шее. Как писал Алексей Толстой:
«Загремели громко трубы, В войске вспыхнул жар сугубый, Так и смотрят все, кому бы Дать прикладом в зубы».Возбуждение обратилось против парня и его сестры, поднявших панику, но они благоразумно скрылись. Интересно реагировали на происшествие наши непротивленцы. Олег выскочил, схватил прутик из кучи и побежал на шоссе. Крикнул:
— Непротивление злу насилием здесь не подходит!
Оккультист Лера ему говорит:
— Не обманывай себя, возьми палку!
— Нет, палку — это уж слишком. — И оба бросились за толпой.
Иначе реагировал наш главный богатырь Петя. Он один остался дома и, высунувшись из окна, орал благим матом.
— Братцы, режут!
В Вынырках услыхали.
— Колонию режут!
И, вооружившись ружьями, косами и вилами всей деревней примчались нас спасать. Всего в военных действиях участвовало человек двести. Убитых и раненых не было. «Поджаренный» старик с лошадью приехал через полчаса. Волнение объяснялось, конечно, тем, что грабили, поджигали и убивали в окрестностях постоянно.
Такая беда случилась в ту весну у Филиппа Егорыча — отца Нины Чёрной. Много лет он был простым неграмотным крестьянином. Кооператоры вовлекли его в своё движение и пробудили стремление к просвещению. Уже будучи немолодым — около 40 лет, и семейным человеком, он выучился грамоте и ко времени революции накопил библиотеку в 300 томов разных классиков и книжек по агрономии.
После революции он на фабрике организовал коммуну. Прогрессивный сын одного бывшего фабриканта предоставил им помещение. Переехали всей семьёй и с коровой на новое местожительство. С ними переехало ещё несколько семей. Коммуна держалась один год, затем распалась. Однако Филипп Егорыч мечтал о создании сельской коммуны и в 1920 году приступил к её осуществлению. По своей инициативе он подговорил односельчан своей деревни Кекешево стать коммунарами. Коммуне нужен был кузнец. Он построил кузню и сам со старшим сыном Иваном взялся подковывать общественных лошадей, обтягивать станы, ковать лемеха для всей деревни. Нужно было перейти от сохи на плуг, — он, к ужасу жены, имея одиннадцать детей, продал корову, чтобы купить общественный плуг. И много ещё несуразных поступков совершил для блага своих односельчан.
Но у Филиппа Егорыча, конечно, были и противники. Кулаки, хоть и не вступившие в коммуну, рассматривали его как подрывной элемент и предвидели от его деятельности себе всякие беды. В конце концов его подожгли, и дом сгорел дотла. Особенно горевал он о библиотеке, а поджигатели как раз на её гибель и целились; они были уверены, что из-за чтения книг он и свихнулся на коммуну.
Филипп Егорыч много помогал нашей колонии. Ребята помнили про его токарный станок и бочку кислой капусты. Когда он приехал погорельцем, ему навалили целую кучу вещей. Отдавали последнее, платья и ватники. Галя с сестрой и тёткой положили в кучу последние башмаки, которые были у них одни на троих. Маме пришлось даже кое-что вернуть ребятам.
Через ряд лет Филипп Егорыч снова отстроился, но это уже была не та изба — и поменьше и похуже. Стал снова собирать библиотеку и продолжал помогать своей бедной деревне вылезать из нищеты. Снова продавал собственную корову и приобретал для общества машины. Жена много слёз пролила и жаловалась на него, что он в конце концов уморит своих детей, но он иначе не мог. И добился для деревни многого. Так, на первой сельскохозяйственной выставке их деревня получила премию за лучшее ведение сельского хозяйства. В качестве премии им обещали дать трактор. Первый трактор не только во всём районе, но это вообще была большая редкость. Но деревне поставили условие, что прежде они должны выделить своего человека для обучения на курсах на тракториста. Никто не соглашался, и Филипп Егорович пошёл сам. Именно пошёл пешком в Москву из-под Дмитрова, с целью посмотреть строящийся канал Москва-Волга.
В 1932 году по навету соседей Филипп Егорыч был арестован со всей семьёй: женой и семью детьми. Не тронули только замужних и живущих отдельно от него дочерей: Маню, Нину, Тоню, а младшая, совсем ещё девочка, Соня убежала во время обыска и ареста к сестре Нине.
Семью выслали в Новокузнецк, в глухую степь. Там они начали строиться. На это была способна только такая дружная и трудоспособная семья. Сын Филипп вскоре сбежал из ссылки, пользуясь развёрсткой рабочей силы на район. Иван был больной, а младший в семье Мишутка стал зарабатывать на семью. Филипп Егорыч писал властям, доказывал свою невиновность. Через 3 года их вернули в деревню.
В 1937 году на деревенском собрании Филипп Егорыч задал вопрос: — Обязательно ли вступать в колхоз? Ему ответили «добровольно». А через два дня арестовали. На этот раз одного. Дом его сгорел во второй раз. Дети все разъехались кто куда. Изо всех одиннадцати их осталось шесть человек.
Кончил Филипп Егорыч плохо. Его долго мытарили по разным лагерям. На каком-то этапе вышибли прикладом глаз. Потерял рассудок. Где умер или убит, неизвестно.
Летом продолжали заниматься только с приезжающими учителями, иначе было не уложиться в программу. Сергей Викторович продолжал ботанику и географию, папа читал почему-то пропущенный Рим. Но мы с наибольшим удовольствием занимались с художником — мужем Марины Станиславовны Григорием Григорьевичем, который однажды приехал к нам на этюды и остался на всё лето. Вера Павловна уступила ему преподавание рисования, признав его несомненное преимущество, и сама поступила к нему в ученики. Он первым делом вытащил нас из комнаты на природу и, как когда-то Борис Михайлович в школе Свентицкой, заставил рисовать живые и даже движущиеся объекты: коров, кур, деревья на ветру, целые пейзажи. Я под его руководством нарисовал берёзовый пень, который до сих пор считаю шедевром своего творчества.
Главное отличие его творчества заключалось в том, что Вера Павловна стремилась научить всех рисовать так, как она сама умеет, а Григорий Григорьевич старался в каждом выявить что-то своё, неповторимое. При нём выдвинулся на первое место Петя Карпов как портретист. Он один из нас всех писал маслом.
На посадке картошки мы «помирали за советскую власть», то есть назначали себе урок и потом кончали его во что бы то ни стало, хотя бы приходилось работать до ночи. И вот что удивительно: всё-таки оставались силы на «бесячество». Оно выражалось в том, что перед сном хотелось обязательно попеть, потанцевать, поиграть в городки. Мама звала нас спать, боялась, что мы переутомимся, но Софья Владимировна, её духовная руководительница, приезжавшая несколько раз в колонию, всегда за нас заступалась.
— Надо давать выход молодой энергии. Они лопнут, если не «побесятся» перед сном.
Как было не плясать, не радоваться, если как раз в то время, когда мы доедали последнюю картошку, мы получили из заграницы двенадцать четырёхпудовых посылок: 5 — из Международного союза воспитания при Теософическом обществе, 2 — от Американской организации помощи и по одной посылке от давнишних маминых иностранных знакомых: кооператора, эсера, поэта. Отдали свои индивидуальные посылки оруженосцы. Это было очень кстати и очень трогательно, особенно посылки от давно забытых друзей. И как они вспомнили и позаботились, зная про трудные времена в России!
Настали такие дни, что у нас хлеб не выдавали пайками, а ставили на стол на тарелках. Ешь — не хочу! Правда, это продолжалось не долго. За обедом или ужином то и дело раздавался чей-нибудь басок: «Ира, передай-ка мне ломпасанчик (это значит большой кусок хлеба). — А мне — коломпасанчик (ещё больший кусок)».
Но были, конечно, и не столь радостные события. Владимира Петровича и Александру Михайловну ограбили по дороге со станции. Сняли верхнюю одежду, часы, деньги и кое-какие продукты.
Не оставляла своими заботами и ВЧК, только что переименованная в ГПУ. Летом колония в третий раз подверглась обыску, как и в предыдущие разы, безрезультатному. К этому мы привыкли и не волновались.
Страшнее была ревизия. Мы о ней узнали заранее. Поступил донос, что у нас монастырь, а не колония. Заведующий МОНО Рафаил и заведующая отделом Крупенина решили приехать к нам, увидеть и закрыть. Нужен был ещё представитель общественности. Мама устроила так, что на эту роль предложил себя Станислав Теофилович Шацкий — большой её друг и в то же время большой авторитет для МОНО. Мы их встретили танцами. Они удивились: «Вот так монастырь!» Пошли осматривать дом — везде порядок, благолепие. Пошли по огородам, полям. Объяснения давали Серёжа Белый, Николя и я. Они остались очень довольны. В парке в это время устроили игру в «набег на знамя». Потом ревизоры заперлись с мамой и часа два её допрашивали, всё насчёт режима. Она им очень смело отвечала, что её цель готовить дельных и в то же время гуманистически настроенных, бескорыстных людей. Для этого им нужно обладать чувством единства со всем миром. Его наиболее сильно даёт только религия. На одной дарвиновской обезьяне гуманизма не воспитаешь.
Ревизоров провожала вся колония. Настроились добродушно, звали приезжать ещё. На обратном пути Шацкий дал своё заключение: «С педагогической стороны опыт поставлен безупречно. Ребята бодры, работящи, веселы — это главное. А каким способом Лидия Марьяновна этого добивается, это не так важно». Начальство с этим согласилось и решило колонию не закрывать, а дать нам усиленный паёк, кой-какие машины и увеличить ассигнования.
В начале лета я опять тяжело болел малярией, которая вообще взяла в работу чуть не половину ребят. По этому случаю я был в прекрасном настроении. Ещё бы — можно не работать и совесть не мучает. Нельзя же работать при температуре 40°. В промежутках между приступами можно поглощать «Историю физики» Лакура и Аппеля или, например, изложить своё настроение в таких стихах:
Голубое птичье пенье, Голубое настроенье, Голубые небеса. Ветер гонит прочь сомненья. Будит в сердце изумленье, Будит в мире чудеса. Расправляю гордо спину, Чую силы-исполины, Чую радостную страсть. Пляшут мысли как дельфины, Улыбаюсь без причины, Отдаюсь мечтам во власть.И ещё:
Всплески, Ласки, Перелески, Блески, Краски, Звонкий день. В сердце песни, Сердцу тесно, — Рвётся сердце В голубень.«Голубень» — это я у кого-то содрал.
Эти стихотворения были помещены в колониальные журналы, переписаны красивым почерком с виньеткой, где чайки рассекали крыльями синий треугольник неба, и подарены маме. Мама была ими очень горда. Она не удержалась, чтоб не показать их Михаилу Осиповичу Гершензону, высшему авторитету, скрыв пока, до получения похвал, имя автора. Гершензон прочитал и сказал:
— Это, конечно, написала самая сентиментальная и глупенькая из Ваших учениц. Не беспокойтесь, Лидия Марьяновна. Потребность марать бумагу у них с годами проходит.
Мне об этом приговоре мама рассказала только 8 лет спустя.
Но всё это было весной, а к осени у меня были совсем другие мистические настроения, которые я выразил в поэтической форме:
Врубаясь волн упругой сталью В глубины жизни, чей страшен лик, Я насыщаю безбрежной далью Свой интегральный предвечный миг. Холодно-жгучей межзвёздной кровью Я заполняю души фиал, Чтоб пробудился из сердца новью Трансцендентальный потенциал. Я ясно вижу, как жар желаний Плетёт по небу узор из роз, Я ясно слышу солнцестоянья Молекулярных всесильных гроз. Когда ж в бездонном эфирном ложе Астральным светом горит венец, Тебе ль внемлю я тогда, о Боже, О ассинтота земных сердец!Ай да Давид Львович, ай да загнул! Эффектно выразил свою сущность. Только никто не мог мне объяснить, что эта абракадабра значит. Вот хоть эти «солнцестоянья молекулярных гроз». Но звучит? Звучит. А в деталях незачем копаться. Это символы, а они должны быть туманны.
Удар в самое сердце мне нанёс три года спустя профессор Слудский. Когда в институте он начал проходить с нами аналитическую геометрию, то вскоре выяснилось, что на свете существуют не ассинтоты, а ассимптоты. Вся моя ода себе и Богу пошла насмарку и я решительно перешёл в поэтическом творчестве, как выражалась няня, «на юмор и сатиру».
Но в колонии я одновременно увлекался и прозаическим творчеством. Я написал ряд философских статей. Причём писал их для одновременной практики в языке на эсперанто. Одно сочинение называлось «Об энтропии и её следствиях». Это было доказательство существования Божия и его эволюции, исходя из второго принципа термодинамики. Я рассуждал следующим образом: Энтропия неудержимо растёт, энергия рассеивается. Мы находимся на средней стадии этого процесса. Ещё существуют звёзды, но их уже множество, и немало энергии рассеяно в пространстве. Стало быть, было конечное время назад начало процесса, когда вся энергия существовала в едином сгустке, единой точке пространства. А остальное пространство было абсолютно пустым, так как материя — только форма энергии. Что же было до начала рассеяния? Энергия, сосредоточенная в сгустке, была потенциальной, ибо любая другая её форма сопровождается энтропией и потому могла существовать только после начала рассеяния. До его начала был период сжатой пружины, находившейся в покое. Что могло вызвать её внезапное развёртывание? Внешних сил не было, внутренние — покоились. Очевидно, этот невообразимый сгусток энергии обладал сознанием и волей, чтобы по желанию выйти из сознания равновесия. Но это и есть Бог.
Далее следовали уже гипотезы. А что будет делать Бог, когда процесс роста энтропии завершится? На том и успокоится? Значит, сотворение Мира является единичным актом за бесконечное время? Маловероятно. Легче представить себе, что за периодом энтропии должен последовать период негэнтропии, во время которого вся энергия Вселенной соберётся в один комок. И всё начнётся сначала. А зачем нужны эти качания? Если Бог — высшее интеллектуальное существо, он не будет совершать бессмысленных актов творения и разрушения. Очевидно, Бог извлекает пользу из чередования периодов проявления себя в мире и обратного вбирания в себя всей энергии. В чём может заключаться польза? В том, что в процессе проявления Он приобретает опыт, совершенствуется, эволюционирует. Он сам несовершенен, но стремится к всё большему совершенству.
Я был очень удивлён, когда узнал, что подобное представление существует в индуизме, один из догматов которого гласит, что существование Вселенной разделяется на периоды манвантары (проявления Бога во Вселенной) и пралайи (покоя, «обдумывания результатов»). Ещё более я удивился, когда, спустя полвека, прочёл статью кого-то из современных физиков, пришедшего к аналогичным выводам, только не называющего первичный сгусток энергии Богом.
Здесь, правда, возникало затруднение, что при переходе от положительного периода к отрицательному должен был изменяться и закон термодинамики. Может ли Бог изменить законы природы? Или он сам им подчиняется? Этому была посвящена вторая статья «О красоте точных наук». В ней я приходил к выводу, что должен существовать единый закон природы (в этом, несомненно, заключается его красота), а всё остальное суть только леммы из него. А дальше я делал заключение, что Бог может изменить его, хотя сам иронически замечал «сделать так, чтобы дважды два было пять». Но это уже была чистая спекуляция, и никакими разумными аргументами она не подтверждалась. Просто мне так тогда хотелось верить.
Вытащив эти свои записки, пролежавшие в забвении 55 лет, я удивился, обнаружив, что они написаны на почти хорошем эсперанто. Мне даже пришлось их читать со словарём (проклятая энтропия мозговых клеток!). А ведь я учил язык между делом и всего полгода! В разгар полевых работ, когда ребята отказывались заниматься какими-либо науками, мама писала в своём дневнике: «Эсперанто ползёт из всех щелей как дикое сорное растение». Притом у нас не применялись такие суровые меры, как в ближайшей толстовской колонии, где ребят лишали обеда, если они «крокодилили», то есть разговаривали не на эсперанто, а на своём родном языке. Мама не была против этого сорняка и даже сама жалела, что у нас не доходят до него руки.
Размышление о рассеянии тепловой энергии навело меня на мысль, что зимой наша картошка неизбежно помёрзнет и складывать нам её некуда. Урожай ожидался центнеров в 300, да овощей 70–80. Обсудили на сельхозе и решили строить погреб. Олег представил проект. Надо было вырыть яму примерно площадью 10×15 м да 1,5 м глубины, положить несколько венцов, ряд стропил, связать их коньком, настлать невероятное количество слег, из них же сделать закрома, сделать две двери и тамбур. Задача казалась непосильной. Как тяжело было отрывать по 4–5 человек на стройку в разгар полевых работ! Сколько одного лесу надо было заготовлять! А куда денешься? Мы приналегли, и к зиме погреб был готов. В разгар стройки её застала вышеупомянутая ревизия, и она сыграла немалую роль в признании наших строительных талантов и серьёзности наших намерений.
Наша техника делала и другие успехи. Я уже писал, что мы получили пароконную жнейку. Мне раньше других пришлось её осваивать, и осенью я убрал на ней значительную часть урожая овса и гречихи. Мне удалось также заложить прочные основы хороших отношений с Вынырками, убрав за недорого ихнее поле ржи. Я справился с деревней за два дня, правда отчаянно вымотавшись на межах. Мне пришлось убирать хлеб поперёк крестьянских полос и подпрыгивать через каждые 4–6 метров. В конце концов я даже сломал грядиль. Но любопытно было видеть, как вся деревня кругами бегала за жнейкой. В Вынырках такого чуда ещё не видывали.
Олегу никак не удавалось как следует заняться своим лопатным хозяйством. Мы не успели кончить погреб, как получили конную молотилку, и ему опять пришлось руководить сборкой. Зато какой восторг был, когда Васятка стоял на вращающемся кожухе большой шестерни и, улыбаясь — рот до ушей — погонял мерно ходящих по кругу лошадей, а рядом гудела-ревела машина, проглатывая каждые 20 секунд по снопу. И не надо было вымолачивать цепами зерно до Рождества.
Нам выдали ордер на третью лошадь, что тоже было немалой механизацией. Получить её надо было из милиции, после того, как конокрады увели её из Плещеевской колонии, а милиционеры отняли у конокрадов. Пока это продолжалось, колонию ликвидировали, и лошадь досталась нам. Но милиция требовала громадного выкупа. Благодаря ловкости и настойчивости Гани нам обошлось это всего в 25 миллионов, да 18 миллионов взяток. Лошадь была первой у нас кобылой, и называлась она Санькой.
Ещё мы купили вторую корову за 300 миллионов рублей. Сравнение цен показывает, что инфляция была такова, что деньги за год падали примерно в 10 раз.
Слух о хорошей, «идейной» колонии привлекал к нам хороших людей вроде Софьи Владимировны Герье и её паствы — Серёжи Булыгина, Митрофана Нечёсова. Но вместе с ними наносило и всякий сектантский шлак, вроде Серёжи Попова и Ефремушки. Самый яркий образец шлака явился к нам осенью того года в виде юноши, якобы толстовца Серёжи Алексеева. Он имел весьма странный вид: низкого роста, физиономия в угрях, реденькие кустики на месте усов и бороды, белобрысые волосы до плеч, распущенные в подражание Христу, суровой материи хитон или балахон с глубоким декольте, торчащие из-под него короткие, тоже белые трусики и босые ноги — должны были подчёркивать его высокую духовность и отрешённость от земных сует.
В отличие от Серёжи Булыгина или Митрофана, он, по приезде в колонию, не хватался за топор или лопату, а выбрав кого-либо из девочек, увлекал её в длительную прогулку по шоссе. Уединившись, он сразу начинал проповедовать: начинал с веры в Бога и спасения души, а потом съезжал на половой вопрос, объясняя, что главная ошибка человечества заключается в признании им двуполости, что он, например, понял, что он существо обоеполое или, вернее, бесполое и с тех пор чувствует себя свободным, так как не стесняется своей наготы и не советует стесняться своей партнёрше. Что ж тут такого?
В этом месте наши девочки от него убегали, предполагая, что вслед за потоком красноречия последует предложение проверить на эксперименте теорию бесполости. Особенно он нажимал на Берту, которая ему приглянулась. Ещё Серёжу стали сторониться после того, как однажды из его головы выползла вошь, а он взял её осторожненько и пустил назад, приговаривая:
— Иди, дорогая сестра, пасись на здоровье.
Мама затеяла новое дело — начальную школу для крестьянских ребят, часть преподавания в которой должны были проводить сотрудники, часть — старшие ребята. Цель школы заключалась: 1) в опыте применения наших принципов к неотобранной, молекулярной среде, 2) принесении конкретной пользы соседним деревням, в которых не было школы, 3) педагогической практике для тех из наших ребят, которые хотят после окончания школьного курса пойти в учителя.
Дело облегчило поступление к нам подруги Марины Станиславовны Октавии Октавьевны Бяорсуцни, попросту тёти Туей. Она пришла на роль маминой помощницы и воспитательницы в начальной школе, или школке, как она у нас называлась. Она и мама вели часть предметов. Остальные распределились между нашими девочками: Галей, Фросей, Ирой Большой и Груней — недавно поступившей к нам из трезвенной коммуны «Светлый путь». Занятия в школке начали с подписания Заключительного акта о безопасности и сотрудничеству ребят из Жуковки и Вынырок, между которыми до того царила кровная месть. Акт представлял собой большой лист, на котором было написано, что драться стыдно и что высокие договаривающиеся стороны обещают все конфликтные ситуации разрешать при помощи переговоров на высшем уровне. Собственно, эти идеи излагались несколько более популярно. Внизу были подписи, криво и косо, печатными каракулями, всех вынырцев и жуковцев. Соглашение удовлетворительно выполняли в течение всего времени существования школы.
Вспоминает Галя:
Мне очень нравилась роль преподавателя, и как-то контакт со школьниками налаживался быстро. Кроме рисования и пения я иногда заменяла других на уроках арифметики и письма. Мы, колонисты, брали на себя организацию школьных праздников, украшение школы к праздникам, беседы с ребятишками. Эта практика мне очень помогла, когда во время войны в эвакуации я работала в сельской школе. Увлечённо занималась с детьми Груня, девушка-переросток, до поступления в колонию работавшая швеёй. С золотой косой, с ярко-голубыми глазами, она привлекала к себе своей неизменно ласковой сияющей улыбкой. После колонии Груня окончила педагогический институт и успешно преподавала там же математику.
Тётя Туся была женщиной лет сорока пяти. При ней состояла дочка лет двенадцати, круглолицая, в кружок подстриженная кнопочка — Зайка. В молодости тётя Туся была эстрадной актрисой, и потому лицо её было испорчено гримом: оно было покрыто красными пятнами. В дни отсутствия мамы она замещала её на утреннем чтении, вечернем обходе, следила за больными. Она была добрая женщина, не лишённая, впрочем, пристрастий как в положительную, так и в отрицательную сторону. Главным было положительное пристрастие к Петьке, который просиживал у неё в комнатке целыми часами и охотно принимал от неё то гостинцы, а то и новую рубашку. Извлекая материальную пользу из слабости почтенной тетушки, он при этом за глаза над ней издевался.
Петька причинял много горя сельхозу. Иногда он горячо брался за работу, но быстро остывал. И по неделям ничего не делал, только писал портреты да принимался «глаголом жечь сердца людей», обличая порок направо и налево. Также труден был Серёжа Белый. Когда на него находила хандра, он отказывался работать и целыми днями ходил из угла в угол как тигр в клетке.
Осенью мы понесли большой урон. Из колонии ушёл Коля. Ему очень не хотелось уходить, но родители, чувствуя приближающуюся старость, настояли, чтобы он поскорее приобретал специальность. Он готовился к экзамену в электротехникум. Серёжу Чёрного и Наташу, всё время хворавших, родители по совету врача повезли в Германию лечиться. Старших мальчиков осталось мало. Пришлось больше нагружать старших девочек: Галю, Иру, Фросю, и «полосатых»: Алёшу, Васю, Борицу, Бориса Большого, Шпалю и вновь поступившего Шляку, по настоящему Колю Шишкина. Прозвище было составлено из его же имени и первой буквы фамилии, но слога были сложены наоборот: Ш-ля-ко.
Кроме того, в помощь дяде Николаю взяли ещё двух рабочих: дядю Ивана и Егора — двоюродного брата Гани.
А что же Тоня? Она продолжала висеть над колонией как туча. В её дневнике в этой связи есть слова: «надо быть жестокой для своего дела». Мама решила, что больше в колонии Тоня жить не должна и попыталась устроить её в Москве. Сперва она её устроила у доброго священника, Ивана Димитрича, у которого при церкви, теперь снесенной, на Знаменке (теперь улица Фрунзе) было маленькое общежитие для девочек-сирот. Но Тоня проявила такую грубость, такую требовательность, что девочки и сами батюшка с матушкой были терроризированы и через две недели попросили её забрать. Мама подумала, что желание Тони иметь детей, быть может, означает, что из неё выйдет хорошая воспитательница и пристроила её в какой-то детский дом для дефективных детей. Но Тоня, поработавши там неделю, перессорилась со всем персоналом, и её уволили. После этого она была практиканткой при каких-то педагогических курсах, но тоже не ужилась. Мама просила Анну Соломоновну взять её на время, но и эта добрейшая женщина, у которой годами жили разные студенты, смогла Тоню выдержать лишь неделю. Такой же результат был у Маги. Когда временно моя мачеха уехала на Кавказ, мама поселила Тоню к отцу. Все эти хлопоты и переселения брали у мамы массу времени и сил. Больше Тоне жить было абсолютно негде, и мама нашла ей комнату в Левкове, деревне в трёх верстах от колонии. Там она могла часто её навещать. Тоня прожила в Левкове целый месяц. Потом выторговала себе право посещать колонию по воскресеньям, потом стала приходить накануне в субботу, потом стала оставаться на понедельник. Потом поссорилась с хозяйкой, заявила, что ей больше негде жить, и осталась в колонии. Мы заявили, что согласны её пустить с тем, чтобы она жила во флигеле и не появлялась в доме. Это было облегчение для ребят, но для меня возобновилась прежняя каторга.
Положение осложнялось тем, что Фрося, в отличие от других, мирно переживавших отвращение к Тоне, бурно реагировала, ревновала маму, устраивала истерические «антисцены», что маме было иногда тяжелее, чем сама Тоня. Ведь Фрося была маминой старой знакомой, одной из старших членов колонии и потому эксцессы с её стороны причиняли маме особенно острую боль. Заражались в этой обстановке истерией и некоторые другие девочки. Но Тоня уверяла, что она станет совершенно нормальной, если её пустят в дом: единственное, что её нервирует, это жизнь во флигеле на положении изгоя.
Тоня таки добилась своего. Её пустили в дом. Через несколько дней я услышал крики мамы, которая звала на помощь больших мальчиков. Вбежав на террасу верхнего этажа, я увидел, что они с Тоней отчаянно боролись. Тоня пыталась сбросить её с террасы и уже пригнула над низким парапетом. Я, Олег и ещё двое мальчиков вбежали вовремя. Тоня проявила удивительную силу, вчетвером мы едва повалили её и связали руки и ноги полотенцами. Она корчилась, мычала и пускала слюну.
На другой день Тоня была очень мила с мамой и покорна. Она раскаивалась и твердила, что уйдёт из колонии сама. Будет ночевать на вокзале, а днём просить милостыню на улицах. Мама её не удерживала. Но тут у Тони заболел живот, и она отложила уход. Эта комедия продолжалась несколько месяцев: «Уйду» — «Иди» — «Ой, болит». Потом снова стала кроткой и покорной. Потом вдруг на неё накатило, и она сообщила маме, что ей очень хочется «дать ей в морду», и она осуществила своё желание, ударив её по голове. Мама сказала: «Ударь ещё!». Но у Тони не хватило духу.
Тоня заявила, что пойдёт в монахини и даже раза два ездила в Москву в Зачатьевский монастырь и в какую-то католическую общину, но её никуда не приняли. Тогда она влюбилась в Юлия Юльевича, который теперь часто бывал у нас, так как начал преподавание в старшей группе математики и физики. Она опять была заточена во флигеле по требованию ребят и могла его видеть только издали. Но одолевала длинными письмами религиозно-философского содержания. Он отвечал редко и сухо. Но Тоня, боясь, что он совсем прекратит переписку, вела себя относительно прилично.
Зима прилежной учёбы
Погреб кончили, закрыли, засыпали, отпраздновали праздник урожая. Всем чертовски захотелось засесть за занятия. Эта зима для меня, да почти для всей старшей группы, прошла под знаком математики. Юлий Юльич преподавал её мастерски: красиво, строго логично и просто строго. Он всегда говорил вежливо, но его почему-то боялись. Может быть, потому, что ходили слухи, что он немного ясновидящий? Он задавал уроки, не так много, как Варвара Петровна, но не приготовить их считалось невозможным. Говорили, что четверг потому и называется Donnerstag, что в этот день приезжает Юлий Юльич. Причиной, почему я влюбился в математику, был ещё отличный, переведённый с английского учебник геометрии Филипса и Фишера, который мы достали и который я храню вот уже 55 лет. Мне особенно импонировало то, что доказательство каждой теоремы кончалось тремя латинскими буквами: Q.E.D. — quod erat demonstrandum[33].
Вероятно, мне математика давалась легче, чем другим, потому что однажды, когда ЮЮ, как мы его сокращённо называли, не мог приехать, он поручил мне провести урок.
Хуже было с химией. Трудно было проходить её без единого опыта, но ЮЮ ухитрился читать голую теорию так, что всё-таки было всё понятно и интересно.
Юлий Юльич обладал особой вдумчивостью, пониманием запросов каждого из ребят, умением дать всегда уместный совет. Поэтому он быстро завоевал популярность в самых различных слоях нашего «общества». Галя и Кира задумали организовать художественный кружок и обратились к нему за советом. Он порекомендовал сперва заняться чтением и разбором сочинений Метерлинка, потом рисовать к ним иллюстрации, потом можно было бы подумать и о постановках. Он взялся вести кружок. Девочки прыгали от радости.
В качестве первого объекта выбрали «Синюю птицу» Метерлинка. Пригласили участвовать Марину, Лялю, новую девочку Лёлю и меня. Почему меня, которого мама в своём дневнике называла «наш мизантроп и пессимист» за то, что я часто избегал общественных мероприятий и увеселений, непонятно. Почему я согласился? Это как раз понятно. Потому что там была Галя. Но потом я увлёкся самим кружком. Мне понравилось писать акварельные композиции, раньше я никогда в этой области не подвизался. Рисовали каждый отдельно, а потом критиковали рисунки все вместе. Я с удовольствием слушал комментарии Юлия Юльевича к сказкам. Оказывается, в них под верхним слоем имеется ещё и нижний — часто с глубоким смыслом. Покончив разбирать «Синюю птицу», рисовали с увлечением. Стали думать о постановке «Синей птицы». Решили поставить для начала отдельные сцены. Распределили роли: Тильтиль — Ляля, Митиль — Лёля новенькая, Свет — Галя, Пёс — Даня, Кот — Маринка, Хлеб — Костя Большой, Вода — Нина Беленькая. С громадным старанием и долго репетировали. До полной постановки дело не дошло, но нам и не очень-то хотелось, достаточно было совместных читок в кружке. Параллельно с репетициями начали «Аглавену и Селизетту» — не хотелось расставаться с Метерлинком. Рисунки к этому произведению были особенно интересны и удачны. Маринка была на первом месте как художник, но и все остальные не отставали от неё. Альбом с этими рисунками хранится у меня до сих пор. Помню свой рисунок к ней. Ночь, парк, на переднем плане бассейн, рассечённый серебряной лунной дорогой, с боков высокие шпалеры подрезанных деревьев, за бассейном уходящая вдаль аллея кипарисов, на парапете бассейна — одинокая женская фигура. Потом разбирали арабские сказки, читали «Пелеаса и Мелисанду», «Жуазель». А «Сестру Беатрису» опять рисовали. Это произведение взялась поставить как пантомиму Тамара Большая. Она подобрала очень подходящий к ней 10-й этюд Скрябина. Прошла эта постановка очень удачно.
И другие постановки шли своим чередом, но по другой линии. Кроме милых детских опер, подготавливаемых Мариной Станиславовной, поставили пародию на «Фауста», сочинённую в стихах Олегом. Фауст (Лера) влюблён в Адальмину (Маринка), которая разгуливает по балкону (шкаф с инструментами) и смотрит на него с презрением. Фауст, как последнее средство, достаёт приворотное зелье, но бестолковая кухарка Марта (Кира) выливает его в помойное ведро, а помои выносит корове (Нина Большая). Корова, выпив зелье, начинает преследовать Фауста своей любовью, но, не добившись взаимности, умирает. Через некоторое время умирает и Фауст. Черти забирают его душу, но ангелы, после небольшой драки, её отнимают и возносят на небо.
Постановка очень всем понравилась, кроме жуковских парней, которые вломились с гармошкой, но ничего не поняли, и мамы, которая обиделась за Гете.
На празднование Нового года приехали Мага и Юра Бобилёв. Они сочинили юмористические стихи на всех ребят. Так, например, про олонецкого растяпу Шпалю было сказано:
Он не был ни дэнди, ни франтом И Павликом звала его колония, А он оказался испанским грандом, Don Paolo della Olonia.Некоторые стихи вызывали обиду. Например, Костя, который постоянно принимал участие в работах по уборке дома, по устройству гостей, по уходу за больными и т. д., был возмущён написанным про него четверостишием:
Хоть мускул действует упруго И он мужчиной мог бы стать, Но будет верная супруга И добродетельная мать.Удивительно, что мы два года прожили по-своему, со своими принципами, своими взглядами, своей этикой. Так не могло дальше продолжаться. В Советской России никто не имел права иметь собственные убеждения. И мы, наконец, это почувствовали.
В 1922 году нас обязали праздновать годовщину Октябрьской революции. Большинству наших ребят и сотрудников это не представлялось таким уж очень радостным событием, чтобы его отмечать. Но с Тани взяли подписку под угрозой прекращения ассигнований, выдали инструкцию, как праздновать, и кусок красной материи на флаги. Выручила Александра Михайловна. Он объявила, что будет праздновать частным порядком и приглашает всех желающих. К ней пришли человек 10, и она провела беседу на тему: «почему я стала коммунисткой».
Мы начали проходить политэкономию, причём марксизм изучали наравне с другими экономическими системами. Кроме того, впереди маячили выпускные экзамены, для которых нужна была политграмота. Поэтому достали официальный в то время учебник Бухарина и вместе читали его. Мы понимали всю его тенденциозность, но отдавали должное ясности и талантливости изложения.
Вскоре потребовали выбора трёх делегатов на областную конференцию детских домов. Выбрали Алёшу, Фросю и меня. Конференция должна была создать областной орган самоуправления детскими домами и дать ему наказ. Взрослых на конференции не было, всем заправлял комсомолец лет шестнадцати, вертлявый малый, вроде рыжего в цирке, Санька Аист. На конференции я раза три выступал, хотя очень страшно было вылезать на кафедру, украшенную лозунгами и знамёнами. Выступил против обязательного вступления в комсомол, за свободу выбора школьных программ. Весь президиум на меня набросился, зал (человек полтораста) недоуменно молчал. Обругали меня «толстовцем», впрочем, это больше за высокие сапоги. Всё же выбрали в бюро, вследствие чего я с год туда ездил, пока самоуправление не закрылось.
Я в это время очень приналёг на учёбу. Так как мы были связаны с московскими учителями, а они приезжали не слишком аккуратно, то я по многим предметам стал заниматься сам. Причём составил себе расписание: день — алгебра, день — французский, день — эсперанто и т. д. Если в этот день не было уроков, то я просиживал над одним предметом до 14 часов подряд. Зато к вечеру, когда я окончательно обалдевал, у меня накапливались пары, и руки чесались что-нибудь совершить. Я выскакивал в зал и искал, на кого бы наброситься. Обычно жертвой становился Костя, который был равной со мной силы и роста. Он и не думал сдаваться, и начиналась отчаянная борьба, причём мы сцеплялись в клубок, стараясь сделать друг другу «двойного нельсона», или катались по полу, выламывая друг другу руки и ноги. Полчаса такой борьбы без разделения на раунды собирали вокруг ринга многочисленную публику и замечательно освежали мою голову, если она не получала больших повреждений. Затем я снова садился за книги.
Борьба с Костей была для меня вечерней зарядкой, а по утрам я стал делать миллеровскую гимнастику с умыванием холодной водой до пояса. А то и до пят, с последующим растиранием кожи докрасна. Этот обычай потом сохранился у меня на всю жизнь. Но в колонии я делал и больше: выскочив из бани голым, играл в снежки, валялся в снегу или окунался в пруду среди льда.
В это время умирало у нас скаутское движение. Коля приезжал из Москвы, пытаясь его гальванизировать или, выражаясь по-теперешнему, произвести реанимацию. Мы все ломали голову: почему старые лозунги, законы больше не вдохновляют, почему старые занятия, игры больше не увлекают? Наконец поняли: вся система создана для ребят, а нам уже по 18 лет, мы взрослые. И мы распустили отряд. Но у меня навсегда осталась добрая память об этом движении, которое много способствовало моей физической и волевой закалке и выработке правил достойного поведения в жизни.
Осенью к нам влились остатки трудовой артели «Светлый путь». Эта артель состояла из девочек-сирот и жила под крылышком общины трезвенников. Девочки зарабатывали шитьём, а управлялись пожилой женщиной Марией Бабуриной, более известной как Мария Большевичка. Где-то мама её встретила и распропагандировала в теософию. Мария, ткачиха с Трехгорки, похожая на старую цыганку, насквозь больная, битая жандармами, загорелась как свеча, услышав о новой вере широкой, терпимой и в то же время активной. Её натура требовала сейчас же нести эту веру дальше. И она принялась обращать своих учениц. «Братец» Иван Колосков, вождь и создатель общины трезвенников, за это её проклял и исключил из общины. От девочек потребовал покаяния и отречения от теософии. Десять девочек отказались отречься, из них пятеро попросились принять их в нашу колонию.
По этому делу мама ходила к нему объясняться. Почему-то я был с ней. Да и любопытно было поглядеть на духовного вождя секты, имевшей последователей по всей России. Иван Колосков произвёл на меня противоречивое впечатление. С одной стороны, в нём чувствовалась громадная сила убеждённости, вера в своё дело, способность увлекать людей. Ну и пусть бы, раз эта сила направлена на такое доброе дело, как борьба с алкоголизмом. Но с другой стороны, он подавлял своей нетерпимостью, узостью взглядов, требованием исповедования ряда догматов, не обязательных с точки зрения его основной цели. Словом, он был такой, каким я и представлял вождя секты. Он был среднего роста, с правильными чертами лица, чёрными глазами, длинными волосами, однако, короче, чем у священников, теперь сказали бы, молодёжная стрижка. Одет он был во что-то чёрное, вроде рясы, с большим серебряным крестом на груди, подвешенным на массивной цепи. Говорил он с мамой вежливо, но сдержанно, как министр с послом недружественной державы.
В результате к нам поступили пять девочек, по возрасту почти девушек, по подготовке — младше нашей младшей группы. Для них пришлось создавать отдельные курсы по большинству предметов. Назывались они — Груня Скворцова, Шура Алёшина, Женя Зимина и две Нюры — Лебедева и Сапожкова, попросту Большая и Маленькая. Они были для начала все на одно лицо. Распределяя утром работы, я обычно заканчивал фразой:
— А всякие там Шуры-Нюры — перебирать картошку. — На что они молча обижались, а мама справедливо называла меня грубияном. Они были дружны между собой, дисциплинированы и отлично работали. Все они принялись с увлечением петь «светские» песни и танцевать, что у них в общине строго воспрещалось. Впоследствии у них оказались самые разные характеры и судьбы. Через полгода они вполне слились со старыми учениками.
Кроме «трезвенных» девочек к нам за эту зиму поступила только Лиза Карпова, сестра Пети и Сани, угловатая, резковатая, мужиковатая, с длинным носом, но оказавшаяся хорошей девочкой, хотя и заражённой слегка специфическим критиканством Михайловского перевала.
Над колонией переменная облачность
Московский НЭП расцветал, люди отъедались после голодных лет, а у нас снова наступил пост. Мы обеспечили себя картошкой и овощами, но 3 дня в неделю обедали без хлеба и даже варили без соли.
А над нами снова стали собираться тучи. МОНО выработало уставы типовых колоний. Мы не подходили под стандарты и потому нас надлежало закрыть. Потом поставили условие: нам сохранят жизнь, если мы возьмём десять беспризорников. У нас уже был опыт с беспризорниками. Как-то в колонию пришёл мальчик лет двенадцати. Назвался он Ваней. Это был круглолицый, с утиным носом, веснушчатый, страшно грязный и оборванный мальчуган. Он жалобно попросился «хоть погреться». Его, конечно, пожалели, пустили, подарили одежды, обуви (буквально снимая с себя). Устроили ему индивидуальную баню и… решили предложить ему остаться, чтобы сделать из него человека. Он согласился. Все «киски» взяли над ним шефство и буквально нянчились с ним, играя в его матерей. Они кормили его, как не могли мы кормить наших больных, слабых и маленьких (Зайку, Мишу, Костю маленького и других). За месяц Ваня стал толстым, румяным, умел отпускать неприличные шутки, смущая этим «мам». К весне, через месяц-полтора он исчез. При этом унёс очень много ценного для колонии: одежды, в том числе единственные две пары приличных брюк у больших мальчиков, сберегаемых для поездок в Москву, чуть не всю имеющуюся налицо обувь, все деньги сотрудников. Больше мы его не видели. После такого опыта трудно было согласиться на предложение о беспризорных, и не одного, а многих. Стали думать: как сохранить колонию? Уйти из МОНО? Я предлагал перейти на самоокупаемость, жить только на своё хозяйство. Но, подсчитав ресурсы, увидели, что невозможно. Мы надорвёмся, и для учёбы не останется времени. Шацкий предложил перейти к нему на правах автономной республики. Он обещал не вмешиваться в наши внутренние дела и обычаи, только ставил два условия: 1) мы будем «пущать дух» в его колонию, то есть поднимать её идейность, увлечённость трудом и 2) заведём образцовое хозяйство, которое сможет служить примером и для его колонистов и для окрестных крестьян. Мама поехала смотреть помещение и землю. В качестве представителя трудящихся выбрали меня.
Колония Шацкого «Бодрая жизнь» помещалась в Калужской губернии и подчинялась непосредственно Наркомпросу. Ехать туда надо было по тогдашним условиям 4–7 часов. Один ночной поезд. Значит о приезжих педагогах нечего было и думать. Правда, специалисты по некоторым предметам имелись у Шацкого. Но первым делом мы должны были бы лишиться Юлия Юльича. Дом, нам предназначенный, маловат, прост, без зала. Зато есть конюшни, коровники и среди них… статуя Венеры Милосской. Последнее, конечно, ценно. До «Бодрой жизни» полкилометра. Там много ребят, и всё замечательно организовано: учебный процесс, мастерские, быт, питание. Не хватает только души. Очень трудно и ответственно за «лущение к ним души». Мама сказала, что подумает.
Приехали, доложили. Судили, рядили… А может разойтись? Это советовала и Софья Владимировна. Она говорила маме:
— Пора всем выходить в мир, нести свет людям. Довольно вам вариться в собственном соку.
Да, но дипломы-то получить надо. Хотя бы старшей группе группе за 9-летку, младшей группе — за 7-летку. Взяли официальные программы и убедились, что после всех экспериментов советская трудовая школа пришла примерно к программам старых царских гимназий. Нам надо было по крайней мере ещё год напряжённо учиться, чтобы выполнить её требования.
Маме вдруг пришла мысль: а что если взять беспризорников? Тогда мы не потратим времени на переезд и на освоение новой земли и, в то же время, оставаясь на месте, «выйдем в мир», то есть пригласим мир к себе. Беспризорники, это же замечательно. Это живое, нужное дело, и перевоспитание их — прекрасный экзамен зрелости для нашего коллектива. Загоревшись этой идеей, мама сумела убедить всех нас. Но я, «мизантроп и нигилист», подозревал, что беспризорники, если не перережут, то, во всяком случае, оберут нас до нитки и разбегутся.
Ребята на все планы переселений отреагировали постановкой импровизированной комедии: переезд из Москвы в Ильино, переезд из Ильина в Тальгрен, переезд из Тальгрена к Шацкому, переезд от Шацкого в Канаду (по следам духоборов), переезд из Канады в Индию (к Тагору в Гантиникетон), переезд из Индии в рай (находившийся под землёй). В ходе переездов мы постепенно совершенствовались: если вначале упаковывали утюги и чугуны, то под конец только фолианты священных писаний и музыкальные инструменты. Если колонисты вначале были одеты в лапти и ватники, то под конец — в туники и сандалии. И у всех выросли крылышки.
Мы всерьёз старались работать над собой и самоусовершенствоваться, но считали, что если в дело подпустить немного иронии, то оно от этого только выиграет.
С первым весенним теплом мы переехали на наш необъятный и высоченный чердак. Мы с Николей положили несколько досок до переводины и устроили таким образом висячие гнёзда на высоте двух метров под потолком зала. Тюфяки мы принципиально отвергали. Проходить к гнёздам надо было по бревну. Иногда это делалось в полной темноте и тогда получалось довольно пикантно. Лунатизм практиковать не рекомендовалось: при отклонении от оси кровати в обе стороны неминуем был полёт вниз на разбросанные кирпичи. Один кирпич я взял себе вместо подушки. Я имел заднюю мысль — приучить себя к тюрьме. Приближался призыв в армию. Я по убеждениям собирался отказаться, как и большинство наших мальчиков. «Ну уж тут, — думал я, — не миновать поспать на кирпичах». Ничего, спалось с устатку недурно, только кирпич, проклятый, линял и я каждую ночь превращался в краснокожего. Пришлось заменить его на французский словарь Макарова.
Николя был в полосе увлечений философией. Читал Шпенглера, Ницше, объявлял себя то ницшеанцем, то сатанистом, то толстовцем, то теософом. Мы до поздней ночи вели с ним философские споры.
В то лето долго шли дожди. Из-за этого ряд полевых работ отложился и я был от них относительно свободен. Ввиду перспективы выпускных экзаменов решили воспользоваться случаем и устроить дополнительную летнюю сессию. Все жадно набросились на ученье.
Но у меня прибавилась ещё одна забота. Добрый мой дедушка быстро дряхлел. Он стал заикаться, путать и забывать слова. Не мог сам одеться. Его по-прежнему все любили, и он всех любил: когда бывали праздники, музыка, спектакли, он выходил с палочкой, радовался, улыбался и от растроганности ронял слёзы. Если он узнавал, что кто-нибудь заболел, он шёл к нему и суетливо старался помочь. Но лечиться у него уже боялись, выписанные им рецепты невозможно было разобрать, да и не было уверенности, что он выписал то, что нужно. Предпочитали, если можно, дожидаться Анны Соломоновны.
При таких обстоятельствах мне пришлось переехать к нему в комнату. Его надо было одевать, обувать, умывать как ребёнка, выводить в сад, каждые полчаса справляться, не надо ли ему чего-нибудь. Всё это было не так трудно, но вот глядеть на дедушку было невыносимо больно. И главное, что он ясно сознавал, в каком состоянии находится и приходил от этого в отчаяние, повторял почти словами Пушкина:
— Какая гадость, какая гадость!
Однажды мы решили свезти его в больницу в Пушкино.
Молодой врач, осмотрев его, побеседовав с ним, сказал своему фельдшеру:
— Dementia praeceps[34].
Он не подумал, что больной — врач и что-что, а латынь помнит. Услышав приговор, дедушка горько заплакал.
Во время приступа малярии я осуществил свою давнишнюю мечту: занялся резьбой по дереву. Целую неделю я корпел над деревянной шкатулочкой. Всю её покрыл узором из мельчайших вогнутых пирамидок. Я кончил её к началу июля и подарил маме ко дню рождения. В этом искусстве я уступал только Борице. Совсем наивный мальчик, Чижик, а руки у него были золотые на всякое мастерство и рукоделье. Когда он взялся за домком, что до и после считалось прерогативой девочек, то через две недели поставил дело образцово. Да ещё и напридумывал всяких правил. Вроде того, чтобы, входя в дом, вытирать ноги о кучу еловых лап, которые он не ленился каждый день притаскивать из лесу.
Когда дожди пошли не ежедневно, а примерно через день, мы объявили, что все виды отпусков отменяются, и принялись косить изо всех сил, так как сильно запоздали. Очень тяжело было. Участки были разбросаны, а телеги были разуты — все колёса истоптались. Ганя с весны боролся в МОНО за деньги на два стана колёс. Но получил их только в октябре, когда впору было переходить на сани. А пока сено с дальних покосов носили домой навильниками. Оставлять нельзя было — украдут.
Сходили мы раз в большую экскурсию по маршруту: колония — Перловка (толстовская коммуна) — Москва — Царицыно — Кузьминки — Косино — Реутово — Балашиха — Болшево — Ивантеевка — колония. Дорога, разумеется, пешком, заняла пять дней. Идти было очень весело. Ночевали в школах, в избах, все продукты несли с собой. Большие скауты выдерживали характер и не пили от привала до привала, как бы ни хотелось. Но не скауты становились в очередь у каждого колодца, отставали, уставали, тянулись язык на плечо. Пошли без взрослых, командовать был выбран триумвират: Фрося (еда), Костя (ночлеги) и я (общее руководство).
В Москве разошлись, утром снова сошлись и продолжали путь. В Царицыно осмотрели пруды, полазили по развалинам дворца, переночевали, а утром собрали собрание и решили разделиться. Младшие, которые жаловались, что здорово устали, поехали домой, а старшие пошли дальше. Из Косина отправили домой Галю, у которой нарывала нога, и Женю Зимину, которая вызвалась её сопровождать. В Коломенском Борица заболел малярией. Двигаться он совсем не мог при температуре 40° слишком. Пришлось нанять телегу и отправить его с Костей в колонию. У большинства «кисок» и «полосатых» были стёрты ноги. Последний день дотягивали героически, прошли 37 км, возвращались ночью. Я дремал на ходу, не убавляя шага.
Наутро мы вошли оживлённые, рассказывали про наши приключения, говорили: «Вот какие мы молодцы, сколько отмахали!» И вдруг на нас, и в первую очередь на меня, обрушивается лавина: «Что хвалишься злодейством сильных?» Это такая пословица у нас была. Мама, Юлий Юльевич и тётя Туся говорят, что мы покрыли себя позором, что мы провалились на экзамене братства, что мы предали принципы колонии и т. д. В чём дело? Оказывается, что Марина и Нюра маленькая из младшей группы хотели идти дальше, а мы их якобы принудительно отставили, да ещё лишний кусок пирога с собой взяли. От обиды они наговорили на нас много плохого и того, чего на самом деле не было.
— Да почему ж они в Царицыне не сказали, что хотят идти дальше? Я думал, что для них лучше остаться. Они накануне еле плелись.
— Они из гордости не сказали. А плелись потому, что вы слишком быстрый темп взяли. Надо было равняться на слабейшего.
— За предыдущий день прошли всего 10 км. А слабейшими они оказались потому, что пили 30 раз в день. Из каждой лужи.
— И вообще у вас порядка в экскурсии не было.
Всё же старшие пришли к выводу, что мне ещё рано быть руководителем, а я пришёл к выводу, что нельзя совмещать удовольствие от экскурсии и обязанности организатора. Если уж запрягся, то бегай в поте лица между отстающими и убегающими, следи, как делят пироги, останавливай галдящих в чужом доме, а ночью лови девчонок, которые, закутавшись в одеяла, бегают по дороге, чтобы пугать прохожих привидениями.
Я переживал этот «провал» неделю, переживал бы и две, если бы новые беды, более серьёзные, не стёрли эти впечатления.
Была опять у нас ревизия из МОНО, не такая грозная, как предыдущая, и она не имела бы никаких последствий, если бы не тяжёлый случай с Анной Николаевной. Она как раз должна была проводить урок эсперанто. Чтобы у ревизоров не осталось неблагоприятного впечатления, мама поручила урок Олегу. Старушка обиделась, взволновалась и пошла к ревизорам объясняться в своём обычном многоречивом стиле. Они сочли её за помешанную и, вернувшись в Москву, немедленно распорядились её уволить. Мы скрыли это от неё, но она так разволновалась от самого разговора, что сильно заболела. Тогда мы не знали такого слова, но, вероятно, с ней случился инсульт.
Пять дней она мучилась, её преследовали навязчивые идеи. Ей казалось, что она угорела, что в её тело вошли какие-то яды, которые она старалась выгонять водой и голодом. Все дни она ничего не ела. Стала требовательна, хотела, чтобы меняли компрессы на голову каждую минуту. Впрочем, продолжала уверять, что мы все очень хорошие. Девочки, сменяясь через 2 часа, дежурили при ней круглые сутки. Приехала её сестра. Последние два дня Анна Николаевна непрерывно кричала. Дедушка всё время рвался к ней в комнату, чувствуя себя ответственным за её болезнь и плача от бессилия и беспомощности. Наконец, она умерла, очевидно, от голода.
Смерть в нашем весёлом доме была явлением исключительным и сперва всех словно парализовала. Но взрослые постарались нам внушить, что это — избавление от страданий, что это отдых для души. Мы сами сколотили гроб. Провели гражданскую панихиду, с цветами, с ветвями, с музыкой и пением духовных песен. Похоронили Анну Николаевну в парке, постаравшись придать обряду радостный характер. Поставили крест и написали на нём на эсперанто:
«Anna Nikolaevna Sarapova, civitano del mondo, membro de U.E.A.»[35]
У мамы в дневнике записано, что крестьяне стали обходить это место: «Грешная, неосвящённая могила». И про нас: «Известно — коммунисты. Нечему удивляться!»
У нас был такой порядок относительно ночных дежурств. Около входа в библиотеку висел лист бумаги, разграфлённый на три полосы. Слева шли подряд все даты, затем графа — девочки и «полосатые» и справа — большие мальчики. Дело в том, что больших мальчиков было очень мало, а младших без них в ночное не пускали. Естественно, что среди «полосатых» и «кисок» была конкуренция. Они стали записываться уже на более и более отдалённое время. Очень скоро список младших стал таким длинным, что вмешалась Лидия Марьяновна и ввела правило, что записываться можно не более как на неделю вперёд. Маленький бестолковый Миша, который очень хотел ходить в ночное, но с ним дежурить было мало желающих, нашёл способ записываться чаще всех. Через каждые 2–3 дня он вставал в 12 часов ночи, тихо прокрадывался к списку в одной простыне и оставлял наискосок свой корявый автограф Миша. Пришлось и в этом случае вмешаться Лидии Марьяновне и укротить энтузиаста. Мало того, что он сам не высыпался, он неизменно будил почти всех во время своих налётов в темноте, сшибал стулья, обрушивал на пол разные гремящие предметы.
Несмотря на усталость, напряжённость и некоторую опасность ночных дежурств, было много желающих посидеть ночью у костра с Галей. Я буквально следил за записью и, как только в средней графе появлялось «Галя», сейчас же в последней проставлял «Даня». Я подумал, что, может быть, это неделикатно навязываться Гале в качестве принудительного ассортимента, но, сходивши раза два с ней в ночное, вынес впечатление, что она ничего не имеет против, и стал действовать более решительно. Увидев, что Галя расписалась вперёд на месяц с интервалами дней в семь, я ангажировал её на все эти дни, вернее, ночи. Я знал, что Алёшка будет глядеть на меня иронически. А Фрося и Борица в углу горевать. Они ревновали, но мне было на всё наплевать.
Галя была исключительно молчалива. В ночном иной раз едва дюжину слов вымолвит. Я был в противоположность ей болтлив. Чего только я ей не рассказывал: и физические теории, и случаи из жизни, и содержание прочитанных книг. Кончалось тем, что Галя мирно засыпала, а я, вздохнув, говорил себе: «Ну, Давид Львович, сбрехни, да отдохни» и принимался мечтать, глядя в костер, пока лошади не залезали на своё или чужое поле.
Но изредка Галю удавалось разговорить. Так я узнал о её детстве. Она родилась в Петербурге. Они были выходцы с Украины, фамилия их была Ткаченко. Её отец был художником, и мать порядочно рисовала. Вообще это были всесторонне одарённые люди. Дома у них постоянно звучала музыка, родители пели наизусть целые оперы. Когда Гале было три года, её вместе со старшим братом Игорем и младшей сестрой Ниночкой увезли в Болгарию, где отец заключил договор на реставрацию икон и фресок русской церкви в Софии. Они долго прожили в Болгарии и вернулись через Европу, задерживаясь в Вене, в Берлине и в других городах Запада. Отец был учеником Репина и входил в содружество передвижников. Он выставлялся на их выставках и был знаком с большинством известных художников своего времени. Позже под эгидой Репина выделился кружок передвижников, которые называли себя «независимые». Про «независимых» искусствовед Алексей Александрович Вахрамеев в 1965 году написал книгу. Пока она осталась в рукописи.
По возвращении из Болгарии отец преподавал рисование в Академии художеств, а также в Покровской гимназии, в художественных мастерских Смоленской губернии у Тенишевой, а кроме того, бесплатно в городском училище для бедных детей. Летом всегда ездили со всей семьёй и с большой группой художников в Плёс на Волгу, иногда — в «Пенаты» к И. Репину.
После революции в Петербурге стало трудно жить. Продуктов не было, жалованья отца уже не хватало, чтобы прокормить большую семью. Он согласился на предложение Академии художеств переехать в город Оршу и создать там художественный музей из коллекций национализированных богатых помещичьих усадеб. Надо сказать вперёд, что сбор экспонатов оказался на деле очень опасным, так как прятавшиеся местами сами владельцы или их соглядатаи пытались мстить и грозили убить папу.
Папа музей организовал и заведовал им. Жили они в квартире при музее.
В Орше было хорошо, но через полгода умерла их мать и ещё через год отец. Ребята остались совсем одни. Игорю было 15 лет, Гале — около 12, сестре Нине — 9. У матери было 2 родных брата и сестра Тоня и сводных ещё четверо — брат и три сестры. Бабушка рано овдовела и была замужем второй раз. Но к тому времени её уже не было на свете. Девятнадцатилетняя тётя Тоня, жившая в Петрограде, узнав об осиротевших детях, приехала в Оршу и забрала ребятишек к себе. При этом жених, которого она очень любила, поставил ей ультиматум: «Я или дети». Но тётю Тоню это не остановило, и она взяла детей. Он отказался быть отчимом трёх детей и женился на другой. Тётя работала в детском саду, зарабатывала мало, да и продуктов в продаже не было. Всё выдавалось по карточкам и весьма скудно. Зиму как-то перебились, а когда в школах кончились занятия, тётя, списавшись с отчимом, отправила девочек к нему в Москву. Игорь остался в Петрограде. Он мечтал поступить в Академию художеств, что и осуществил в 16 лет. При этом он пробавлялся тем, что после уроков в школе ходил на заработки, выгружал дрова с барж на Фонтанке и вообще нанимался, где только мог.
Отчим тёти Тони и матери детей был бухгалтер, старик очень суровый. Младшую сестру Гали — Нину — он отправил в Немчиновский детский сад, где работала его дочь Женя. Галю оставил у себя, но почти не кормил, как, впрочем, и свою родную младшую дочь Нину (Нину Большую в колонии). Девочки целыми днями слонялись по улицам голодные, подъедали объедки, заходили к тёткам в надежде перехватить кусок. Тётя Тоня хлопотала об устройстве детей, но в детские дома отдавать не хотела. Писала разным знакомым с просьбой посоветовать. И вот пришло письмо от знакомой девушки-толстовки — Лизы Щенниковой, которая рассказала ей о нашей колонии. Тоня приехала в Москву и повезла всех трёх девочек в колонию, считая это за наилучшее устройство.
Вот так мы и познакомились с Галей, от чего произошли далеко идущие последствия. Когда они ехали в колонию, тётя Тоня упомянула, что у заведующей есть сын. Галя заранее невзлюбила его. «Наверно, барчук, маменькин сынок, лодырь и девчонок за косы таскает». Но, кажется, ко времени первого ночного она смотрела на меня уже более благосклонно.
К концу лета пошли слухи, что в Москве открывается Сельскохозяйственная выставка и что МОНО получило на ней небольшую площадь. Мы дали заявку, и МОНО утвердило за нами на стендах квадратный метр. Мы решили выставить план имения, диаграмму роста урожайности, схему распределения работ и модели конструкций Олега: погреба, хибарки, маркера, картофелесортировки и сторожки. Последнюю мы незадолго перед этим построили в поле: двускатную будочку на двух высоченных столбах. Изящное получилось сооружение. Графические работы исполнял Коля, приехавший к нам на летние каникулы, модели мастерски изготовил Борица и одну — я.
За неделю до срока Костя и Петя отвезли экспонаты на выставку. Там они не нашли отдел МОНО и сложили всё под столом в отделе Наркомпроса, увидев знакомый стенд колонии Шацкого. Накануне открытия я повёз недостающий экспонат, намереваясь всё развесить и расставить. На выставке, помещавшейся на территории бывшей городской свалки, впоследствии — парка культуры им. Горького, царил невообразимый хаос. Непрерывно ехали грузовики и подводы с экспонатами, шофёры ругались с рабочими, вешавшими на воротах плакаты и лозунги, маляры докрашивали девушку с веслом и крестьянку со снопом, везде распаковывали, тащили, стучали, суетились.
Меня не пустили в ворота, нужен пропуск. В комендатуре и разговаривать не стали:
— Какое МОНО, какая колония? Только школьников здесь не хватало! Катись, парень, не путайся под ногами! Без тебя тошно.
Вот так обошлись они с полномочным представителем государственного учреждения, приехавшего с намерением сеять разумное, доброе, вечное. Но не на такого нарвались. Я пошёл по Крымскому Валу, дошёл до Большой Калужской улицы (теперь Ленинский проспект), в то время застроенный маленькими деревянными домишками. Территория выставки была обнесена высоким забором, не имевшим ни одной приличной дыры. За 1-й Градской больницей забор стал железным, состоящим из длинных заострённых, как пики, стержней. Ясно дореволюционное, а потому заслуживающее всяческого презрения сооружение. На задворках больницы никого не было. Я быстро вскарабкался на вершину стержней с моделью в мешке за плечами, осторожно переступил через острия и, торопясь, как бы кто не заметил, прыгнул вниз. Я здорово повредил себе ногу и ковыляя доплёлся до павильона. В сутолоке никто меня не остановил. Я нашёл свободный стенд, стащил из соседней комнаты столик. Расставил модели. Приколол надписи, повесил графику. И ушёл из осторожности тем же путём, что и пришёл.
Когда выставка открылась, я ждал первых посетителей или распорядителей, которые нас погонят как незаконно занявших место. Но никто даже не заметил, что мы угнездились на чужой площади. А посетители, правда, немного их заходило в павильон Наркомпроса, всё же были. И подходили к нашему стенду, и я с гордостью давал объяснения. Очень даже восхищались: «Да кто же это сделал? Сами ребята? А в натуре? Тоже ребята? Да где ж это такая колония? Ну и молодцы!»
Потом дежурили другие, а я осматривал выставку. Мы организовали на неё четырёхдневную экскурсию. А в МОНО так больше ни одна колония и не выставилась и отдела МОНО не было. Между тем, у меня там гора с плеч свалилась. Оказывается, механическая лошадь, изобретению которой я собирался посвятить жизнь, уже выдумана, называется «трактор Фордзон». Штуки три из этой породы были показаны на выставке. Одна из них даже фырчала и ездила по пятачку. Вот здорово! Теперь можно будет подумать, какую выбрать специальность. Всё-таки я тут же достал книжку Генри Форда «Моя жизнь и мои достижения». Увлекательная книжка. На выставке колония получила премию.
В заключение я раздобыл два билетика к Вахтангову на «Принцессу Турандот», где принца Калафа играл сам Завадский. Ужасно стесняясь, я предложил второй билет Гале. Но она его благосклонно приняла. И мы провели чудесный вечер. Только смутились, когда импрессарио вначале объяснил, что артисты одеты в изысканные костюмы, чтобы напомнить публике, как надо одеваться в театр. Я оглядел себя и констатировал, что я далеко не во фраке. Зато как мы смеялись, когда в интермедии Труфальдино показывал, как компания студентов проходит без билетов на сельскохозяйственную выставку. Представляете, мы пользовались тем же самым приёмом!
В то лето из интересных гостей приезжала к нам известная народная артистка Малого театра Надежда Александровна Смирнова. Она была одним из руководителей Теософического общества. Величественного, прямо-таки царственного вида женщина и в то же время удивительно простая и задушевная. Она нам рассказывала про свою жизнь[36], и мы настолько почувствовали её близким человеком, что потом запросто бывали у неё в квартире. Она жила вдвоём с народной артисткой Блюменталь-Тамариной. Мария Михайловна, маленькая живая старушка, с виду была полной противоположностью Надежде Александровне, но жили они душа в душу, связанные общим делом. Замечательно и весело было глядеть, как они дома, разговаривая за чаем, внезапно переходили на свои старые роли, большей частью комические, и разыгрывали маленькие водевильчики. Мария Михайловна за свою жизнь сыграла более 500 ролей, чаще всего старух в комическом жанре.
Приезжала к нам и уже знакомая колонистам Ольга Эрастовна Озаровская. В этот раз она выступила в неожиданном амплуа. Оказывается, в молодости она была химиком и работала ассистентом у Менделеева. Как интересно она рассказывала о великом учёном, как изображала его в лицах! Эх, если бы был у нас магнитофон! Мне запомнилось, что когда Менделеев выводил какую-нибудь сложную формулу, он долго в сомнении покачивал головой, разглядывал её и напевал про себя: «Какая рогатая, какая рогатая!»
В это лето мы приняли последних трёх ребят — одну почти взрослую девушку — Нату, и двух малышей, младше младшей группы.
Ната поступила к нам с данными почти как у Тони. Жила у стервы-тётки, которая её мучила, в мещанской среде, была крайне истерична. Взяли её только на месяц, чтоб дать ей передохнуть. Она кокетничала, душилась, травилась, но потом охотно пила для противоядия мыльную воду. Однако, когда её откачали, быстро стала исправляться. В отличие от Тони у неё была здоровая душа. Она стала «продуктом среды», и когда с неё эту среду сняли, там оказалось доброе сердце и без особых причуд. Она образцово несла наравне с другими бремя ухода за Анной Николаевной в её последние дни. Когда прошёл обусловленный месяц, нам было жалко расставаться с Натой, и мы её оставили совсем.
Витя и Галя были близнецами, Костиными младшими братом и сестрой. Витя худенький, головастый, очень развитой, не по возрасту всем интересующийся мальчик. В 12 лет — критически мыслящая личность. Галя — покладистая, в меру весёлая девочка, добросовестная работница.
Осенью опять было много работы. Морозы застали огород неубранным. Овощи собирать должны были «киски» и «полосатые». Босиком ходить уже было нельзя, а обуви у большинства не было. Сносили разутых туда на закорках и сваливали на солому, постланную в междурядьях.
Очень остро стоял вопрос с преподавателями на зиму. Мобилизовали внутренние ресурсы. Летом мама уже вела литературу и языки, Коля — физику. Надо было освободить Олега от младшей группы. Поэтому мне предложили взять математику на себя. Григорий Григорьевич не мог зимой ездить и хотел, чтобы я взял рисование. Я был в ужасе от этой перспективы. Как я буду преподавать своим товарищам? Как я могу проявлять к ним строгость? А по рисованию — это просто анекдот. Петя — талант, пускай он и преподаёт. И потом, если я за это возьмусь, кроме сельхоза, то когда мне самому готовиться к экзаменам? Словом, я так отчаянно отбивался, что меня оставили в покое. Вот несколько лекций по политике я младшим прочитал с удовольствием. За газетами я следил.
Возникла новая забота: дядя Николай распустился, стал пить, поколачивать кухарок. Он нашёл себе в Жуковке жену и постепенно стал перетаскивать к ней наше имущество. На угрозы увольнения отвечал шантажом:
— Донесу, что вы в Бога верите, — враз всех разгонят!
Мама сказала, что не боится доносов, но советует ему уйти по-хорошему, так как у него тоже рыльце в пушку, есть о чём поговорить в милиции.
Тихий дядя Иван завёл любовницу. Прослышав про это, приехала его жена, очень энергичная женщина. Он отправилась в деревню и выбила пыль из его дамы сердца, а потом и его тем же методом пыталась привести к покорности. Все они явились к маме с просьбой рассудить, наказать и наладить их семейную жизнь.
Из рабочих только Егор хорошо себя вёл, но зато он по уши влюбился в сестру Олега Тамару и, так как был ещё порядочным лентяем, то работать ему было некогда.
В эту осень проходили первые опыты поступления в другие учебные заведения. Вернувшийся из Германии Серёжа Чёрный благополучно поступил на биофак. Это было чудом, если учесть, что он был сыном не рабочего и не крестьянина, а всего-навсего философа и литературного критика. Берту не приняли ни в одну московскую школу, так как она было дочерью купца. Саня пришёл из музыкальной колонии в недоумении:
— Лидия Марьяновна, как мне заполнить анкету, от меня требуют ответа на вопрос: «каких политических взглядов вы придерживались во время октябрьского переворота?» Я говорю: «Мне 10 лет было». А они говорят: «Не увиливайте от вопроса».
Мишу, к которому, наконец, вернулась из тюрьмы мама, во 2-й класс приняли. В школе учат комплексным методом: на русском языке читают революционные статьи, по истории проходят историю революции, на пении поют революционные песни, на рисовании рисуют революционные шествия и портреты вождей.
Зима в Москве
Приближались выпускные экзамены. Внезапно большую часть последней зимы мне пришлось провести в Москве. Дедушка настолько одряхлел, что держать его в колонии дальше было нельзя. Решили его перевести в Москву к Лене.
Лена — Мишина и Наташина мать — неожиданно «отстроилась». Она нашла в Замоскворечье, во 2-м Спасоналивковском переулке старый домишко. Первый этаж его был каменный, из голого кирпича, второй и второй с половиной рубленые, не обшитые тёсом. Домишко ещё в 1914 году был признан аварийным и по распоряжению городского архитектора подлежал сносу. Однако в связи с войной и революцией он спустя 10 лет ещё благополучно стоял (как, впрочем, стоит и сейчас, через 60 лет, не знаю уж в связи с чем). Два первых этажа были переполнены жильцами, а второй с половиной пустовал. Он представлял собой перегороженное пространство. Вероятно, когда дом принадлежал купцу, там жили работники. А почему я его назвал пол-этажом, так это потому, что я там только в потолок не упирался, а руку поднять уже не мог.
Дом был набит, как гороховый стручок. Низ разделили на две части. Там жил Крылов, бывший владелец, купчишка, карапуз, толстый как бочка и парень, его сын-недоумок. Во второй жили два брата Балашовы, местные хулиганы. С Крыловыми у них была вендетта. Воскресные драки без крови не обходились. Второй этаж был населён евреями. Комичное местечковое семейство Сехан, состоявшее из бабушки, матери и двух девочек: Дойды и Двойры. Одинокий злой счетовод Дручак, знаменитый тем, что его чуть не растерзал ещё более злой дворовый кот, забравшийся к нему в форточку. И ещё жила пара семей, неизвестно чем перебивавшихся. Внутри их общей квартиры начиналась крутая лестница в мезонин.
Вот этот мезонин, или полуэтаж, и отвоевала Лена вместе с некими цветущими молодожёнами, Таней и Шуриком. Лена взяла на себя хлопоты и оформление, а молодожёны — Лебедевы их фамилия — возведение перегородок. Полуэтаж разделили на три комнаты, вытянутые в ряд, в третью надо было ходить через первую и вторую. Последнюю комнату отвели Лебедевым, в проходных поселилась Лена. Она взяла из колонии Мишу и Наташонку с няней Анютой.
Пятым членом семьи стал дедушка, шестым — я. Лена целыми днями пропадала на работе, она снова была продавцом в книжной лавке, и за дедушкой некому больше было ходить.
Халупа была до того ветхая, что управдом, войдя однажды на чердак, вместе с потолком влетел к нам в комнату. В другой раз Наташонка, ковыряя пальчиком стену, провертела дыру наружу.
Лена не сводила концы с концами, и потому первую половину дня я посвящал заработку. Я ходил с колуном по дворам и кричал: «Кому дрова поколоть, кому поколоть!» Бабы огрызались:
— Иди прочь! Ишь, повадился! У нас тут бельё висит, а всякие шляются.
В первый же день какие-то раклы мне подставили кулаки под нос и заявили, что в этом переулке они колют. Если я не уберусь сразу ко всем чертям, то они мне пустят юшку или выбьют зенки. Так я узнал, что Земля разделена на сферы влияния. Чёрт знает что, — социализм, а невидимые заборы как в Норвегии. Какой-то старичок мрачно сказал:
— Кабы у меня столько поленьев было, сколько вас тут голодных студентов колоть набивается, так мне бы до весны хватило.
Словом, зарабатывал я до смешного мало. Переключился на писание вывесок. Милиция велела на всех домах повесить объявления: «Домоуправление №… Отделение милиции №… Делопроизводитель в кв. №… Дворник в кв. №… Уборной во дворе нету». Но это была временная работа. Скоро все домоуправления обзавелись вывесками. Я бросился класть времянки, подвешивать трубы. Это было выгодное дело, по червонцу за штуку на моём кирпиче. Кирпич надо было отбить от ближайшей церкви. Но время времянок прошло. В разгар НЭПа входили в моду утермарковские печи. Только три заказа и оторвал я за зиму. Спасеньем были оттепели, когда управдомы брались за крыши. Надо было счищать снег. Вот где я был в своей стихии! Кроме того, я испытывал эстетическое наслаждение. Когда подкатишь к краю лавину, спихнёшь и слушаешь: через секунду она хлопнет гулко, как из пушки, по тротуару — красота! Но снег в оттепель очень тяжёлый и мокрый, промокнешь от талой воды до пояса, а выше — от пота, к вечеру спину не разогнёшь.
Однажды я работал у процветающего нэпмана на Валовой, чистил особняк и амбар. Он напьётся чаю, выйдет продохнуть во двор, поглаживает толстое пузо и посмеивается:
— Работай, работай! Работа дураков любит.
У, гад, так бы лопатой и двинул! А молчишь — работодатель! Дошло до амбара. Вижу — плохо дело: купец поскупился желоба поставить. С последней лопатой пошла вся плита ходом, и я на ней. Сверзился сперва на провода. Они натянулись и лопнули, успев ударить меня током. Дальше вниз, на кучу снега. Ушибся, едва до дому добрался. Только через две недели смог прийти за получкой. Мерзавец заплатил совзнаками по цене как уговаривались, а совзнаки за это время упали чуть ли не вдвое. Да ещё за оборванный провод вычел. Я бы его к ногтю! Но ни профсоюза, ни РКК! В результате работы на купчин-частников у меня выковывается классовая ярость пролетариата!
Вечером, покончив со своими хозяйственно-санитарными обязанностями, я садился за книги и, соблюдая завет Троцкого, «грыз молодыми зубами гранит науки». Этот лозунг был очень популярен, пока Троцкий был командармом. Его писали на всех плакатах и, только когда автора арестовали и сослали, объявили издевательским.
Иногда из Пушкина приезжала мама и говорила, что меня требуют в колонию. Это означало, что или колодец забарахлил, или с дровами прорыв, или картошка в погребе преет. Я ехал в колонию, а мама на несколько дней оставалась заменять меня около дедушки. В колонии опять царила большая нужда. Всё же нам подфартило. Нашлись люди, конечно, теософы, которые, несмотря на тяжёлые условия жизни, пошли к нам работать и помогли нам закончить образование — старшей группе девятилетку, младшей — за семь классов. Олег ушёл из колонии дописывать свою философскую книгу. На место него преподавать математику в младшей группе и черчение — в обеих — пришла Людмила Николаевна Чехова, одна из дочерей Марии Александровны, о которой я писал в главе 1 как о председательнице Союза женского равноправия. Людмила Николаевна вполне разделяла мамины идеи, но она была очень больна и наполовину слепа. Всё же она преподавала хорошо, хотя ребята и жаловались на её чрезмерную требовательность. Ну, я думаю, после либерального подхода нашего Олегушки всякий учитель показался бы им слишком строгим. Я же весной, когда вернулся в колонию, прямо-таки влюбился в геометрическое черчение. Сделать так сопряжение двух кривых, чтобы потом сам не мог определить, в каком месте они сопряжены, стало для меня вопросом чести. Но я-таки достиг. Лучше меня сопрягал только Борица.
К нам специально из Киева приехала Ефросинья Александровна Спицына. Она вела географию, естествознание, химию у младших. Молодая девушка, оруженосец, она обладала широким диапазоном знаний, горячим сердцем, неутомимой энергией и притом была прирождённым педагогом. Она много читала ребятам, после ухода Веры Павловны взялась за хоровую декламацию, отдавая предпочтение стихам Уитмена, организовала издание большого альманаха колонии, принимала участие во всех хозяйственных работах.
Мама поставила МОНО условие, что возьмёт беспризорных, если отопят и отремонтируют гараж, чтобы новых ребят и их руководителя поселить отдельно. Рабочих прислали только в октябре. Материал привозили по капле. Десятник болтался где-то на других объектах. То не было сметы, то была смета, но не было финансирования. То не было гвоздей, то досок, то снимали рабочих на какую-то ударную стройку. Так тянули до января, а в январе, когда закончили, отремонтированные полы стали проваливаться, штукатурка со стен осыпалась, стёкла из форточек вываливались. МОНО само сочло невозможным поселять детей в такие условия.
В МОНО шла чехарда заведующих. Вместо Рафаила нами командовал какой-то Лопато, потом пришёл ротный фельдшер, специалист по закрытию школ, его сменил Потёмкин (не брат ли будущего наркома?), по словам мамы, «высококультурный фанатик организованной некультурности». С финансированием стало до такой степени плохо, что на поездки Гани в город мама занимала по червонцу у ремонтных рабочих. Присланные продукты лежали на станции, но мы не могли их получить, потому что не было нескольких рублей заплатить за хранение. Учебники по истории для ребят папа купил за свой счёт, а уж казалось, более нищего человека было не сыскать.
Я всё-таки родился в сорочке. Казалось бы, в момент совершенно безвыходный я получил наследство. Вот уж не думал-то! Оказалось, у дедушки Эмилия Евгеньевича часть денег была за границей, в виде акций Алжирских железных дорог. После снятия блокады и объявления НЭПа советское правительство стало, где только можно, собирать иностранную валюту. Оно объявило, что лица, имеющие заграничные вклады, могут их получить при условии отчисления 50 % в Госбанк. Отец и тётки, так же как другие вкладчики, рады были отдать 90 %, лишь бы что-нибудь получить. Но не так-то просто было выцарапать и эти крохи. Иностранные компании старались их не отдавать, ссылаясь на то, что советское правительство не платит царских долгов. С ними приходилось подолгу судиться. Так как никто из родных не мог выехать за границу, наняли какого-то адвоката в Париже, который вёл тяжбу за известный процент отвоёванных денег. Наконец, он выдрал что-то около 20 тысяч долларов. Деньги начали поступать небольшими порциями. Папа и четыре тётки включили и меня в число наследников. Это было подарком, по закону я должен был получить наследство только после смерти отца. 20 тысяч, половина государству, что-то адвокату, осталось на 6 частей примерно по 1500 долларов. Надо же! Я был не в своей тарелке, когда явился в Госбанк на Неглинной за первой сотней. Я тут же разменял её, что-то по 1 р. 90 за доллар. Деньги сразу помогли колонии заткнуть самые срочные дыры: выкупить продукты со станции, купить необходимые к весне инструменты, обеспечить деловые поездки в город.
Малую толику я оставил себе, задумав на Рождество навестить няню Грушу в её деревне Потёсе, Петроградской губернии. Одновременно мне очень хотелось прокатить Галю в Петроград, на её родину, по которой она тосковала, и походить с ней по музеям и театрам. Вот только как всучить ей деньги? Вопрос деликатный. Я решил, что напролом действовать лучше.
— Галя, вот тебе червонец на билет.
— Какой червонец, какой билет?
— Билет в Петроград. Ты разве не поедешь на Рождество?
— Я мечтала… Но деньги… Нет, нет.
— Денег куча, девать их некуда.
И я оставил Галочку в недоумении: этично или не этично? И что скажут подруги? Однако в Петроград уж очень хотелось. Там жила тётя Валя, у которой ей можно было остановиться. А как хорошо походить по Васильевскому, где жила с родителями, посмотреть на свой дом, на свою гимназию. Деньги Галя взяла. Почему-то я должен был ехать раньше, вместе с Фросей, которая тоже ехала в Потёс к своей матери. С Галей мы уговорились встретиться в Петрограде после моего возвращения из Потёса.
В Петрограде я остановился у Каплянских, родственников, с которыми жил в Гунгербурге, Фрося — у двоюродного брата Андрюши, няниного сына. У Каплянских были кузены Люблинские, у Люблинских случился чей-то день рождения. Меня потащили к ним. Я был в высоких сапогах и в новой шерстяной рубашке с отложным воротом, которой очень гордился. У Люблинских мы застали человек десять молодёжи, все в костюмах, при галстуках, девушки в шёлковых платьях с декольте, на высоких каблуках. Вели порхающий светский разговор, про кого-то сплетничали, употребляя модные жаргонные словечки. Половину из них я не понимал. Заводили граммофон. Вели себя очень развязно: девушки садились на колени к молодым людям, при всех обнимались и целовались. «Чёрт меня дери, куда я попал?» — думал я, но удрать было невозможно. Мой необычный костюм обратил на себя внимание. Боря Каплянский шутливо представил меня:
— Мой родный брат, Даня Арманд, крестьянин от сохи. Барышни окружили меня и звали танцевать, но я отбился, сказав, что не умею и к тому же в сапогах, отдавлю им ноги. Меня стали расспрашивать «за жизнь», и мои слова произвели на них впечатление рассказа человека с другой планеты. Я слышал, как одна барышня шепнула другой:
— Прелесть, какой свежий молодой человек, только медведь ужасный.
Все курили. Папиросы в густо накрашенных губах вызывали у меня чувство физической тошноты. «Только бы не взгромоздилась такая фурия на колени!» Но бог миловал. Сели ужинать. Я, краснея, заявил, что я вегетарианец и вина не пью.
— Как, почему? Вы духобор или молоканин?
Я готов был сквозь землю провалиться.
— Ну и Боря. Ну и откопал родственничка!
На следующий день после знакомства с питерским beau-mondeʼом я попал в совершенно противоположные условия: в такую глухомань и бедность, где за околицей выли волки, дома были покрыты соломой, а люди одевались в домотканую холстину. До Потёса надо было ехать на поезде 200 км в сторону Пскова, а потом от станции Струги Белые километров 50 на северо-запад по дремучим лесам. После Юденича, впрочем, Струги Белые переименовали в Струги Красные — помните артель Красная синька?
В деревне нас встретили очень радостно, в первую очередь, Фросю, ну и меня, особенно няня. Её сестра, Фросина мать Саша поразила меня маленьким ростом, сморщенным личиком, какой-то жалкой, виноватой улыбочкой. И как у этого странного существа родилась такая разбитная девушка, думал я. Нянина дочь Катя тоже была ничуть не похожа на мать. Растрёпанная, рябая, некрасивая бабёнка. Говорили они на языке столь же мало понятном, как язык светских гостей у Люблинских. Я с первых дней стал составлять словарь народных слов. Жаль, что потерял и всё забыл. Только помню, что лестница называлась «редель», придя — «пришодцы», ещё бы — «даль бы», а здороваться если с эстонцем, то надо сказать «те-ре-тере юмала́». Вообще «скопские да вдовские» (псковские и гдовские) хотя и хвастают, что «сковитяне цисты англицане», в действительности наполовину чухны, по крайней мере в окрестностях Потёса.
Дней пять я знакомился с деревней, у нас перебывали в гостях почти все жители. Катина изба из всех жалких изб казалась чуть ли не самой жалкой. Всюду дуло и текло. Мужика-то не было. Старался я кое-что починить, да зимой многого не сделаешь. Ну, дров порубил. Ох, и трудно же няне было привыкать к этому каменному веку после заграницы да бабушкиного особняка!
Под конец меня попотчевали банькой. Баня была у соседей, своей не было. Она представляла из себя крохотный рубленый кубик с предбанником — загончиком без двери. Раздевались на морозе, градусов 20. Когда я влез в баню, там уже были три мужика, сидевшие на лавках, укреплённых вокруг очага — кучи камней, на которых догорал костёр. Топилась баня по-чёрному. Дым стоял такой, что в двух шагах ничего не было видно. Кроме того, вонючий пар от мыльной воды, которую непрерывно лили на раскалённые камни. Когда я откашлялся и протёр глаза, я увидел, что и деваться-то некуда. Чуть нагнёшься — попадёшь в очаг, отклонишься — стукнешься об стену, покрытую густым слоем сажи. Мужики от угара были уже лиловыми, но героически хлестали себя вениками. Я минут 15 размазывал по телу сажу, которой тотчас выпачкался и, чувствуя, что теряю сознание, выскочил в предбанник и стал полотенцем стирать с себя грязь. Мужички тоже объявили антракт, вышли на снег голые, сели на корточки, скрутили по козьей ножке и закурили с наслаждением. Выкурив, пошли париться опять. А я признал, что мне далеко до сермяжной богатырской силы русского народа и, наспех одевшись, обратился в бегство.
Обратно до Петрограда я ехал один. Фрося осталась погостить у матери. До полдороги меня подвёз попутный мужичок на розвальнях. Потом надо было идти долгих 25 километров пешком. Сразу стемнело. Я здорово трусил. Говорили, что есть волки, да и лихие люди пошаливают. Поэтому я приготовил в кармане шведский нож, входящий в рукоятку, — подарок Егора за удачно взрезанный фурункул. Между деревнями Сковородка и Выборово в темноте показалась фигура. Парень. Подойдя ко мне, он сделал какой-то прыжок или выпад в мою сторону. «Нападение — лучшая оборона», — мелькнуло у меня в голове и я, выхватив нож, кинулся на него. Он завопил диким голосом и бросился бежать, всё время спотыкаясь, пока, наконец, не уткнулся в снег шагах в тридцати.
Придя на станцию, я стал дожидаться утреннего поезда, до которого было ещё часов 6. Немногие пассажиры дремали при тусклом свете керосинового фонаря. На рассвете подошли две бабёнки и с волнением стали рассказывать:
— Охти, и страху натерпелись. В Сковородке повстречался Михайла из Тросна, поди знаете? — Ну, выпивши, конечно. Говорит: «Бабыньки, не ходите на станцию, разбойники опять появились. За деревней один на меня накинулся с кинжалом, вот таким, во! Я побёг от него, бежал, бежал, да упал. Лежу, Матерь Божия, Николай Чудотворец, сейчас прирежет… Пронесло, заступились святые угодники». Вот дела какие! Надо бы в милицию сообщить.
В Петрограде я первым делом зашёл в Мариинский театр, взял билеты на оперу Верди «Корсар» (хоть и не особо люблю оперы) и отправился к тёте Вале. Она жила где-то на Петроградской стороне в первом доме коммуны. Валя произвела на меня впечатление красавицы, но, однако, бледнела в присутствии моей Галочки. В тёмносинем платье, перешитом из материнского, она, в моих глазах, всех затмевала.
Мы пошли на «Корсара». Назавтра взяли билеты в Михайловский театр, днём ходили в Эрмитаж и в Русский музей и так кутили целую неделю. Это была, так сказать, «предсвадебная» поездка, хотя свадьбы потом пришлось дожидаться почти четыре года. Ну, да мы люди предусмотрительные, повеселились загодя.
В Москве всё было по-старому, за исключением того, что организовалась Моспушка — клуб бывших учеников Пушкинской школы. В клубе собиралось человек 6–8, ушедших из колонии раньше её закрытия. Обсуждались вопросы, как, исходя из принципов колонии, воздействовать на среду, встреченную во внешнем мире, чем можно помогать колонии из Москвы. Делились впечатлениями о новых условиях, о новых встречах. Я, пока жил с дедушкой, ходил на Моспушку несколько раз.
Затем я записался в «Лигу время», изучал НОТ — Научную организацию труда — и систему Тейлора. Я в правильном порядке расположил на столе карандаши и резинку, уточнил, в каком кармане должен лежать кошелёк, а в каком носовой платок, и повесил на стене расписание дня, которое никак не удавалось соблюдать. «Лигой времени», как симпатичным и полезным движением, я интересовался вплоть до разгрома его Сталиным, когда движение было объявлено кортрреволюционным, а его инициатор Гастев назван врагом народа.
Время от времени я получал в банке по 100 долларов, которые боялся тратить. Мне всё казалось, что впереди предстоят более тяжёлые времена, более срочные нужды. Умные люди растолковали мне, что валюту разменивают в банке только наивные дети младшего возраста. На чёрном рынке за неё дают процентов на 10–15 больше.
Чёрный рынок роился вокруг Ильинских ворот, около памятника гренадёрам, погибшим под Плевной. Ещё от Лубянской площади (пл. Дзержинского) была видна чёрная толпа тёмных личностей, охватывавшая конец Политехнического музея. Всего здесь собиралось до тысячи человек. Личности ходили и шептали:
— Даю доллары, беру червонцы.
— Даю фунты, беру гульдены.
— Есть сертификаты, кому нужны сертификаты? И т. д.
Несколько милиционеров задумчиво расхаживали в толпе, делая вид, что её не замечают. Раза два в день они поднимали свист и принимались ловить валютчиков. Все пускались в бегство, прыгали на ходу в трамваи, прятались во дворы, лезли через заборы и в подворотни, делали вид, что покупают книжки на развале у букинистов, расположившихся вдоль Китайской стены. Вероятно, валютчики платили милиционерам, потому что я ни разу не видел, чтоб они кого-нибудь поймали. Я, по крайней мере, всегда ускользал от облав.
Придя на толкучку, я у нескольких человек приценивался к долларам, чтобы узнать курс. Затем начинал предлагать сам на 1–2 процента ниже ходячей цены, чтобы скорее сбыть их с рук и убраться с этого паршивого места. Это всегда удавалось.
Всё-таки ликвидация
Весной дедушке стало лучше. Он уже не лежал, а бродил по комнате. Я смог его оставить на попечение Анюты и Маги, которая жила в Москве и часто приходила в Спасоналивковский. В колонии было по-прежнему бодро и весело. Получили четвёртую лошадь. Очередная беда была с чесоткой, которую технические служащие принесли из деревни и перезаразили половину ребят в колонии. Их объявили «неприкасаемыми» и постановили, что они ничего не должны трогать. Они ходили руки за спину, распространяя благоухание какой-то мази, сделанной на дёгте, и старались брать предметы зубами. В общем превратили несчастье в весёлую игру. А «киски» натянули на руки носки или чулки и ходили, подняв руки от локтей в позе собачек, которые служат.
У больших мальчиков злободневным стал вопрос о военной службе. Одни, как Петя, проповедовали непротивление злу насилием, другие, как я, не отрицали насилие ради самообороны или защиты слабого, но утверждали, что на войне «все неправы». Словом, воевать никто не хотел, а самое большее через год предстоял призыв. Большинство не стремилось обязательно попасть в тюрьму и думали, какой бы выход найти из этого положения. Очевидно, выход был только один: поступление в ВУЗ. Но это было почти несбыточно. Один Петя уверял, что он горит нетерпением пострадать за веру, и просил маму провести «подготовительную» беседу о тюрьмах, в которых она сидела. Но никто ему особенно не верил. За ним твёрдо установилась репутация позёра и демагога.
Столь же непримиримой позиции Петя держался и в вопросах любви. Он постоянно обвинял девочек в том, что, когда он искал с ними сближения по-братски, они проявляли чувственность и принимали его бескорыстный интерес за ухаживанье. Он намекал, что собирается следовать за Олегом по пути отшельничества. Однако в результате его братских потуг дочери Ольги Афанасьевны Лиле пришлось обратиться за помощью к Анне Соломоновне, чтоб она ей организовала запрещённый тогда аборт. Это был случай единственный и беспрецедентный в нашей колонии. А Петя перестал стесняться. Он учредил partie à trois[37] — из себя, Лили и Нюры маленькой. Он убедил девочек в преимуществах этики гарема, так что они мирно сосуществовали в его объятиях. Обе девочки были весьма неподходящими для колонии.
Помнится, в августе мы узнали, что в Москве на Воронцовом поле (ул. Обуха) происходит эсперантская конференция, и на общем собрании выбрали трёх делегатов на эту конференцию. Мы втроём, с Галей и Алёшей, поехали на конференцию, впрочем, без всякого мандата или приглашения. Мы знали, что там будут иностранцы и хотели проверить, поймём ли мы что-нибудь из их разговора. Когда мы вошли в зал, на трибуне говорил какой-то дядечка. Почти всё понятно, хотя оказалось, что он немец. Потом говорил венгр, потом уже явный азиат. Мы были в восторге — и этого поняли! Но поймут ли нас? Одно дело говорить друг с другом, а другое — с настоящими иностранными эсперантистами.
В перерыве нами заинтересовались, спросили, кто мы такие. Мы ответили, что мы ученики Пушкинской опытной школы-колонии.
— А разве там есть эсперантисты?
— А как же, почти все.
Товарищи очень удивились и обрадовались.
— Значит, эсперанто уже распространяется стихийно, проникает в школы!
Подошёл венгерский делегат и заговорил с нами: «Пойдёмте ко мне, там поговорим».
И он повёл нас к себе в комнату, которая помещалась в том же здании. Мы полчаса разговаривали с ним. Он расспрашивал нас и рассказывал про Венгрию. И мы с удивлением убедились, что он всё свободно понимает. Мы впервые почувствовали, что эсперанто — настоящий язык, с помощью которого можно так вот запросто общаться и с венгром, и с немцем, и с китайцем. И его так просто выучить! Чудеса, да и только. По дороге домой мы ног под собой не чувствовали от радости.
Мои дела не быстро, но подвигались. Я предложил Гале вместе готовиться к экзамену по математике. После ремонта гаража там образовалось два закутка. В одном поселилась Ефросиния Александровна, обставив его как монашескую келью. Другой стоял пустой. Вот в него-то мы и внедрились. Мы взяли задачник Шмулевича, составленный в царское время для евреев. Их принимали только в пределах пятипроцентной квоты и давали на экзаменах особо трудные задачи, чтобы большинство проваливалось. «В бассейн по одной трубе вода втекает, по другой вытекает. Количество первой равно котангенсу угла между медианой и высотой треугольника, построенного из трёх отрезков, причём длина первого равна корню кубическому из корня уравнения…» Не ручаюсь за точность, но всё в этом роде. На иную задачу уходило два дня. Но чем больше, тем лучше. Я ведь уверял в то время, что основная моя задача в жизни, — это доказывать красоту точных наук. На это не жаль времени, особенно когда сидишь вдвоём с Галей. Меня просто удивило, что она хорошо разбиралась в математике. Иногда от занятий математикой отвлекал шахматный турнир, организованный Борей Большим и Юлием Юльевичем. Когда же меня начинала мучить совесть, я заставал Галочку сидящую одну на своём месте с грустными, грустными глазами.
В МОНО опять пришёл новый заведующий, некто Алексеев. Получив очередной донос на наше идеалистическое направление, спросил сотрудников, почему до сих пор это поповское гнездо не разогнали. Отвечают, что кто бы к ним ни поехал, возвращается их сторонником. И дружно у них, и весело, и работают как черти, и учатся хорошо. «Ну, я не поеду, говорит, чтобы не стать их сторонником, а закрою из Москвы». И пришёл указ, чтобы хлеб посеять, картошку посадить, урожай полностью передать куда укажут, а затем колонию немедленно ликвидировать. В качестве особого снисхождения разрешил нам сдать выпускные экзамены.
Угроза закрытия давно висела над нами. Поэтому мы не были особенно поражены приказом Алексеева. Принялись зараз за два дела: подготовку к экзаменам и посевную кампанию. Делали всё на совесть. Мы считали вопросом чести сдать землю и урожай в порядке. Даже в МОНО удивлялись: чего мы в бутылку лезем?
С экзаменами было хуже. Программу дали огромную, многие ребята были не готовы. То есть они знали много того, что нужно было для истинно культурного человека, но не требовалось на экзамене, например, история утопий, кооперация, и не знали того, что обычно спрашивали.
В июле приехала экзаменационная комиссия. Один завколонией и два студента. Мрачная публика. Обиделись, что у нас нельзя достать ни пива, ни табаку, что жёстко спать. Вопросы задавали топорно, не по существу, как в анекдоте: «Кто была Екатерина вторая?» — «Продукт среды». На подобные вопросы ребята не знали, что отвечать, или отвечали по существу, искренне и потому невпопад. Экзаменаторы злились, говорили: «Ну и заповедник!» И уехали, не сообщив никому результатов. Результаты варились в МОНО целый месяц. Когда, наконец, они пришли, мы были просто удивлены. Во всех удостоверениях говорилось, что имярек окончил школу-девятилетку и сдал положенные экзамены. Отметок не было. После экзаменов колония существовала ещё 3 месяца, хотя пугали, что закроют через 2 недели. Мы предприняли шаги, чтобы помочь на первое время ребятам, которые не имели ни средств к жизни, ни родных и, может быть, не попадут в закрытые учебные заведения. Мы сговорились с толстовской коммуной близ Нового Иерусалима, что они дадут нам поле, которое мы сами возделаем и засадим картошкой, а потом осенью приедем собирать урожай. Урожай будет наш, коммунары это сделали безвозмездно, из сочувствия к нашему трудному положению.
Для работ я и другие ребята ездили раза три в Новый Иерусалим. Хорошо, дружно жили толстовцы. Руководили ими два брата, Вася и Петя Шершенёвы, мужчины лет по тридцати, серьёзные, вдумчивые, внимательные и высоко интеллигентные люди. Был там и свой патриарх, Сергей Никитич, друг Черткова, даже живший у него по зимам, непосредственный ученик Толстого. Остальные коммунары были молодёжь, холостые парни и девушки. Несмотря на опасный возраст, жили они очень целомудренно. Один только был женат и с ребёнком. Он всегда глядел грустно, потому что жена его не разделяла взгляды коммунаров на степень обобществления имущества. Поэтому жизнь бедного Любимова протекала в вечных спорах и компромиссах. Хозяйство толстовцы вели образцово. Мы-таки вырастили у них картошку и развезли её по мешку на брата.
Я так увлёкся математикой, что решил идти на математический факультет. Механическая лошадь изобретена, а сельское хозяйство за 5 лет, откровенно говоря, мне порядочно обрыдло. Лишь бы допустили к экзамену. Я понимал, что социальное происхождение у меня не то. Если допустят, так я уж обязательно выдержу, даром, что ли, я штудировал Шмулевича.
В анкете я написал, что отец кооператор, спец по молочным товариществам. Мать — педагог. Натянуть их на рабочих от станка не удалось, но всё-таки получилось прилично. Сам я с 14 лет работал по найму в совхозе, затем в сельскохозяйственной колонии. Ничего, биография на грани. Ждал решения ни жив, ни мёртв. Но вот, наконец, в МГУ под воротами, выходящими на Большую Никитскую (ул. Герцена) появились длинные списки допущенных, и я с радостью увидел в них свою фамилию. Абитуриенты были разбиты на очереди, и я попал в первую очередь, помнится, 1-го августа.
Но со 2-го августа предсказывали дождливую погоду. Рожь поляжет и тогда и косами не скосишь, да у нас и косцов почти не осталось. Беда! Как в песне:
Крутится вертится шар голубой, Крутится вертится дворник с метлой. Крутится вертится, хочет присесть — Лошадь проехала — надо подместь!Надо так надо. Вместо экзамена сел я на жнейку и целый день убирал рожь. На другой день дожди, действительно, зарядили, так что урожай я спас. «Ладно, думаю, поеду сдавать со второй очередью, какая разница». Поехал через 5 дней, когда пошёл второй поток. Справкой запасся, что по уважительной причине.
— Вас, говорят, в списках нет.
— Да я в первой очереди! Вот справка.
— Опоздали. Подавайте на будущий год с вашей справкой.
— Да призыв в армию на носу.
— А, ещё лучше. Отслужите в Красной Армии и приедете. А сейчас проходите, не задерживайте, тут народу много.
Так я и утёрся. Поехал опять в колонию. «Эх, думаю — проворонил я своё счастье».
В МОНО и в Наркомпросе царила невообразимая путаница. Нас уверяли, что с нашими удостоверениями можно поступать в любые ВУЗы, но ряд ВУЗов их совершенно игнорировал. В МОНО заявляли, что для поступления в техникумы достаточно нашего экзамена, на деле все техникумы требовали экзаменов по другой программе. МОНО взялось распределять окончивших, при этом совершенно не считаясь с их желанием. Например, Фросю, хотевшую в педагогический, и меня, стремившегося на математический, направили в землеустроительный и т. п. Даже ученикам младшей группы, хотевшим продолжать образование, для поступления в другие детские дома приходилось снова держать экзамены.
Не меньшая путаница была и с передачей колонии. МОНО договорилось с Мосгорздравотделом, что в Тальгрене будет колония для детей-кокаинистов. Нам дали указания передать им всё имущество. Но летом МОНО поссорилось с Мосгорздравотделом и запретило что-либо им передавать. Тяжба тянулась месяцами и в конце концов нам было приказано кокаинистам сдать пустую коробку и пустую землю, а мебель, имущество и собранный урожай сдать в МОНО. Нас обязывали их сторожить в опустевшем уже доме, чтобы ими не завладел зловредный Мосздрав или соседние крестьяне, которые тем временем подали иск с требованием передать землю им. МОНО никак не забирало своё имущество, и мы должны были выделить часть людей для его охраны. А тем временем сроки перехода в другие учебные заведения кончались. Только в конце октября мы с этим делом разделались.
Вот здесь-то и пригодилось моё наследство. Половина его пошла на ликвидационные расходы, найм транспорта для вывоза вещей, на помощь ребятам, временно оказавшимся на улице.
Добавление Гали. Из своего большого наследства Даня себе не оставил буквально ни копейки, хотя бы для первого устройства в Москве.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЕГО ЖИЗНЕННОГО ПУТИ (1925–1927)
Первые самостоятельные шаги
В хлопотах по ликвидации колонии прошла половина осени. Когда всё было кончено, мы переселились в город. Сняли комнату в деревянном домишке на Девичьем поле для мамы с Тоней и маленькую полуподвальную комнатку в каменном доме в Полуэктовом переулке, расположенном между Остоженкой (Метростроевской) и Пречистенкой (Кропоткинской улицей). В квартирке поселились мы с дедушкой.
На квартирные операции ушли последние остатки моего наследства, и я всеми способами искал работы. Встал в безнадёжную очередь на бирже труда, но больше рассчитывал на унаследованный от колонии колун. Это было уже испытано.
Я бродил снова с колуном по целым дням, уныло выкрикивая:
— Кому-у дрова поколоть, кому-у дрова поколоть?
Но так как отопительный сезон ещё не начался, я зарабатывал до смешного мало. Заработка хватало только на смоленскую кашу. Комната наша была недавно переделана из дровяного сарая. В ней было страшно сыро, с голых цементных стен струилась вода, в углах быстро завелась плесень. Дедушка уже не вставал, не говорил. Он молча лежал целыми днями, провожая глазами шагавшие перед окном галоши прохожих и тихо плакал.
Мне надо было искать заработка, а дедушку в таком состоянии нельзя было оставлять одного. Мама разрывалась на части, пытаясь целыми днями устраивать судьбу колонистов, разбросанных по всему городу, а ночью ухаживать за Тоней, которая то болела, то притворялась больной, то закатывала свои безобразные сцены.
Выручила Галочка, которая жила неподалёку от нас, — мама её устроила на койку к своим знакомым Ратнерам. Галя вызвалась приходить помогать мне: взяла на себя покупку, готовку пищи и кормление дедушки, да и все остальные домашние заботы.
Я был чрезвычайно рад этой помощи, и главное потому, что помощь оказывала именно она. Мне было приятно, что она как бы врастает в нашу семью и становится «маленькой хозяйкой в моём доме». Не иначе, «перст судьбы», думал я.
Но Гале тоже нужно было искать работу, и мама выписала из деревни няню Грушу. Она в скорости приехала и первым делом устроила Гале экзамен. Оказалось, что ни Галя, ни я не имели понятия о домашнем хозяйстве, например, о том, что гречневую и мелкую крупу тоже надо мыть, и тщательно. Няня вымыла и слила совершенно грязную воду.
— И это вы давали больному дедушке!
С тех пор няня решительно взяла хозяйство в свои руки.
Ходить ко мне просто в гости Галочка стеснялась. Идиллия прервалась, но дедушка от этого выиграл.
Коля Стефанович, всегда удивлявший меня своей целеустремлённостью, приехав в Москву, поступил не только в техникум, но и в частную студию живописи Монко:
— Электротехника очень хороша, но она мало даёт для души, — говорил он.
Он хотел воспитать из себя гармоничную личность, а заодно и из меня. Мои занятия колкой дров развивали меня, по его мнению, несколько односторонне, и он стал уговаривать меня тоже поступить в студию, всячески расхваливая её руководителя. В конце концов я сдался, сам не зная, как и чем буду платить за ученье.
Студия помещалась на мансарде трёхэтажного дома под стеклянной крышей и выходила на Страстную (Пушкинскую) площадь между Тверским бульваром и улицей Большой Бронной. В этом доме помещался Освод, а внизу отличное молочное кафе. В настоящее время этот дом снесён, и на его месте сооружён сад.
Александр Семёнович был не знаю каким художником — помнится, я не видел ни одной его картины, — но отличным человеком и педагогом. Его метод был оригинален: он сначала задавал композиции, то на определённую тему, то на вольную, и сразу акварелью. Я помню, сколько я помучился над рисованием извозчика, дремлющего на козлах под густым снегопадом под светом уличного фонаря. Александр Семёнович очень тактично и деликатно критиковал недостатки наших неумелых рисунков, напирая больше на невыразительность, несоответствие исполнения замыслу, чем на технические дефекты. Он старался развить в нас воображение и художественный вкус, а к индивидуальным особенностям стиля каждого ученика относился очень бережно. По его настоянию я полчаса просидел на тумбе на Красной площади, тараща глаза на храм Василия Блаженного, стараясь запомнить все бесчисленные детали его архитектуры. Задание напоминало скаутскую игру «Пятнистое лицо», только высшего класса трудности: наглядевшись, надо был прийти домой и написать собор на память. Просмотр наших работ дал много весёлых минут, хотя все студийцы созерцали собор по полчаса с одного и того же места. У некоторых отдельные башни и купола пересели с правой стороны на левую, орнаменты оказались перевёрнутыми вверх ногами и т. д. Однако оценки Монко ставил не за сходство с оригиналом, а за передачу его «духа», настроения.
— Важно не собор нарисовать, а верно передать своё впечатление от него, — говорил он.
Только развивши у нас воображение, он на второй год давал нам живую натуру.
— Если вы не разовьёте в себе художественную фантазию, — говорил Монко, — то и в натуре у вас получится не человек, а манекен. (Очевидно, он был импрессионистом. Только тогда я ещё не знал этого слова.)
Я очень жалел, что на второй год не смог посещать студию Монко. Просто не выдержал нагрузки, и физической, да и платить было нечем.
Но польза от студии всё же вышла: я втянул в неё Галочку, а Галя — Нину. Из последней вышла хорошая художница-прикладница.
Не знаю, что получал Монко от своей студии в материальном отношении. С нас он брал мизерную плату. Мне думается, что преподавание живописи было для него самоцелью. А в качестве бизнеса, на прожитьё, он брал подряды на строительно-монтажные работы. По-видимому, он был не только художником, но и архитектором.
Мне в то время дома понадобилось перенести на два метра штепсельную розетку. Я справился с этой работой, получив три здоровых удара током и дважды пережегши пробки. После этого я возомнил себя знатоком электротехники, организовал бригаду из самого себя и пригласил Колю в качестве инструктора. Потом я пришёл к Монко с предложением выполнить монтёрские работы в его подрядной организации. Теперь страшно подумать, под какую статью мы с Колей чуть не подвели этого доброго, доверчивого человека.
Первый наряд Александр Семёнович дал нам в редакцию «Правды», которая находилась тогда на Тверской, недалеко от знаменитого гастрономического магазина Елисеева. Экспедиция, гараж и склад помещались неподалёку, на Тверском бульваре. Вот именно на бульвар я и пришёл однажды получать задание.
Дошлый комендант, предупреждённый Александром Семёновичем, что от него придёт «опытный специалист», повёл меня показывать помещение. Оно представляло собой длинную анфиладу комнат, отделённых только деревянными перегородками и почти доверху забитых кипами «Правды» и «Бедноты». Потолки были бетонные на двутавровых балках, свет едва проникал через окна, заваленные газетами:
— Здесь пройдёшь на якорях, поставишь герметические патроны, так как сыро у нас, — говорил комендант, — над дверями брикеты, в конторе блочные подвесы.
Я не понимал ни слова, как будто он говорил на иностранном языке. Что такое якоря, брикеты, подвесы?.. Мне захотелось убежать. За что я взялся? Кроме того, объём работы был огромен, у меня и инструментов не было, один молоток без ручки, да выщербленная отвёртка. Однако, если я убегу, то в какое положение поставлю Монко? Мне и в студии нельзя будет показаться. И я продолжал ходить с комендантом, делая умный вид и моля Бога, чтобы он продолжал говорить, а не вздумал меня о чём-нибудь спрашивать.
— Но ведь на складе темно, как же здесь работать? — не удержался я сам от вопроса.
— Не знаешь, что ли? Сунь жучка в лягушку и повесь монашку на соплях, только и делов!
Час от часу не легче!
Можно себе представить, как я ждал прихода Коли из техникума, с каким нетерпением.
Когда Коля пришёл, он мне объяснил значение большинства терминов, чаще прибегая к помощи глагола «кажется», но он вовсе спасовал перед последней фразой коменданта. Сказал, что они на первом курсе ещё не проходили, чем «кормить лягушек» и как «вешать монашек на соплях». Но обещал проконсультироваться с преподавателями.
Неделя прошла в беготне по магазинам. Провода ПР 2.5, изолента, тиноль… всё было дефицитно, всё надо было выколачивать. Я собрал кое-какой инструмент и приступил к работе.
Никак не подозревал, до чего это трудно! Колотить по шлямбуру на цементе, снизу вверх у себя над головой, стоя на шаткой стремянке. Руки прямо отваливались, особенно левая затекала, которой надо было держать на весу шлямбур и по которой то и дело я попадал молотком, когда правая начинала уставать.
И это продолжалось изо дня в день три недели. Когда стали тянуть провода, возникло неожиданное препятствие: как пройти через перегородку? Не было бурава, купить его в Москве не было никакой возможности. Было воскресенье, и мы работали вместе с Колей. Не помню, кому из нас пришла гениальная идея: нагреть паяльник и прожечь дыру в перегородке. Сказано — сделано. Мы залезли на кучи газет. Один из нас держал раскалённый паяльник, другой вгонял его в стену молотком. Мы были очень удивлены, когда перегородка вспыхнула. Огонь быстро пошёл в стороны. В помещении не было ни огнетушителя, ни капли воды. Сдёрнув с себя куртки, мы стали забивать и затирать ими пламя. Я потом, спустя ряд лет не раз видел в кошмарах: загораются миллионы газет, такой пожар не могут потушить даже все пожарные команды города, а нас и Александра Семёновича отдают под суд. ВЧК не церемонится с диверсантами. Ещё бы: подожгли экспедицию «Правды»! А ведь и на самом деле эта судьба была от нас на волосок. Просто чудом этого не произошло. Искры падали на газеты, но мы их затаптывали. Через пять минут пожар был ликвидирован. Комната была полна дыма, квадратный метр перегородки был обуглен. Окна были замазаны, я побежал к маленькой форточке и принялся махать перед ней прожженной курточкой, стараясь выгнать дым. В это время Коля отчаянно скоблил перегородку перочинным ножом. К нашему счастью, никто не вошёл, никто ничего не заметил. Через час следы преступления были скрыты. Мы сидели в изнеможении с бьющимися сердцами.
— Да, но что делать с перегородкой? Дыра не прошла насквозь, как быть с проводкой?
— А много ли осталось?
— Немного…
— Давай рискнём ещё раз?
И мы рискнули. Снова нагрели паяльник и благополучно прошли через перегородку.
У Коли тоже не обошлось без приключений. Когда мы уже начали потолочную проводку на складе, Коля, стоя на стремянке под потолком, каким-то образом схватился за два конца оголённого провода и устроил через себя замыкание. Он кричал страшным голосом и почему-то не мог оторваться от проводов. Стремянка под ним раскачивалась и грозила падением. Длилось это несколько секунд, пока я не подбежал и буквально не оторвал Колины руки от проводов. В этот день он отказался продолжать работу.
Три недели продолжалась работа на складе. Когда мы её уже совсем заканчивали, случился ещё один случай, смешной. На лестничной клетке, куда выходил склад, — а наверху было ещё три этажа квартир — стоял щиток. Там было штук пятьдесят пробок: нормальных и от переходных коробок, миньон и голиаф, пластинчатых предохранителей и голых жучков, болтавшихся на контактах. К щитку подходило множество проводов, гирляндами свисавших с потолка: гуперовских и гибких шнуров, звонковых и телефонных кабелей. За годы революции там столько было накручено в порядке самодеятельности и до того обветшало, что сам чёрт не мог бы разобраться. А на самом верху, над пролётом лестницы, подымавшейся четырьмя круговыми маршами, болталась лампочка, долженствовавшая освещать все площадки. Лампочка чего-то погасла, и жильцы обратились ко мне с просьбой исправить:
— Уж мы вас отблагодарим!
Я поискал на щитке пробку дежурного освещения, не нашёл и полез осматривать патрон. Я прикапал свечку на перила, положил над пролётом доску, на неё взгромоздил друг на друга два старых ящика. Сверху примостил табуретку и стал исполнять трюковый номер под куполом цирка. Благополучно вывинтил лампочку, которая честно перегорела, и хотел ввернуть новую. Вдруг раздался треск, один ящик сломался, и всё сооружение рухнуло в пролёт. Я успел схватиться за провод, при этом вырвал его вместе с розеткой из потолка. В нём на мгновенье вспыхнула вольтова дуга. К моему счастью, провод крепко сидел на якоре, я крепко зацепился за него. Меня отнесло вбок, как Тарзана на лиане, причём я получил сильный удар о перила. Схватившись за них, я вылез на лестницу, скрючившись от боли, и подумал: «Как ещё счастлив мой бог — лететь в пролёт с четвертого этажа было бы много хуже».
— Кто свет потушил, у меня дети маленькие! — услышал я над собой грозный голос. Из другой квартиры выскочила женщина:
— Я нервная, я не могу в темноте!
Снизу бежал комендант экспедиции:
— Номер отправлять пора, а вы тут со светом затеяли баловаться!
Размер бедствия превзошёл все мои ожидания, были пережжены пробки по всей лестнице.
— Граждане, не волнуйтесь, я просто выключил свет, чтобы починить дежурное освещение. Не могу же я работать под напряжением. Сейчас включу!
И я направился к треклятому щитку. Но, сколько я ни вывинчивал пробки, я не мог найти перегоревшей. Чтобы её обнаружить, я для скорости просто втыкал плоскогубцы в цоколи предохранителя. При этом я каждый раз получал удар током, так как стоял в луже в насквозь мокрых валенках. Толпа вокруг меня всё увеличивалась, прибыли представители всех шести квартир. Возбуждение росло. Я мучился уже минут двадцать.
— Да он ни черта не понимает. Это сапожник, не монтёр! Товарищ комендант, вы проверяли у него документы? Что право на производство работ у него есть?
— Да что с ним разговаривать! Сведём его в милицию, там разберут!
Избитый током почти до потери сознания, я сообразил: «Если двинуть хорошенько в бок эту нервную фурию, которая загораживает выходную дверь, да драпануть восвояси, пожалуй, не догонят. Пропадай и месячный заработок, и мой инструмент, только бы избежать милиции». Обдумывая план бегства, я ткнул плоскогубцы в какую-то дыру и…
— Горит! — крикнули из экспедиции. Я быстро вбежал наверх, заизолировал короткое замыкание, ввернул лампочку, прикрепил патрон, болтавшийся у перил. Вся лестница сияла светом. Раздались всеобщие одобрения.
— Я же вам говорил, что только испытываю щиток!
— Ладно уж, на нас не обижайтесь. Подумаешь, немножко погорячились.
— Пожалуйста. Коли у кого испортится электричество, запишите адрес. Фирма солидная, всегда к вашим услугам.
Так или иначе, с экспедицией покончили и перебрались в редакцию. Надо было сделать новую проводку в бухгалтерии. Здесь было чисто, тепло. Работу мы делали белым шнуром на дюбелях. Только бухгалтера обижались, что им на лысины падали то куски штукатурки, то шурупы, а то и плоскогубцы.
В одной из комнат надо было поставить вентилятор. Я никогда не имел дела с моторами и питал к ним почтение и ужас. Тем не менее, когда я установил мотор в кожухе, вставленном во фрамугу, мне захотелось его включить. Коля просил не включать мотор без него, но я решил, что попробую минуточку. Но, когда я включил рубильник, он дёрнул морозным воздухом в комнату, да с такой силой, что вся бухгалтерская отчётность взвилась на воздух. Вентилятор должен был работать как вытяжной, а я его включил наоборот! Счета, накладные, фактуры закружились метелью и, к великому ужасу кассирши, из её стеклянной будки, дверь в которую была открыта, поднялся на воздух смерч из бумажных червонцев.
Я так растерялся, что вместо того, чтобы выключить рубильник, принялся ловить летящие бумаги. К счастью, кто-то догадался и выключил его за меня. Всё же десятку работников бухгалтерии хватило на полчаса собирать под столом документы, сортировать их и класть на места. Деньги оказались все целы. Польза вышла та, что я твёрдо усвоил урок: подключать клеммы к линии надо не дуракам, а людям с умом.
Это было последним моим подвигом на поприще служения центральному органу партии. Сами удивляемся, но мы благополучно кончили работу, не подвели Монко и даже получили солидную плату, большую, чем я когда-либо ранее зарабатывал в качестве лица свободной профессии.
Другая работа, которую я взял в то время, была проводка электричества в одном из магазинов артели «Муравейник».
«Муравейник» был наследником знаменитой фирмы Филиппова, которая имела в Москве около 40 булочных и пекарен. Надо было обновить проводку в их отделении в Зарядье.
За магазинчиком помещалась низкая и грязная пекарня. Для характеристики царивших там нравов скажу, что пекари спали в одежде и обуви, ожидая, пока подойдёт тесто, на столах для раскатывания сдобы и приступали к работе, не помыв рук даже после самых грязных дел! Я даже чуть было не отказался от полагавшегося мне ежедневно полкило сдобного лома. От этого опрометчивого поступка меня удержало соображение, что всё остальное не лучше.
Всё остальное было гораздо хуже, по крайней мере в период моей там работы. Дело в том, что мне приходилось работать в страшной тесноте и духоте над необъятными квашнями. Ноги стремянки я расставлял широко, по обе стороны квашни. Её нельзя было закрывать, чтобы тесто не перегрелось. А чтобы кирпич и цемент не попадали в тесто, я подвешивал газету под дырой в потолке, где должен был ставить якорь. Раз газета, не выдержав тяжести, прорвалась, весь мусор пошёл в квашню. Я бросился вынимать его лопатой, но он быстро погружался. И я, боясь, что кто-нибудь заметит моё преступление, счёл за благо размешать тесто с остатками мусора. Ведь там муки было пудов 15. Ничего, съели.
В другой раз при мне пришёл покупатель и жаловался заведующему, что нашёл в каравае кусок железной оцинкованной вязки. Заведующий уничтожающе посмотрел на меня, но покупателю ответил:
— Что же, по вашему, я должен за пятак вам шурупы с потайной головкой в хлеб запекать, что ли?
Он не мог меня выдать, спросили бы всё равно с него. Покупатель так удивился нахальному ответу, что ушёл, не найдя слов для возражения. Только разломанный каравай швырнул тут же.
Между тем дома дела шли всё хуже. Дедушка угасал с каждым днём. В начале ноября его отвезли в больницу. Больница была платная, хорошая, но дико дорогая. Дедушку поместили в отдельную палату. Мы при нём дежурили неотлучно. Мама, Мага, няня, Галя и я сменяли друг друга. Дедушка лежал на высоких подушках без сознания. Временами приходил в себя, и это сказывалось только в том, что в его глазах появлялось страдание. Через неделю он умер.
Меня мучила совесть и раскаяние. Мне всё казалось, что я не сделал чего-то, что мог, для этого прекрасного человека, всю жизнь так самоотверженно и бескорыстно служившего людям, стольких спасшего от смерти.
Я было уже совсем примирился с мыслью, что мне в этом году не придётся учиться, когда Коля рассказал мне про некий Институт красных инженеров, который готовит электриков и производит приём три раза в год. Очередной приём должен был состояться через месяц. Он советовал мне навести справки.
Идея стать «красным инженером» сначала показалась мне дикой и идущей вразрез со всеми моими прежними намерениями. Но, чем больше я размышлял, тем больше она мне нравилась. Во-первых, там будет много моей любимой математики. Во-вторых, я смогу приступить к реализации моей мечты о механической лошади. На сельскохозяйственной выставке я видел электроплуг, но это было типичное не то. Я мечтал о лошади, которую можно было бы, как нашего школьного Рыжего, запрягать и в плуг, и в молотилку, и в телегу. В-третьих, электротехника была полем практического применения, а я был безнадёжным прагматиком и к математике стремился, надеясь её использовать для принесения материального благополучия людям. В-четвёртых, после приключений в «Правде», я решил, что у меня есть природные данные, чтобы стать электротехником.
Я взял у Коли адрес какого-то Лосева, уже наполовину «красного инженера», жившего в его дворе, и отправился для наведения справок.
Мне сказали, что Лосева нет дома, и предложили обождать на дворе. Я толкался там довольно долго, как вдруг раздался отчаянный треск мотора и, покрыв двор облаком дыма, к подъезду подкатил лихо мотоциклист. Красивый и даже величественный парень, нос горбинкой, волевой подбородок, в кожаной куртке, шлеме и крагах. Преодолев напавшую на меня робость при виде этого великолепия, я спросил:
— Вы Лосев? Я хотел бы узнать относительно Института красных командиров, нет, инженеров, в котором Вы учитесь, как можно туда поступить?
— Конкурс зверский. Попробуйте, если Вы семи пядей во лбу, — ответил он, не слезая с седла, — но предупреждаю, чтобы там учиться, нужно обладать железной волей, большой физической выносливостью и недюжинными способностями.
— А Вы на каком курсе?
— Уже на третьем. Адрес института? Страстной бульвар 16. — И, выпустив новую волну газа, он исчез в воротах гаража.
«Да, вот какие орлы там учатся. Где уж нам уж выйти замуж…» — подумал я и поплёлся домой. Я был неплохого мнения о своих способностях, но «железная воля» … Где её взять?
Однако на Страстной я всё-таки пошёл. Серый, унылого вида дом около Петровских ворот. Институт незадолго до этого переименовался, теперь он назывался «ГЭМИКШ» — Государственный электромашиностроительный институт имени Я. Ф. Каган-Шабшая. Слово государственный было добавлено для важности — фактически это был последний частный ВУЗ при советской власти. Весьма оригинальное учреждение имени своего основателя, владельца и директора.
Я поднялся наверх, в приёмную комиссию. Женщина средних лет, очевидно являвшаяся секретарём дирекции, сообщила мне, что институт имеет шесть курсов и только один месяц каникул, так что в год проходится по три курса и через два года студент получает звание инженера, если не провалится на каком-нибудь экзамене. В случае хотя бы одного провала студент остаётся на курсе второй раз. Третий раз оставаться нельзя. Максимальный срок пребывания в институте — три года. Институт сугубо производственный — четыре дня в неделю студенты работают на электротехнических предприятиях Москвы, два дня — теоретические занятия. Чтобы успеть за два дня, да в два года, занятия проходят по 10 часов в сутки. Вступительных экзаменов пять — три устных: алгебра, геометрия и тригонометрия, и два письменных: геометрия и алгебра с тригонометрией. Кто провалится на одном, на следующий может не приходить.
— А политпредметы?
— Никаких. Будете проходить в институте.
— А велик ли конкурс?
— Пока человек восемь на каждое место.
Мне понравились условия. Я в то время торопился жить, и бешеные темпы института очень меня привлекали. Понравился и производственный уклон, и то, что на экзаменах одна математика, к которой я был подготовлен. Но конкурс! А впрочем, чем чёрт не шутит! Авось кривая вывезет. Я подал заявление и заплатил пятёрку за экзамены. До них оставалось две недели.
Прежде чем идти на экзамен, нужно было обеспечить себе pied à terre. Дедушкину квартиру ликвидировали. Платить за неё для меня одного не было никакого расчёта. Я согласился на предложение отца поселиться у него. Уже 15 лет как я с ним не жил, и мне приятно было показать к нему доверие и узнать его получше, хотя я предвидел психологические трудности при сближении с его семейством.
Спал я у них на полу, за занавеской, на ночь подстилая под себя войлок. Общался я с отцом и мачехой мало. Тамара Аркадьевна всячески за мной ухаживала, но мне было очень уж невесело. Обычно обед состоял из бульона и какого-нибудь салатика-винегретика. Отец, как всегда, был в поисках работы и не находил её, поэтому порции были разве что для воробья. Я думал, что за те же деньги, что я вносил за еду, лучше бы сварить хорошую кастрюлю картошки или каши, и все были бы сыты. Но в этой семье были другие обычаи. На десерт почти за каждым обедом полагалась семейная сцена. Тамара Аркадьевна принималась упрекать отца за бедность, за неуменье устроиться, отстоять интересы семьи; при этом ему в вину ставились его родители, которые, по её мнению, под личиной респектабельности скрывали самые низменные пороки. Отец угрюмо молчал, мне выслушивать эти скандалы с обвинениями было невмоготу. De mortuis aut bene, aut nihil[38]. К тому же я очень любил бабушку и дедушку и был уверен, что Тамара Аркадьевна эти обвинения тут же придумывала, чтобы возможно больнее оскорбить отца.
Кроме того, она меня добивала бесцеремонными требованиями хвалить её картины маслом, главным образом портреты. На мой взгляд, они были предельно беспомощны, безграмотны и просто аляповаты. Их скорее можно было бы отнести к саркастическим карикатурам на изображаемых. Она старалась быть оригинальной и находила нужным на всех портретах изображать лица не симметрично — один глаз на щеке, а другой на лбу и т. д.
Среди них были портреты отца, Ирины, их дочери, и некоторых знакомых. Мне просто больно было смотреть на эти искажения людей.
— Даня, ну говори же, это очень талантливо? Искусствовед Сергей Петрович сказал мне, что мои работы стоят намного выше работ всех советских художников. — И я, чувствуя себя обязанным её гостеприимству, правда, весьма и весьма относительному, а временами вовсе нестерпимому, и не желая противоречить мнению знаменитого искусствоведа (бедняга, здорово же она его допекла, если он вынужден был дать такой отзыв! А возможно, отзыва-то и не было!), я с трудом выдавливал из себя, сильно греша против истины:
— Да, пожалуй, в этом портрете что-то есть. Сочетание красок как-будто ничего…
Самым тяжёлым было видеть состояние отца. Он и сам мучился своей неспособностью прокормить семью. Ведь он не обучался никаким практическим навыкам, а что можно было в те годы заработать на знании Ницше и Шопенгауэра и даже владением несколькими языками? Он пожинал плоды буржуазного воспитания, когда необходимость иметь туманную идеологию в голове считалась более важной, чем необходимость иметь профессию — работать руками. Он разделил судьбу целого поколения бывших людей. Да ещё при такой злой, бестактной жене.
После обеда я брал один из оставшихся у меня школьных и вузовских учебников, нёс его в ларёк букиниста, а потом на Смоленском рынке или на Сухаревке с наслаждением съедал десертную тарелочку пшённой каши без ничего. У уличных торговцев она стоила 30 копеек. На две тарелочки обычно учебника не хватало. А как было бы здорово проглотить их две.
Дома, разумеется, о моих коммерческих операциях ничего не знали. Я это тщательно скрывал вообще от всех.
В Институте Каган-Шабшая
Как только я устроился с жильём, я принялся за подготовку к экзаменам. Сидел день и ночь, перерешал много задач из Шмулевича, особенно напирая на тригонометрию, так как думал, что она будет гвоздём сезона. Шмулевич — это совершенно необычный сборник задач, он был составлен талантливым математиком на очень высоком уровне. Над решением большинства задач ломали голову маститые математики. Я уже говорил, какие рогатки ставили еврейским мальчикам при поступлении в ВУЗы. Чтобы быть куда-либо принятым, надо было сдавать все экзамены на круглые пятёрки.
В первый день на устной алгебре я застал такую тьму народа, такую толчею и жужжание многоликой толпы, что счёл свои шансы почти равными нулю. И впрямь, я едва не провалился. Я повторил всё кроме арифметики, а она, оказывается, приплюсовывалась к алгебре, не будучи особо отмеченной в программе. Я запутался в простом и сложном тройном правиле, ведь мне не приходилось с ним иметь лет десять. Всё-таки я ушёл с отметкой «отлично». На этом экзамене отсеялась добрая половина абитуриентов.
Экзамены шли день за днём. Толпа таяла, и я взыграл духом. К письменным была допущена треть претендентов. Экзаменовали по 40 человек сразу. В небольших аудиториях мы рассаживались за столы, а преподаватель и какие-то юные волкодавы (как выяснилось потом — старшие студенты) беспрерывно ходили между рядами и наблюдали, чтобы мы не сдували друг у друга и не пользовались шпаргалками. Провинившихся тотчас удаляли, но всё же многие потом хвастались, что обманули церберов.
Собрали тетради, и никто из нас не был уверен, выдержал ли экзамен. Быть может, на последнем мы уже зря трудились? В то же время всё обиднее провалиться — столько труда и нервов уже потрачено! К концу состояние уцелевших 120 человек было близко к истерике. Между тем каждый болел не только за себя: все уже перезнакомились, передружились. Мне особенно запомнились двое: Лехтман — юноша с очень интеллигентным лицом, дышавшим какой-то необычайной открытостью и доброжелательством, почти мальчик, и Селитренник — парень из наиболее старших, с добродушно-саркастическим умом и постоянной иронической улыбкой на лице. Он, очевидно, недавно демобилизовался из армии, так как всегда ходил в красноармейской репке. Ему сейчас же было дано прозвище Будёновец.
После экзаменов надо было ждать решения целых пять дней. Не знаю, кто как их проводил, я же лично опять взял колун и пошёл по дворам. Маленько подзаработал и смог внести свой пай в хозяйство отца.
В назначенный день я подходил к Институту ни жив, ни мёртв. Списки, аккуратно отпечатанные на машинке, уже были вывешены в канцелярии. Они были в алфавитном порядке, и на первом месте — Арманд Д. Л. У меня аж в глазах помутилось! Теперь дорога ясна, линия работы определена на всю жизнь. Я буду инженером, и никаких испанцев!
Выяснилось, что из 120 человек, допущенных к письменным экзаменам, выдержали 80, из них 35 получили по крайней мере одну «удочку» и не прошли по конкурсу. В институте была принята трёхбалльная система, отметки «хорошо» не существовало, так что принимали только круглых отличников.
Крупная дама — Мария Альбертовна объяснила нам, что завтра мы все должны явиться к 8-ми утра на «смотрины» — с нами будет знакомиться сам директор Института Яков Фабианович Каган-Шабшай. Величественная Мария Альбертовна, похожая на классную даму, исполняла, экономии ради, одновременно должности заведующей канцелярией, заведующей отделом кадров, главного бухгалтера, причём все эти отделы из неё одной и состояли, и секретаря-машинистки директора. Зато она пользовалась его особым доверием и благосклонностью.
На следующий день мы выстроились по росту в коридоре. Вошёл директор. Это был старик очень низкого роста, почти карлик, с седыми бакенбардами, увенчанными длинным горбатым носом. Глаза проницательные, с лукавинкой. Большой лоб, волосы длинные, зачёсаны назад. Одет в старомодный сюртук с галстуком-бабочкой. По национальности он был караимом. Ни дать, ни взять, гном из сказки Гофмана. Только сразу не определишь, злой или добрый.
Яков Фабианович походил перед рядами, молча рассматривая каждого из нас. Вынул изо рта папиросу и засунул туда бакенбарду. Пожевал. Спросил:
— Почему такие дробные?
— Как это дробные?
— Меньше единицы, все меньше. Вы думаете, пролезли в институт и считаете себя очень хитрыми пассажирами? — И добавил сердито: — Погодите, я вам ноги-то переломаю. Крикнул:
— Авцын, всех чернокожих — в кочегарку!
На этом наше знакомство с директором института пока и закончилось.
За время учёбы мы все хорошо познакомились с Яковом Фабиановичем. Он на самом деле был добрым, чутким и отзывчивым человеком. А держал себя так и употреблял специфический лексикон скорее всего из-за неудачного маленького роста и вообще непрезентабельного вида, а может быть из-за неудачи в семейной жизни. У него смолоду была idée fixe сделать из своего будущего сына настоящего умнейшего инженера, каким он был сам по мнению всех, кто знал Якова Фабиановича. Но, увы, у него родились две дочки, хорошенькие ветреные девочки, которые обе, когда подросли, пошли… в балетную школу. Это был ужасный удар для Якова Фабиановича, и он решил воспитывать таких инженеров из чужой молодёжи. Так он пришёл к выводу о необходимости открыть соответственный институт, подчинённый только ему одному, с его собственной программой и режимом, также и финансируемый им единолично.
Эту идею ему удалось блестяще осуществить. К большому сожалению ненадолго, так как его институт как нестандартный через несколько лет был закрыт. Но результаты его дела сказываются до сих пор. Все его «воспитанники» — талантливые инженеры и все занимают самые ответственные посты в электротехнике.
Авцын, коренастый, плотно сбитый студент пятого курса, был назначен нашим старостой на производственной практике. Он быстро распределил всех нас по сменам. Кому днём, кому ночью, кому уголь грузить, кому котлы топить. Взамен он получил от нас кличку «Сатрап».
Институт не получал ни копейки от государства. В основном доходы поступали от студентов. Работая на практике, они получали зарплату наравне с рабочими. Зарплата переводилась прямо в кассу института. Из неё платили жалованье преподавателям, ею покрывали канцелярские и прочие расходы, а остаток делили на стипендии студентам, не по их заработку, а в зависимости от курса: на первом — 5 рублей в месяц, а на последнем, шестом — 50. Кроме того, успевающим студентам на время отпусков выдавались так называемые «скидки» на железнодорожные билеты: 25 %, 50 %, 75 % и 100 %. В ту же общую кассу Яков Фабианович вкладывал и свои деньги. Он был крупным специалистом в области электротехники и по совместительству работал в ГЭТе (Государственном электротехническом тресте), а также на нескольких иностранных концессиях. Почти всю свою зарплату он переводил в своё любимое дело — институт. Он был одержим идеей — создать ускоренное, истинно производственное обучение командиров промышленности. Он так объяснял свою позицию:
— Сейчас в России не такой момент, чтобы тратить время на пятигодичное обучение. Готовить инженеров широкого профиля, как это делает МВТУ, которых ещё потом надо доучивать, как молоток держать, непозволительная роскошь. Нам нужны узкие специалисты, нам нужно быстро восстанавливать промышленность, пополнять поредевшие кадры технических специалистов, чтобы все они умели всё делать своими руками лучше любого рабочего!
Наркомпрос, которому тогда подчинялись все ВУЗы и ВТУЗы, не раз предлагал Каган-Шабшаю взять Институт на своё иждивение. Но Яков Фабианович с негодованием отвергал эти предложения:
— Чтобы я продался за чечевичную похлёбку? Дудки, не на того напали! Какие хитрые гуси (от слова ГУС — Государственный учёный совет — так называлась тогда коллегия Наркомпроса)! Они понимают, что тот, кто платит, тот заказывает музыку. За деньгами последуют их дурацкие программы: широкий профиль, лишние предметы, летние каникулы… Не надо. Руки есть, голова есть, сами заработаем. И будем гнать на производство инженеров по 40 человек каждые четыре месяца. Вот поглядите на наших выпускников, какие орлы: Кремнёв, Пилатский, Авцын, Духанина, Бирбрайер, Рубинштейн, Синайский… Этот, впрочем, мошенник, в нарушение всех правил пролез в Институт 16-ти лет. Обманул приёмную комиссию. Хотел я ему ноги переломать. Да! Ну, может быть, ещё доиграется, когда будет дипломный проект защищать. Я ведь злопамятный.
Эти тирады мы выслушивали на первых же лекциях по электродинамике. Мы быстро становились патриотами Института и системы Каган-Шабшая, которая наделала в те годы немало шума. Мы дружно презирали «гусей» из Наркомпроса и белоручек из МВТУ. Надо сказать, что, хотя через несколько лет Якову Фабиановичу свернули шею как представителю «частной инициативы», однако многое из его системы переняли для всех технических вузов под названием «трудового обучения».
Яков Фабианович, хоть и презирал Наркомпрос, однако заключил с ним договор на поставку электроэнергии и отопление котельных водяного отопления во всех корпусах, унаследованных от страхового общества «Россия». Корпусов было пять, в плане напоминающих письменную букву «Т» и имевших отдельные кочегарки центрального отопления. Помещался Наркомпрос на Сретенском бульваре. Там же в подвале находилась и приватная электростанция, приводившаяся в движение мощным дизелем.
На эту станцию я и пришёл на следующее утро. Я ещё никогда не видел такого великолепия. В большой комнате, выложенной метлахской плиткой, как некий идол, как Сакья-Муни, сверкая сталью и медью, возвышался до потолка дизель. Он весь был сдержанное движение: размеренно вверх и вниз ходили какие-то рычаги, сверху вздыхали и хлопали цилиндры, изнутри бухало что-то невероятно солидное, спереди главный вал уходил в мерно жужжавшую динамо-машину. В помещении было и много других чудесных и непонятных предметов, соединённых проводами и трубами, как я теперь догадываюсь, баки с горючим, трансформатор, распределительный щит и несколько моторов служебного назначения. Кругом, с медленной важностью, прохаживались человека четыре наших старших студентов и то подтягивали какую-то гайку, то подвинчивали штауфер-маслёнку, то щёлкали рубильниками. Они казались мне жрецами такого высокого класса, до такой степени недоступных, что вряд ли я когда-нибудь дотяну до них. Я преклонялся перед величием техники, а они, небось, думали: «Вот дурак, деревенщина, стоит тут на дороге, рот разинул».
Новичков-первокурсников в Институте называли неграми. Про них была и песенка сложена, с которой мы познакомились значительно позже, когда уже «вышли» из негров. Помню только две первые строчки:
Чичерин ноты рассылает; Алла-верды, алла-верды. Земблинов[39] негров принимает; Алла-верды, Алла-верды.Один «негр», некий Голгофский, во время нашей работы на станции начал было задавать вопросы; «Как и почему здесь вертится», но Авцын быстро пресёк нашу любознательность;
— Вырастешь, Саша, узнаешь, а сейчас быстро марш грузить уголь!
Угля во дворе лежали громадные кучи. Их надо было все пропустить через узенькие горлышки в бункера котельной. Часть негров работала на дворах, часть в подвалах. Не знаю, что было хуже. На дворе было страшно холодно. Мёрзли руки, рукавиц нам не выдавали, а работать в своих перчатках никто не решался, их едва хватило бы на час. Заступом швырять можно было только мелочь. Крупные глыбы, а их было много, приходилось подносить к отверстию бункера голыми руками. Я впервые имел дело с каменным углем и удивлялся: до чего же он тяжёлый и до чего ловко режет руки. Они застыли и ничего не чувствовали, а потом оказывались все в порезах.
В подвалах было ещё горше. Их передние части быстро забивались, и приходилось растаскивать уголь в дальние концы, ползая под потолком на коленях по уже насыпанному слою угля. При этом поднималась невероятная пыль от штыба, которая хрустела на зубах, забивала лёгкие, вызывала натужный кашель и резь в глазах. Мы завязывали себе рты платками, шарфами, у кого они были, но ничего не помогало.
Бункер постоянно засорялся, мы измучились, пробивая его ломом сверху или снизу. Я предложил, чтоб кто-нибудь из нас залез в наклонную трубу, принимал катящиеся ему на голову глыбы и перебрасывал бы их вниз. Я предложил — мне первому и лезть. Работа пошла быстрей, но в бункере был сущий ад: глыбы катились одна за другой. Того и гляди проломят голову, вместе с ними катилась куча мелочи и окончательно забивала глаза и рот. Больше часу никто из нас не мог этого выдержать.
Домой я шёл словно пьяный. Прохожие меня сторонились. Я понял, что прозвище «негр-чернокожий» дано нам, новичкам, не случайно. Домашние только ахнули:
— Скорее иди в ванную, в комнаты не пущу, — заявила Тамара Аркадьевна. Но недавно въехавшая в квартиру отца в порядке уплотнения мать известного критика Долгополова заявила, что ванна — не помойка, и что она не позволит отмывать в ней такую мерзость. Я стоял посреди ежедневной квартирной баталии, почти слепой, не говоря уж о голоде, и чувствовал себя очень несчастным. Я понимал, что это я послужил причиной очередной баталии и вражды, которая, может быть, теперь не затихнет годами.
Так продолжалось дней десять. Наконец, уголь был весь водворён на место. Тогда пришла очередь топить. Я был назначен в одну из боковых котельных. Сменщик вручил мне инструментарий: саженную кочергу и такую же шуровку, полено для разжигания на случай, если я упущу огонь, показал мне вентиля, лудла и термометр, который должен был асимптотически приближаться к 100°, но никогда не показывать ровно 100°, и посоветовал поливать уголь водой, если он будет плохо гореть. Последнее замечание я принял за шутку. Затем я остался один.
«Приобретайте лучшие котлы фирмы Бабкок и Вилькокс» — было написано сажёнными буквами на торце одного из соседних домов. Но хозяева Страхового общества «Россия» не послушались и приобрели для моей котельной котлы трёх других фирм. Два котла были похожи друг на друга, как были похожи названия фирм: Стрель и Стребель. Они были овального сечения, состояли, словно земляные черви, из множества секций, поставленных на попа, подобно колумбову яйцу. Третий котёл — Картинга, был обшит листовым железом, так что чёрт его знает, из чего он состоял. Снаружи он представлял собой почти правильный куб со стороной примерно в два метра.
Котлы исправно горели, но гасли каждый раз, когда я подбрасывал в них новую порцию угля. Я намучился и быстро сжёг всю порцию дров, переколов их на мелкую лучину. Термометр упал до 70°, мне грозила большая неприятность. С отчаянья я решил попытать счастья водой. К удивлению это помогло. Насколько я мог понять, огонь беспомощно лизал большую глыбу угля, но когда в невидимые трещинки проникала вода, она, превращаясь в пар, их разрывает, разрыхляет поверхность глыбы и та, соприкасаясь с огнём в несколько раз увеличенной поверхностью, быстро загорается.
Постепенно, уже позже, я усвоил и другие секреты: и что подбрасывать надо своевременно, малыми порциями, соблюдая время, должное соотношение кускового угля и штыба, что колосники надо во прочищать, для того мне и дана шуровка, что для хорошей тяги поддувало надо держать слегка приоткрытым и т. д. Но всё это пришло не сразу.
Первые дни я с удовольствием изучал технику: детали котлов, назначение различных труб и вентилей, состав изоляционной обмазки… Конечно, реквизит сильно уступал реквизиту электростанций, но, по моему мнению, был всё-таки ничего. Мне даже казалось, что я уже на вершок приблизился к обладанию мотоциклом, таким, как у Лосева.
В это время случилась беда. Тогда антирелигиозная работа проводилась, главным образом, силами ОГПУ. Один за другим арестовывались, ссылались или расстреливались религиозные кружки, группы верующих, священники. Настала очередь и теософов. Я думаю, в Москве их было человек пятьдесят, из них арестовали больше половины. К счастью руководитель — Софья Владимировна — была в отъезде, и её это не коснулось.
При первых же сведениях об арестах мама бросилась предупредить тех, кто, по её сведениям, не был ещё взят. Но ГПУ действовало оперативно. На одной квартире, куда она толкнулась, уже была засада. Впрочем, это был вопрос часов. Взяли маму на квартире Бори Г., а другой отряд уже пришёл за ней домой. Арестовали также Магу, Юлия Юлиевича, Людмилу Николаевну, Колю Стефановича и ещё множество друзей и знакомых.
Это был мамин шестой арест и третий при советской власти; я был приучен к этому с детства, но всё-таки было страшно. В этот раз она попала по «модному» религиозному делу, попала вместе с большой группой единомышленников, которых, наверно, попытаются изобразить как агентов Антанты. А мама так истощена после колонии…
Никаких справок о подследственных не давали, передачи и свидания не разрешались. С трудом удалось узнать, что все наши содержатся на Лубянке. Впоследствии их всех перевели в Бутырскую тюрьму.
Ребята-колонисты столкнулись с этим в первый раз. Все, конечно, знали, что так бывает, но мыслили об этом отвлечённо. А тут вдруг эта зловещая рука так близко, сгребла всех основных преподавателей колонии и, что особенно пугало, даже одного из наших старших учеников.
Работа в кочегарке оставляла голову свободной. А в ней так весь день и долбило: «Лида арестована, Лида арестована…». Помочь я ничем не мог и с трудом отвлекался от этой бесплодной мысли. Но постепенно жизнь брала своё, и я начал свыкаться с положением; всё толкало на то, чтобы становиться поскорее взрослым и самостоятельным.
Меня перевели на ночную смену, на дежурствах дьявольски хотелось спать. Тогда я изобрёл автомат, как теперь сказали бы, с обратной связью. Я открывал дверь, от которой в подвал спускалась лестница, и ложился спать на котёл Картинга. Я рассчитал: если котлы начнут гаснуть и в дверь нанесёт холода, я проснусь, стуча зубами, и подброшу и подшурую их. Если котлы слишком разгорятся и термометр полезет выше красной линии, я начну заживо поджариваться и опять-таки проснусь, чтобы прикрыть поддувало.
Несколько дней автомат исправно работал, и я даже поделился секретом с долговязым Суходольским, приходившим меня сменять. Но раз я проснулся то ли оттого, что штаны на мне начали гореть, то ли от страшного шума доносившегося из соседнего парадного. Я сразу понял, в чём дело: вода в системе кипела, пар с треском поднимался по стояку, бак на чердаке извергался подобно гейзеру, и кипяток, проникший через перекрытие, низвергался в пролёт с высоты 8-го этажа. А если и в квартиры?
Не было никакой возможности остановить сразу это извержение. Я плотно закрыл все топки и поддувала, но вода ещё с четверть часа продолжала литься. Примчался испуганный комендант:
— Что случилось?
— Наверно, бак прохудился. Видите. Котлы заглушены, а вода льёт и льёт.
Комендант был неопытный и поверил. Со страшными ругательствами он полез на чердак. Пока он лазил, температуру удалось сбить. Потом я доливал систему и выстудил весь дом.
От пользования «автоматом» пришлось отказаться. Кстати, подоспели «академические» дни. Мне пришлось много читать, приводить в порядок свои записки. Я был тщеславен и мечтал всё сдавать на отлично. Высший блеск был бы доказать этому умнику Лосеву, что у меня тоже есть сила воли.
«Академическими» считались два последних дня недели. Чтобы уложиться в программу, занимались по 10, а иногда и по 12 часов в день. После ночного дежурства в кочегарке моя голова лопалась. А тут ещё бурное веселье, которое вызвало среди старшекурсников появление на лекциях неотмываемых «чернокожих».
Все электротехнические дисциплины на всех курсах читал сам Каган-Шабшай. Во время лекций он непрерывно курил, закуривая одну папиросу от другой. Говорили, что он выкуривает до 150 папирос в день. Он вынимал их изо рта только чтобы отхлебнуть из чашечки шоколада, которую аккуратно приносила на лекции всё та же Мария Альбертовна, да ещё чтобы в раздумье пожевать кончики своих бакенбардов. Читая лекции, он всё время расхаживал по аудитории и непрерывно жестикулировал.
На первом курсе он блестяще нам прочёл электродинамику и электростатику. Ход мыслей его отличался логичностью и простотой, сравнения неожиданностью и смелостью, выводы — убедительностью и в то же время внезапностью, так что каждый раз хотелось воскликнуть: «Чёрт возьми, как это я сам не догадался!»
Дальше пошло хуже. Электромагнетизм оставил у меня кое-какие сомнения, а с теорией обмоток и я и некоторые другие долго решительно ничего не могли понять.
— Представьте себе — говорил Яков Фабианович, — что генератор движется в бесконечном переменном поле. Если допустим, что этих генераторов много и они соединены последовательно…
Я напрягал воображение, но получалась совершенная ерунда. Я знал, что генератор это динамо-машина. Их ставят на салазках, и они никуда не движутся. Очевидно, надо представить себе, что они расположены в ряд на каком-то движущемся тротуаре, который провозит их сквозь переменное магнитное поле? Если машины вращаются, то, очевидно, с ними вместе возят и двигатели? И как эта процессия может ехать бесконечно? Или они крутятся на одном месте? Но зачем эта карусель?
Я советовался с товарищами, но никто ничего не понимал. А Яков Фабианович не понимал, что мы не имеем понятия об устройстве якорей и обмоток, и не догадываемся, что под «генератором» он подразумевает не машину, а элементарный проводник, секцию, вращающуюся между полюсами. Так я доехал до середины курса, пока раскумекал, в чём дело.
Второй персоной в Институте мы считали Ивана Фёдоровича Слудского. Сын знаменитого геодезиста и механика Фёдора Алексеевича Слудского, сам он не отличался особым талантом и открытиями, но педагог был замечательный. Внешне он походил на интеллигента, потрёпанного революцией, а может, и был таким. Унылое лицо, обрамлённое небритой щетиной, не то слегка подстриженной бородой рыжевато-сивого цвета и такой же шевелюрой, всегда полузакрытые глаза и взгляд через очки исподлобья. Одет он был не то чтобы неряшливо, но непонятно, помято, что ли. На лекциях бывал часто в пальто, летом — в толстовке. Но когда он своим тихим ровным голосом читал: «Второй дифференциал функции одной переменной: игрек равно функции икс, обозначается дэ два игрек, дэ два — функции икс и представляет собой дифференциал от первого дифференциала…» и выписывал мелким, но каллиграфическим почерком свои формулы на доске или чертил кривые, им можно было залюбоваться. Такое в нём сквозило сознание важности читаемого предмета, что аудитория замирала и с волнением ждала, чему же будет равен этот дифференциал. Все его доказательства были строго логичны, объяснения подробны и последовательны, одно неизменно вытекало из другого. Его лекции были выдержаны в стиле замечательного школьного учебника Филипса и Фишера — моего любимого учебника, и потому Слудский стал моим любимым преподавателем. Я даже считал вполне уместным его пренебрежение к внешности: таков, по моему тогдашнему мнению, и должен быть настоящий математик.
Читал Иван Фёдорович на младших курсах теорию пределов, анализ и аналитику. На четвёртом курсе мы с сожалением с ним расстались.
Константин Павлович Некрасов, читавший механику, был мужчина лет сорока. Он тоже любил свой предмет и читал с явным удовольствием, а читая, бегал и скакал по аудитории. Когда он разворачивался на ходу и подлетал к доске, мне всегда было боязно за него, как бы он не стукнулся об неё лбом. Он всё хотел приучить нас к точности формулировок. Когда на экзамене студент, вызубривший всё от корки до корки, отвечал:
— Если сила Г, приложенная к точке Р, встречает равное ей противодействие, тогда она…
Константин Павлович внезапно прерывал:
— Неверно, совершенно неправильно. Сколько раз я вам говорил, что в таких случаях надо говорить не «тогда», а «тогда и только тогда!»
Это вошло в пословицу у нас и он получил прозвище «Тог-да-и-только-тогда». Когда мы пели на переменах общестуденческие частушки, подставляли в них фамилии наших преподавателей. Получалось:
Кто там ходит, как лунатик Цым-ля-ля, да цым-ля-ля. Это Слудский — математик Курс читает! Цым-ля-ля. Цым-ля-ля, да цым-ля-ля (2 раза).А то с особым удовольствием выводили:
Идее-е фикс Константина-а, Цым ля-ля, да цым ля-ля, Формулировка не точна-а! Очень плохо! Цым ля-ля, Цым ля-ля, да цым ля-ля (2 раза).А в общем, милым человеком был Константин Павлович и после его лекций я начал замечать, что мир крутится по принципу Д’Аламбера и на каждом шагу подтверждается теорема Лагранжа.
Совсем особой личностью, резко выделявшейся среди преподавателей, был Борис Михайлович Лобач-Жученко. Он читал на первом курсе — сопромат, на втором — детали машин и на третьем — машиноведение. Бывший морской офицер, необычайно толстый, он ещё донашивал чёрный китель, несомненно, шитый на заказ, так как никакая стандартная униформа не могла бы прикрыть его негабаритное китообразное брюхо. Лицом он был очень похож на жабу: голова, начинавшаяся узким покатым лбом, спереди расширялась ступенями и заканчивалась очень длинным массивным носом и здоровенной нижней челюстью. Читал он не плохо, размеренным скрипучим голосом, но, очевидно, набрал себе слишком много часов и потому не пользовался никакими плакатами. А каждый раз заново вычерчивал все иллюстрации на доске. На это уходило больше поллекции. Чертил он замечательно и с удовольствием вырисовывал мельчайшие детали. Когда дошло до машиноведения, это превратилось в настоящее бедствие. Лобач молча чертил минут 30–40, нимало не заботясь о том, что за его могучей фигурой студенты ничего не видят. У нас это называлось «вид на Чёрное море и обратно» или «домна сзади». Когда он, наконец, отходил, нашим взорам представлялась доменная печь со всеми фурмами, соплами, летками, воздуходувками и даже колосниковыми подъёмниками, кауперами и коксовыми батареями. Отойдя, Лобач сейчас же начинал говорить, а мы разрывались на части, не зная, записывать ли его слова или срисовывать чертёж. Рассказав про домну, он сразу стирал её с доски и приступал к изображению бессемеровского конвертора.
Во время зачёта обычно на Лобача внезапно нападало желание пошутить, и он задавал студентам «каверзные» вопросы вроде:
— Что в чём помещается, жеребейка (кусочек чугуна, закладываемый при литье под стержень) в вагранке или вагранка в жеребейке?
Самой неприятной чертой Лобача было его пристрастие к непристойностям. У нас на каждом курсе было 3–4 девушки, сидевших на лекциях всегда в кучке. Вставши напротив и поглядывая на них из-под тяжёлых век заплывшими глазками, он начинал говорить сальности, вплетая их в лекцию. То переставит ударение, так что получается какое-нибудь неприличное слово, то сравнит деталь машины с неподобающей частью человеческого тела, то нарисует лом горнового, входящего в лётку, и пристаёт к девушкам, что это им напоминает? Ребята, конечно, ржут на этот аттракцион, девушки готовы сквозь землю провалиться. А Лобач очень доволен и наслаждается вовсю.
Ещё мне запомнился курс строительного дела. Читал его архитектор Фомин, строивший весьма примитивное, неудобное и скучное здание нашего Института. Это был аккуратный и скромный человек с седыми волосами, подстриженными ёжиком. Говорил он монотонно, более всего останавливаясь на строительных материалах. К лекциям его студенты относились пренебрежительно, шумели, разговаривали. В перерывах исполняли:
Архитектор наш Фомиин, Цым-ля-ля, цым-ля-ля, Усыпляет, сукин сыын, Всех студентов, цым-ля-ля.Но мне почему-то его лекции нравились, я старательно их записывал. И на всю жизнь запомнил, что «окна в проёме, выходящем на чужие владения, а также окна уборных рекомендуется забирать стеклянным кирпичом, имеющим форму слегка удлинённых шестигранников».
Вообще мне, кроме Лобача, всё в институте нравилось, и я мирился даже с ночными дежурствами в кочегарке. Между тем, курс уже начал волноваться. Говорили, что они не для того сюда поступили, чтобы топить печи. В стенной газете даже появилось критическое стихотворение Лехтмана, в котором были слова:
В кочегарках, ходят слухи, Мрут от скуки даже мухи…Стихотворение вызвало отповедь со стороны Якова Фабиановича. Студенты обратили его внимание на то, что три человека ушли из Института, не выдержав тяжёлой нагрузки углём, да два человека сбежали от сидения в котельных.
— Дарвин, Чарльз Дарвин. Вы слышали про такого английского империалиста? Он изобрёл выживание наиболее приспособленных. Называется это «естественный отбор». Пять человек ушли? Жаль, что мало. Надеюсь, что до конца учёбы уйдут ещё десять. Нам таких нетерпеливых пассажиров не надо.
Запахло весной. Первый курс подходил к концу. Началась сессия с её бессонными ночами. Сдавались только зачёты, но зато по всем прослушанным предметам. Выставлялись три отметки: отлично, удовлетворительно и неудовлетворительно. Учебников не было, сдавали по запискам. Многие не умели или ленились их вести. Вскоре обнаружилось, что мои записки — из лучших. Они пошли по рукам, их зачитывали до дыр, треть курса сдавала по ним.
Яков Фабианович на разных курсах читал до десяти часов в день, а ночью, иногда до четырёх часов утра, принимал зачёты. В крохотный его кабинет набивался почти весь курс. Он беспрерывно курил, и все желающие курили, а их было много. Дышать было нечем, голова лопалась. Это тоже был недурной метод «естественного отбора».
Товарищи очередного экзаменовавшегося только что не сидели у него на голове, стараясь мотать на ус все правильные и неправильные ответы. Надо сказать, что принимал Яков Фабианович довольно либерально, добиваясь понимания сути дела, а не формально безупречных ответов. Но те, кто пытался подсказывать, встречали потом более суровый и придирчивый подход.
За несколько дней до сессии нас перевели на завод. Это был кабельный завод имени Баскакова (БКЗ). Он помешался возле Таганки на Большой Алексеевской улице (теперь Большая Коммунистическая). До революции он принадлежал предпринимателю Алексееву — отцу Станиславского. Очень длинным и красивым корпусом он выходил на улицу, во дворе имел кучу разношерстных корпусов, построенных в разное время, и заканчивался второй проходной в конце тупика.
Старостой практикантов на заводе был свой брат — парень с нашего курса, очень длинный, с длинным как-то обвислым носом, «старик» лет тридцати, по фамилии Голинович, по прозванию «Удлинённый член». Он был смешлив и глуповат, но старался корчить из себя строгого администратора. Он распределил нас по цехам. Я с несколькими товарищами попал в Большой кабельный цех.
Я понял, почему корпус, выходивший на улицу, был таким длинным. По всей его длине тянулась линия станков, обрабатывающих один кабель. Эта линия была метров 200–300 длиной. На меньшем расстоянии станкам было бы не уместиться. В одном конце пролёта на крутильную машину подвешивались на турелях три железных бобины с метр диаметром каждая, с уже намотанной на них изолированной жилой. Турели вращались вокруг общего центра на вертикальной карусели, при этом жилы с бобин сматывались, проходя в общее очко в центре и свивались в трёхжильный провод. Дальше начиналась общая изоляция. Провод проходил через бесчисленные операции: обматывался то пряжей, то бумажной, то изоляционной лентой, проходил через сушильные камеры, нырял в громадные баки с расплавленной канифолью, опускался в сосуды с тальком, опять обматывался и, наконец, поступал на главный агрегат — свинцовый пресс — сооружение с хорошую избу величиной. Провод входил в пресс с одной стороны, а с другой выходил, как Ершовский Иван-дурак, уже в чине кабеля, одетый в свинцовую броню. В верхней части пресса имелась ванна, в которой плескалось и бурлило озерко расплавленного свинца. Свинец под давлением поступал к кабелю, обволакивал его и, выталкиваясь вместе с ним, застывал. Кабель двигался со скоростью километра два в час. Рядом с ним шли мастера с газовыми горелками и на ходу запаивали все обнаруженные пузыри из свинца. Но церемония «одевания его величества» на этот раз не кончалась. Кабель снова изолировался джутом и обматывался бронёй из здоровой железной ленты, затем опять джутом, далее покрывался битумом, обсыпался каким-то белым порошком, чтобы уменьшить слипаемость и, в конце концов, жирный и распухший, с руку толщиной, поступал на сколоченный из досок барабан больше человеческого роста, такой, как те, что повсюду валяются на стройках около траншей.
Мне страшно импонировало всё на заводе, начиная от контрольных часов в проходной, на которых я каждый раз во время прихода и ухода должен был пробивать свою карточку, и кончая «пеленанием» кабеля, который после всех процедур становился таким мощным, что на испытательном стенде поплёвывал на десятикратное рабочее напряжение, приложенное к броне и жиле.
В первые дни я стоял у бака с канифолью и черпаком на длинной палке поливал уходящий кабель. Это было легко и смахивало на синекуру. Сладкий запах канифоли мне нравился, хотя от него и разбаливалась голова. Потом меня перевели загрузчиком на свинцовый пресс. Чушки около пуда весом каждая лежали штабелем на полу. Нужно было брать их по одной, подносить к прессу, влезать по лестнице на площадку, выжимать чушку, как гирю, на вытянутых руках, и, еле-еле дотянувшись до борта ванны, осторожно опускать их в расплавленный свинец. Если не удержишь и опустишь слишком быстро, полетят брызги. Защищая голову, мы работали в шапках, но лицо оставалось незащищённым, даже защитных очков нам не выдавали. Некоторые студенты получили серьёзные ожоги. Уж это не было синекурой, после работы все кости трещали.
В обеденный перерыв я бежал в лавочку и брал за три копейки (уже была введена твёрдая валюта) фунт «кислого». Впрочем, в первые дни после стипендии я позволял себе побаловаться и «сладким», то есть заварным, хлебом. Обед состоял из него и кружки крутого кипятку, который имелся в цеху в изобилии и бесплатно.
Большинство рабочих обедало на своих рабочих местах принесённой закуской и, хотя при входе их выборочно обыскивали, чтобы они не приносили водку, каждый день после обеда они, почти поголовно, оказывались пьяными. Это была загадка для администрации, которую разрешить было суждено нам — практикантам Каган-Шабшая.
Управившись со своим завтраком, на что требовалось от силы 15 минут, мы остаток обеденного перерыва посвящали осмотру кабельного цеха. Там, кроме большой линии, было установлено множество малых. На всех что-нибудь скручивалось, обматывалось, изолировалось. Кроме того, в цеху помещалось множество чудесных вещей: сушильных шкафов, автоклавов, распределительных щитов. Я глядел на всё с восхищением и благоговением. Я впервые был на настоящем заводе и впервые начал постигать мощь современной индустрии.
Однажды мы наткнулись в цеху на люк, вроде пароходного, в котором узкая лесенка вела под пол. Любопытство повело нас туда. Сойдя с лесенки, мы попали в подземный коллектор. Вдоль него, занимая обе стены, тянулись силовые кабели и изолированные асбестцементом паровые трубы. Между ними оставался проход, по которому едва можно было пройти. Жара от труб была аховая. Изредка в коллекторе попадались лампочки, говорившие о том, что коллектор посещается людьми. Казалось, ему не будет конца. Но вот впереди послышалось какое-то жужжанье, и мы вошли в низенькую комнатку. По стенам стояли пузатые медные аппараты, напоминающие не то гигантские самовары, не то китайских Будд. В них опускались змеевики, в которых что-то булькало и пузырилось. Из отходящих от них трубок неведомая жидкость капала в четвертные бутыли, стоявшие на полу. Всё вместе походило на кабинет алхимика, если не на кухню самого дьявола.
В середине стоял старик. Бородатый, в лохмотьях, с воспалёнными глазами, он явно был напуган нашим вторжением. Я так и ждал, что он скажет: «Не мельник я, я ворон!»
— Что это такое, куда мы попали? — Дистиллировочный цех. Дистиллированная вода идёт для аккумуляторов, на испытательные станции и для других нужд завода.
— А чем это у вас тут пахнет?
— Ничем, это вам кажется, от жары, наверно.
Но среди ребят (нас было человек шесть) были очень дошлые. Они упорно водили носами, потом стали пробовать на язык капавшую из трубок жидкость. Вода как вода, она, как известно, не утоляет жажды. Вдруг один студент воскликнул:
— Водка!
«Ворон» заметался по комнате и вдруг рухнул перед нами на колени:
— Родимые, не выдавайте! Я заплачу! Я водки дам бесплатно, по поллитру на каждого. Только мастеру не говорите!
Оказалось, что он один представлял весь штат дистиллировочного цеха и, пользуясь тем, что начальники никогда к нему не заглядывали: тут и жара, да и круглые пуза мешали им пройти между трубами — старик переделал два-три аппарата на самогонные и гнал отлично водку из сахара, который ему аккуратно поставляли рабочие.
Мы выдержали характер, отказались от роскошного угощения водкой, и ушли, оставив старика в совершенном смятении. Посоветовавшись мы решили, хотя и с колебаниями — всё же это был донос, — что старика надо продать. И продали.
Нам пришлось уйти из цеха. Рабочие были так злы на нас за ликвидацию столь полезного заведения, что запросто могли стукнуть гаечным ключом или облить горячей канифолью.
Меня перевели в оплёточный цех хронометражистом. Я уже слыхал, что такое хронометраж, недаром я посещал ЦИГ и состоял в Лиге «Время и НОТ». Поэтому я пошёл на это дело без всякой охоты. Работа была лёгкая, но оказаться врагом рабочего класса мне совсем не улыбалось. Хронометраж — это не то, что ловить самогонщика.
Цех совершенно меня оглушил. Объясняться можно было только знаками. Там работали одновременно сотни оплёточных станков. Каждый станок представлял собой круглый железный столик, через дыру в центре которого тянулся одножильный шнур в гуперовской изоляции. Вокруг него бегали в прорезях поставленные на попа большие катушки с разноцветной пряжей. Их было штук двенадцать на каждом станке, причём половина бежала в одном направлении, половина — в другом. Они описывали не круги, а звёздочки, то приближаясь к центру, то удаляясь. При этом они всё время подныривали друг под друга. С каждой катушки тянулась нить к проводу, который по мере прохождения через станок одевался чулком. Танец катушек происходил в бешеном темпе, и каждый станок звенел и гремел костями как сорок грешников. Сливаясь, они верещали как целое поле цикад, из которых каждая стрекочет в мегафон. От мелькания тысяч катушек плохо приходилось не только ушам, но и глазам.
Часть цеха была отведена под обмоточные и крутильные станки. Они вели себя более солидно. Здесь в миниатюре повторялись операции, уже знакомые мне по кабельному цеху. За каждым станком сидел один рабочий. Их-то я и должен был хронометрировать.
Задача казалась элементарно простой. С утра рабочий устанавливал барабаны — пустой и полный. С полного сходил голый провод, а на пустой наматывался уже обмотанный лентой. Барабанов хватало часа на три. В промежутке могла кончиться лента, и нужно было сменить катушки. Рабочий мог сходить покурить или за естественной нуждой и всё. Все эти операции я заносил с точностью на хронометражную карту. Но вот что досадно: провод раз десять в день рвался. Начиналась спайка серебром — очень канительная операция, на которую вместе с зачисткой уходило минут пять-восемь. На мои вопросы, почему провод так часто рвётся, рабочие отвечали: плохо отволочён, или пережжён, или станок не отлажен, или подача дёргает.
— Так нельзя ли починить?
— Э, да разве у нас толку добьёшься!
Мне чудилась какая-то другая причина, но понадобилось проработать три недели, прежде чем я разобрался, в чём дело. Как только в цеху появились хронометражисты, рабочие смекнули, что дело пахнет снижением расценок. Производительность резко упала, и именно у тех бригад, у которых в данное время проводился хронометраж. Они как будто старались вовсю, но что будешь делать, если провод плохо проволочён! Провод с полного барабана проходил у рабочего около ног, со стороны ступни плохо видно, так как обычно около станка были нагромождены запасные барабаны, катушки с лентой и прочее. И вот я пошёл на хитрость: делая вид, что хронометрирую ближайшего рабочего, на самом деле следил за сидящим поодаль. Время от времени он приподнимал ногу и резким движением нажимал на провод. Тот, естественно, обрывался. Рабочие жаловались на обрывы, не вырабатывая норму, и говорили, что снижать расценки никак нельзя.
Меня сильно расстроило моё открытие. С одной стороны, рабочих можно понять: заработки вообще были низкие, а кому захочется, чтобы ему повысили норму выработки? Но не мог же я прикрывать явный обман. Что бы подумали о практикантах, если бы это открытие сделал штатный хронометрист или мастер? И в конце концов на самогон у них хватало? А сколько серебра уходило на пайку! Я рассказал начальнику цеха о причине обрывов и просил его уладить дело, никого не наказывая. А в институтскую газету написал об этом происшествии: «О НОТе, о работе моей и обузе на БКЗ», где в юмористической форме показывал, что нельзя портить отношения рабочих с практикантами, назначая последних на такие кляузные должности. Не знаю, удалась ли статья, во всяком случае, я был очень высокого мнения о придуманном мною названии её.
Однажды в цех пришёл Голиневич и сказал, что все должны выбрать себе общественную работу. Я выбрал ликвидацию неграмотности. Рабочий клуб помещался в переделанной и захламленной церкви около Андроньева монастыря. Там была комната холодная, плохо освещённая и неуютная, где мне предстояло заниматься. Ученикам раздали буквари. А мне предложили строго придерживаться их текста. Там едва ли не первой фразой стояло: «Коммунистический интернационал есть вождь международного пролетариата». У меня было человек 15 учеников, почти все пожилые женщины, совершенно неграмотные. Я с ними бился урока три, но дело не двигалось ни на шаг. Конечно, я был совершенно неопытен, но думаю, что часть вины всё-таки лежит на коммунистическом интернационале. Когда внезапно учебник заменили на новый, где с места в карьер заявлялось, что «мы не бары, мы не рабы», мои старушки взыграли духом и быстро вложили свою лепту в дело повышения процента грамотности на моих уроках и в Советском Союзе.
Я ещё работал в оплёточном цеху, когда в семье случилось новое несчастье — забрали Лену. Она работала тогда продавцом в книжном магазине «Новая деревня» на Кузнецком мосту. Она продавала литературу по сельскому хозяйству и кооперации. А в свободное время осуществляла давно задуманное дело: писала книжку для самых маленьких детей. Книжка состояла из ярких цветных фигур. На первой странице был красный круг, на второй — синий квадрат, на третьей — зелёный треугольник. Дальше фигуры усложнялись, цвета комбинировались. Она считала, что созерцание страниц в этой книжке будет развивать в детях чувство формы и цвета.
Это был пятый арест Леночки. Мне было больно за неё не меньше, чем за маму. Арест, несомненно, был связан с эсеровской деятельностью в период 1918 года, и мне казалось, что приговор по этому делу может быть более серьёзным, чем по делу Теософического общества. Кроме того, у мамы была вера, которая помогала ей переносить тюрьму, связанную с одиночеством или с присутствием чужих людей, чужих идей, с унижениями и физическими страданиями. У Лены не было веры. Она была хорошо тренирована для борьбы и страданий, но более нервна, горда и в то же время склонна к пессимизму. Я очень, очень боялся, что, хотя она поняла безнадёжность борьбы на позициях эсерства и давно уже для себя лично отказалась от неё, но что она может из чистого самолюбия, из принципа занять перед следователем непримиримую позицию и тем ухудшить своё положение. Кроме того, мама отвечала только за себя, а у Лены осталось двое ребят — Миша десяти лет и Наташонка — пяти. И муж в Соловках. Она будет мучиться за всех, гадать, кто возьмёт ребят, горевать, что некому будет послать передачу Саше. За него она особенно беспокоилась, потому что незадолго до этого там произошёл расстрел социалистов во время прогулки по какому-то незначительному поводу. Кажется, они попросили изменить ухудшившийся режим и сроки прогулки. Чистая случайность, что Саша не оказался в это время на дворе и потому остался жив. Лена, конечно, боялась, что это может повториться.
Хронометраж оставлял время на раздумывание и у меня снова вертелась одна и та же мысль: «Лена арестована». Но сколько же раз может повторяться наказание за одно «преступление»!?
Как всегда бывало в таких случаях, нашлось кому подхватить оставленные дела Лены, заменить выдернутого из жизни человека. Мишу взяла к себе семья его товарища. Глава семьи, некий Бабин, работал в ЦИТе (Центральный институт труда?), где он был правой рукой руководителя научной организации труда Гастева. С Наташонкой осталась жить её верная няня Анюта, которая скорее дала бы себя изрубить на куски, но не оставила бы в беде свою воспитанницу. Шефство над ними взяла на себя Варя — Варвара Александровна, старинный друг семьи нашего дома, эсерка, сама неоднократно сидевшая в тюрьмах при царском правительстве. Героическая женщина, худая, высокая, рябая после оспы, по-мужицки обстриженная, очень больная, одинокая, она всегда всем приходила на помощь. Помогать ей с Наташонкой взялась Галочка.
Заботу о Саше, как и о самой Лене, взял на себя Красный Крест помощи политзаключённым — замечательное учреждение, просуществовавшее как официальное до ежовщины. За это время оно успело помочь, поддержать, оказать юридическую помощь, а то и спасти от расстрела или голодной смерти тысячам заключённых. Екатерина Павловна Пешкова, первая жена Горького, пользовавшаяся большим уважением у Ленина и Дзержинского, сумела получить у них разрешение на организацию добровольной помощи заключённым, конечно, в строго обусловленных рамках. Это было в то время, когда социалистов и анархистов признавали за политических, сохраняли за ними некоторые права на самоуправление в тюрьмах и концлагерях и содержали отдельно от уголовников и каэров (контрреволюционеров).
С Пешковой самоотверженно работало четыре или пять женщин, которые считались её штатными помощницами. Кроме того, имелся негласный актив, по большей части из жён заключённых. В маленькой квартирке дома № 24 по Кузнецкому мосту они работали днём и ночью, собирая, зашивая, заколачивая сотни посылок во все тюрьмы Союза. Раз в неделю Екатерина Павловна получала разрешение на приём у высших чинов ГПУ, во время которого пыталась узнать о судьбе вновь арестованных, передать прошения родных о пересмотре дела, о переводе заболевших в больницу, о разрешении на переписку, о направлении адвоката в тех случаях, когда дело слушалось в суде. После смерти Ленина и Дзержинского Пешкова ещё несколько лет держалась благодаря их авторитету, но всё же постепенно теряла права, одно за другим. И, что было особенно болезненно, теряла помощников, которые все рано или поздно переходили в разряд тех, кому надо было помогать. Лена была в числе работников Красного Креста и прекрасно знала, чем это кончится.
Той весной было и радостное событие: отпустили теософов, всех, кроме четырёх, в том числе мамы. Она получила три года ссылки в Берёзове. В приговоре её преступление было так туманно сформулировано, что она даже не поняла, в чём её обвиняют. А на вопрос председателю тройки: «А по существу?» «А по существу, это вам, чтобы было неповадно в советской школе воспитывать юношество в идеалистическом духе. Ну и прежнюю принадлежность к партии эсеров мы не сбрасываем со счетов».
От освобождённых друзей мы узнали, что она здорова, бодра, занимается в тюрьме чтением лекций товарищам по камере о том, что не следует поддаваться унынию, о бодрости духа. С теми, кто тосковал, падал духом, она общалась индивидуально, помогала легче переносить и психологические и физические тяготы заточения.
Вскоре мама с очередным этапом уехала в Тобольский изолятор. Этот период своей жизни она описала в неоконченной рукописи «Россия сквозь призму тюрьмы».
Может быть, из-за недовольства рабочих, а, может быть, просто из-за того, что срок вышел, меня сняли из оплёточного цеха и отправили в отжигалку. Это был очень высокий каменный сарай. Посередине был вырыт большой круглый котлован. В него с помощью «кошки» (ручного крана) ставились мармины — чугунные сосуды, каждый в окружении нескольких форсунок. Каждый мармин — с сорокаведёрную бочку. В них закладывались бухты (рабочие говорили «буфты») медной проволоки, весом по два-три пуда, которые засыпались мелким просеянным песком.
Мармины закрывались крышками, потом закрывали железными щитами весь котлован. Включались форсунки и сарай наполнялся едким чёрным мазутным дымом. Никакой вентиляции в цеху не было, эта «баня» топилась по-чёрному. Просто в верхнем ряду окон были выбиты все стёкла. Но так как дым от добрых трёх десятков форсунок не успевал в них выходить, то держали открытыми ворота. Был очень холодный и ветреный март, с улицы в спину несло морозным воздухом, мармины, песок и медь раскалялись докрасна и от них несло нестерпимым жаром. Часа через три топка раскрывалась, и рабочие длинными баграми растаскивали бухты, выкапывая их из песка и разбрасывая по полу для остывания.
Песок должен был быть чистым, между тем во время отжигания в него набивалась медная окалина. Поэтому, пока одна партия песка прожаривалась, другая — просеивалась. Для этого в углах стояли грохоты и рабочие, в клубах пыли и мелкой медной окалины, смешанной с нефтяным дымом и копотью, кидали на них песок заступами.
Работёнка, прямо скажу, была «такая», рабочие носили защитные очки, и всё-таки глаза у всех были воспалённые и красные. Чтобы не задохнуться, они наматывали вокруг нижней части лица примитивный противогаз — полотенце, пропитанное водкой. Поэтому они всегда были обалдевшие, что и требовалось, так как, говорили они, выдержать эту работу с ясной головой невозможно. Вид у них был такой измождённый, что, я думаю, год работы вполне гарантировал им если не туберкулёз, то уж по крайней мере силикоз. Вероятно, черти, которые топят в аду смоляные котлы, не согласились бы перейти в отжигалку, даже при переводе их на восьмичасовой рабочий день и даже при улучшенных условиях труда. Условия были, мягко выражаясь, дискомфортные.
В мои обязанности входило грохотать песок, засыпать его в мармины, открывать и закрывать крышки и т. д. Тяжёлой работой меня нельзя было удивить, но резко континентальный климат вышел мне боком. Я продержался положенные 10 дней и ушёл очень довольный тем, что не просился перевести меня раньше и тем, что отделался всего лишь радикулитом.
Следующим испытанием был сигарный цех. К курению он не имел никакого отношения. Сигарами назывались крутильные станки, имевшие форму сигар. Они были установлены в горизонтальном направлении и представляли собой толстые заострённые на конце стальные трубы метров двух с половиной длиной и сантиметров 25 в диаметре. В трубах были окна, сквозь окна виднелись семь бобин, на которых были намотаны килограммов по пять стальной проволоки. Катушки были так ловко подвешены, что, хотя они находились внутри сигары, они сохраняли своё положение, когда сигары вращались, и только покачивались. Проволоки со всех бобин проходили в отверстия в конце сигар. Вращаясь, сигары свивали проволоку в семижильный трос, которым крепились антенны радиостанций, нефтяные вышки, опоры электропередач.
Когда рабочий включал рубильник, сигара начинала раскручиваться, сперва с солидным жужжанием шмеля, постепенно повышая тон, переходила на комариный писк и, наконец, затихала просто потому, что ухо уже не воспринимало сверхвысокой ноты. Боюсь соврать, но помнится, что она крутилась со скоростью две с половиной тысячи оборотов в минуту. При этом окна сигары сливались с каркасом и вся она превращалась в некое бесплотное видение, внутри которого висели на воздухе мерно покачивавшиеся стальные бобины.
Трос наматывался на барабан со скоростью сантиметров 30 в секунду. Если хоть на одной бобине кончалась или обрывалась проволока, на барабан шёл брак. Заметишь обрыв через пять секунд, изволь размотать барабан на полтора метра троса и вручную доматывать чертовски упругую недостающую жилу. Её надо было пальцами вдавить в ручей, раздвигая скрутившегося змия и потом спаять серебром на газовой горелке с оборванным концом, да так, чтобы на тросе в этом месте не было заметно почти никакой выпуклости.
К этому остаётся добавить, что сигары стояли рядами в метре одна от другой, что на них не было никаких ограждений. И если б рабочий, мечась в узком проходе, упал бы на свою сигару или на соседнюю, вращавшуюся у него за спиной, смерть ему или, по крайней мере, увечье, были бы обеспечены.
Мы пришли в цех втроём: студент старших курсов Абрам Шуляк, удивительно работящий и хозяйственный мужик, Юра Зайченко, отчаянный парнишка с моего курса, про которого я только и знал, что он очень курнос, и я. Шуляк принялся тщательно изучать станок, отвинтил и привинтил все болтики, подтянул все барашки, проверил все пружинки. Так же старательно он проверил щиток, барабан, набил в барабан штауферы. На всё это он потратил полдня, но зато, когда включил сигару, работа у него сразу пошла. Мы с Юрой решили не терять времени, взялись за дело, но быстро упустили оборвавшиеся концы, с пайкой мучились по два часа на каждой, подкручивая трос, изломали все руки и к концу дня убедились, что сделали меньше Шуляка. В среднем за первый табель мы выработали по 70 % нормы, Шуляк — 85 %. Голиневич ругался — Институту убыток, перевод из кассы завода вышел не полноценный. Рабочие над нами потешались:
— Что, студентики, видно, слабо интеллигенции за рабочим классом тянуться? Тут надо потомственным классом быть, пролетариатом, чтобы норму вырабатывать.
Ох, и раззадорили же они нас! Мы пересмотрели свои установки. Я подсчитал узлы и детали станка, за которыми я должен всё время следить, оказалось — 35! Причём на каждую я должен был взглянуть не реже двух раз в минуту. Я составил себе наиболее рациональный маршрут, по которому должен был пробегать глазами каждые 30 секунд. За смену мне следовало проделать его, за вычетом времени на перезарядку бобин и барабанов, раз 800. До тонкости я рассчитал все движения на заправку, на пайку концов. Уставал до боли в голове от напряжённого внимания, от истошного воя запускаемых сигар, чувствовал себя вечером как сенник, из которого вытряхнули солому.
Но на второй табель мы норму выполнили. А на третий день у нас было 120 %. Мастер не мог надивиться и нахвалиться. Но на четвёртый перевыполнять не пришлось. Потомственные пролетарии дождались нас при выходе из проходной и весьма красноречиво дали понять, что сделают из нас отбивную котлету, если мы ещё хоть раз, хоть на один процент перевыполним норму. Мы посовещались: «Как быть? Работать хуже наших возможностей, тянуть резину?» Мы считали это позорным, неприемлемым. Работать в полную силу, несмотря на угрозы? Но если в кабельном цеху нас могли обрызгать расплавленным свинцом или канифолью, то здесь легко могли подтолкнуть на вращающуюся сигару. На это нашего героизма не хватало. Мы понимали, что рабочий класс грудью встаёт на защиту своих классовых интересов, и… попросили перевести нас в другой цех.
Результатом я был доволен. Во-первых, я впервые научился самостоятельно управлять станком, во-вторых, приобрёл двух хороших товарищей.
Меня перебросили в цех, который среди студентов был известен как «соплемотальный». Там просто с мотков перематывали на бобины очень тонкую медную проволоку. Проволока шла для радиосхем, а перематывалась на предмет последующего покрытия эмалью. Дело было бы плёвое, если бы проволока была видимая. Но когда шла, например, она сечением 0,1 миллиметра, то её положительно нельзя было узреть простым глазом. Мы так располагали лампы, чтобы проволока поблескивала, отсвечивала, тогда её можно было разглядеть. На станки одновременно наматывалось 15 бобин, так что зевать всё-таки не приходилось. Напряжение было много меньше, чем в сигарном цеху, но глаза сильно уставали от поиска в пространстве слабых отблесков нашего «рабочего тела».
Были на БКЗ и другие цеха, в которых мы не работали, но из любопытства заглядывали. Интересен нам был алмазный цех. В нём сверлили алмазные фильеры (глазки). Чем их сверлить, уму непостижимо, ведь алмаз самый твёрдый материал. Однако ухитрялись. Тонюсенькую проволочку из сверхтвёрдого сплава вращали в миниатюрном станочке так быстро, что она делалась как бы твёрже алмаза. На ходу её заставляли вибрировать в осевом направлении, так что она на долю секунды клевала алмаз и сейчас же отскакивала. Так, за несколько часов в алмазе проклёвывался глазок нужного диаметра.
В волочильном цеху фильеры собирали в волочильные доски и таскали через них медную проволоку взад-назад. Проволока становилась с каждым проходом всё тоньше и длиннее, пока не превращалась в такие ниточки, которые и поступали дольше в соплемотальный цех.
Срок нашей практики на БКЗ подходил к концу. Надо было переходить на другой завод. Но накануне случилось происшествие, которое чуть не перечеркнуло всю нашу беспорядочную, с точки зрения администрации, службу. Голиневич увлёкся радиолюбительством и размышлял, где бы ему достать антенну. Он решил, что самый надёжный способ — спереть на заводе. С этой целью он обмотал себе живот тридцатью метрами отличного медного канатика, сверху надел куртку и бодро зашагал к проходной. Он знал, что его как старосту практикантов (комсостав всё-таки) обыскивать не будут. Перед выходом он встретил приятеля, заболтался, закрутился и совсем забыл о канатике. Он благополучно прошёл проходную, вышел на улицу и вдруг споткнулся, словно на него накинули лассо. Обернулся и обмер. За ним тащился размотавшийся на несколько метров канатик. Валившие из проходной рабочие заметили хвост за Голиневичем ещё в проходной, но не выдали его, а сторож прозевал. Зато как только Голиневич вышел, они со смехом наступили на конец. Если б кто-нибудь «стукнул», в лучшем случае всех практикантов погнали бы с завода. А Голиневича, вероятно, и из Института. Я всегда думал, что зря такого легкомысленного парня назначили старостой. Вот уж оправдал своё назначение!
В четвёртый раз за пребывание на БКЗ я столкнулся с моралью членов рабочего класса. Они никогда бы не выдали человека, укравшего казённую вещь. Наверно, потому, что мало у кого из них рыльце не было в пушку. Но они дружно и грудью стояли за свои интересы. Впрочем, здесь в самый раз сознаться, что и сам я покусился однажды на священную и неприкосновенную социалистическую собственность. Правда, это был первый и последний такой случай в моей жизни. Дело было так.
При тяжёлой работе жить на стипендию было невмоготу. Хоть я получал уже не пять рублей, а восемь. Исполбюро пошло нам навстречу и организовало артель грузчиков. По воскресеньям мы отправлялись на Рязанскую товарную станцию и там грузили вагоны. Профессионалы с нами конкурировали и всегда захватывали лучшую работу. Нам доставалось что-нибудь вроде дранки, которая ничего не весит, а платили за неё как за всякий товар — полтора рубля за 1000 пудов из пакгауза в вагон и обратно. Издерёшься весь, заноз насажаешь, а больше тридцати копеек в день не заработаешь.
Раз нам подфартило: грузили семерики (семипудовые кули) с солью. Я таскал их, не жалея спины, и натаскал на целых 60 копеек. Получалось — 20 копеек на проезд на трамвае в обе стороны и 40 копеек чистой прибыли. Это не шутка — восемь фунтов чёрного хлеба. Выгодная работа была только на выгрузке станков. Она требовала уменья: где вывезти на дрючках, где прокатить на трёх трубах, при этом ничего не поломать, ничего не погнуть. Поэтому платили за неё по повышенному тарифу: за 1000 пудов — 2 рубля 50 копеек.
Но совсем особый случай вышел, когда пришлось грузить кондитерские товары. Свист в пустых желудках разыгрался вдвойне, когда на плечах были ящики то с конфетами, то с пастилой, то с халвой.
— Ну зачем в Оренбург посылают такую прорву кондитерских товаров? — недоумевали ребята.
— Ну чтобы один ящик нам, только один!
Даже кое-кто уже оглядывал ящики, нельзя ли пролезть пальцем в какую-нибудь дырку. Но ящики были прекрасно сколочены. Ребята поспорили, что никто не сумеет взломать такой ящик. Мне и пришло в голову кое-что.
— А я сумею!
— Врёшь!
— Ан, не вру!
Я поставил ящик на платформе, а другой со спины через свою голову трахнул плашмя об его угол. Одна доска вылетела. В дыру была видна стружка и обёрточная бумага. Я не ожидал такого успеха и перепугался, ребята тоже. Бросились мы искать, чем забить дыру. Я стал заколачивать ящик какой-то гирей, но было поздно, весовщик заметил:
— Это что такое!? — Да вот споткнулся и уронил ящик, сейчас заколочу. — Ах, мать вашу за ногу! Небось, серу грузили не спотыкались. А тут два пуда донести не можете. Ворюги, черти, антиллигенция! Ну, забивай скорей, чего рот разинул!
Но забивать опять-таки было поздно. Приближался начальник станции.
— Что у вас тут происходит?
Весовщик развернулся на 180° (он в ответе):
— Да вот, тут молодой человек споткнулся. Я сам видел. Мы сейчас исправим повреждение и…
— Отставить. Открыть ящик. Обследовать недостачу. Составить акт! Правил не знаете, что ли?
Я стоял как к смерти приговорённый. Весовщик принёс молоток. Начальник сам вскрыл ящик, разорвал упаковку. Нашему голодному взору открылись стройные ряды маленьких шоколадных плиток. Начальник захватил их полную пригоршню и отправил себе в правый карман. Потом вторую пригоршню — в левый. Затем зачерпнул обеими руками и протянул их нам.
— А ну, разбирай, ребята! Да ну, берите же, когда угощают! Эх вы, интеллигенция (опять интеллигенция!), такой ящик вскрыть сумели и ни одной плитки не взяли!
Мы робко, стесняясь, взяли по одной шоколадке, ещё не вполне уверенные, не провокация ли это.
— А теперь тащите-ка сюда кирпич, солому, чтобы по весу правильно было, да чтоб не бултыхалось.
И он со знанием дела заполнил пустоту и забил ящик:
— Учитесь, пока я жив. Только воровать у меня — ни-ни!
Эти погрузки имели для меня ещё одну цель. Меня беспокоила Галочка.
Она, выдержав приёмные экзамены и будучи принята по большому конкурсу в музыкальный техникум на Софийской набережной, должна была ходить на некоторые занятия по музыке в бывший кафе-шантан «Яр» на Ленинградском шоссе. Когда она туда сходила, оказалось, что возле «Яра» каким-то образом остались дореволюционные традиции, вечерами около собиралась шантрапа, которая не давала прохода девушкам. Галочка этого не выдержала и… бросила техникум. Стала искать заработок. Что же было ей делать? Кушать-то надо? Много она бродила, искала, перепробовала и через знакомых, соглашалась на всякую работу. Но ведь у неё никакой специальности не было. То, что пробовала, оказывалось не то. Она продавала на улице конфеты с лотка, то есть была «моссельпромщицей». Лоток ей достала странная женщина, ничего не умеющая, ни к чему не приспособленная, когда-то приезжавшая к нам в колонию, Елена Дмитриевна Шанина. Она сама этим занималась, и весьма своеобразно. Когда Галя увидела, что Елена Дмитриевна, раскладывая конфеты на лоток, каждую облизывала (они были без обёрток), Галя отказалась от этого дела. Потом она поступила в артель мягкой игрушки на Арбате, где стала обучаться этой профессии. Оказалось, что работницы, будучи заняты только руками, целыми днями рассказывали неприличные анекдоты, стараясь превзойти друг друга в цинизме. Особенно одна из них была большой «мастак». И песенки пели такого же типа. Галочка через неделю убежала прочь. Потом она дежурила у больного ребёнка. Это было недолго, девочку увезли в больницу. Мать Серёжи Белого пригласила Галю помочь ей кроить и шить какие-то предметы одежды, которые она, Настасья Николаевна, сама продавала на Сухаревке. Это не пошло. Галочка вовсе не умела ни кроить, ни шить, а учиться этому было некогда. Какая-то знакомая, по совету той же Настасьи Николаевны дала Гале сшить наволочки, но бедная девочка не умела обмётывать петли. Мага просила сшить ей дамскую сумочку. Она осталась довольной, но второе дело — переделать бархатное платье — не удалось. Кто-то пригласил Галю штопать груду дамских чулок. Но это не было заработком, — не хватало даже на хлеб. Кооператоры, друзья мамы, пригласили Галочку шить пчеловодные сетки. Заботливо научили, и дело пошло отлично. Заработок был небольшой, но жить было можно. А тут, к несчастью, подвернулась Тоня. Без мамы она нигде не могла устроиться — везде ссорилась, оказалась без крова, оборванная и голодная. Она-то и набрела на Галю. По своей доброте Галя предложила Тоне совместно шить пчелиные сетки, так как на свой заработок она не могла прокормить Тоню с её большими потребностями. Работа была сдельная, и они порешили, что их кооперация будет хороша для обеих. Также решили, чтобы Тоня не общалась с заказчиками, иначе она тут же разругается. Галя даже не сказала заказчикам об этой кооперации с Тоней.
Первая их большая партия, которую Галя пошла сдавать, потерпела полный крах. Галя, доверчивая Галя, даже не проверила, как Тоня справилась с работой. Оказалось, что Тоня свою партию сеток просто испортила: все они были кривые, косые, частью недошитые, просто испорченный материал, много материала, такого дефицитного в те времена. Когда приёмщица развернула пакет, она даже побледнела. Посоветовавшись между собой, заказчики решили не требовать с Гали возмещения материала, но и не заплатили ничего. Дома Тоня избила Галочку, требуя деньги за сетки, так как решила, что она просто утаила от неё заработок. После этого Тоня куда-то исчезла, к великому сожалению, ненадолго, а Галочка, вся в кровоподтёках, пролежала два или три дня в постели, обливаясь слезами от стыда перед заказчиками.
Обо всём этом я узнал, к сожалению, совершенно случайно и значительно позже. А Галя, считая себя посрамлённой, больше не показывалась кооператорам. Её особенно мучило то, что они были друзьями мамы.
Только через тридцать с лишком лет Галя случайно встретилась с одним из кооператоров, который устроил её на работу с пчелиными сетками. Это был Константин Сергеевич Родионов. Она поздоровалась с ним с трепетом и надеждой, что он её не узнает, что он не помнит этой позорной истории. И о, ужас! Он всё прекрасно помнил, стал расспрашивать, почему она тогда исчезла, и в заключение сказал:
— Напрасно вы, Галя, тогда же не объяснили нам всего. Мы бы вам помогли, и работой продолжали бы обеспечивать, и от сумасшедшей Тони помогли бы избавиться. Чтобы не метаться вам в поисках работы. Очень жаль, что так получилось!
Да, чего только она тогда не перепробовала и не пережила. Даже на биржу труда её не записали в очередь как не имеющую никакой специальности. В результате моя Галочка заболела тифом, правда, не в сильной форме. Она пришла из больницы бритая наголо и такая страшная и худая, что у меня, при виде её, заболело сердце. Так дальше нельзя, решил я и стал уговаривать её заняться подготовкой в ВУЗ, не думая о заработке. Я убеждал Галю, что сумею заработать на двоих. При этом я потрясал остатками двух рублей, полученных за погрузку машин, и для убеждения преподнёс ей шоколадку, которую дал мне начальник станции. Конечно, все эти разговоры я вёл для того, чтобы дать ей сколько-нибудь отдохнуть от своих мытарств последних месяцев.
В добавление ко всему Гале приходилось уезжать от Ратнеров, где она жила, так как хозяйка отбывала из Москвы и Галю как временного жильца просто выселяли. Деваться ей было вовсе некуда. Я много над этим думал и стал её уговаривать поселиться в Лениной комнате вместе с Наташонкой и Анютой. У неё выбора не было, она переехала в Спасоналивковский переулок. А мне-то была радость.
Вскоре я подумал, что не плохо бы и мне туда переселиться. С Тамарой Аркадьевной жить стало вовсе нестерпимо. Мне жалко было отца — мне казалось, что Тамара при мне всё же немного стеснялась так унижать и обзывать его, бедного. Но я решил, что буду у него часто бывать, а жить ему лучше от меня отдельно. Он же страшно стеснялся передо мной этих ежедневных убийственных сцен жены. Так я и решил. Да, но согласится ли на это Галочка? К моей радости она согласилась, чтобы я жил с ней рядом. Комната была большая, хоть и проходная. Анюта выбрала себе маленькую, а Наташонка тогда жила у Вари. Мы разделили комнату посудным шкафом, и я переехал в одну из получившихся половин.
Как же много сил у меня сразу прибавилось благодаря тому, что я реже слышал безобразнейшие сцены Тамары. Конечно, я страдал за отца и на расстоянии, но вариться в перманентных скандалах я больше был не в состоянии. Как бедный отец это переносил! Я совершенно не понимаю!
Вскоре я уговорил Галю организовать общий бюджет и уж всеми силами старался о заработке. Она стеснялась, уверяла меня, что общий, это значит, что каждый вносит свой пай. Но у неё тогда заработка вовсе не было. Я убедил её, как важно ей готовиться в ВУЗ, а не заниматься поисками работы.
Галя колебалась, куда ей поступать. Стена ВУЗов была для нас, интеллигентов, неприступной: принимали почти исключительно рабочих, так называемых «сто- и десятитысячников». Я стал к тому времени энтузиастом техники и так расписывал Гале заводы, так воспевал форсунки и рубильники, да и сам Институт Каган-Шабшая, что она, наконец, не выдержала и решила по моим стопам поступать в Институт. На подготовку оставался только месяц, и она, совсем ещё больная, стала заниматься. И, удивительно, поступила, была принята! Девушки здесь были чрезвычайно редки, до меня окончила Институт только одна девушка, по фамилии Духанина. Про неё шабшаевцы даже сочинили песенку на мотив «Мы красная кавалерия»:
…Ведь с нами Духанина — баба — первый инженер… Умрём за СССР (2 раза), Веди ж смелее, Духанина, в бой, Пусть гром гремит, пускай пожар кругом (2 раза) Мы беззаветны инженеры все, И вся-то наша жизнь есть борьба! Да!Яков Фабианович как передовой человек считал необходимым привлекать женщин к технике и потому мечтал на каждом курсе иметь хоть двух девушек. Бывал очень доволен каждой поступившей к нему в Институт, но… при этом не делал им никакой скидки ни на экзаменах, ни на производстве. Девушкам здорово доставалась эта учёба. Но зато он ими очень гордился. А я очень гордился моей Галочкой.
Галя поступила в Институт в июле и начала учиться на два курса позже меня. Ей повезло, как и всему её приёму. Кочегарки летом не топили и большинство принятых было направлено на лучший для практики завод «Динамо», которому позже было присвоено имя С. М. Кирова. Галя получила на заводе первое задание: шлифовать на точильном станке контакты у литых пластин трамвайных реостатов. Как раз в это время я получил первый месячный отпуск и решил поехать к маме в Тобольск, где она почему-то застряла по дороге в Берёзов.
Я призанял денег, припас на дорогу буханку хлеба, взял билет, экономии ради, на «максима» и отправился в первое в моей жизни дальнее путешествие. До этого я ездил один не далее Ленинграда и няниного Потёса. У меня сердце прыгало от радости, во-первых, оттого, что я еду к маме, во-вторых, оттого, что в дороге меня, несомненно, ожидают многие чарующие и увлекательные приключения.
В «максимах» тогда ездила что ни на есть самая голытьба и беднота, с которой можно было познакомиться только в этих поездах, да ещё в рассказах Максима Горького. Вагоны не имели полок, только сплошные нары, разделённые на клетки. Впрочем, на нижнем этаже середина нары на день опускалась, получались скамьи. Ночью все спали вповалку по норме «сколько влезет». Спали не только на нарах, но и под ними, и на полу, на низких багажных полках. Багажа на полки никто не клал, боясь воровства.
Такой «максим» тащился до Урала как черепаха, трое-четверо суток. Когда я втиснулся на верхние нары, там уже было битком набито баб с ребятишками, мужиков, солдат, мешков и узлов. Всё это крепко пахло «русским духом», то есть щами, портянками, немытым телом, нестиранными пелёнками и, господствуя над всем, плавали густые облака махорочного дыма. Я пробовал читать, но заслушался разговоров, которые касались супружеских измен, воров, убийц и прочих занимательных вещей. Позже это стало моей любимой привычкой: во время длительных поездок знакомиться с разными людьми и слушать их истории жизни.
Поезд вышел вечером, и скоро все улеглись спать в самых прихотливых положениях. Так как приходилось по три-четыре человека на одно место, то все заботились только о том, чтобы голова лежала на чьём-нибудь узле или какой-либо мягкой части тела соседей, а уж тулово как-нибудь. Тут бабы начали жаловаться, что ребята не засыпают, потому что лампочка светит им прямо в глаза, и стали просить проводника её потушить. Но проводник, который по тогдашней моде носил вместо причёски «конский хвост» и беретик или фуражку, с прокуренными рыжими усами, безапелляционно заявил:
— Не положено гасить. А то кабысть…
Когда он ушёл, я вызвался уладить дело:
— Вывернем лампочку. И всё…
— Да ведь она под колпаком.
— Колпак, это нам — кхы-тьфу!
Я проворно отвинтил барашек, открыл колпак и принялся вывинчивать лампочку. Но она не поддавалась.
— Эй ты, сундук, ты чего крутишь? Не знаешь, что на транспорте свановские патроны поставлены? — раздался голос снизу.
Это ещё что за новости? У нас такого не проходили. Все патроны, с которыми я имел дело, должны были выкручиваться — то были эдисоновские с нарезкой. Значит, и тут должны выкручиваться. И я ответил с амбицией:
— Не учи, я сам электрик.
— Сундук ты, а не электрик — заключил голос, впрочем, очень миролюбиво. Репутация моя пошатнулась под влиянием такой критики. Надо было её спасать. Я обернул руку носовым платком и приналёг. Лампа хрустнула, ярко вспыхнула и, разделившись на две части, погасла. Колба осталась у меня в руке, а цоколь в патроне. Я живо представил себе негодование проводника, когда он обнаружит аварию. А потому вложил колбу под колпак, завернул барашек и в темноте втиснулся в людскую храпевшую гущу, норовя всё-таки так повернуться, чтобы никто мне не заехал в глаз сапогом. «Сундук», думал я, — это, наверно, очень обидно. А ведь я и впрямь «сундук»! Здорово он меня квалифицировал! Не совсем удачно начал я свои чарующие приключения. Ну, да ладно. Проводнику завтра скажу, что лампочка сама рассохлась от тряски, — и на том заснул.
Я хотел посмотреть Волгу, которую никогда не видал, но проспал Ярославль и проснулся только перед Даниловым. В Данилове нас поставили на дальний путь, но человек сто выскочили с бидонами, чайниками, кружками, крышками, бутылками и бросились взапуски по рельсам за кипятком. Помчался и я со своей консервной банкой, к которой предусмотрительно заранее припаял ручку. У кипятильника сразу вырос длинный хвост. Но стоять было весело, все переругивались с проводниками, которые считали, что могут брать без очереди и, притом, целыми вёдрами. Мне было обидно стоять минут двадцать из-за одной кружечки, когда аппетит был, по крайней мере, на три. Ничего, вперёд наука — запасать в дорогу посудину покрупнее.
В Буе я прогуливался, наевшись чёрного хлеба и чувствуя потребность в пище духовной. Меня тянуло к технике. Я обратил внимание на буксы вагонов. Раньше я не обращал внимания на то, как они ловко устроены, как к шейке цапфы концы, купающиеся в масле, автоматически подают смазку, как скользят по наружным щекам направляющие подрессоренной тележки. Я думал: «Максим прост, прост, а на какой механике едет! Нет, это нельзя так оставить, я должен это обязательно зарисовать». И я вытащил записную книжку и, присев на корточки, принялся набрасывать чертёж.
Закончить чертёж мне не удалось. Вместо этого пришлось оправдываться в отделении железнодорожной милиции, доказывая, что я честный советский студент и не собирался продавать нашу буксу Чемберлену или там Пуанкаре. Пришлось соврать, что мне задали по начертательной геометрии сделать за отпуск чертёж какого-нибудь простого механизма. Я уверял, что принял буксу за несекретную и обещаю никогда больше букс не рисовать. Начальник отделения ругался, но, записав номер удостоверения личности (паспортов тогда ещё не было) и отпускную справку, сменил гнев на милость: вырвал чертёж из моей записной книжки и, погрозив мне на прощанье, сказал:
— Ты у меня смотри! — с чем и отпустил на все четыре стороны. Поезд словно меня ждал: как только я вскочил, он сразу тронулся. Так закончилось второе чарующее приключение моего пути. Но я был даже немного горд: всё-таки первый в моей жизни привод!
Я обратил внимание на торговлю. Это было безопаснее, тем более, что я только ко всему приценивался, но ничего не покупал. На многих станциях были большие базары со своими специфическими товарами. Так, в Галиче все покупали какую-то копчёную рыбу, ловившуюся в местном озере, в Вятке базар был завален ненавистными мне ещё с уроков рисования Михаила Николаевича курносыми деревянными куклами. В Кунгуре продавались разные изделия из ангидрита — вазочки, пепельницы и разные звери, в Перми появились наборы цветных уральских камней, смонтированных в виде миниатюрных скал и гротов. Прямо с поезда можно было делать заключения о географии промыслов, о географии природных ресурсов.
Когда подъезжали к Вятке, пошли рассказы и анекдоты про вятичей. Особенно старался один красноармеец:
— Вот наготовили раз вятичи цельный обоз щепного товара и поехали торговать в Кострому. Ехали, ехали, приустали и зашли в придорожный трактир чайку попить. А один шутник взял и повернул лошадей в обратную сторону. Вятичи вышли, может, и не одного только чаю выпивши, и поехали, куда лошади головами стояли. Приезжают к себе домой, видят город и говорят: «Глянь-ко парень-Ванька, Кострома-то матка, ровно наша Вятка!» И все весело смеялись над глупыми вятичами.
— А знаете, как их дразнить надо? Как на базар придёте, спрашивайте: «Эй, вячки, ребята хвачки, почём аршин молока?» Ох, они и серчают! А и впрямь зимой мороженое молоко на аршин продают, то есть молоко, замороженное в плоских блюдах продают по цене, соответственной размеру блюда.
Тут все стали вспоминать, как где говорят:
— Олончи-молодчи, двадчать на двадцать, так давайте драдча, а коли вас двадцать один, так мы и котомки отдадим.
— В Рязани и грыбы с глазами, их ядять, а воны глядять!
— Насы псковицане, цисты англицане…
И так далее, чуть не про каждую губернию находились меткие прибаутки.
Урал поразил меня красотой. Когда поезд траверсировал склоны Чусовой, зелень лесов была так густа, скалы, прорытые ею, так величавы, река далеко внизу так отливала живым серебром, так кипела на порогах, что я позабыл про свою обожаемую технику и чуть не выскочил из поезда, чтобы окунуться в это манящее великолепие.
Так или иначе на четвёртый день приехали в Тюмень. Я прошёл через весь город, который показался мне скучным. Зато пристань меня очаровала. Я купил билет на пароход, на палубное место. Он отходил вечером, а весь остаток дня провёл у причалов, глядя, как возчики выгружают со скрипучих возов разные товары, как крючники на «козе» таскают на баржи по два пятерика с мукой (мешки по пять пудов), как ловко ловят чалку матросы, как капитаны приветствуют друг друга в рупора и. маневрируя, ловко причаливают к дебаркадерам. Река Тура жила своей обычной жизнью, но мне она казалась необычной, как жизнь таинственных гаваней в рассказах Александра Грина.
Палубное место, значит спи где хочешь среди смолистых канатов, бунтов чёрной проволоки, бочек с селёдкой и ящиков с пивом. Все более укромные и просто ровные местечки заняли более предусмотрительные и менее любознательные пассажиры, которые не зевали на погрузку. К тому же ночь на реке оказалась холодной, поэтому я ушёл на кокпит, где в моём распоряжении были узкие коридоры по краям машинного отделения, точно так же заваленные всяким товаром и людьми. Мне удалось своротить какой-то ящик поближе к медной горячей стенке кипятильника и продремать, сидя на нём всю ночь, хоть и просыпаясь поминутно от сотрясений парохода при манёврах, от ударов колокола над самым ухом, от истошной ругани и беготни матросов на пристанях. Просыпаясь, я каждый раз думал: «Как всё-таки это замечательно: ведь я путешествую на настоящем пароходе и еду чёрт знает куда, что твой Колумб!».
Я встал на рассвете и пошёл бродить по пароходу. Сидеть на ящике больше не было мочи. Меня привлекало внутреннее окно на лестницу машинного отделения. В окно было видно, как, раза два в секунду, взлетают шатунные подшипники, вращающие мощные кривошипы главного вала. Я уже был настолько образованный, что понимал: на конце этого вала сидят колёса, которые двигают пароход и которые днем и ночью создают адский шум в моей «спальне». Шатуны и кривошипы меня околдовали, я, глядя на их размеренные взмахи, был просто загипнотизирован. Они казались до того мощными, как будто не тащили вниз по Туре старенький пароход, а, по крайней мере, приводили в движение Земной шар. При этом каждый раз на подшипнике сперва показывалась величественная, как корона, громадная маслёнка, чтобы молниеносно взлететь ввысь и затем исчезнуть на дне провала. «Вот так и царские короны…» — философствовал я про себя.
Я торчал у окна минут сорок. Чумазый и мокрый от пота механик несколько раз выходил подышать. Наконец я набрался храбрости и задал ему два-три вопроса, заботливо подобранные так, чтобы показать, что вообще-то я силён в технике, только не знаком с конструкцией судовых двигателей.
— Интересуешься? Пойдём, покажу, — приветливо пригласил он, и я, не веря своим глазам и ушам от счастья, шагнул за дверь, на которой висела дощечка с надписью «Посторонним… строго…» и т. д. Я спустился по крутому трапу, держась за надраенные до блеска медные поручни и думал: «Медные трубы позади, а уж огонь и воду как-нибудь переплыву».
Святая святых парохода напоминала электростанцию Наркомпроса, только здесь было неимоверно жарко, тесно и машина выглядела более мощной. Топка была паровая, и я поражался, сколько она жрёт дров. Полуголый кочегар едва успевал их бросать в её огромное ненасытное чрево. Очень интересным было управление. Сперва из переговорной трубы доносилась зычная команда капитана, и механик тотчас бросался исполнять приказание: открывал и закрывал какие-то клапаны, крутил вентили, включал реверс. На спокойных участках он водил меня по машинному отделению и кричал на ухо пояснения, явно получая удовольствие от благоговейного изумления, которое я проявлял и к нему, и к его механизмам. В разгар беседы зачем-то залетел в машинное отделение вахтенный помощник капитана и сейчас же раскричался:
— Почему здесь посторонние? Студент? Никаких студентов! Попадёт в машину, кто отвечать будет?
Словом, он меня вытурил, а машинисту дал выволочку. И отчего так много начальства на свете? Куда ни плюнь — проводники, милиционеры, помощники капитана. Но я всё-таки был очень доволен, так как почти всё успел разглядеть.
После этого я перенёс внимание на матросов. Тура в межень обмелела. Поэтому на каждом перекате дежурный матрос эффектно перепрыгивал через поручни и, держась за них одной рукой, другой ловко выбрасывал рейку, разделённую на футы и кричал:
— Пять, пять, четыре с половиной, четыре, четыре, четыре, три с половиной, под табак…
Вахтенный на краю верхней палубы повторял каждый выкрик, чтобы слышно было в рубке. Когда дело подходило «под табак», поднималась суматоха. Капитан приказывал сбавить обороты, матросы зачем-то мчались на нос, прыгая по мешкам и бочкам, пассажиры второго и третьего классов (я их презирал) толпились за ними, помощники капитана старались отогнать их на корму. Проходило несколько минут, и слышалось опять:
— Три с половиной, три с половиной, четыре, четыре, пять, пять, шесть, семь, не маячит.
Отбой, все расходились по местам. А я думал, — «Хоть бы раз сели на мель, интересно, что будут делать?».
Очевидно, я стал йогом, и моя мысль приобрела способность телекинеза, потому что скоро мы действительно сели, и здорово. Матросы спустили шлюпку, погрузили в неё якоря, завезли их назад, за корму, а потом, впрягшись в четыре оглобли кабестана, стали подтягивать пароход к якорям. Якоря несколько раз срывались, их снова забрасывали. Матросы выбивались из сил, но через два часа оттащили-таки пароход с мели.
Интересовала меня и обстановка. Я познакомился с бывалым человеком и выспросил, кто зажигает огни на бакенах, где ставятся перевальные знаки, что значит кирпич и что — шар. Подумаешь, река… а сколько с ней возни!
Особенно занятно было на пристанях. Дебаркадеров не было, причаливали прямо к берегу, не доходя до него метра три, а то и все пять. За узенькой полосой бечевника обычно поднимался крутой откос. Оттуда по головоломной тропке бежали парни, сыпались бабы и, как горох, — любопытствующие ребятишки с собаками. Встречавшие обнимали прибывших и тащили узлы в гору. После посадки происходила погрузка дров, которые штабелями были сложены где-нибудь поблизости. Матросы и пассажиры, желающие ускорить отправку, становились цепью и перекидывали поленья, как арбузы. Вот почему они швырком-то называются! Я с удовольствием тоже становился в цепь, а если оставалось время, карабкался наверх. Там всегда оказывалось что-нибудь неожиданное и интересное: или деревня, или лес, или стадо коров среди разлапистых вётел. А с реки и не подумаешь!
Когда вышли на Тобол, он показался мне очень широким. «Вот это река, всем рекам река», думал я. А когда перешли на Иртыш, я даже потерял ориентировку, хоть вдоль плыви, хоть поперёк, не поймёшь, куда он течёт, — море! Вскоре показалась столовая гора, ни дать, ни взять, как в Капштадте, и на ней мрачный тюремный замок с башней и величественными стенами, выстроенный ещё в те времена, когда они были призваны защищать империю от врагов снаружи. А не держать их взаперти внутри. Внизу под горой раскинулся Тобольск — город небольшой, но какой-то весёлый, радостный. В Москве уже было разрушено большинство церквей, да они и не были бы видны за большими домами. Здесь же все они были целы, белы и господствовали над двухэтажным, в основном, городом. Я насчитал их, помнится, около сорока штук. Благодаря им город и выглядел таким весёлым и немного сказочным.
Ещё пока причаливали, на пристани в толпе встречающих я увидел маму. Она стояла, стараясь разглядеть меня, простоволосая, в своей коричневой бархатной курточке. Мне стало ужасно жаль её. Я представил, как оно ждала меня, вечно ждала — шестой срок в тюрьме. А теперь, в качестве суррогата семейной привязанности, ей приходилось довольствоваться Тоней, выпившей, измучившей её сердце. Тони, слава богу, не было видно, хоть по дороге домой мы будем вдвоём!
Наконец мы встретились, обнялись. Мне показалось, что мама стала меньше, наверно, это я вырос. Так о многом хотелось рассказать друг другу, мне — об Институте, ей — о тюрьме. Она жила на частной квартире на горе, за крепостью. Оказалось, что там тоже было несколько улиц. Дорога от пристани очень картинно вела туда по крутому взъезду, а потом — под самыми стенами политизолятора. Мама рассказала мне, что, когда она получила приговор, то её с первым же этапом отправили в Тобольск. В Тобольске её скоро освободили, не разрешивши никуда уезжать и обязав её каждый день являться в ГПУ на регистрацию. Она сняла крохотную комнатушку у старушки тут же около изолятора. Узнала, что в изолятор привезли группу арестованных и в том числе Сашу. Она всячески пыталась его увидеть. Вскоре дошли слухи, что он лежит в тюремной больнице. Маме удалось туда поступить медсестрой, пользуясь тем, что она когда-то окончила краткосрочные курсы медсестёр. Таким образом она получила возможность часто его видеть и за ним ухаживать. В результате трёхлетнего пребывания на Соловках, расстрела товарищей, длительной голодовки протеста и других переживаний Саша заболел полиневритом, который очень, очень его мучил. Это были просто адские боли, боли во всём теле и особенно в голове. Он не в состоянии был ни читать, ни что-либо делать. Присутствие родного близкого человека было для него большим облегчением страдания и радостью. Через пару месяцев ему стало немного легче, и его тут же перевели из околодка обратно в камеру.
Больше и маме не имело смысла служить в тюремной больнице. Она перешла в городскую детскую. Она пошла в палату к самым маленьким, участь которых её очень трогала. Среди сестёр были очень добрые люди и лучшие специалисты, чем она, но именно к ней маленькие пациенты приклеились всей душой. Потому что она делала им то, чего никто из них не делал: она им рассказывала сказки, вырезала куколок из бумаги, учила плести салфеточки из бумажных полосок, собирала фантики. Словом, она взяла на себя добровольную обязанность заменить им матерей и дать дело их головёнкам и рукам.
— Почему не догадываются, что в детской больнице, где дети страдают кроме болезни ещё и от лишения семьи, и от вынужденного безделья, — говорила мама, — воспитательницы нужны ещё больше, чем в детском саду? Ну почему не учредить такую необходимую профессию?
Она всей душой ушла в эту работу, как и во всё, что она делала. Она рассказывала мне про каждого малыша в отдельности и про то, как собирается описать всё это в статье для привлечения общественного внимания. Она действительно написала рукопись «из записей палатной надзирательницы», которую так и не удалось напечатать.
Мама снимала комнату у трогательной старушки, Екатерины Васильевны, которая, как она меня предупредила в дороге, обладала некоторой интеллигентностью и потому до смерти боялась бактерий. Поэтому она целыми часами скоблила и чистила своё жилище и повергалась в совершенное отчаяние, если кто-нибудь нарушал хоть одно из её гигиенических правил. Например, если посетитель не снимал обуви на крыльце или ставил ковшик для воды на крышку кадки или ещё куда-нибудь вместо того, чтобы повесить его на специальный гвоздик. Тоня же, кроме её поразительного неряшества, как известно, обладала «ещё таким» характером, а потому по злости ко всем и ко всему специально делала всё наоборот, притом с каким-то злорадством, часто с громким отвратительным хохотом. Поэтому и была она для хозяйки страшным бичом, а мама только и делала, что ходила по пятам за своим детищем, исправляя небрежности (нарочитые) и предотвращая конфликты. Однако, нередко она не успевала проследить за каждой пакостью Тони, и столкновения были перманентными. Надо отдать Тоне справедливость, что во время моего пребывания в Тобольске она вела себя чуть-чуть лучше. Это выражалось в том, что она почти не устраивала огромных скандалов, не била маму и изредка давала нам с мамой побыть вдвоём. Мы в такие минуты старались наговориться вдосталь. Но бывало это очень уж редко, когда мы уходили от неё и скандалов за город, вниз по Иртышу, где начинается удивительный остров южной флоры — липовые леса. Мы садились на громадном откосе, откуда открывался неповторимый вид на могучую реку и Заречье — луговую левобережную пойму. Ей не было конца-края, и вся она была испещрена, словно разбитое зеркало, просветами стариц, загоравшимися огнём, когда солнце за ними спускалось к горизонту. Большое спокойствие сходило к нам в души перед лицом незапятнанной природы, и мы возвращались домой только тогда, когда злые сибирские комары снимали с нас третью стружку.
Иногда мы ходили в город, то есть под гору. Там были главные улицы, из которых даже одна или две были замощены булыжником. Тротуары везде были дощатые. Дома купеческие или чиновничьи в центре построены из отбелённого, но не оштукатуренного кирпича, с фестончиками под карнизом и по оконницам, с виду очень симпатичные.
У меня вскочил фурункул. Вообще-то это случалось часто, и я как-то с ними вполне примирился. А тут по этому случаю пошёл в городскую больницу. При мне привели из изолятора заключённого, видно, в околотке не оказалось врача-специалиста, который тут требовался. Это был еврейчик, почти мальчик лет шестнадцати-семнадцати. Он шёл между двух здоровенных хохлов-конвойных, которые держали шашки наголо. Медсестра, заполнявшая мед карточку, спросила:
— Фамилия, имя, отчество?
— Цвик, Лёва.
— Профессия? — Парнишка приосанился:
— Государственный преступник. — Сестра так и записала.
Я старался маме устроить всё для лучшего, более организованного быта, особенно, что нужно на зиму: прибил полки, починил табуретки, утеплил двери. Но мама больше заворачивала меня помочь Екатерине Васильевне, которая жила одна и многое уже не могла сделать сама. Здесь мне нашлось применение: наколоть дров, починить забор, перекопать землю под смородиной и т. д.
И всё-таки Тоня очень уж мешала нам с мамой. Она, называя меня братом, а маму — матерью, постоянно выражала желание говорить со мной, притом обязательно наедине. Когда я соглашался, исключительно чтобы не увеличивать маме количество истерик, Тоня говорила со мной ни о чём и обо всём, очень подолгу. О чём угодно, лишь бы говорить и отвлечь меня от мамы и от нужных занятий. Часто при этом она проявляла сексуальность. Это было не просто неинтересно, но невероятно тяжко… Бедная, бедная мама. Сколько же она терпела от этой Тони! Я прожил в Тобольске недели три. Пора было возвращаться в Институт. Мы нежно попрощались, и я обещал постараться на будущий год снова приехать.
Когда я вернулся в Москву, у Гали дела шли хорошо. Она успешно училась и наловчилась так шлифовать пластинки, что её приёмы вошли в употребление и рекомендовались практикантам-шабшаевцам. В Институте её называли передовой. Неожиданно для всех у неё открылся талант к общественной работе. Я не верил своим глазам — такая стеснительная и такая общественница! Она так себя проявила на заводе, что её, некомсомолку, выбрали в бюро комсомола завода и давали ответственные поручения по этой линии. Чудеса! По скромности она горячо отказывалась от такого, как она считала, ответственного поста, но её не послушали. Активных людей было мало, порядку ещё меньше. Достаточно было проявить себя ответственной и творчески-сознательной, чтобы попасть на ответственную партийную работу. Членом комсомольского бюро Галя работала длительное время и даже две недели замещала секретаря бюро во время его отсутствия. В те времена очень охотно выдвигали на общественные и руководящие работы девушек как более исполнительных, ответственных и аккуратных. Про наших шабшаевок студенты сложили такую песенку:
Без женской помощи духовной Работать было тяжело, И Резник, Жанне дʼАрк подобно, Вошла в состав исполбюро…Далее шли строфы, восхваляющие девушек за успехи в учёбе и работе.
По приезде я не удержался от того, чтобы не описать в стенной газете моё путешествие. Так как я считал себя не лишённым остроумия, то изобразил в комическом виде свои приключения со свамовским патроном, с буксой, с осмотром машинного отделения на пароходе. Приврал, конечно, для большей выразительности. В общем, получилось здорово. Называлась статейка «Шабшаевец в отпуске, или электроприключения будущего инженера». Я ждал восторженных отзывов.
Яков Фабианович любил, придя на лекцию, сперва поговорить о текущих событиях. В этот раз он начал с того, что прочёл опус одного молокососа в стенгазете, который разъезжал по железным дорогам, ломал казённое оборудование, попадал в милицию по подозрению в шпионаже, чем рисковал серьёзно скомпрометировать Институт.
— А потом ещё хвастается! Если такое электрохулиганство будет продолжаться, то он, Каган-Шабшай, ему, молокососу, ноги переломает.
Я вывел отрадное заключение, что ноги мне будут ломать не тотчас, а не раньше, чем я сверну ещё по крайней мере пару лампочек.
Да, аплодисментов в мой адрес не последовало.
Осенью, после отпуска, меня направили на СВАРЗ — Сокольнический вагоноремонтный завод, который входил в систему МГЖД — Московских городских железных дорог. Под городскими железными дорогами подразумевался только трамвай; метро в Москве ещё не существовало, как, впрочем, автобуса и троллейбуса.
СВАРЗ выполнял капитальный и текущий ремонт вагонов, изготовленных Коломенским и Мытищинским заводами, и моторов завода «Динамо». Контроллеры, реостаты и мелкую аппаратуру он изготовлял сам. Во дворе разветвлялись и входили, каждые в свои ворота, многочисленные рельсы. Внутри цехов они продолжались линиями, проходившими над смотровыми канавами. По ним въезжали вагоны и становились длинными рядами в затылок. В одном цеху вагоны поднимались на козлы — на капитальный ремонт, в других оставлялись на тележках — на текущий.
Вагоны в капитальном ремонте предельно раскулачивались, и на них, как муравьи на гусеницу, набрасывались слесаря, электромонтёры, сварщики, маляры. Они ползали по вагону, щекотали его из канавы под брюхом, лазали по крыше. В первые дни моего пребывания на заводе случился трагический случай. Молодой маляр, кончив красить крышу одного вагона, хотел перепрыгнуть на соседний. При этом он, как обычно, ухватился за трамвайный провод. На беду он стоял на какой-то железине, а на другом конце её лежала проволока, которая спускалась на землю. Бедняга получил удар напряжением 550 вольт, руки свела судорога и он повис на проводе. Он не мог даже крикнуть. Через минуту товарищи заметили, что он висит, выключили линию и сняли тело. Он был уже мёртв.
Меня поставили на текущий ремонт, включив в бригаду рабочих, которая работала всегда в ночную смену. Сюда приходили аварийные вагоны, которые мы за ночь должны были привести в приличный вид. Обычно надо было устранить замыкание в моторе, ликвидировать утечку сжатого воздуха. Бригада работала торопливо, бегом и состояла из каких-то мрачных, невероятно грязных людей. Мы вели жизнь моряков. Мы ныряли в канавы, так как все основные механизмы помещались под полом вагона, и принимались копаться в невероятно замызганных деталях. А они, щедро смазанные тавотом, налепляли на себя за день всю скверну из разбрызгиваемых вагоном луж. Чтобы добраться до какой-нибудь гайки, приходилось счистить у себя над головой пуд грязи. Из букс на голову капало смазочное масло, детали были страшно тяжёлые. Нижнюю половину ярма мотора снимали втроём с помощью домкрата. В канавах было темно. У каждого из нас была лампочка на длинном проводе, которая обычно привешивалась с помощью крючка за ворот спецовки и очень стесняла движения. Изоляция была вся в клочьях, и лампа постоянно била током. К тому же в канаве было зверски холодно. Даже когда начались морозы, ворота цеха постоянно стояли открытыми. Да и как иначе — вагоны приходили и уходили всю ночь.
Сначала мне доверяли только светить другим да поддерживать детали. От скуки я описал эту ситуацию в стихах:
Иные перегоны На жизни ставят штампы; Под брюхом у вагона Свечу ручною лампой. Чуть слышу из-за шума: «Эй, малый, наподдай-ка!» Враждебно и угрюмо Мотор таращит гайку. Из леса арматуры Свисает жирно сало, Две буксы, словно куры, Нахохлились у вала. А сверху с видом важным (Средь гаек он — профессор) Под полускатом каждым Натужился компрессор. В канаве воздух мокрый, Как скрежет, холод слышен, Маляр за ворот охрой Мне поливает с крыши. Светить в канаве — горе. От лампы стынут руки… Так вот оно, то море, Куда несут науки.Под конец дело пошло веселей. Мне стали поручать самостоятельный ремонт компрессоров и щёткодержателей. Когда работаешь один, то можно немного заняться кладоискательством. Для этого надо откинуть люк в полу и счистить недельную грязь с верхней половины ярма мотора. Туда проваливаются через щель деньги, которые роняют пассажиры. В бригаде ходили легенды, будто кто-то когда-то нашёл там царский золотой, влипший, как допотопный моллюск, в каменноугольные слои, будто бы кто-то откопал золотое обручальное кольцо… Мне больше пятака находить не доводилось. Но и это ничего!
Наконец, меня перевели в воздушную бригаду. Вопреки поэтическому названию она состояла не из птичек колибри и даже не из аэронавтов, а из весьма земного толстенького старого бригадира, катавшегося, как колобок, по цеху, долговязого рабочего Сеньки и ещё нескольких незначительных личностей. Главное — в цеху было тепло, хотя приходилось лазить в канавы, но ненадолго и только под вагоны капитального ремонта, следовательно, чистые. Ну, конечно, с пятаками пришлось расстаться.
Бригада называлась воздушной, потому что делала на вагонах воздушную проводку, которой приводились в действие тормоза. Кроме того, в наши обязанности входил ремонт компрессоров, установка баллонов, регулировка редукционных клапанов, манометров и т. п. Бригада была дружная, работала сдельно и, так как я проявлял большое усердие, то у меня вскоре установились с рабочими хорошие отношения. Здесь я узнал, что такое клубик (от немецкого Kluppe), вороток и плашка, научился нарезать наружную и внутреннюю резьбу на трубах, гнуть их по заданному радиусу, предварительно насыпав в них песку, чтоб не сминались, затягивать хомуты на баллонах (на кобылах я уже умел) и многим ещё воздушным трюкам.
— Эй ты, торговец воздухом, — кричали мне товарищи-студенты, — почём нынче ветер?
— Если в задницу, то дешевле. Подойди, дуну, — отвечал я, направляя испытательный шланг в их сторону.
Хорошо было работать в бригаде. Особое счастье я испытал, когда однажды мне довелось включить контролер и перегнать готовый вагон метров на десять: «Вот она, техника-то, в моих руках. И как слушается!» — думал я.
Но однажды я с этой техникой чуть не отдал концы. Зачем-то мне понадобилось пойти в карбидную кладовую. Людей там не было, на полу стоял бак с карбидом. Шёл дождь, с худой крыши в него натекла вода. Карбид отчаянно булькал. В нос мне ударил острый запах ацетилена, однако, я не ушёл. Достал, что было нужно, потом ещё подошёл к баку, понаблюдать за реакцией. Любопытство довело до того, что у меня закружилась голова, ком подкатил к горлу. Едва соображая, я пошёл к выходу, но перед дверью упал. Было очень близко, и я дополз до неё, толкнул дверь и потерял сознание. Меня нашли головой наружу и привели в чувство.
После этого я начал понимать, что завод, хоть и ремонтный, но это дело серьёзное. И ацетилен тоже может свободно отравить и отправить в «охотничьи поля» индейцев, как и троллейный провод, и любой станок.
Следующим цехом был контроллерный. Это был высший класс, который могли предоставить в распоряжение практикантов мастерские СВАРЗа. Там стояли просто ряды столов, обитых жестью. На них навзничь, без кожухов, лежали контроллеры. Рабочие с разнообразными инструментами копались у них в чреве, и всё в целом было похоже на анатомичку.
Мне дали корпус контроллера, сотни две мелких деталей, схему на кальке, от которой рябило в глазах, и велели собирать. Впоследствии я имел дело со схемами куда более сложными, но тогда и контроллер показался мне крепким орешком. Как поставить на вал все сектора, как воткнуть реверсный валик, как соединить бесчисленными проводами все пальцы, не перепутав концы, как уложить их в страшно тесном пространстве, отведённом для них конструкторами? «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги…». Отливки часто оказывались толще, чем на чертеже, провода не хотели гнуться под нужным углом, а через них ведь должен проходить весь ток, приводящий в движение трамвай. «Такова сэ-ля-ви!» — думал я, до крови сдирая руки при попытках просунуть их в какой-нибудь зазор. А ведь контроллер — кинематический механизм. Его работа должна быть гладкой, как проглатываемая пилюля, как коньки фигуриста. Если в нём что-нибудь заест, от этого может зависеть жизнь пассажиров или пешехода.
Нас было двое практикантов в цеху: Элиазар Шоломович Баг (в просторечии — Елизар Семёнович) и я. У каждого по своему контроллеру. Везло мне на дельных евреев! Баг был мал ростом, но кряжист, подслеповат и имел большой многоярусный нос. Работал он с остервенением и не терпел ни минуты простоя. Так как он был намного старше меня, хотя с моего же курса, то как-то само собой прослыл за начальника. Покрикивал он на меня поминутно: «Живенько, живенько, да живенько же!». Он выговаривал букву «И» после «Ж» не как положено по-русски «И», а именно как «Ы». Мы с ним очень сработались и подружились потом, и эта дружба оказалась крепче, чем со многими моими товарищами.
Тем не менее я уже настолько созрел, что меня сочли достойным перевода на сидячую работу. Кратковременным было пребывание в производственном отделе, где в мои обязанности входил бесконечный подсчёт длинных рядов цифр выпускаемой продукции и где я упивался новым для меня процессом суммирования на счётах. Только одного я не мог достичь: чтобы сверху вниз получалось то же, что снизу вверх. Наконец, меня перевели в святая святых завода — техническое бюро.
Техбюро состояло человек из десяти, для ремонта много не надо. Там не торопясь конструировали штампы, кондукторы, приспособления и предметы оборудования завода для отдела механики, да иногда делали незначительные изменения в конструкции трамваев. Командовал всеми инженер Антоненко — мужчина средних лет, склонный к полноте и раздражительности. Он нагонял на всех страх и требовал, чтобы на работе все работали. Но как только он выходил, сотрудники принимались за вечно злободневную тему — сердечные дела глуповатого чертёжника Володи, усердно ухаживавшего за сотрудницей заводоуправления Натальей Павловной. Наталья Павловна была красива, выше Володи ростом и умом, и относилась к нему с вежливой снисходительностью.
— Ну а как она в работе-то, а, Володя? — начинал разговор старший конструктор Иван Иванович, мужик грубый, с густыми пучками волос, росшими у него из носа и ушей.
Всеобщее ржанье было ему наградой за удачное начало.
— А как ты находишь, Володь, не слишком ли твоя Наташа на кобылу смахивает? Ноги длинные, зубы торчат… Может оказаться с норовом… — подливал масла в огонь первый франт, деталировщик Виктор, встряхивая завитым и напомаженным коком. — Что ты, Витя! Володя, он понимает, — подхватывал Иван Иванович, — на кобыле-то сподручнее верхом ездить.
В таком роде разбор статей Натальи Павловны продолжался часами изо дня в день. Цинизм этих разговоров выводил меня из терпенья. «Уж лучше, — думал я, — откровенная матерщина рабочих в цеху, чем это изощрённое хамство!» Хуже всего было то, что Володя, хоть и краснел, но старался подыгрывать под общий тон и смеялся над сальными шутками в адрес своей возлюбленной. На какую только подлость не пойдёшь под мощным влиянием товарищеского коллектива!
Сначала Антоненко держал меня на деталировке. Потом, убедившись, что я с проекционным черчением знаком сносно, поручил мне спроектировать шкив к трансмиссии. Казалось, чего проще! Однако я провозился с ним дня четыре. Оказалось, что не так просто выбрать выпуклость обода, толщину и длину ступицы, даже радиус закругления бортов. Я впервые узнал, что такое ОСТы, раз пять лазил в Хютте и «справочник металлиста». Камнем преткновения оказалась и шпонка, которую надо рассчитать на срез, а для этого пришлось высчитать момент приложенного усилия и момент сопротивления шкива. Словом, это был творческий и радостный труд, если б над ухом не зудели идиотские балаболы, у которых вылетали десятки гадких слов, пока их рейсфедер двигался по кратчайшему расстоянию между двумя точками.
Наконец, Антоненко дал мне задание сконструировать сложный механизм — двухосную тележку для перевозки деталей и ящиков со стружками. Я с глубоким благоговением приступил к исполнению этого задания. Шутка ли, целая машина из полусотни деталей! Я трудился над тележкой две недели. Вытащил все свои записи по сопромату, перечитал главу из учебника о трении качения, даже освоил по этому случаю логарифмическую линейку. Рассчитав все детали на растяжение и сжатие, на изгиб и кручение, испробовал много вариантов и, наконец, выполнил чертежи: общий вид в трёх проекциях в масштабе 1:5, узлы и детали на отдельных листах. Антоненко взял чертежи с многообещающим:
— Посмотрим, на что вы способны…
И, развернув чертёж, молниеносно нашёл грубую ошибку:
— Вы что, смеётесь? Плиту приклепали к раме трёхмиллиметровыми заклёпками. Вы что конструируете, часы или машинку для стрижки волос? — Я считал, что нужно экономить металл, а по расчету выходило, что…
— По расчёту, по расчёту. Хороша экономия, когда в первый же день ваша тележка развалится на части. Поставьте восемь, нет, лучше десять миллиметров. А шкворневой болт? Пять восьмушек?
— Но если умножить условную нагрузку на коэффициент трения…
— Ах, оставьте вы эти школьные штучки! А если тележка застрянет на пересечении рельса или попадёт в яму, пьяный рабочий рванёт её как следует, то какой надо брать запас прочности по вашей науке? Извольте поставить полтора дюйма. И запомните, кроме уменья считать по линейке, конструктор должен иметь голову на плечах, представлять себе в материале то, что он рисует на восеовке, представлять себе реальные условия работы каждой детали.
У него, безусловно, осталось самое низкое представление о том, к чему я способен, зато сколько раз потом я с благодарностью вспоминал полученную от него головомойку.
Академические мои дела, между тем, шли успешно. Я сдавал сессию за сессией на «отлично».
На третьем курсе часть преподавателей сменилась. Теоретическую механику читал теперь Владимир Владимирович Добровольский. Человек большого ума и прекрасной души: мягкий, вдумчивый, внимательный к каждому студенту, но с лёгким налётом иронии. Бориса Фёдоровича Слудского сменил Сергей Павлович Фиников. Единственный из преподавателей Института, удостоенный упоминания в Большой Советской Энциклопедии. Наружностью и тщательностью, с которой он одевался, он напоминал Чичикова. При этом он носил на своём лице выражение вечного удивления и даже испуга. Во время лекций он как-то боком прыгал по аудитории, словно мячик, на мгновенье останавливался то у окна, то у доски, то у столика, заменявшего кафедру. Читал он мудрёные предметы, слабо до нас доходившие.
У нас был только один предмет из «закона божьего» — политическая экономия. Читал её невероятно скучно некий тип с отвисшими рыжими усами. На экзамене я отлично ответил на два полагающихся вопроса, но он мне задал третий:
— Что такое рента один и рента два?
— Ренты нет в программе, и вы нам её не читали.
— Всё равно вы должны знать. — И он мне поставил «удочку». И эта удочка потом испортила мне всю обедню. Она лишила меня возможности хвастаться, что за два вуза я ни одного экзамена не сдал ниже, чем на «отлично».
Между прочим, у меня тоже прорезалась способность к общественной работе. Видно, «уроки» Липы Авербаха и Саньки Аиста не пропали даром. На третьем курсе я был избран в Академкомиссию, на четвёртом, кроме того — председателем Культкомиссии, а на пятом — членом исполбюро (студкома).
Академкомиссия вершила важными делами. Подводя итоги очередной сессии, она по каждому студенту выносила рекомендации: кого перевести, кого оставить для вторичного прохождения курса, а кого исключить за неуспеваемость. Яков Фабианович очень считался с мнением Академкомиссии и почти всегда утверждал её решения. Состояла комиссия из одних студентов.
Помню инцидент из моей «академической» деятельности. На четвёртом курсе пришёл ко мне знакомый Лосев, тот самый, который произвёл на меня такое подавляющее впечатление недюжинными способностями, необходимыми для учения в Институте:
— Арманд, ты у нас влиятельный человек. Похлопочи перед Яков Фабиановичем, чтобы он ещё раз (четвёртый) оставил меня на курсе. Не могу я преодолеть эти проклятые интегралы. Раз уж он три раза сделал для меня исключение, почему бы и сейчас не сделать. А он хочет окончательно меня выгнать. Напомни ему, что я вытаскиваю на своих плечах Дантиловку.
Бедный Лосев! Он имел совсем не эффектный вид при этом разговоре. Дантиловка находилась в Смоленской губернии и была нашей подшефной деревней. Студенты в порядке практики установили там движок и электрифицировали избы. Мы очень этим гордились. Помню номер стенной газеты, посвящённой Дантиловке, с большим заголовком: «Вот как мы шефствуем в деревне».
Культкомиссия занималась, главным образом, организацией праздников. Под зданием Института был подвал, состоявший из ряда низких сводов, опиравшихся на мощные колонны. В центре между колоннами едва можно было стоять. Своды расписали наши так называемые художники карикатурами, изображавшими студенческие попойки и прочие развлечения. Сам Яков Фабианович был изображён в виде бога Саваофа, весьма сходным с оригиналом. Он парил в облаках, благословляя пиршество. Вокруг колонн поставили столики, приспособили буфетную стойку, получилось роскошное кафе.
В дни праздников кафе превращалось в клуб. Лихо гремело старенькое пианино, личная собственность Якова Фабиановича, поэты читали юмористические стихи, руководящий общественный деятель и великий похабник Гнидин зычным баритоном запевал песни, стараясь ввернуть что-нибудь непристойное. Хор дружно подхватывал:
А-а-а-х! Зачем ты меня целовала, Ж-жар безумный в грудях затая…Дантиловцы: Шполянский, Хайкин, Колотов-борода (был ещё Колотов без бороды) выступали с вновь сочинённым гимном шабшаевцев. В основе лежало выражение, как-то употребленное Яковом Фабиановичем:
Электромашиностроительный чёрт, Какой-то доселе невиданный сорт, Но с гордостью носим мы это названье, Чертовски любя Институт и завод. Вот наше прямое призванье!Но мы пели и вполне безыдейные песни. Например:
На барже номер девятый. Умпа-а-ра-ара, Мы служили с Ванькой-братом. Умпа-а-ра-ра, Весело было нам. Умпа-а-ра-ра, Всё делили пополам. Умпа-а-ра-ра. Баржу лаптем нагрузили. Умпа-а-ра-ра, Вниз по матушке пустили. Умпа-а-ра-ра, Весело было нам. Умпа-а-ра-ра, Всё делили пополам. Умпа-а-ра-ра. Мы по городу бродили. Умпа-а-ра-ра, И в тиятру заходили. Умпа-а-ра-ра, Весело было нам. Умпа-а-ра-ра, Всё делили пополам. Умпа-а-ра-ра.Далее также к каждой строчке прибавлялось бессмысленное «Умпа-а-ра-ра», а к двум последним строчкам — «Весело было нам. Умпа-а-ра-ра, Всё делили пополам. Умпа-а-ра-ра».
Первым делом не галёрке Закурили мы махорку (припев) Занавески подняли-ись, А там четверо драли-ись. (припев) Трое били одного-о И угробили его-о. (припев) Мы такого не стерпели, Вниз с галёрки полетели. (припев) Как с галёрки я лете-ел, Лаптем барыню заде-ел. (припев) Карапуз-француз явился И за барыню вступился. (припев) Как он двинет меня в ухо, А я лаптем ему в брюхо. (припев) Нам по шее наложили И в кутузку посадили. (припев) Через три дня отпустили. Мы в них лаптем запустили. (припев).Впрочем, эту песенку нельзя назвать абсолютно безыдейной. В ней звучит борьба простого народа за справедливость («мы такого не стерпели») и его безграничная воля к победе («мы в них лаптем запустили»).
А вот в следующей песне абсолютно уж никакой идеологии не найти. Пели беспощадно единственное слово «Навуходоносор» на два мотива, или по словам «Я хочу вам рассказать, рассказать, шли девицы в лес гулять, в лес гулять, да!» или на слова «Вниз по матушке по Волге…» При этом получалось сочетание некоторых слогов в форме «На в ухо». Это ужасно нравилось многим студентам:
Навуходоносор, На Вуходоносор, На Вуходоносор, Наву — Хо-до-но-сор! На-ву-хо-до-носор На-ву-хо-до-но — Сор, На-ву-хо-до — Носор, Навухо-до — До-но-сор, На — Вуходосор На в ухо!На второй мотив звучало протяжно:
На-в-ухо — Доносор, На-в-ухо-до — Но-сор, На-в-ухо — До-носор, на — В-ухо-до-о — Носор, На-в-ухо — Доносор, На-в-ухо — Доносор, На-в-ухо — До-о-о.Во время концертов вся публика предавалась возлияниям. Девушкам вначале и в перерывах концерта выпадала участь подавальщиц. Я с тревогой следил за Галочкой, как она, тоненькая, изящная, сновала с подносом, увёртываясь от объятий студентов. Последние, в меру выпитого пива, которое я сам же достал и привёз в Институт, становились всё непосредственнее. И в какой-то момент, когда меня товарищи увлекли разговором наверх в аудиторию, так-таки её, бедную, и обидели. Когда я пришёл назад, её не было — она убежала назад домой. Дома она со слезами мне рассказала, что у какого-то столика, тот самый отвратительный Гнидин схватил её, посадил на колени и стал угощать водкой. С помощью соседа он влил ей в рот насильно полрюмки крепкого спирта, она задохнулась, а он стал вливать ей в рот ещё пиво. Все кругом только хохотали, а Гнидин повторял: «Сделаем тебя покладистее!». Эти бездельники влили в неё таким способом две бутылки пива, пока она сумела вырваться. После этого случая Галя всю жизнь смотрела на пиво с содроганием. А Гнидин долго ещё преследовал её ухаживаниями.
Однажды наш студент Хайкин поспорил на три бутылки пива, что он съест зараз 50 сырых яиц, запивая их только чаем. Ребята скинулись и купили ему 55 яиц, чтобы не сорвалось всё дело на случай, если пяток окажется тухлым. Хайкин был небольшого росточка, но очень коренастый, весельчак и хороший спортсмен. Он методически принялся за дело, каждую минуту разбивая и проглатывая по яйцу и запивая глотком чая. Народу собралось много, все глядели на него с захватывающим интересом. Когда досчитали до 40, волнение болельщиков достигло апогея. Так глядят на шпагоглотателя. Кто-то даже крикнул:
— Довольно! Отдайте ему его пиво! Ведь он же сейчас помрёт!
Но он покачал головой и продолжал глотать яйцо за яйцом. Последние десять минут прошли при гробовом молчании. Хайкин проглотил последнее, пятидесятое яйцо. Все яйца оказались свежими. Он поглядел на оставшийся пяток и произнёс:
— Не пропадать же им. Давайте, я их вам задаром съем. — И съел, и запил пивом. И не помер. Вот какую силу даёт человеку регулярное занятие спортом!
Обеспечение возлияний было главной моей общественной обязанностью как председателя Культкомиссии. Пиво тогда было проблемой. За неделю до праздника я начинал ездить по пивоваренным заводам. Когда удавалось всучить заявку, например, на Дорогомиловский завод, я нанимал телегу и трясся по булыжной мостовой за божественным напитком, привозил ящиков 20–30 и иногда, в виде деликатеса, ящика два водки.
Помню, раз я привёз пиво накануне. Возник вопрос, как его сохранить. Запереть в кладовую? Но будущие инженеры были уже достаточно грамотными, чтобы сломать любой замок. Поставить охрану? Но кому можно доверить такое сокровище? Председатель Исполбюро, пожилой и сильно партийный студент Мельников, заявил:
— Чёрт с вами, так и быть, посижу сутки в этой сырой яме. Зато пиво будет цело!
Он заперся изнутри. Когда подошёл вечер и пора было доставать пиво, мы стали стучать в дверь. Никто не отвечал. Дверь выломали. В кладовой на полу лежал как труп, мертвецки пьяный, Мельников, держа в руках две пустые бутылки, а около него валялось ещё десятка два.
Исполбюро было головой и вершителем дел Института. Оно управляло по странному сочетанию принципов личной диктатуры и народной демократии.
Мне было поручено руководить жилищным отделом Исполбюро. Общежитий у Института не было никаких и, разумеется, никаких денег на их постройку. Часть студентов сильно бедствовала, снимая втридорога чуланы и углы в частных квартирах. Я принялся добывать общежитие. В те годы Россия на дрожжах НЭПа быстро возрождалась от ударов гражданской войны и общей разрухи. Население быстро росло, ещё быстрее росло число учреждений. Но восстановление жилфонда сильно отставало. Возник острый жилищный кризис, помещения ценились на вес золота.
Я писал письма и заявлял куда только мог. Ходил на приёмы в Губжилотдел, Губнаробраз и в разные непотребные комиссии. Война Якова Фабиановича сильно вредила делу:
— Вы из частного института? У нас и для государственных-то общежитий не хватает.
Меня злило, что нас считают заведением второго сорта. Я доказывал, что мы — самый первый сорт, так как готовим инженеров для государственных заводов, не затрачивая ни копейки государственных денег, но надо мной только смеялись. Тогда я шёл в следующую инстанцию и, наконец, вместе с двумя другими членами Исполбюро, добрался до зампредмоссовета. Первый разговор с ним дал тот же результат, но мы почувствовали некоторую слабинку в его отказе и возобновили атаки. В третий раз он уполномочил нас искать какую-нибудь закрытую и разграбленную церковь и обещал отдать её нам под наше общежитие.
Трудно было себе представить, что можно превратить в жильё это мрачное, со всех концов проломленное и насквозь промёрзшее здание. Но Яков Фабианович энергично принялся за дело, мобилизовав для этого студентов строительного техникума, специально созданного им самим для выполнения таких заданий и подрядов.
Через несколько месяцев общежитие было готово. Дыры залатали, разделили церковь на два этажа, построили перегородки, поставили времянки и впихнули в получившийся крольчатник человек шестьдесят наиболее нуждающихся в жилье студентов. Я был горд, что приложил к этому руку.
Если Исполбюро было головой Института, то партбюро было его шеей, вертело головой куда хочет. Сугубо беспартийный Яков Фабианович отлично ладил с партийной верхушкой. Партийное бюро было первым проводником его идей и намерений. Он влиял даже на Исполбюро, приглашая откуда-то вне конкурса «вольнослушателей», которые тотчас включались в правящую когорту.
Ядро партийного бюро: братья Бирбрайеры, Рубинштейн, Грант — всё были серьёзными и дельными людьми. В качестве национального меньшинства им был предан некто Ваганов, который в скором времени занял в Институте положение полудержавного властелина. От него зависело продолжение карьеры любого студента. Говорили, что Ваганову ничего не стоит добиться увольнения того или иного преподавателя. Он почти не учился, а приходя на экзамен, протягивал зачётную книжку и говорил:
— Подпишите!
И ему беспрекословно все подписывали. Таких холодных, жестяных мрачных глаз я больше ни у кого не видел. Ряд лет спустя мне рассказывали, что после окончания Института он занял какой-то руководящий пост в Электротехническом тресте, но быстро спился и умер от белой горячки.
Галя тем временем перешла в литейный цех завода «Динамо». Условия работы там были исключительно тяжёлые. Огромная вагранка то и дело выплёвывала расплавленный металл, который в ковше развозили по опокам. После заливки весь пол огромного цеха дышал жаром и газами. Пыль вилась от механических решёт, на которых просеивали формовочную землю. Стоял оглушительный грохот от засыпаемой в колосники шихты, от пневматических обрубочных молотков, от многотонных бегунков, вращавшихся в беговых отсеках.
Галя работала в стержневой бригаде, изготавливавшей из формовочной земли «шишки» — внутренние формы отливки, препятствовавшие заполнению металлом полостей детали. Она руками месила землю, формовала шишки в моделях, смазывала их клейким раствором, укладывала в сушку и потом в наружную форму, при этом перетаскивая пудовые опоки.
В это время Галочка пережила тяжёлое горе и душевное потрясение. Раньше, как я уже рассказывал, тёте Тоне отказал жених за то, что она взялась опекать трёх осиротевших детей — Галю, её брата и сестру. Он сказал, что вовсе не нужна жена с тремя хвостами. Тётя пережила это очень болезненно, но детей не оставила. Он женился на другой. Когда тётя устроила детей в колонию мамы, она с горя вышла замуж, не очень разглядев человека. Это был моряк, никогда не бывавший в море. Человек, вдвое старше её, коммунист, но имевший уже не одну жену. Он работал в РКИ.
Этот самый Иван Кузьмич был не только страшно скупым, сварливым и жестоким человеком, но и настоящим бабником. Когда тётины младшие сёстры и Галя приходили к ней в гости, он при всяком удобном случае обнимал из всех подряд и сулил всякие подарки, «если они будут его слушаться и хорошо относиться». Тётя часто плакала и жаловалась Галочке на свою очень уж нерадостную жизнь. Когда тётя была на последнем месяце беременности, Иван Кузьмич поспешил уехать в Хабаровск вместе с очередной любовницей.
Тётя умерла от родов. Ребёнок родился мёртвым. Иван Кузьмич по приезде изобразил бурное отчаяние, рыдал и умолял девочек не оставлять его одного. Он уговорил Галочку поехать с ним на его родину. Как она на это согласилась!? — По своей большой доброте и наивности. Яков Фабианович дал Гале отпуск, и они поехали. Уже на второй день этот негодяй заманил Галю на сеновал и набросился на неё. К счастью, услышав крик о помощи, взрослый пасынок Ивана Кузьмича примчался и стал избивать своего «папашу». Как потом оказалось, из ревности, так как он тоже имел виды на Галю. Прямо из сарая она убежала на станцию и уехала в Москву.
Когда Иван Кузьмич вернулся, он был как чёрт зол на Галочку за сопротивление его посягательствам и заявил в уголовный розыск, что Галя и сестра тёти якобы его обокрали. Агенты МУРа явились к нам ночью во главе с ним самим, стали нас допрашивать, угрожая револьверами. Вели себя весьма грубо, в виновности нашей не высказывали ни малейшего сомнения, ну ведь такой ответственный работник им об этом сообщил! Они стали рыться во всех вещах и спрашивали этого типа, что у него украдено. Мы видели, что он был в затруднительном положении, но ловко выворачивался. Дело в том, что, хотя мы там и жили, но вещей у нас почти никаких не было. Всё, что там, принадлежало Лене. Но Иван Кузьмич отобрал, что имело ценность из носильного, набив громаднейших четыре узла. Прихватил художественный альбом Галочкиного отца, детские книжки — память родителей с надписями: «Ко дню рождения Гульке», мою шахматную доску на сто полей, доставшуюся мне на память от дедушки, и ещё многое, что понравилось. Всё сразу эти пятеро не смогли даже сразу унести на машину.
Мы рады были, что нас не арестовали. Громадное счастье, что этот самый «крупный работник» совсем исчез с нашего горизонта, оставив чувство гадливости, как заползшая склизкая холодная гадина.
Работа Галочки в литейке продолжалась четыре месяца и, казалось, ей не будет конца. Вскоре после её приезда из деревни Галя пережила ещё одно потрясение, инцидент, который перевернул всю её жизнь и перевёл на другие рельсы. Галя органически не терпела всего, что с детства считала «неприличностями». Экскурсии Лобача в эту область приводили её в негодование. Однажды, выведенная из терпения, он крикнула ему на очередной лекции:
— Да ведите же себя прилично, Борис Михайлович, здесь же есть девушки!
Лобач замолчал, но запомнил этот случай. На экзамене по деталям машин он задал Гале какой-то каверзный и весьма двусмысленный вопрос и, не дав подумать, сразу же поставил ей «неудовлетворительно». Да ещё стал распространяться тут же, что девушкам — «нежным созданиям» — незачем стремиться в инженеры, гораздо остроумнее стать инженершей, выйдя за инженера замуж. На переэкзаменовке история в точности повторилась. Вторая переэкзаменовка не допускалась, приходилось оставаться второй раз на втором курсе. Но Лобач был известен всем своей злопамятностью и не было никакой надежды, что он когда-либо пропустит Галю на третий курс. Посоветовавшись, мы решили, что лучше оставить Институт, хотя все остальные экзамены были хорошо сданы. Так и сделали.
В августе 1926 года Галочка, отряхнув прах литейки со своих ног, согласилась поехать со мной к маме, которую в начале навигации перевели в Берёзов. На эту поездку я возлагал большие надежды. В Тюмени, поджидая пересадки на платформе багажной тележки, я, наконец, решился. Как говорится, собрался с духом:
— А что, Галочка, не пора ли нам пожениться, ты не думаешь ли об этом?
В ответ — долгое недоуменное молчание. Галя слышала, что взрослые люди иногда женятся, но, по-видимому, ей не приходило в голову применить это к нам. Ведь мы ещё ребята! Я решил пустить в ход прагматический аргумент:
— Через год я кончаю, меня сразу призовут на военную службу. Ты знаешь, я думаю отказаться. По всей вероятности, меня посадят в тюрьму. Если ты будешь моей женой, тебя будут пускать на свиданья.
Долгое молчание. Галя явно обдумывала, достаточный ли это повод, чтобы пойти на такой неожиданный для нас поступок. Я устал ждать:
— Я понимаю, тебе трудно ответить сразу. Ты подумай, и в Берёзове мы вернёмся к этому вопросу.
В Тобольске произошла задержка, парохода снизу ещё не было.
На правах старожила я на другой же день стал показывать Галочке город. В нижней части, на широком мысу, — множество живописно расположенных церквей, в верхней, на горе, размещается единственный в Сибири кремль. В его стенах в бывшем архиерейском доме сейчас устроен краеведческий музей, который мы внимательно изучили. Тобольск оказался старинным городом, основанным на месте татарского поселения Бицик-Тура казацким отрядом Данилы Чулкова в 1587 году. С 1824 года город считался столицей Сибирского царства. Этот город — родина Д. И. Менделеева, сказочника П. П. Ершова, композитора А. А. Алябьева, живописца В. Г. Перова и других талантливых людей. Здесь отбывали ссылку многие декабристы, Н. А. Радищев, Ф. М. Достоевский и тысячи, тысячи других людей. На горе стоит памятник из мрамора с надписью: «Покорителю Сибири Ермаку». Автор памятника — архитектор А. П. Брюллов, не менее известный, чем его брат-живописец К. П. Брюллов.
Считается, что завоевание Сибири произошло в 1586 году, после чего был построен первый русский город в Сибири, Тюмень. Для защиты Тюмени в 1587 году у слияния Тобола и Иртыша возник деревянный острог, будущий Тобольск. И уже в 1590 году он стал главным городом Сибири. Богатым был город. Через него переправляли в Москву меха, главное богатство Сибири. Тобольск приобрёл свою печать, символ самостоятельного княжества. На печати были изображены два стоящих на задних лапах соболя.
Город был застроен деревянными домами. Многочисленные пожары уничтожали его дотла. Несмотря на это он быстро рос и богател. Постепенно миллионеры-купцы стали отстраивать каменные хоромы со множеством деревянных резных украшений и красивых чугунных решёток.
С постройкой Сибирской железной дороги в середине девятнадцатого века Тобольск стал терять своё первенствующее значение. Дорога прошла в 300 километрах южнее, через Омск, который после этого из захудалого городишки стал уездным городом. В наше время это большой красивый зелёный город.
Пароход пришёл, но ещё два дня понадобилось, чтобы команда «отдохнула», понимай — на попойку. Наконец, мы отплыли. Поездка была очень интересной. На Иртыше нам показали село, в котором родился Распутин (фаворит царицы). В другом селе на вершине трёх кедров должен был лежать «сам Шайтан». Вогулы (манси) почитали это место священным. Но мы шайтана при всём желании так и не разглядели.
— Да вон на тех, видите?
— Кедры-то видим, но больше, признаться, ничего.
— Это потому, что вы в него не верите. Вот он вам глаза-то и отводит. А кто верит — его ясно различают, не только вблизи, но и с парохода, — убеждали нас бывалые пассажиры.
Все пристани были на правом крутом берегу. На левом простирались бесконечные пойменные луга и блестели старицы. Временами к правому берегу подходили кедрачи. Раз мы с Галей во время стоянки и погрузки парохода отправились на берег за кедровыми шишками. С нами увязались ещё трое пассажиров, но бывалые люди отговаривали:
— Мошка? — то больно зла!
Вскоре вся сопутствующая нам команда была обращена в бегство тучами гнуса и комаров. Скажу без ложной скромности, что мы с Галей стойко выдержали атаку врагов. Я забрался на большой кедр, а Галка складывала бросаемые мной шишки в рюкзак. Вернувшись, мы оделили шишками всех пассажиров. Целые сутки в кокпите подсушивались эти шишки, а в каютах и на палубе шло лузганье орешков. Заплевали скорлупой весь пароход. Матросы-уборщики проклинали нас. А мы… мы даже грызть орешки не могли из-за опухших до невероятия физиономий — после укусов гнуса. Мы не могли открыть глаза и без конца чесали руки и ноги, тоже распухшие у краёв рукавов и брюк. Три дня мы мучились и совершенно не спали. Когда эта гадость стала проходить, пассажиры с участием замечали:
— Ну мы же вам гуторили, не ходите — мошка.
Нравы на пароходе были нехитрые, и нам нравились эти простые люди. Плита в кокпите топилась целыми сутками для всех. Пассажиры кругом заставляли котелками, кастрюльками, кружками, чайниками, железными банками. Всяк кипятил и варил, что имел, и, как правило, угощали друг друга. Поскольку мы не имели ни посуды, ни продуктов для варки, питались одним хлебом, нас с истинно сибирским радушием угощали чаще всех. Мы не успели занять себе места при посадке. Эти добрые люди потеснились, чтобы освободить нам место у котла, где потеплее. Мы, москвичи, только удивлялись.
Плыли мы целую неделю. За Самаровым (ныне Ханты-Мансийск) вошли в Обь, которая тут была так широка, что выглядела морем — не было видно противоположного берега. Потом мы узнали, что в половодье ширина её достигает 200 километров.
Помню чудные названия пристаней: Слатьеаранкаум, Наксимволь, Каршимкауль и т. п. На пароходе появились остяки в лаптях. У них было всё наоборот: женщины курили трубки и носили штаны, заправленные в сапоги из какой-то полупрозрачной, как нам сказали, рыбьей, кожи. Мужчины, хоть тоже курили трубки, одеты были в широкие и длинные балахоны вроде платьев, из бумазеи тёмно-зелёного, фиолетового или коричневого цвета. Самое удивительное у этих мужчин было то, что они носили очень длинные волосы, заплетённые в косы крайне неаппетитного вида, смазанных глиной и салом тюленей, чтобы не заводились вши. Русские пассажиры нам сказали, что остяки моются два раза в жизни: когда их крестят, хоть они все были язычниками, и когда их обмывают перед погребением. Одежду из оленьих шкур они не снимают на ночь и вообще-то снимают только тогда, когда она истлеет на плечах, чтобы сменить на новую.
На одной из пристаней пароход наш длительно чинился, и мы имели возможность наблюдать, как остяки ловят рыбу. Громадный невод тянут человек десять за края, как бурлаки. В ледяную воду они входят по грудь в полной одежде и в сапогах-пимах. Вытащив сеть на берег, рыбаки жадно хватали из неё ещё трепещущую рыбу и ели, хрустя костями и чешуёй, потом сушились на ветру, не снимая с себя ничего. Их труд показался нам исключительно тяжёлым, а быт нестерпимым.
Тут же нас пригласили в становище остяков, которое находилось на расстоянии полукилометра. При подходе на нас набросилась свора собак, штук двадцать. Очевидно, они стерегли оленей и более ни для чего не употреблялись. Они бы нас разорвали, если б прибежавшие жители не разогнали их ударами кнутов. На стойбище было с полдюжины летних чумов. Мы пролезли в один чум, куда нас пригласили. Стоять там было нельзя, низкий потолок был составлен из рыбьих хвостов. Рыба для копчения была повешена плотными сплошными рядами. Страшный дым ел глаза. Когда мы немного к нему привыкли, мы увидели, что в центре чума горит костёр и варится обед. Хозяин смеялся:
— Что, ведь хорошо у нас придумано? Огонь три дела зараз делает: чум греет, суп варит и рыбу коптит.
Женщины по-русски не говорили, но все были очень гостеприимны. Они наперебой угощали нам своим супом. Он варился в громадном бельевом котле. При нас в него бросали куски оленьего мяса, не вымытого, с прилипшими волосками из оленьей шерсти. Вперемешку туда же бросали не очищенную и не потрошёную рыбу, дикий лук и ещё чёрт знает что. Котёл кипел, а наверху плавал толстый серо-чёрный слой пены и жира, и волосы, и какая-то ещё грязь. Мешали суп чем попало, в том числе кнутами, которыми стегали собак. Этим вот варевом нас так ласково угощали. И ведь отказаться было невозможно. Мы, собрав всё своё мужество, съели по несколько ложек, тоже никогда не моющихся, этого, с позволения сказать, «супа».
В стойбище свирепствовали многие болезни, но главная из них была трахома. Пожилые люди все поголовно были слепыми. Но остяки так к этому привыкли, что считали закономерным. У всех жителей стойбища, включая самых маленьких детей, глаза и веки были воспалённые, красные и непрерывно чесались. После 30–40 лет люди жили во мраке. Посмотрели мы и на остяцкий транспорт. Мужчина садился на маленький невероятный долблёный колок с веслом байдарочного типа и отправлялся за сто и более километров к тёще на именины.
На пароходе нам рассказывали о промыслах остяков. Они были преимущественно охотниками и сдавали пушнину. После революции монополия на её скупку перешла к Госторгу. Методы оставались старые: остяки с товаром толпой валили в пароходный буфет. Их там щедро поили водкой, угощали за казённый счёт. Они быстро пьянели, многих команда выносила за руки и за ноги и складывала, как набитые мешки, на берегу. Пароход отчаливал, увозя добытую «за угощенье», в крайнем случае за ничтожную плату пьяным вдрызг продавцам, пушнину.
Мама нас встретила на пристани. Туда же пришла вся ссыльная колония, по большей части молодые люди и девушки, резко отличавшиеся от местных жителей своей вежливостью, дружелюбием и, как ни странно, своей весёлостью. Они очень изголодались по свежим людям из России и только деликатность удерживала их от немедленных расспросов.
Берёзов представлял собой большую деревню с правильно перекрещивающимися улицами, вдоль которых шли наполовину разломанные «тротуары» в три доски, положенные на брёвнышках. По сторонам стояли редко, как зубы старика, солидные избы. Среди них особенно выделялись своей капитальностью избы зырян — коми. Они были сложены из таких массивных и ровных кедровых брёвен, которые не росли в ближних хилых мелкорослых лесах. Они явно были сплавлены сверху. Некоторые из домов были покрыты резьбой и раскрашены масляной краской. Позже мы узнали, что внутри украшения были ещё более сложны и красивы. Такого стремления придать красоту своему быту, такой высокой материальной культуры я не встречал потом ни у одного народа.
Впрочем, было в Берёзове и одно двухэтажное здание из неоштукатуренного кирпича — местный отдел ГПУ. На главной площади — она же выгон, она же футбольное поле — посередине был сооружён памятник местному партизану. Памятник был вырублен из деревянного четырёхгранного бруса и представлял собой карлика с громадной головой, имеющей фас и профиль и никаких промежуточных проекций.
Мама рассказала, как их везли в Берёзов. Они были заперты в трюм, почти без воздуха, кормили отвратительно. Многие заболели поносом, цингой. Плыли за ледоходом. Но Обь, чем ниже, тем позже вскрывается ото льда. Таким образом тюремный пароход шёл до Берёзова три недели. Обь разлилась, их качало, как на море. Почти все заключённые страдали морской болезнью, которая усугублялась большой теснотой и страшной духотой.
В Берёзове ссыльных выпустили на волю, то есть предоставили им право умирать с голоду. Поступать на службу им строго воспрещалось, хотя нужда в грамотных людях была очень велика. Единственная работа, которая им предоставлялась, — работа крючником на товарной станции. Только два-три человека смогли воспользоваться этой возможностью. Женщины, пожилые и больные люди и даже молодые, изнурённые длительным предварительным заключением, совершенно для этого не годились.
Ссыльных спасала только солидарность. Колония состояла из эсеров, левых эсеров, меньшевиков и сионистов. Все они объединились и делили поровну свои припасы. Посылки, которые некоторые из ссыльных получали из дома, поступали в общий котёл. Началась отчаянная борьба с начальством за право работать. Накануне нашего приезда она увенчалась первой победой. Из Свердловска, которому подчинялась Березовская ссылка, пришло разрешение допускать ссыльных до ощипывания птиц и набивания подушек в отделении треста «Пух-перо». Впрочем, немного раньше победу одержали медики. Этому помог один анекдотический случай.
Всё местное население, километров на 300 вокруг, лечилось в Берёзовском здравпункте, персонал которого состоял из двух отставных военных фельдшеров, закадычных друзей, собутыльников и совершенно безграмотных людей. Однажды серьёзно заболел один из уполномоченных ГПУ. Он, естественно, остерёгся обращаться к пьяным эскулапам. Среди ссыльных был профессор медицины из Ярославля, арестованный за статью в газете о поставках недоброкачественного молока в ярославские детские консультации. Уполномоченный обратился к нему. Профессор отказался его лечить, сказав, что ему, согласно приказу того же уполномоченного, запрещена частная практика. Уполномоченный предложил зачислить профессора в штат здравпункта. Врач поставил два условия: чтобы были уволены два фельдшера-шарлатана и были бы приняты на работу все ссыльные медики, находившиеся в Берёзове. Их набралось ещё четверо: терапевт, зубной врач, фельдшерица-акушерка и студент-медик четвёртого курса. Уполномоченный отказал, но когда температура у него поднялась до 40°, капитулировал. Его быстро вылечили.
Мама жила в крестьянской усадьбе на границе посёлка. Она снимала отдельную комнатку за перегородкой, площадью около пяти квадратных метров. Там помещалась кровать, этажерка для вещей и маленький столик. На стенах висели крохотная иконка Николая Чудотворца, белый крестик в голубом овале, вырезанный Борицей из куска мела, портрет Кришнамурти и любимые открытки, с которыми она никогда не расставалась: караван верблюдов в пустыне, остановившийся для совершения намаза и «Собирательницы колосьев» Милле. На столе лежало вышитое полотенце. Во всём был наведён порядок и возможное благолепие.
У хозяев, в огороженном высоким забором из досок дворе были сарай и коровник, перекрытые сеновалом. Его предоставили в наше с Галей распоряжение. О лучшем мы не могли и мечтать.
Мама и здесь вела деятельную жизнь. Ещё на пароходе она заметила, что некоторые ссыльные склонны впадать в отчаяние, подвергались апатии, другие же искали утешения в вине. По приезде она организовала с полдюжины кружков для самообразования, для занятий искусством и даже спортом. Раскачала людей, хорошо знавших какую-нибудь специальность, принять руководство кружками, но преимущественно пыталась замещать собой недостающих специалистов: вела уроки нескольких языков, читала лекции по истории культуры, кооперации и уж не знаю ещё что.
Чтобы соблазнить молодых людей, склонных к умственным и политическим спорам, заняться физкультурой, она взяла у хозяев пилу, сама нарезала городки и биты и показала им как играть. Она же подала им идею организовать футбольную команду. Но с кем играть? Позондировали в клубе комсомола. Там были те же затруднения. Не было организатора и вдохновителя. И вот однажды на площади появилось удивительное объявление о том, что «Состоится матч между местной командой комсомола и командой ссыльных специалистов». Матч происходил при большом стечении зрителей. Он окончился вничью.
Среди ссыльных были разные люди. Мы ходили в гости к местным старожилам — старичкам-меньшевикам. Они были в Березовской ссылке полные три года и уже обросли хозяйством. Дети им присылали деньги, они собирали ягоды, варили варенье, солили грибы. У них в доме всегда находилось что поесть, на столе шумел самовар. К ним все обращались за деньгами, за хозяйственными предметами, и они никому не отказывали. Словом, это был единственный дом, где бесприютная, изголодавшаяся молодёжь могла отдохнуть в семейной обстановке.
Я встретил здесь Лёву Цвика, того мальчика, которого год назад в Тобольске привели в больницу. Он оказался сапожным подмастерьем из черты оседлости. С детства он твёрдо усвоил мечту о Земле Обетованной. С десяти лет работал и копил деньги на дорогу. К шестнадцати годам накопил, подал заявление и получил разрешение на выезд. Приехал в Одессу, сел на теплоход и здесь был арестован вместе с другими эмигрантами. Затем был отправлен в Берёзов по делу сионистов.
Некоторые ссыльные были маме более близки. Среди них выделялись двое, отнюдь не по убеждениям, а просто как люди — юноша-поэт, левый эсер, по прозвищу Лирик, и девушка — Роза, сионистка, очень простая и искренняя, бывшая студентка какого-то педагогического института. Молодые люди полюбили друг друга и собирались пожениться. В беседах с мамой они поверяли ей свои сердечные дела и, чему она была особенно рада, проявляли интерес к теософии.
Однажды из предыдущего места ссылки пришло зашифрованное письмо, в котором сообщалось, что Лирик был провокатором. Источник был верный, факты убедительны, и совет ссыльных приговорил его к бойкоту. Объявить ему о приговоре поручили маме. Это было тягчайшим поручением в её жизни. Лирик клялся, что его оклеветали, доказывал, даже плакал. Но бойкот всё же осуществили. Вся колония была подавлена. В местечке, где нельзя пойти в лавку, чтобы не встретить десяток знакомых, видеть ежедневно прежнего товарища, теперь отщепенца, было невыносимо. Роза пыталась покончить самоубийством, но её спасли.
В Берёзове были ссыльные, которые не входили в колонию. К ним относились, во-первых, каэры (от кадетов и правее), во-вторых, анархисты. Последних было трое, самый главный был Лёва Брук. Ещё в Тобольске он объявил, что не сделает ни шагу, чтобы ехать в ссылку. И не сделал. На пароход его внесли конвойные на руках. Тем же порядком произошла и разгрузка. В Берёзове анархисты объявили, что не будут ходить на ежедневную регистрацию, на которую были обязаны являться все ссыльные. За это их посадили в тюрьму, помещавшуюся в пустой избе. Изба не имела замка, но около двери дежурил милиционер. На беду, по причинам каких-то финансовых затруднений, милиционерам уже третий месяц подряд задерживали зарплату, и они объявили забастовку. Ушёл со своего поста и тюремный стражник. Арестанты посидели-посидели, да и разошлись по домам. Вдобавок Брук из протеста перебил кирпичами стёкла в ГПУ. Как его накажешь, если нет ни тюрьмы, ни милиции?
Однако всё это отозвалось на других ссыльных. Озлоблённая администрация срывала свой гнев на остальных, придираясь к ним из-за всяких мелочей и, в меру сил, отравляя их существование. Очень вышли боком эти три анархиста.
Но остальная компания жила дружно. Мы ходили с ними в лес за грибами, катались на лодке по протокам Оби. Но чаще мы ходили в лес вдвоём с Галей. Лес был очень своеобразный, низенький, редкий, самые высокие ёлочки едва доходили до пояса. В низких же местах вовсе переходил в криволесный ползучий ерник. Лес был полон грибов, белых грибов. Самые крупные грибы среди карликовых ёлочек, не более двадцати сантиметров высотой, нередко достигали вершин этих карликов.
Ходить в лес мы очень любили, эти походы напоминали нам Россию, только ужасно мучили комары и особенно гнус. Комары против гнуса были просто ангелами. Очень нам нравились также поездки на лодках — больших, неуклюжих лодках. Мы ездили к речным островам. Здесь можно было поднять накомарник, поговорить о московских новостях, поспорить о политике. В среднем ссыльные были развитее меня, исторически и литературно образованнее, и я чувствовал себя так, как будто это я приехал из далёкой провинции и попал в столичное общество. Особенно отличался некий Шурочек-Шурупчик, которого называли так, как уверяли остальные, из уважения к его технической специальности.
Берёзов имел свою историю. Большинству он известен как место ссылки Меньшикова, и то лишь благодаря знаменитой Суриковской картине. Но в дни нашего приезда Берёзов больше гордился пребыванием там Троцкого, сосланного туда царским правительством. Троцкий бежал из ссылки, перебравшись через Уральский хребёт. Его перевёз на возу подкупленный крестьянин. Последний давно умер, но советская власть оценила его заслугу перед революцией, и его дочери дали место машинистки при ГПУ.
Дней десять мы прожили мирно в Берёзове. Вдруг маму вызвали и сообщили, что пришёл ответ на её весеннюю просьбу о замене места ссылки ввиду слабого её здоровья. Ответ был положительный. Новым местом ссылки назначался город Ирбит.
На этот раз маме было разрешено ехать не по этапу, а самостоятельно, и мы решили её сопровождать, чтобы помочь устроиться на новом месте.
Перед отъездом, учитывая мирную обстановку и добрые отношения, я с надеждой спросил Галю, подумала ли она о моём предложении. Галя удивилась:
— О каком предложении?
— Ну, на пароходе-то… О женитьбе!
— А я и забыла…
Ну что ты будешь делать с таким ребёнком? Я совсем приуныл и решил отложить этот разговор года на три.
Провожать маму пришла вся колония. Она уезжала с тяжёлым сердцем, опасаясь, что учёба ссыльных будет запрещена, культурная жизнь пойдёт на убыль, появятся фракционные и личные распри. В колонии было много милых людей, но она не видела никого, кому могла бы передать свои функции организатора, преподавателя, всеобщего духовника и мирового судьи.
Сразу после отплытия я встретил на пароходе своего однокурсника по Институту — Каплуна. Он неважно учился, был стилягой, то есть носил брюки дудочкой, ботинки — лодочкой и замшевые гетры. Он принадлежал к тому слою еврейской молодёжи, которая во времена нэпа в изобилии «утюжила» мостовую на Сретенке и Покровке. Каплун снимал комнату вместе с другим студентом. Того внезапно арестовали по обвинению в сионизме, но улик не нашли и от Каплуна потребовали, чтобы он дал ложные показания, подтверждающие обвинение. Каплун был абсолютно аполитичен, но внезапно заупрямился и отказался. Тогда забрали и его.
В тюрьме Каплун попал в камеру с левыми эсерами самого боевого толка. Они преподали ему свою политическую науку, распропагандировали его, как говорится, «в доску» и озлобили против советской власти. Когда через полгода он вышел в ссылку, парня нельзя было узнать: он был убеждённым левым эсером и прекрасным пропагандистом. Это был пример той многочисленной группы нейтральных и потенциально полезных людей, из которых советская власть своими бессмысленными преследованиями создала себе ярых врагов.
К удивлению, Каплун неплохо приспособился к ссылке. Он был в числе тех немногих, которые поступили грузчиками на речной транспорт. Когда я его встретил, это был другой человек: он загорел, раздался в плечах, руки были в мозолях, приглаженные раньше волосы отросли буйной гривой. Он сам говорил, что впервые почувствовал себя человеком, хотя, впрочем, не испытывал ни малейшей признательности к органам, подсобившим ему в этом деле. Наоборот, он с нетерпеньем ожидал момента, когда сможет целиком посвятить себя борьбе с ними.
Мы ехали по воде и по железной дороге с многочисленными пересадками: в Тобольске, Тюмени, Богдановиче, Егоршине и, наконец, прибыли в Ирбит. Сняли комнату опять-таки на окраине города, за речкой, служившей его границей. Домик был аккуратный, коричневый с белыми наличниками и содержался хозяевами в идеальной чистоте. Полы ежедневно мыли керосином и скребли веником. В городе был старинный гостиный двор, на котором некогда происходили знаменитые ирбитские ярмарки, к тому времени ликвидированные. Впоследствии они возобновились. Перед рядами лабазов простиралась обширная рыночная площадь, на которой лежали заросшие крапивой развалины собора и торговал сильно сократившийся базар — единственный источник снабжения населения продуктами. Всё-таки там были огурцы и капуста, молоко и сметана. По сравнению с Берёзовым Ирбит казался столицей.
Близко от нашего дома был берёзовый лес, чередующийся с полянами. Стояло красивое золотое бабье лето. Золото берёз и треск кузнечиков на лугах казались особенно привлекательными после суровой природы Берёзова. Приближался конец моего отпуска. В ответ на настойчивые просьбы мамы Галочка согласилась остаться с ней в Ирбите ещё на месяц. Они собирались часть дня проводить в лесу.
Накануне моего отъезда, это была суббота, Галя сказала:
— Я подумала, давай оформим женитьбу.
— Когда?
— Да хоть сейчас.
От неожиданности и волнения меня непременно хватил бы инфаркт, если б я только знал, что это такое. Надо думать, что я не сопротивлялся. Мы решили преподнести маме сюрприз. Она давно мечтала о том, чтобы мы поженились, и очень этого ждала.
Мы взяли паспорта и сказали, что пойдём погулять. Мама дала нам большой бидон, чтобы по дороге мы купили керосина.
На городской площади в зарослях бурьяна мы поймали ежа. Он был старый и облезлый, иглы из него повылазили. Мы решили выпустить его в лесу, завернули в Галину красную косыночку и пошли в загс. Но тут подумали, что довольно-таки странно явиться в такое учреждение — дворец бракосочетания — не только с керосиновым бидоном, но ещё и со зверем. И выпустили ежа около зеленной лавочки, уже закрытой, но с большим количеством всякой бросовой зелени за ней.
Увы, мы пришли слишком поздно. Соответствующий (по существу, совсем не соответствующий для таких дел) старичок уже собрал свои бумаги и собрался уходить. Мы его долго уговаривали, аргументируя тем, что завтра я уезжаю.
— Так зачем же вам тогда загорелось жениться? Встретитесь и поженитесь, — резонно возражал он.
Разве он понимал, как это было важно при разлуке сознавать, что мы уже муж и жена? Он долго думал и, наконец, уступил. Никаких формальностей, в том числе заблаговременных, тогда не требовалось, и свидетелей тоже. Но требовалось купить в банке марок гербовых на 50 копеек. Это было обязательно, а банк уже был закрыт. Мы были в отчаянии, казалось, судьба снова отвернулась от нас. Но старичок оказался добрым и сообразительным. Он согласился зарегистрировать нас, но не дал удостоверения о браке и сказал, что выдаст его Гале, когда в понедельник она принесёт марку.
Мы вышли счастливые и сконфуженные. Как будто совершили какую-то шалость, за которую ещё неизвестно как придётся отвечать. Несмотря на это нам было очень уж весело и захотелось немедленно отметить этот важный шаг в жизни. Поразмыслив, решили кутнуть и купили по кружочку вафельного мороженого по двадцать копеек. Неслыханное дело! Обычно, и не часто, мы позволяли себе покупать только по три, в крайнем случае, по пять копеек. Мальчик, продававший мороженое, отпуская его, нам сказал:
— Вафли не снядайте, они поганые.
Мама несказанно обрадовалась, она давно одобрила мой выбор. Она приготовила роскошный винегрет со сметаной и чай с вареньем. Вечером мы втроём отпраздновали нашу свадьбу: сидели вместе, мама в середине, рассказывала нам всякие подходящие к случаю истории. Перед сном, прощаясь, она сказала:
— Я хотела бы, чтобы я всегда была между вами.
После моего отъезда жизнь в Ирбите потекла мирно. Мама и Галя вставали в 6 часов. После утренней медитации пили чай. Потом писали письма, мама работала над рукописью о колонии. После обеда гуляли в лесу, много разговаривали. Я подозреваю, что я поставил им немалый материал для обсуждения. Галя много занималась с маленьким хозяйским сыном. Её письма были полны рассказами о мальчике Васе и собаке Пальме. Её письма я получал ежедневно. Я тоже был одержим потребностью писать ей письма по десять страниц, а раз побил собственный рекорд и написал ещё больше, правда, в течение трёх дней. Да и как было не писать, если наш медовый месяц обернулся разлукой.
В середине октября Галочка вернулась в Москву. В нашей жизни мало что изменилось, только узаконенность нашего положения придала нам больше уверенности и освободила от намёков и скользких улыбок со стороны соседей и знакомых. К удивлению, переход в класс «женатиков» не вызвал всеобщих насмешек, а некоторыми был даже принят как давно назревшее мероприятие.
Я перешёл на пятый курс и закончил производственную практику. Своей специализацией я выбрал электрическую тягу. До некоторой степени осуществилась моя давняя мечта об изобретении электрической лошади. Конечно, её изобрёл раньше меня Генри Форд, но я утешался тем, что, по крайней мере, буду вносить вклад в дрессировку трамвая.
Меня перевели на стажировку в трамвайный парк имени Апакова, что на Калужской площади, и зачислили слесарем 4-го разряда. Это был шаг вперёд в отношении зарплаты, от чего выигрывал Институт, но шаг назад в отношении квалификации.
В парке стоял непрерывный грохот от приходящих и уходящих трамваев, сновали кондукторы и вагоновожатые. Мы спешно производили самый поверхностный ремонт, но смотровые канавы и ночные дежурства были мне уже знакомы. Наиболее яркие впечатления остались у меня от буфета парка. Ведь я получал уже 30 рублей стипендии и мог позволить себе обед из стакана простокваши, стакана чая и ста граммов хлеба.
На пятом курсе Фиников читал нам векторный анализ. Я с трудом соображал, какое он имеет ко мне отношение. Яков Фабианович вёл курсы переменных токов и асинхронных моторов. Его лекции всё меньше удовлетворяли меня. Образные сравнения, аллегории, неожиданные выводы, вызывавшие интерес на первом курсе, теперь, когда нужно было разбираться в сложном материале, утомляли. «Ну почему не сказать об этом проще?» — думалось мне.
Яков Фабианович часто пускался в рассуждения о своих методах воспитания инженеров. Мы усердно его подначивали:
— Яков Фабианович, вы вчера были в ГУСе, расскажите вкратце ваши впечатления.
— Вы хитрые пассажиры, я вас насквозь вижу. Вы думаете, старик заболтается и про асинхронные моторы забудет. Дудки!
Но тут же сдавался:
— Ну, только пять минут. Пожалуй, вам полезно это знать. Так вот, я шёл к этим «гусям», чтобы спросить у них: хорошо ли они понимают, какие командиры нужны производству? Может быть, они хотят готовить вполне бесхребетных интеллигентов и прочих сукиных детей, которые не знают, в какую сторону надо гайки отвёртывать. Ну, конечно, поругался с этим ослом Луначарским. Он говорит: «Инженеру нужен широкий кругозор». Так что же, он будет свой кругозор вместо обмотки на ротор мотать, что ли? Вы, говорит, при Вашей системе деляг готовите. А я говорю: «Да, и этим горжусь. Деляги — значит дело делают. Инженер должен уметь показать рабочему любую операцию. А этого без круглогодичной производственной практики достигнуть нельзя. Мы мало успеваем пройти теории? Так я вам скажу, что вообще не занимаюсь производственным обучением. Я занимаюсь производственным воспитанием. А обучаться инженеры должны всю жизнь, после окончания ВУЗа. Всё равно нельзя предусмотреть, что тому или иному понадобится. Важно им дать азы и научить работать со справочниками. Вообще надо привить желание работать».
Сев на любимого конька, Яков Фабианович уже не нуждался ни в какой подначке. Когда раздавался звонок, он заставал лектора в апогее аргументации.
— Черти, таки добились своего. Проболтал я с вами. Не думайте, что из-за этого я буду меньше спрашивать на экзамене. Я вам… — и дальше следовала обычная угроза переломать нам ноги, которой мы уже не боялись.
Мы его очень любили, этого чудака, и свято верили, что его метод наилучший. Очень нас подкупало его бескорыстие и преданность идее. Однажды я присутствовал при таком разговоре. Во время экзамена вошла его жена (они жили при Институте) — маленькая старушка, очень подчёркнуто еврейского типа.
— Яша, ты не забыл ли, что у нас дочка балерина, ей же надо что-нибудь кушать. Ведь она целый день учится. Дай хоть пять рублей.
— Нету ни копейки, потерпите ещё несколько дней. Поскребите там дома чего-нибудь.
Жена ушла, пришёл дворник Романов, который, как и все в Институте, занимал несколько должностей. По совместительству он был чем-то вроде прораба на строительстве нового корпуса. Жил он во дворе, в халупе, именовавшейся «Дворцом Романова».
— Яков Фабианыч, на постройке гвозди закончились, да и скоб дюжины две осталось только. Плотники, того и гляди, станут.
— На тебе сто рублей, купи, что надо. Вчера в ГЭТе жалованье получил. Только жене не говори.
Была у него одна антипатия, кроме «гусей». Это — техника слабых токов. Радио было новинкой, и студенты, естественно, очень им интересовались. Сам собой возник кружок радиолюбителей, на котором мы учились делать детекторные радиоприёмники. Яков Фабианович очень косо глядел на нашу инициативу:
— Хлопцы, — говорил он, — заклинаю вас, никогда не вставайте на скользкий путь слабых токов.
Если б он мог предвидеть будущий расцвет электроники и ту роль, которую она будет играть в народном хозяйстве!
Путешествие с Галочкой нам стоило дорого, мы влезли в долги и снова принялись искать заработков. Расплатиться с долгами, получая одну стипендию на двоих, нечего было и думать. Галя устроилась работать ночным лифтёром в глазную больницу Снегирёва, что в Колпачном переулке, я бросился опять на «паутинку». Монко в это время уже сошёл с этого дела, и мы с двумя товарищами однокурсниками, Чечёткиным и Зайченко, организовали акционерное общество «Шараж-монтаж». Принялись всячески рекламировать свои способности. Заказы не замедлили явиться. Помню некоторые из них.
Первым делом мы попали к какому-то кустарю-одиночке. Он незаконно и беспатентно серебрил на дому ложки и никелировал портсигары. Ему нужен был постоянный ток. Он пережёг свою проводку, пытаясь подключить к ней какой-то умформер или выпрямитель. Он торопился заменить провода, пока никто на него не донёс. Это был пожилой мужчина, мрачный и подозрительный, с поповскими волосами, словно обсосанный. Квартира его была очень плохая, в старом домике, провонявшая купоросом и ещё какой-то гальванической дрянью. Форточки никогда не открывались. Работать было тошно, тем более, что хозяин всё время придирался и брюзжал насчёт того, что много тратим материала и что ему это дорого обойдётся. Чечёткин, большой комик, ввинчивая лампочку в только что поставленный патрон, возражал:
— Что вы, хозяин. Вы обратите внимание на качество работы нашей фирмы. За те же деньги лампочки протираем!
В другой раз мы попали к истинному пролетарию — заводскому кузнецу. Он жил на Сухаревке в хорошей конфискованной квартире. Однажды мы работали в субботу, а он, сидя один за столом, рюмку за рюмкой глушил горькую. Жены не было дома, дети робко жались в углу. У кузнеца была добрая русская душа, и он принялся нас угощать. Так как мы решительно отказывались, то он постепенно свирепел. Через четверть часа он уже хватал то одного, то другого из нас за грудки и орал:
— Пей сейчас, не то в морду дам!
И подносил к носу кулак, большой, похожий на кузнечную кувалду. Пришлось пить. Пили мы впервые, водка показалась отвратительной, и мы сразу захмелели. А надо было лезть на стремянку под высоченный потолок. Комната ходила ходуном, из двух ударов молотка один приходился по пальцам. А кузнец не унимался, вошёл в азарт. После третьей рюмки я уже не мог подняться на стремянку, но заметив, что бутылка пуста, неосторожно проговорил:
— Слава богу, всё!
Кузнец взвился:
— Что ж вы, сволочи, думаете, что у Петра Смирнова денег больше нет? Нюшка, беги сейчас же на уголок, принеси ещё бутылку!
Старшая дочка надела платок и покорно побежала выполнять приказание. Мы сжались: «Что же теперь будет?» К счастью, когда новая бутылка была на столе, наш хозяин уже храпел, распростёршись под столом.
После этих приключений очень приятно было попасть в крохотный особнячок профессора Зимина у Яузских ворот, где нас вдохновлял и сам добродушный профессор, и особенно две его молоденькие дочки. Они не прочь были перекинуться с интеллигентными монтёрами парой слов и постоянно подтрунивали над нами, будто нам не сделать то-то и то-то. Я был особенно горд, когда, вопреки их предсказаниям, собрал на лестнице схему из двух переключателей на одну лампу, так что, входя внизу, можно было её включить, а наверху выключить или наоборот.
К сожалению, эти занятия закончились с моим переводом из Апаковского парка в управление МГЖД. Больше нам нельзя было работать в ночной смене, а день посвящать халтуре.
МГЖД делилось не на отделы, а на службы: служба пути, служба движения, служба подвижного состава. Я определился в последнюю. Солидное учреждение на Раушской набережной внушало уважение и располагало к серьёзной работе. Очень порадовало меня начальство. Лучшего и быть не могло. Начальник технического бюро службы, Григорий Иванович Васильев, — худой, длинноногий, лысый, с бордюром седых кудряшек, всегда одетый во всё чёрное, казался с первого взгляда чёрствым и колючим. На самом деле он оказался добрейшим человеком и проявлял ко мне отношение самого тёплого участия. Главный инженер, Яков Григорьевич Фишман, наоборот, толстенький, стриженый, как мальчик, под машинку, мягкий и упругий в движениях, но очень принципиальный в спорах. Благодаря этому, а также своим большим познаниям он всем внушал почтительный страх. Он также отнёсся ко мне покровительственно и очевидно возлагал на меня надежды, как на полезного в будущем работника службы. В этом я его вскоре разочаровал, но я очень благодарен и ему и Григорию Ивановичу за то, что они «в минуту жизни трудную» не изменили ко мне доброго отношения.
В техбюро царили тишина и порядок. Сварзовского зубоскальства не было и в помине, даже деловые разговоры полагалось вести шёпотом.
Мне дали тему: расчёт механического привода к тормозным колодкам обратного действия. Применявшиеся до этого на трамваях колодки были прямодействующие, то есть они зажимали колесо, когда в систему подавался сжатый воздух. Это была скверная система, потому что в случае утечки в трубах тормоза отказывали и дело кончалось аварией. Колодки должны были прижиматься к колесу пружинами, как только из системы выходил воздух и переставал их растягивать. В этом случае при наличии утечки вагон автоматически затормаживался.
Расчёт оказался неожиданно трудным. Конструкция требовала семи-восьми последовательных расчётов на каждый полускат, сплошь и рядом с подвижными точками опоры. Сила на штоке цилиндра была задана; надо было так подобрать плечи рычагов, чтобы получить определённое натяжение пружины, прижимающей колодку. Но задача приводила к системе двенадцати уравнений с тринадцатью неизвестными и не давала определённого решения. Я буквально заболел ею. Ни днём, ни ночью не расставался с логарифмической линейкой, вытащил свои записки и повторил весь курс теоретической механики, исписал горы бумаги. Наконец, как это ни ущемляло мой престиж, обратился к старшим. Но мой престиж получил удовлетворение, так как ни Васильев, ни Фишман не смогли решить задачу, которая казалась им вначале простой. Некрасов ушёл из Института. Но я проник к нему домой, просидел у него полдня и вогнал беднягу в пот. Он тоже не решил задачу, но указал некоторые пути её решения и необходимость некоторых допущений. По пути, указанному им, я через месяц решил задачу сам.
Потом последовали некоторые другие проекты. В ходе их решения мне приходилось входить в кабинет даже самого заведующего службой Козненко, который надо мной возвышался столь высоко, что поглядеть — шапка свалится. «Чёрт возьми, — думалось мне, — из меня, кажется, начинает вылупляться настоящий инженер».
На шестом курсе уже не было лекций. Только недавно окончивший инженер Пинатский, очень чистенький и очень аккуратный, вёл с нами практикум по конструкциям электрической арматуры. Благодаря монтёрским заработкам тема была мне более или менее известна.
Мы все засели за дипломные работы. Я выбрал себе тему: «Расчёт тормозной системы четырёхосного моторного вагона». Здесь можно было использовать работу, проделанную в МГЖД. Хотя она целиком была основана на механике и пневматике и никак не касалась электричества, она была утверждена без возражений. Но тут вмешалось новое обстоятельство. Яков Фабианович где-то откопал книгу Pistoye «Calcule mécanique et construction des machines électriques» (Пистуа. Механический расчет и конструкция электрических машин), изданную фирмой Эрликон. Это был клад для нашего Института, но никто не хотел её перевести и издать. Яков Фабианович свистнул по старшим курсам: кто хоть немного знает французский язык? Отозвались двое, Баг и я. Оба предупредили, что знаем его очень плохо. — Два «плохо» равняется одному «хорошо». Вот вам добавочная практика: переведите Пистуа и мы его тиснем на стеклографе. Раздадим всем пассажирам: учитесь, как надо работать. — Но ведь у нас стажировка, да плюс к тому дипломы! Мы тогда не закончим их в срок! Шутка ли, перевести 350 страниц! — Ишь, какие прыткие! Срок два года существует, только чтобы пугать чернокожих. Фактически ещё в два года никто Институт не кончал. Посидите второй раз на шестом курсе, не слиняете!
Нечего делать, мы взялись. Да и по существу работа привлекала. Досконально изучить такую книжку, да ещё усовершенствоваться во французском языке — стоящее дело. Да и куда, в самом деле, торопиться, — в тюрьму?
Мы разделили Пистуа по главам и работали отдельно. Потом собирались вместе по очереди то у меня на чердаке, то у Бага в холодной конуре на Верхней Масловке и прорабатывали каждую фразу вдвоём. Постоянно возникали дискуссии:
— Как ты перевёл? Ток течёт «на проводе»? А я считаю, надо «на провод».
— Уж тогда «по проводу». — А может быть «через повод»?
Мы ненадолго задумывались. — Ув! — кричал Баг на своём забавном жаргоне, — как мы забыли: «ув проводе».
У старика оказалась молоденькая девушка. Он представил её, сильно смущаясь, а она совсем была готова провалиться сквозь землю. Маленькая, похожая на мышь, ужасно застенчивая, она училась на втором курсе Института иностранных языков. Ничего не понимая в конструкции электрических машин, она больше нас смыслила во французской грамматике и потому была охотно принята в качестве третьего члена триумвирата. Кажется, Баг в конце концов на ней женился.
Так или иначе Пистуа был переведён и поступил в производство. Только мы одни и прочли как следует эту действительно превосходную книгу. Её даже не напечатали на машинке, в те времена это стоило слишком дорого. Отшлёпали с рукописного материала, половину страниц смазали. Особенно чертежи вышли «ночь в Крыму, всё в дыму, очень уж обидно, что ничего не видно». Тошно было в руки взять. Но для меня Пистуа сыграл ту роль, что привил вкус к ремеслу переводчиков, это не раз меня потом выручало.
Разделавшись с переводом, я как следует засел за дипломную работу. У нас в Институте дипломы не составляли особой проблемы. Они не защищались, а просто принимались или не принимались Яковом Фабиановичем. Поговаривали даже, что он давно перестал их читать, а оценивал на вес, что было бы неудивительно при его нагрузке. Один студент, чтобы раз и навсегда в этом убедиться, поставил эксперимент: изъял из своей дипломной работы две главы и вшил эквивалентное число страниц из «Накануне» Тургенева. Он решил, что, если Яков Фабианович хотя бы перелистывает работы, он заметит чужеродное тело. Тогда ошибку можно будет свалить на переплётчика и заменить недостающий текст. Но никаких замечаний не последовало. С тех пор к дипломной работе многие относились спустя рукава. Но мне не хотелось пользоваться перегрузкой Якова Фабиановича.
Итак, я взялся за свой четырёхосный вагон и за четыре месяца раздраконил его как только мог. Там были и умные расчёты, и конструктивные соображения, и красивые схемы, сделанные разноцветной тушью на кальке, и даже историческая часть, в которой рассматривались трамвайные тормоза от Адама до наших дней. Я отнёс переплетённую книгу Якову Фабиановичу. Он взвесил её на руке и произнёс:
— Ого! Серьёзная работа! Зайдите через две недели.
Я зашел через две недели к Марии Альбертовне. Она порылась в списках:
— Ваша работа принята…
И, не говоря худого слова, выписала мне удостоверение об окончании Института и о том, что отныне я могу занимать должность по узкой специальности инженера электрической тяги.
Я ушёл, задетый прозаичностью этого важного момента в моей жизни. Никто не бил в литавры и не трубил в фанфары. Даже выходного вечера мы не организовали. Как-то быстро все потеряли интерес друг к другу, да и выпуск растянулся на год.
Я окончил Институт в марте 1927 года, но временно продолжал стажироваться в МГЖД. На первое мая мы с Галочкой решили отпраздновать это событие и махнуть на Кавказ. Кстати, мы вспомнили, что задолжали сами себе свадебное путешествие. Не считать же за таковое поход в лавку за керосином!
Мы ехали на багажной полке прокуренного вагона. На каждой станции вылезали хлебнуть свежего воздуха; поезд стоял повсюду не менее 30 минут, а то и полтора часа. При этом были безмерно счастливы. В Москве Галочке повезло, она впервые в жизни с большим трудом достала по профсоюзному билету очень славные сандалии.
На вторую ночь сандалии, поставленные на полу в купе, были кем-то украдены. Я чувствовал, как она это переживала, хотя не показывала виду. В Ростове-на-Дону, пока стоял поезд, я сбегал на базар и купил какие-то безобразные бабьи матерчатые туфли, которые бедная Галочка, подвязав бечёвкой, носила всё путешествие.
На третьи сутки мы увидели горы, потом въехали в них, чувствуя себя как Алиса, вступающая в сказочный мир Зазеркалья.
Прошло ещё полсуток, и мы высадились в Туапсе; здесь предстояла пересадка на новую и, как говорили, опасную, Черноморскую железную дорогу.
Мы обошли Туапсе. Всё нас восхищало: и запах моря, и крутые узкие улочки и садики, перекрытые виноградом. Особенно хорошо было Туапсе ночью: и горы, и разбегавшиеся россыпью золотые огни на фоне серебристой лунной дороги, уходящей до горизонта по невидимому морю.
Утром мы поехали дальше в поезде, боязливо вползавшем в многочисленные туннели, осторожно обходящем свежие обвалы. Местами поезд ожидал, когда ему расчистят и отремонтируют путь. Когда впереди показывались ремонтные рабочие, подбивавшие балласт под шпалы, со всех площадок соскакивали пассажиры и бежали к морю. Бежали и мы и бросались в его тёплые волны, радуясь чуду оказаться среди лета сразу после утопавшей в весенней грязи Москвы. Когда поезд гудел, мы вместе с другими выскакивали, подхватив под мышки рубашки и ботинки, что было сил карабкались на насыпь и догоняли проходящие подножки, кончая одеваться уже в вагоне.
По дороге в Сочи мы сделали ещё одну остановку в Лазаревке. Там летами жил Михаил Васильевич Муратов, лечась от туберкулёза. Мы переночевали в его комнате. Утром, выйдя в сад, мы полной грудью хлебнули и тёплого морского ветра, и пения птиц, и буйного цветения трав. Господи, бывают же на Земле такие уголки и такое полное счастье!
Поднявшись немного в гору, Галя увидела подростка, который обмотал вокруг своей шеи громадную зелёную с жёлтым брюхом змею, а потом пустил её себе за шиворот и, видя Галин ужас, вызывающе смеялся. Что это, несовершеннолетний факир? Укротитель змей? Значительно позже Михаил Васильевич, улыбнувшись, объяснил нам, что это вовсе не змея, а безногая ящерица — желтопуз, которые во множестве водятся на Кавказе. При этом он добавил, что, к очень большому сожалению, этих бедных тварей человек безжалостно уничтожает, принимая за змей. А между тем они, мало того, что не опасны, очень полезные животные.
Сочи был маленьким городом, по существу лишь зародышем современного курорта с богатыми санаториями. Однако он нам показался необычайно роскошным. Особенное удивление внушил приморский бульвар с его пальмами, цветущими магнолиями, распространяющими поразительный запах, олеандрами и массивными вазонами со свисающими из них традесканциями. Мне смутно вспомнилось, что нечто подобное я видел 23 года назад, гуляя с няней в Генуе.
Мы походили по городу, подивились на его великолепие и заспешили дальше. Ведь у нас было всего семь дней на всё путешествие! Железная дорога кончалась в Сочи. Мы отправились пешком в Хосту через Мацесту. А из Хосты повернули в горы. Дорога, как я могу теперь судить, была вначале довольно нудная. Она вилась среди виноградников, бахчей, плантаций табака, всё на подъём. Солнце пекло немилосердно. С непривычки голова лопалась от звона цикад. Рюкзаки, отягощённые хлебом и брынзой, закупленными в Сочи на всю дорогу, оттягивали плечи. Но ведь всё это было новое, неиспытанное и, следовательно, интересное. А главное, нельзя было угадать, какое из чудес света откроется за следующим поворотом. Понятно, что шли мы радостные, с лёгким сердцем.
За следующим поворотом открылись заросли шиповника, держи-дерева — шибляк. Просёлок превратился во вьючную тропу, которая петляла и вновь и вновь раздваивалась. Наконец мы заблудились окончательно и часа два вертелись среди колючек, не чая выбраться. В конце концов мы вышли на крик петуха в невероятно грязную и жалкую деревушку Армянский базар, откуда нам показали, как пройти на Краснополянское шоссе. Здесь мы вступили в благодатную тень буково-грабового леса и по булыжному шоссе направились к конечной цели нашего пути — Красной Поляне. Впереди были реликтовые рощи самшитового дерева, сверкающая и бурлящая вода Мзымты, несущая нам прохладу снежных шапок Кавказа.
Шоссе было пустынно, только недалеко от Красной Поляны мы повстречали молодого монаха, истощённого, видимо, трудом, постом и молитвой. Он охотно отвечал нам на вопросы о дороге и о достопримечательностях природы, которые сто́ит посетить. Рассказал, что он отшельник, живёт в горах с несколькими ушедшими из Афона старцами. Питаются они овощами и кукурузой с возделываемого ими участка. Во время разговора он ни разу не взглянул на нас, опуская глаза долу. Нам потом объяснили, что это он — от соблазна. Ведь Галя была женщиной, а отшельникам на женщин глядеть не полагается.
В этот день мы прошли почти 40 километров и без ног свалились на турбазе.
Красная Поляна оказалась греческим селом, довольно зажиточным и, по сравнению с Армянским Базаром, упорядоченным. Жители его — усатые мужчины и крикливые мальчишки — весь год лодырничали и шумели на улицах, а осенью отправлялись за орехами, каштанами, собирали фрукты в заброшенных черкесских садах и везли на ослах в Адлер и Сочи на базар. Зарабатывая на этом столько, что опять можно было бражничать до следующего урожая.
Понаблюдавши жизнь горластого племени, неизвестно каким ветром занесённого в Кавказские горы, мы присоединились к группе туристов и попытались взойти на Ачишхо. Группа дошла только до половины горы. Мы одолели её до вершины и вернулись с чувством удовлетворения, что побывали не только на побережье, но и в настоящем горном лесу, где достигли зоны рододендронов.
На другой день мы спустились по шоссе вниз, не доходя Адлера перешли Мзымту и решили прорваться в Гагру. В предгорьях нам попадались русские деревни, такие же ужасно грязные и нищие, как и армянские. Помимо бедности чувствовалась леность: решетины на избах не были опилены вровень с краем крыши, и так и торчали, какими их привезли из леса, — все разной длины. Облезшие маленькие коровёнки стояли в загонах по колено в навозе, который никому и в голову не приходило чистить и который зловонными лужами растекался по улицам.
Вскоре на мосту нас остановил военный патруль. Красноармейцы-грузины сообщили нам, что мы вступаем в пределы Грузинской республики и должны предъявить документы. Мы предъявили.
— Что у вас в рюкзаках? Сахар и вино проносить через границу нельзя.
— Нет ни того, ни другого.
— Вино нет? Жаль! Проходите пожалста.
По их весёлому настроению было видно, что они уже немало вина конфисковали.
Ночь нас застала на шоссе, пересекавшем приморскую равнину. Дотащились до села Пиленкова. Не обнаружив постоялого двора, попросились переночевать в первую попавшуюся избу. Утром, снова шагая по дороге, мы разговорились с прохожим.
— Где ночевали?
— В Пиленкове.
— Уж лучше бы в канаве. Село на большой дороге. Так там в каждом доме сифилиса по уши.
А мы-то вытирались хозяйским полотенцем! Содрогнувшись, оглядели самих себя: уж не ползают ли по одежде спирохеты. Отстав от попутчика у первого мостика, мы тщательно вымылись в речке и вытрясли одежду. Вспомнили строфу из «Хламидомонады» Олегушки:
О спирохета, о спирохета, Ты стала жертвой санпросвета!В полдень мы увидели стадо коричневых фризских коров, пасшихся на прекрасном, заботливо огороженном пастбище. Это были бегемоты по сравнению с русскими коровёнками. Ну, очевидно, немецкая колония, решили мы. Действительно, скоро мы вошли в село Новый Город, как небо от земли отличавшееся от армянских, греческих и русских сёл, которые мы видели. Отличные дома, тротуары мощёные, перед каждым домом мостик через кювет, да ещё с перильцами. Заборы крашеные, за заборами цветы. И злые собаки, которые отвечают на стук, если попросишься переночевать. Школа, магазины, пожарное депо. К удивлению вывески, хоть и написанные готическим шрифтом, никак не поддавались расшифровке. Мы сначала отнесли это на счёт несовершенного знания немецкого языка, но вскоре заметили тильду над буквой «о» и часто удвоенные гласные. Что за притча? Оказалось, это эстонское село. Тере-тере-юмала. Вся география перевернулась вверх ногами! О существовании на Кавказе ещё и эстонцев мы не имели понятия. Видно, недавно переселились. Ну и отгрохали уже Новый Город. Молодцы! Что значит руки чешутся.
После Нового Города мы пошли по короткой дороге, по строящемуся полотну и вскоре упёрлись в туннель. Не поворачивать же назад. Авось пройдём! Дело было в воскресенье и тоннель не охранялся. Пока был свет, всё шло ничего. Потом стало темно… Мы шли ощупью, время от времени чиркали спички. Под ногами стояла вода, в воде натыкались на кучи отбитого камня. Стены давили, тоннель был пробит начерно, без отделки. Полное впечатление входа в преисподнюю. А когда спички кончатся, тогда как? Но, когда оставалось всего три спички, вдали показалось выходное отверстие.
Чтобы отметить эту победу и памятуя, что не одной брынзой жив человек, мы впервые решили зайти в Гагре в столовую. Самое дешёвое блюдо, которое нам могли предложить капо, был огнедышащий вулкан под непонятным соусом и совсем непонятным названием. Мы сожгли перцем и горчицей все внутренности и не могли доесть блюдо до конца. После этого мы готовы были выпить всё Чёрное море, если бы оно не было таким солёным.
А море штормило. Мы впервые видели его таким сердитым. Турбаза стояла у самого штранда, и волны ударялись о её террасу. Было жутко и хорошо стоять в темноте и глядеть, как вздымаются каскады брызг, стараясь достать и разбить электрический фонарь.
Утром мы побегали по Гагре и, воспользовавшись попутной машиной, отправились в Сочи. На обратном пути у нас было только одно приключение. Огнедышащее блюдо нас подвело: в Туапсе у нас не хватило одного рубля на билеты, даже при условии ничего не есть по дороге. В городе — ни одного знакомого человека. Неприятно. Но мы не растерялись. Побегав по вокзалу, мы увидели в окне одного из вагонов Михаила Васильевича, который в нужную нам минуту ехал в Москву. Мы заняли у него недостающий рубль.
Нам ещё нужно было заехать в Ростов-на-Дону. По просьбе Марины Станиславовны мы хотели получить свиданье с Олегушкой. Дело в том, что вскоре после закрытия колонии Олег осуществил свои намерения и встал на путь отшельничества. Он уехал на Кавказ и поселился в пустынных горах недалеко от Красной Поляны. Там их было несколько человек, одного из них мы и встретили по пути в Красную Поляну. С ним был и наш Борица. Жили они в крохотных избушках-землянках, выстроенных своими руками. Такую келью выстроил и Олег. Он поступил в послушники к древнему афонскому старцу-монаху.
Отшельники жили тяжёлым трудом: мотыгой и лопатой возделывали клочки земли, а зимой вырезали ложки из самшита. К весне ложек накапливалось много и они посылали кого-нибудь продавать их на базар в Красную Поляну. На вырученные деньги покупали соль — единственный продукт, который сами они не могли ни сделать, ни вырастить.
Всё свободное время они проводили в молитве, а Олег, кроме того, писал своё философское сочинение, довести которое до конца он считал главным делом жизни.
Так продолжалось года три, при чём за это время Олег один раз приезжал в Москву к матери. Он отрастил бороду, был одет в крестьянскую одежду и высокие сапоги. Юношеские черты исчезли, взгляд стал ещё мягче и направлен был как бы внутрь себя. Он к тому времени уже окончил год послушания и постригся в монахи под именем отца Онуфрия.
Борица, ещё в колонии подпавший под влияние Олега, после окончания Абрамцевского художественно-ремесленного училища упросил взять его с собой на Кавказ и к тому времени был у Олега послушником.
Отшельники не имели никаких контактов с местным населением за исключением обмена ложек на соль. Но местные власти, конечно, не могли терпеть пребывание нескольких монахов во вверенных им горах. Они организовали карательный отряд, разрушили кельи, часовню, огородики, а всех монахов арестовали и увели в тюрьму.
Когда мы были на Кавказе, Олег уже сидел несколько месяцев, и Боря был там же. Мать узнала, что Олег заключён в Ростове. Поэтому мы, сделав остановку в Ростове, пошли прямо в тюрьму; мы обратились с просьбой о свидании, но дежурный нам ответил, что он выбыл по этапу два часа назад.
Мы помчались на вокзал в надежде застать тюремный вагон на путях и увидеть Олегушку хотя бы через закрытое решёткой окно. Но сколько мы ни бегали по платформам и станционным путям, мы нигде не нашли ничего похожего на арестантский вагон. Обратились к милиционеру.
— Арестантский вагон ушёл.
— Куда?
— В Москву.
Нам показалось, что это большая радость. Мы думали, что мать его, Марина Станиславовна, возможно, получит с ним свидание. Когда через несколько дней мы пришли к ней, чтобы обрадовать хоть относительно, но доброй вестью, она нас встретила какими-то мёртвыми глазами:
— Они солгали вам. Они убили его в то утро.
У неё было такое лицо, что мы её не узнали.
Оказывается, Марине Станиславовне уже выдали справку, что Олегушку вместе со старцем Зосимой и другими монахами расстреляли в Ростове, никуда не вывозя. Борицу, продержав год в тюрьме, выпустили без права проживать в Москве.
Колонисты по-прежнему очень часто бывали у нас. Их тянуло друг к другу, а наш дом был единственным семейным домом, где они могли встретиться. Постепенно мы начали замечать, что Боря Большой всё чаще говорил, что вступил в кружок самоубийц, целью которого было распространение теории о бессмысленности жизни и самоуничтожении его старых членов, после привлечения новых. Он разглагольствовал у нас целыми вечерами о том, что это единственный поступок, который может совершить человек. К нему тяготели, не примыкая вполне, Ляля, Лиза, Саня и Андрюша. Боря даже выбрал уже способ самоубийства: он прыгнет с Моссельпрома — первого восьмиэтажного дома, выстроенного после революции. Он якобы уже был там и проверил ход на чердак. Тогда мы по молодости не понимали, что это было просто кокетство и ломанье истеричного, больного человека.
Нас ужасно волновали эти разговоры. Я целыми часами спорил с Борей, выдвигая перед ним разные достойные цели жизни, но всё больше убеждался в его несерьёзности. Он говорил о смерти легко, явно бравируя и рисуясь. Иногда при этом он был пьян. Я махнул рукой. Однажды он заявил:
— Пришёл прощаться, лезу прыгать на Моссельпром.
Я ответил:
— Ну что ж, счастливо. До встречи на том свете.
— Не веришь? Увидишь.
Он ушёл очень обиженный и… не прыгнул. Такое заявление он делал несколько раз.
Однако разговоры его не прошли даром для ребят, более волевых, из тех, кто ещё не нашёл себя и дал ему сбить себя с толку в понимании того, что хорошо и что плохо.
Однажды мы гуляли с большой группой колонистов в Измайловском зверинце. Там проходила высоковольтная линия с напряжением 6000 вольт.
— Даня, ты спец, скажи, почему воробьёв не убивает, когда они на провода под напряжением садятся. Помнишь, ты рассказывал. Что вам Шабшай говорил? — спросила Лиза.
— Оттого, что они касаются только одного провода. Если б они могла растянуть лапки на оба или прикоснуться зараз и к проводу и к мачте — убило бы.
Мог ли я думать, что она в ту же ночь под нажимом Бориса вновь придёт в Измайлово и залезет на мачту?
Вольтова дуга пробила воздушный промежуток между ней и проводами прежде, чем она успела прикоснуться к ним. Ток прошёл по всей руке, по боку и ноге, оставив по всей линии канавку ожога, как на дереве, в которое ударила молния. Ладонь у Лизы была пробита насквозь. К счастью, Лиза, потеряв сознание, не рухнула с высоты вниз, а случайно зацепившись, повисла на мачте.
Как же хорошо, что её скоро заметили и доставили в больницу. Она долго лечилась, так как кроме раны потеряла много крови, пока висела. Она выздоровела, но правая рука осталась не вполне работоспособной.
Я много думал о том, чем вызван Лизин поступок. Кажется, её не мучили никакие проблемы, не было заметно также каких-нибудь личных трагедий. Скорее всего, это был просто вопрос самолюбия. Она, конечно, по глупости, хотела показать Борису, как поступают настоящие люди, не трепачи и не брехуны. Потом она никогда не соглашалась объяснить свой поступок — стеснялась.
Ко всеобщему нашему удивлению она через несколько лет вышла замуж, за того самого Бориса! Жизнь с ним была для неё настоящей трагедией. Борис сильно пьянствовал, нажил себе диабет и вскоре умер, оставив Лизе двух дочек, из них младшую — полную психоистеричку и по наследству больную диабетом. Как же она мучает мать до сих пор!
Ни минуты не думаю, что гибель нашего хорошего Алёши Ярцева каким-либо образом связана с Борисовой пропагандой. Тем более, что это случилось через ряд лет. О нём Михаил Васильевич написал очерк, приложенный к этой биографии.
Алёша вырос, возмужал и стал красивым и умным парнем. Он успешно учился в университете на литературном факультете. Из него вышел примерный общественник, активный организатор. Его распирала инициатива. Приходя к нам, он всегда приносил кучу проектов организации всяких образовательных кружков по психологии, литературе, истории, дарвинизму и т. п. Он мечтал вновь объединить колонистов в этих кружках, даже обсуждал конкретные списки кандидатов, возможные места и часы занятий кружков.
Он носился с идеей объединения организационных принципов комсомола со здоровым общественным духом колонии и высокими идеями реформаториума. В нём не было и тени упадочничества, то, чем жил и красовался Борис, глаза Алёши всегда горели волей и жаждой жизни. Он был антиподом Бориса.
Я считал Алёшины идеи хорошими, соглашался, что следовало бы заняться самообразованием, что все мы, и я в частности, становимся узкими специалистами и тем обедняем жизнь. Убеждая меня, Алёша обличал мою леность, но… я так был вымотан Институтом и заводом, так всегда смертельно хотел спать, что довольно неохотно поддавался его уговорам. Сколько раз я упрекал себя потом, что не сделал над собой усилия, не поддержал его начинания. Кто знает, быть может это могло бы его спасти!
Алёша жил в общежитии. Однажды, когда Ляля и Саня обещали к нему прийти и не пришли, он ушёл из дома и застрелился.
Он много лет любил Лялю. Она же все годы по слабости воли колебалась между ним и Саней, которого в это время горячо любила Нина Большая. Такие были ситуации. Но Саня был очень настырный — и… Ляля выбрала его.
Первой мыслью было объяснить самоубийство Алёши этой драмой. Но я в это не верю. Кто угодно, но только не Алёша с его любовью к жизни, его широкими интересами, с его сильной волей мог застрелиться из-за неудачной любви! Скорее дело было в противоречиях между идеалистическим мировоззрением, привитым колонией, и суровой действительностью, встреченной им в жизни, между воспитанными его сестрой пережитками сектантства и напором университета, требовавшего вступления в комсомол.
Для колонистов смерть Алёши была громом среди ясного неба. На похоронах было много народа, в том числе из университета.
Страшным ударом эта смерть была для моей мамы. Кто знал, что она пережила, что передумала, она была от нас далеко. Не винила ли она себя, не искала ли ошибок в своей системе воспитания, в которую вложила всю свою душу? Но она держалась на высоте и присылала письма, полные утешения и примирения тем, кто, по её мнению, тяжелее всех переживал эту утрату: Ляле и Нине Маленькой. Михаил Васильевич, очень любивший Алёшу, горько пережил его смерть.
Уже ближе к осени мы снова собрались с Галочкой к маме. Очевидно, начальство испугалось поблажки, которую ей сделало, переведя в Ирбит, и через полгода снова изменило место ссылки. На этот раз её отправили в глухую, богом забытую деревушку Таборинку километрах в 130 к северо-востоку от Ирбита. Там была узкоколейка до маленького заводского посёлка Туринска, а затем ещё 80 километров по болотной гати в дремучей тайге до жалкой деревушки Таборы, центра этой местности, и ещё дальше, до этой самой Таборинки. Сойдя с поезда в Туринске, мы стали искать подводу до деревни. Долго не находилось охотников ехать в такую даль по болотной гати. Мужички отговаривались тем, что у того лошадь-де слаба, а дорога больно плоха, у другого, что ночью ехать опасно, а в тайге «шалят» и т. д. и т. д. Все разговоры клонились к набиванию цены и в конце концов мы поехали с каким-то стариком, заплатив ему втридорога и половину вперёд.
Тайга нас очаровала. Среди бесконечных болот там было много песчаных участков. На них росли боры из величественных старых сосен, совершенно золотых от проникающего сквозь кроны солнца. Я всё силился вспомнить, где я уже видел такой же прекрасный пейзаж и именно при таком самом освещении. Да конечно же, в Москве, в Третьяковской галерее, на картине Шишкина. Не иначе как он бывал в Туринске и здесь написал это чудо.
На болотах просёлок сменялся гатью — настилом из брёвен, положенных поперёк дороги.
Ну уж, это спасибо! Когда вас подбрасывает на каждом бревне восемьдесят километров подряд, отбиваешь себе все соответственные части тела и нельзя сказать ни слова, не рискуя напрочь откусить себе язык! Можно себе представить, какое получается «любование» природой. После первого перегона по гати мы попробовали проходить их пешком, благо и лошадь в таких местах часто шла шагом. Но это тоже оказалось «не сахар». А вообще-то возница вовсе не торопился. Когда гать кончалась на небольшом подъёме, мы отходили на два шага в сторону от дороги и бросались на мягкий сыроватый мох. Тут была несметная сила ягод: черники, голубики и брусники. Их не надо было собирать по ягодке. Разводя немного пальцы, как грабли, мы прочёсывали ими кустарнички и пригоршни сами наполнялись до отказа. Очень скоро и это показалось нам утомительным. Опустив голову, мы просто скусывали с веточек сочную добычу полным ртом, не переползая с места на место, а только вращаясь на пузе как вокруг центра. Далее, с трудом оторвавшись от своего «пастбища», бегом догоняли ползущую лошадь. Не буду говорить, во что превратилось наше платье спереди, а впрочем, получилась очень оригинальная синяя орнаментика.
Дорога была удивительно безлюдна. За весь день мы никого не встретили, только проезжая деревеньку Таборы, видели одинокие фигуры жителей. Далее, не помню во скольких километрах, на реке Тавде лежала ещё более нищенская деревнюшка Таборянка — цель нашего путешествия. Но всё же там было дворов 20–25. Избы когда-то были построены основательно из прекрасного леса, благо его здесь не занимать-стать. Но все подряд избы были старые и гнилые, так же как их хозяева. Это были чалдоны. По одежде, говору, обычаям и привычкам мы поняли, что попали по крайней мере в предыдущий, если не в ещё более ранний век. Помещиков здесь отродясь не было, о нашей революции они впервые узнали от всё больше прибывающих ссыльных. Здесь, в Таборинке, их было пять человек, а по всей округе — множество. Общение с культурными людьми немало расширило горизонт аборигенов.
Мы привезли маме большую радость. В издательстве «Посредник» вышла её книжка о колонии «История одной школьной общины» под псевдонимом Л. Соснина. Это была целиком заслуга Михаила Васильевича Муратова. Он тогда работал в «Посреднике» и получил очень доброжелательное предисловие от Станислава Теофиловича Шацкого, известного и крупного педагога.
Мама на новом месте быстро вошла в свою колею, подружилась со всеми ссыльными и местными жителями. В первых она вселяла надежду, когда они падали духом, делилась своим богатым опытом и была для всех не только утешителем, но и нянькой и сиделкой у больных. Местным жителям уделяла не меньше внимания, особенно детям, делала им из любого подножного материала нехитрые игрушки, хотя мастерица была, прямо скажу, неважная. Но при полном отсутствии каких бы то ни было игрушек это для ребятишек была большая радость. Выписывала детям книжки с картинками, учила их грамоте. Везде, где бы она ни была, она приносила людям посильную пользу.
Но вот в Таборянку приехала Тоня. Как же это осложнило и мамину и нашу жизнь! Мы стали редко бывать втроём, а это были самые радостные наши часы. Тоню маме не удавалось оставлять одну, деваться ей в деревушке было некуда. Доброжелательного отношения к ней с первых же дней не оказалось ни у кого, поэтому она буквально «висела» на маме. Мама не могла никуда пойти без неё. А вчетвером ничего хорошего у нас не получалось и совершенно не покидало чувство натянутости и стеснённости. Как всегда, Тоня вела себя вызывающе активно, во всяком разговоре безапелляционно высказывала своё мнение, при этом или хохотала или жёстко спорила, если кто-нибудь с ней не соглашался. Поэтому мама часто приносила себя в жертву и отправляла нас с Галей гулять одних, чтобы разрядить настроение и дать нам отдохнуть от Тони.
Прогулки мне нравились. С Галей было необыкновенно хорошо, но меня всегда мучила мысль о маме, и я скучал без неё. Из прогулок больше всего запомнились походы на реку Тавду. Нас поражала мощь и полноводность реки, текущей среди девственных хвойных лесов, не тронутых в тех местах топором и почти не населённых людьми. Берега были очень круты, местами отвесны, река подмывала их и старые сосны, цепляясь за жизнь, за последний комок земли, повисали над водой и, наконец, бессильно опускали в неё свои кроны. По таким опрокинутым соснам, ещё держащимся корнями за землю, можно было спуститься к реке и броситься вниз головой в воду. Мы купались и плескались часами. Первый раз в жизни нас никто не торопил и никуда не надо было бежать. Это было замечательно.
Однажды мама предложила нам съездить ещё на 50 километров дальше вглубь тайги в деревню Носово, где жил в ссылке мой новый и ещё неизвестный родственник. Он появился на нашем горизонте совершенно внезапно, как бы заявив: «Здравствуйте, я ваш дядя». В действительности дело было так.
В ирбитский период приехала к маме пожить Мага. Была зима с привычным для Сибири снегопадом. Раз Мага возвращалась домой по заснеженной тропинке, как всегда в мечтательной задумчивости. Внезапно незнакомый молодой человек, шедший ей навстречу, взглянул на неё, обомлел и, бросившись перед ней на колени, принялся, теряя очки, разгребать голыми руками снег, чтобы ей легче было пройти по сделанной им тропинке. Она так была тронута этим внезапным порывом, достойным эпохи рыцарства, к которой она всегда питала слабость, что разрешила ему подняться, представиться и проводить её до дома. Он оказался ссыльным, назвавшимся Львом Семёновичем Гордоном. Он, извиняясь, объяснил, что, внезапно подняв глаза, был поражён, увидев перед собой свой идеал красоты, и просто не мог поступить иначе.
Лев Семёнович стал приходить в гости. Оказалось, что он тоже поэт, и у них с Магой нашлось множество общих интересов. Вскоре они поженились.
Мама с сомненьем смотрела на их счастье. Она знала, что Мага может любить только глубоко и преданно и что всякие семейные трения она будет переживать драматически. Лев Семёнович казался ей человеком умным, даже талантливым, но несколько легкомысленным и склонным к позе. Она всячески внушала ему серьёзность обязательств, которые он взял на себя, и внимательно за ним следила. К тому же ему было 25 лет, а Маге — 35.
Им не на что было жить, и Мага решила временно вернуться в Москву, чтоб хоть что-нибудь заработать. Льву Семёновичу ужесточили ссылку, отправили в далёкое Носово и мама потеряла непосредственный контакт с ним. Посылая нас к нему, она надеялась ободрить и сколько-то оживить его: в Носове он был совершенно один. Заодно показать ему, какая у нас с Галей хорошая и крепкая семья, и, кстати, дать нам отдохнуть от Тони.
Мы ехали в Носово опять на телеге, опять по гати, параллельно Тавде вверх по течению. Ландшафт был примерно тот же, что и по дороге до Туринска. Но в одном месте случилось происшествие. У обочины раздался треск ломаемых сучьев.
— Медведь! — закричал возница.
Лошадь прянула ушами, рванула и понеслась не разбирая ухабов и пней. Треск в кустах и далее слышался раза два. Видно, медведь бежал рядом, не выходя на дорогу, а, может быть, это были другие медведи. Это действовало на лошадь как хороший удар кнутом. Она мчалась, как могла. Влетела на гать и понеслась по ней. Ну и дала же она нам жизни! Мы катались по телеге, на каждом бревне получая пинки то в грудь, то в спину, а то и в нос. Стараясь не вылететь из телеги под колёса, мы цеплялись за края телеги и не могли защищаться от непрерывных ударов.
Постепенно лошадь выбилась из сил и побрела шагом. «Тогда считать мы стали раны, товарищей считать».
Лев Семёнович встретил нас радостно и смущённо, но сразу же отошёл. Вообще-то он был не из стеснительных..
Это был блондин с зачёсанными назад волосами, с тонким лицом и стройной фигурой. Он был бы даже красив, если б не чрезвычайно близорукие глаза. Вероятно, учитывая это, он носил эффектные очки. Тем не менее, он произвёл на нас впечатление занимательного и интересного человека и собеседника.
По нашей скромной оценке он находился на вершине гуманитарного образования: знал и цитировал на память десятки авторов, исторических фактов, подробностей, происшествий, относящихся преимущественно к прошлому Запада, демонстрировал познания в полудюжине живых и мёртвых языков, сыпал афоризмами на них, читал на некоторых из них чужие и свои стихи. А уж какой заряд анекдотов выпустил! Я был рад, что некоторые, наиболее солёные, до Галочки явно не доходили. В общем, мы были ошеломлены фонтаном его красноречия.
Лёва, с которым мы сразу перешли на «ты», рассказал несколько интересных наблюдений за обычаями местных чалдонов, за бытом и любопытным жаргоном, чем, от нечего делать, он занимался в Носове. Вообще, снабжённый некоторым количеством книг, собственной фантазией, внешним оптимизмом и любознательностью, он старался, насколько возможно, не скучать в ссылке.
Судьба его, в сущности, была печальна. Имея научную и литературную переписку с заграницей, брата, живущего в Париже, и чётко выраженный еврейский нос и фамилию, он, никогда не занимаясь и не интересуясь политикой, был вечным объектом внимания органов безопасности и с юных лет кочевал из тюрьмы в ссылку и обратно. Женитьба на женщине, две сестры которой отбывали ссылку, а третья жила заграницей, отнюдь не упростила его положение.
Уезжая от него, мы так и не могли решить, подходит ли он Маге. По интересам как будто — да, а по темпераменту — нет.
Мы вернулись в Таборинку. Пора было уезжать в Москву. Расставаясь с мамой, я чувствовал, что она скрывает тревогу. Она предчувствовала трудный период жизни с Тоней, к этому прибавлялась забота о непрочном Магином счастье и, главное, обо мне: как-то я выйду из внутреннего конфликта, из первого намечавшегося серьёзного испытания — столкновения с военной службой.
ТЯЖЁЛЫЙ ГОД (1927–1929)
Когда я закончил Институт, передо мной встал вплотную вопрос о военной службе. Со дня на день меня должны были призвать в армию, пора было разобраться в своём отношении к этому факту, пора было выяснить, что я буду делать в решительную минуту.
Я знал, что меня ждёт в случае отказа. Советские законы предусматривали освобождение от военной службы по религиозным убеждениям. Об этом всюду трубили, подчёркивая гуманность советских законов по сравнению с законами капиталистических стран, которые грозили отказывающимся наказанием. Но мало кто знал, что это блеф. Имелось разъяснение, что освобождению подлежат четыре секты: духоборов, молокан, менонитов и нетовцев. Но духоборов в то время в Советской России не оставалось, они все эмигрировали в Канаду и другие страны при царском правительстве. Молокане и менониты смотрели на службу в Красной Армии весьма либерально, большинство их и не думало отказываться. Нетовцев просто не было в природе. Михаил Васильевич Муратов, занимавшийся историей русского сектантства, писал в брошюре «Неизвестная Россия», что в начале века их насчитывалось не более семи человек. Таким образом, советская власть, делая красивый жест, не многим рисковала. Между тем, члены тех сект или религиозно-философских учений, которые всегда последовательно отказывались от военной службы: баптисты, евангелисты, толстовцы и т. д. не освобождались, а привлекались к суду по статье 68 УК, грозящей тюремным заключением до пяти лет. А если они, уже находясь на военной службе, отказывались под предлогом религиозных убеждений выполнять свой долг, то подлежали статье о воинских преступлениях — статья 193, § 12, предусматривавшей заключение до двух лет. Почему в этом случае меньше, не знаю, но вообще искать в законах логику было бы бесполезно.
Согласно уголовно-процессуальному кодексу за одно преступление полагалось одно наказание. К отказникам это не применялось. Как только отказник отбывал свой срок и выходил на волю, его тотчас опять призывали на военную службу. Если он заявлял, что его убеждения остались прежними, он снова шёл под суд и получал новый срок, причём всегда больший, чем предыдущий. Фактически это означало пожизненное заключение с месячными, примерно, перерывами.
Таким образом — рассуждал я — отказаться, значит испортить себе всю жизнь. И не только себе, но и своим близким. Маме, которая только что вернулась из ссылки и не могла нарадоваться, что живёт рядом и может постоянно со мной встречаться. Галю, которая болезненно боялась одиночества, я бы обрёк на жизнь «тюремной жены», отовсюду гонимой за грехи мужа и в то же время чувствующей себя обязанной носить передачи и ходить на унылые свидания в присутствии надзирателей. Меньшую роль играла боязнь общественного мнения. Я знал, что близкие поймут, но товарищи по службе, по институту, конечно же будут пожимать плечами, насмехаться, сомневаться в бескорыстии моих убеждений. Всеобщее дружеское отношение сменится отчуждённостью, враждебностью, и это, конечно, было тяжело.
Меня мало беспокоили лишения тюрьмы. Но мысль о том, что придётся излагать свои убеждения холодным, враждебным людям, пытаться убедить их в своей правоте, агитировать, казалась мне несносной. Больше всего мне претила роль трибуна или вероучителя. Мне казалось, что легче выйти голым на улицу, чем публично исповедоваться. Но именно широкое оповещение было необходимо.
Мысли выстраивались так: все доводы против — личные, но отказ — дело общественное. Кому будет лучше от того, что я не буду убивать, что спасу свою совесть, свою душу? Тех, кому суждено быть убитым, убьют другие. Надо бороться не за свою чистоту, а против насилия, царящего в мире. Но для этого надо, чтобы мой отказ стал известен людям. Может быть, он послужит примером ещё хоть для одного призывника. Он тоже откажется убивать, и так пойдёт по цепочке, и постепенно, вероятно, когда я уже умру, возникнет целое пацифистское движение. Оно, может быть, перекинется во все страны враждебного лагеря и совместными усилиями отказывающихся сделает войну невозможной. Да ведь дело не с меня одного начнётся. До меня во всех странах отказывались сотни и тысячи призывников. Для них даже придумали особое слово — абстиненты. Мне только надо было влить свою каплю в струю, которая уже пробивалась на поверхность. Конечно, моя капля бесконечно мала по сравнению с величием цели. Но тем более её нужно было использовать максимально эффективно, то есть с публичной исповедью. А другие — ведь перешагнули же через это. Может быть, они тоже не были проповедниками по призванию и для них обнажение души было горше, чем последовавшее наказание? Однако, они на это пошли, почему же я не могу? Надо же пострадать. Раз затеял такое дело! А то хочешь быть праведником, а сам шмыг в камеру и сиди, ногу чеши! Нет, брат, так дёшево не отделаешься!
Всё-таки я пошёл к маме советоваться. Мне очень хотелось, чтобы она, со свойственной ей бескомпромиссностью, взяла на себя роль моей совести. Как скажет, так и сделаю. Но она ответила:
— Знаешь, Дадь, это очень важный шаг, шаг, от которого, может быть, зависит вся жизнь. Теософия оставляет своим последователям полную свободу. И я думаю, что это правильно. Всякий человек только сам для себя может решить этот вопрос. «Могущий вместить, да вместит».
Я пошёл к Софье Владимировне. Ей я очень привык доверять.
— Друг мой, — сказала она, — в этих вопросах нельзя советовать. Разве я могу знать, с какой скоростью тебе предстоит продвигаться по пути совершенствования. Я дам тебе совет, а тебе окажется не под силу его выполнить. «Чужая дхарма полна опасностей»[40].
Так все попытки переложить ответственность за свою судьбу на чужую совесть не удались. Я решил отказываться.
Первым делом «Климу Ворошилову письмо я написал. Товарищ Ворошилов, народный комиссар». Так, мол, и так: скоро мне призываться, а совесть не позволяет убивать людей. Я понимаю, что каждый гражданин должен часть своей жизни отдавать выполнению тяжёлых обязанностей на общее благо.
Но не все они связаны с убийством. Поэтому я прошу заменить мне строевую службу санитарной или работой в рудниках, в пожарной части, в горноспасательном отряде, на борьбе с эпидемиями или в какой угодно трудной и опасной должности на какой угодно срок, больший, чем срок службы в Красной Армии.
Через несколько месяцев вместо Ворошилова мне ответил районный военкомат. В просьбе мне было отказано.
Тогда я, по совету людей юридически грамотных, предъявил к военкомату гражданский иск об освобождении меня от военной службы. Дело это в нарсуде, разумеется, проиграл. Да я и не надеялся на другой исход, но хотел довести свои взгляды до возможно большего числа людей. Не удовольствовавшись этим, я подал кассацию в Московский губернский суд. Снова проиграл и… дальше не пошёл. Стало уж очень тошно писать в заявлениях о том, что было мне дорого, о чём я привык размышлять только наедине с собой.
Наконец пришла «долгожданная» повестка с призывного пункта. Я пошёл в военкомат, допуская, что меня тут же схватят и посадят в тюрьму, как только я заявлю об отказе служить. Но мне вежливо заявили:
— Ждите вызова.
Уж лучше бы сразу! Прошло месяца три, пока меня вызвали в народный суд. Ну, уж теперь-то посадят. Я сидел и слушал дело о каком-то оскорблении личности, о краже куска материи из магазина. Но вот дошла очередь и до меня:
— Слушается дело гражданина Арманда Давида Львовича по обвинению в уклонении от военной службы под предлогом религиозных убеждений.
— Обвиняемый, встаньте. Как фамилия?
Мне стало немного смешно, но я удержался и серьёзно ответил, что я и есть тот самый Арманд. Потом я ответил на другие формальные вопросы.
Меня судил низенький бородатый старичок. Мне показалось, что ему было неловко, и он всё время прятал глаза. По бокам от него сидели две безликие личности. Они поглядывали на меня недоверчиво, но с любопытством и за всё время не проронили ни слова. Я вспомнил презрительное прозвище народных заседателей — «чушки с глазами». Я объяснял суду, что ни к какой секте не принадлежу, что мной руководят не религиозные, а чисто нравственные побуждения. Излагая свои мотивы, я даже вдохновлялся немного, а народу в зале было порядочно.
Судья явно вёл примирительную линию. Говорил:
— Да бросьте вы эту петрушку. Войны сейчас нет, никого убивать не придётся. Ну помаршируете два годика, не слиняете ведь?
Но я упёрся и «петрушку» не хотел бросать. Судья тяжело вздохнул и произнёс:
— Суд удаляется на совещание.
Посоветовавшись минут десять, прочитали мне приговор: «Год условно».
Я ждал всего, чего угодно, только не этого. Это значило, что если меня призовут, а ведь призовут обязательно, и если я не откажусь, мне ничего не будет. Но если я откажусь, а я откажусь обязательно, это будет означать, что я ещё раз совершу то же преступление, тогда меня снова будут судить, а к приговору добавят ещё год. Ничего себе!
И я попытался разъяснить суду, что условный приговор здесь не имеет смысла, что я заранее предупреждаю, что буду совершать это преступление ещё и ещё. Судьи не стали меня слушать. Судья официальным тоном заявил:
— Судебное разбирательство окончено. Можете жаловаться, если вам не нравится.
Бедняга, он явно желал мне добра и надеялся, что условный приговор даст мне возможность одуматься. Но я предпочёл бы сразу сесть в тюрьму, лишь бы покончить с неопределённостью моего положения, с жизнью «под дамокловым мечом».
Я снова подал на обжалование и снова проиграл: «Отказать за отсутствием каких-либо процессуальных нарушений» — гласил приговор губсуда.
А положение моё оказалось даже хуже, чем я ожидал. Началась в полном смысле «Das schwarze Leben» (черная жизнь). Я рассказал о своём деле Фишману и Григорьеву. Они, очевидно, подумали: «Что ты с ним будешь делать? Эдакий карась-идеалист». И посоветовали:
— Приложите все усилия, чтобы об этом не узнали в отделе кадров.
Но отдел кадров очень скоро об этом узнал. Я как раз оформился приёмщиком на завод «Динамо» от МГЖД. Понадобился воинский билет, а там уже была сделана компрометирующая надпись. Как только её прочли, меня тут же уволили из МГЖД и не приняли на «Динамо». При этом заведующий отделом кадров разговаривал со мной как с законченным контрреволюционером, которого, к сожалению, не ему поручено добить. Затем меня с большим пафосом исключили из профсоюза и как не члена профсоюза отказались принять на учёт биржи труда.
Пришлось снова взяться за колун. Пока я учился в институте и работал в МГЖД, все соседние переулки захватили какие-то раклы. Он красноречиво предложили мне «выбить зенки» и «пустить юшку», как только я показался с колуном в пределах, которые они привыкли считать монополией своего сервиса.
Кирпичниковы, у которых мы жили тогда с Галей, желая выручить меня из беды, предложили мне работу, более соответствующую моему инженерскому диплому — электрифицировать их дом. До того он освещался керосиновыми лампами. Этот подряд мы выполняли вместе с Галей.
Больше «паутинки», то есть электропроводки, не подвёртывалось, и я деградировал ещё на ступень ниже. Вспомнив «технические знания», приобретённые в колонии, я изготовил из картофельного мешка хламиду и занялся в Лосинке чисткой дачных сортиров, по червонцу за яму, с вывозкой золота при помощи тачки на хозяйский огород. Даже местные люмпен-пролетарии мне не завидовали, так что «фирма» находилась вне конкуренции.
В общем мы перебивались с хлеба на воду. Хорошо ещё, что Галя нашла хоть маленький, но постоянный заработок. После её ухода из Института Михаил Васильевич рекомендовал её старинному знакомому моих родителей, архитектору и педагогу Александру Устиновичу Зеленко на работу, от которой отказался Алёша Ярцев.
Зеленко был исключительно талантливый, разносторонне-талантливый и эрудированный человек, самобытный, оригинальный архитектор, музыкант на многих инструментах, конструктор и крупный педагог, — всего не перечислишь. Они с женой объехали весь свет, где он строил дома, виллы, школы, и всё с выдумкой. Его повсюду очень ценили и не хотели отпускать. Его голова вечно извергала потоки идей в самых различных областях техники, музыки, ремёсел. Он изобретал игры и забавы, полезные и остроумные приспособления для детей разного возраста, предметы туристического обихода. У нас широко пользуются разборной байдаркой, но никто уже не помнит, что её сконструировал Зеленко.
Путешествуя по разным континентам, Александр Устинович собрал интереснейший музей и разместил его в доме собственной конструкции, хорошо для этого приспособленный. Там были музыкальные инструменты разных наций и народов. На всех он выучился играть, а нередко и петь под них на соответствующем языке. В своём домике он соорудил камин, привезённый им из Голландии, расставил китайские сервизы, купленные в Китае, африканские изделия из камня и дерева, статуэтки, остроумные игрушки, костюмы и украшения разных народов, например, настоящие венецианские бусы. Всего не перечислить.
В Москве было несколько построенных им домов. К сожалению, до нас сохранился только один, в Вадковском переулке, специально предназначенный для детского садика. Тут были горки в комнате, работающие как ледяные, бассейны с корабликами, на которых ребятишки могли плавать, удобная для детей мебель, ванночки и так далее. Это только в самом доме, а что он соорудил на прилегающем участке! Невозможно описать.
Там же, на втором этаже, жили они сами с женой Анной Михайловной. Его музей располагался в нескольких комнатах на разных полуэтажах. Не было двух комнат на одном этаже.
Изобретательность Александра Устиновича этим не ограничивалась. В доме, который он построил в Сокольниках, у него был небольшой зоопарк с привезёнными из Америки крокодильчиками и ещё какими-то зверушками. Когда же он гулял по аллеям, его буквально осаждали синички, воробьи и особенно белки. Они все садились ему на плечи, а белки нахально залезали в карманы и шарили там в поисках угощения.
Этого сверкающего идеями человека в конце жизни по абсолютно непонятной причине страшно обидели — переселили из собственного дома в барак далеко на окраине Москвы. Сделано это было под предлогом, что домик его нужен детским учреждениям. Барак был холодный, многокомнатный, где невозможно было воспользоваться кухней: десять хозяек занимали две плитки чуть не целые сутки.
Зеленок поселили в крохотной комнатке на первом этаже. Александр Устинович стал спешно изготавливать складную и подвешивающуюся мебель, чтобы на месте подвешенных кроватей днём можно было поставить обеденный стол. Готовить приходилось в комнате на примусе. Музейчик во время перевозки разворовали, только кое-какие остатки они передали в государственные музеи. От потрясения Александр Устинович заболел. И всё-таки, лёжа в постели, он проектировал план и программу клуба для подростков, чтобы отвлечь их от пустого шатания и безобразного поведения по парадным. Впрочем, до сих пор его предложение валяется у кого-то под сукном.
Куда-то пропала и его легковая автомашина вместе с прицепом, перестроенная им так, что могла служить то спальней, то столовой, то залом с телевизором.
Ещё смолоду Александр Устинович считал нужным вводить в школы разного рода трудовые работы. Вплотную он взялся за это после нашей революции. Объездил всю Америку, изучая там постановку этого дела. В начале двадцатых годов он составил примерную программу труда в школе и стал её «пробивать» в Комиссариате просвещения.
В 1926 году его программу, наконец, утвердили. Он открыл при лаборатории Радченко курсы по переподготовке учителей на трудовиков для Москвы и ряда городов Советского Союза. Курсы были различные для педагогов с разным педагогическим стажем. Начали с того, что организовали курсы инструкторов для таких курсов учителей. Тут преподавали не педагоги, а специалисты: столярное дело — мастера-столяры, художественное рукоделие или домоводство — мастерицы этого дела. И так в разных областях: в слесарном ремесле, в радиотехнике, в прикладном искусстве, картонажном деле. Курсы инструкторов были годичные, после чего были открыты многочисленные курсы для самих педагогов.
Вот на эти-то инструкторские курсы и пригласил Александр Устинович мою Галю. Она обучилась, а потом преподавала народное прикладное искусство. Для этого ей построили маленькие ткацкие станочки, коклюшки для вязания кружев, самые разные приспособления для всяких плетений, вязаний, вышиваний и т. д. Она с успехом всё усвоила и стала вместе с Зеленко и другими инструкторами преподавать своё искусство не только в Москве, но и в других городах.
Ужасно только мешала Гале её молодость и очень моложавый вид. Она выглядела вовсе девчёночкой, и постоянно её ученики-педагоги говорили: «Вы не туда попали, это курсы для учителей, а не для школьников». Много слёз пролила, бедная. В конце концов всё налаживалось, её признавали за специалиста и давали самые высокие отзывы. Точно так же в первые месяцы работы, когда ещё только утверждались программы таких курсов с учётом развитых в каждой области ремёсел, Гале как инструктору приходилось присутствовать на заседаниях ГУСа и докладывать свою программу. На двух первых заседаниях, где председательствовала Н. К. Крупская, она задавала вопрос: «А что здесь делает это дитя?» Зеленко вставал и пояснял, что это уважаемый инструктор курсов по кустарному искусству. А у Галки отнимался язык при этом.
В этот период я как раз был безработным, и Зеленко поручал мне, Коле Стефановичу и Николе чертить и строить разные приспособления для этих курсов. Я с удовольствием работал со счётной линейкой и рейсфедером.
Прошло полгода со времени суда. Военком молчал. Я объяснял это царившим там беспорядком. Существовать мне не мешали, но и жить как следует не давали, держали в подвешенном состоянии. Наконец, за день до Галиного отъезда на курсы в Вятку, Пермь и другие города, я получил официальную бумагу об отмене приговора суда и о новом рассмотрении дела в Военном трибунале. Наконец-то! И я срочно закончил работу у Зеленко. Галка не могла отложить свою поездку и очень горевала по этому поводу. Через неделю, одевшись поскромнее, я пошёл в трибунал. На суд пришли мама, папа, Муратов, Баутин, который это сам пережил, и молодежь, собирающаяся отказываться. Присутствующие придали мне уверенности: «Я должен послужить образцом для других».
Судил госвоенюрист какого-то ранга Орлов. Мужчина средних лет с очень жёсткой физиономией. От защитника я отказался.
Мне запомнился следующий диалог:
— При царском правительстве вы, конечно, не отказались бы от военной службы?
— Разумеется, отказался бы. Какая разница?
— Вы, значит, не видите разницы между царским и советским правительством?
— Нет, разницу я вижу, только не в этом отношении. Оба правительства, так же как и все другие, считают возможным защищать свою власть, свой престол с помощью насилия, с помощью убийства.
— Так вы сторонник непротивления злу насилием, последователь Толстого?
— Нет, не всякого насилия.
— Коли на вас нападёт бандит и станет вас душить?..
— Я буду защищаться.
— А если в вашем присутствии нападут на женщину с ребёнком, на ребёнка?
— Я буду их защищать всеми возможными средствами. И, если надо, убью преступника.
— Но почему же вы не будете защищать вашу родину с оружием в руках, когда на нас нападёт агрессор?
— Потому что при борьбе между государствами обе стороны считают себя жертвами агрессии. Никто никогда не говорил, что он агрессор и просто хочет покорить другую страну. Простому человеку невозможно разобраться, кто прав, кто виноват, а именно его и подставляют под пули. Я не хочу убивать людей, которым задурили головы, и не верю, чтобы это было полезно для моей родины.
— Эти аргументы касаются только национальных войн. Когда первое в мире государство трудящихся ведёт войну против империалистов, нетрудно разобраться в том, кто прав, кто виноват.
— Никакой разницы. И большевики первые показали мне пример. Когда во время войны организовали на фронте братание с немцами, часть немцев откликнулась на это. Но большинство воспользовалось братанием и отказом русских солдат от войны для наступления. Германия тогда захватила громадные области на Западе России. Вы пошли на временные жертвы, но этой ценой отстояли мир. Больше того, мы заразили немцев духом интернационализма и в Германии произошла революция. Я только хочу быть последовательным и продолжать политику братания. Конечно, у меня сил бесконечно меньше, чем было у большевистской партии, и бесконечно меньше шансов на успех, но в принципе это дела не меняет. Я понимаю, что это трудный и долгий путь, но, по моему убеждению, единственно возможный. Всякая война вызывает жажду реванша, и этому не будет конца.
Я, конечно, не убедил его, но, кажется, несколько поколебал. Он применил «льготную» 193-ю статью и дал мне не максимальный срок, который она предусматривала, а полтора года без строгой изоляции и без последующего поражения в правах.
Приговор кончался словами: «с немедленным заключением под стражу». Ко мне подошёл конвойный: «Пройдёмте, гражданин».
Я переступил грань. Отныне до конца срока никто не скажет мне «товарищ». Я буду только «гражданин». Это слово, которое должно было бы быть самым почётным в демократическом обществе, стало специфически-презрительным в обращении с заключёнными.
Ну что ж, не так плохо.
Я кивнул друзьям. Меня отвели в арестантскую, где я сидел в одиночестве с полчаса. Я знал, что мама будет добиваться свидания, чтоб попрощаться. Действительно, она пришла. Нам дали пять минут. С виду она была совершенно спокойна. Ей ли не привыкать к таким вещам!
— Ну вот, сынок, теперь и ты стал взрослым.
В её представлении жизнь взрослого человека неотделима от арестов и тюрем, от лишений и борьбы за свои убеждения.
Я уверил её, что хорошо себя чувствую, исполнил свой долг, что самое неприятное — пять судов (включая два гражданских) позади, и что теперь всё пойдёт к лучшему.
Часа через два меня вывели на улицу. Два дюжих конвойных встали по сторонам с винтовками наперевес, явно с целью застрелить меня, если я попытаюсь бежать или покуситься на жизнь мирных обывателей города Москвы, и мы отправились в тюрьму. Это были времена, когда для мелких жуликов вроде меня не были предусмотрены такие удобства, как чёрный ворон. Их разводили по казённым домам пешим ходом, обязательно посреди мостовой, чтобы они не имели общения со сновавшими по тротуарам приличными гражданами.
Пока мы шли по Фуркасовскому переулку, а потом по Мясницкой, мне всё вспоминался Лёва Цвик из Тобольской больницы, да вертелась фраза из Алексея Толстого:
Стыдливостью его не дорожа, Они его от Невского и по Садовой Средь смеха, крика, чуть не мятежа К цепному мосту привели…Когда мы перешли Каланчёвскую площадь и зашагали по Краснопрудной, я понял, что ведут меня в Сокольнический исправдом, находящийся рядом со СВАРЗом. Был конец рабочего дня, и со СВАРЗа ехала навстречу нам масса рабочих, толпившихся, как всегда, вокруг вагоновожатых на передних площадках. Среди них многие были мне знакомы. Когда кто-нибудь замечал меня, на площадке тотчас поднимался шум, крик, «чуть ли не мятеж». Все лезли к окнам, показывали на меня пальцами. На лицах я читал изумление, испуг или усмешку. Но трамвай пролетал, и до следующего никто не возмущал моего спокойствия. Мы встретили их штук десять, трамваев номер четвертый и десятый. Воображаю, сколько на другой день было разговоров и догадок: «Скажи, пожалуйста, парень таким тихоней прикидывался, когда у нас работал, а вот поди ж ты, наверно, украл что-нибудь или угробил кого по пьяной лавочке…»
Конвойные не знали дороги, и я им её показывал, причём доставил себе удовольствие, заставив их сделать порядочный крюк. Всё-таки надо на полтора года нагуляться.
Подошли к огромным железным воротам, вделанным в глухую кирпичную стену на улице Матросская тишина. Конвойный позвонил, открылось маленькое окошечко, он подал документ. Загремели ключи, заскрипел засов, в воротах открылась калитка. Потом все звуки повторились в обратном порядке, как бы говоря: «Попался голубчик, а мы давно тебя ждём!»
В маленьком дворике, который показался мне даже уютным — благодаря аккуратным газонам и нескольким тополям, помещалась караулка.
Пока карнач записывал в книгу необходимые сведения, я читал через его плечо: «Направляется дело № такой-то о заключённом под стражу Арманде Давиде Львовиче на предмет отбытия наказания по статье 193, § 12 на срок полтора года по приговору…» и в конце — «Приложение — заключённый».
Эта формулировка меня сильно рассмешила. Карнач и конвойный взглянули на меня подозрительно, наверно, решив, что перед ними или чокнутый или опасный рецидивист, который возвращается в тюрьму как в дом родной.
Надзиратель вывел меня через помещение для свиданий во внутренний двор — необозримо громадный и строго надёжный, где было разбросано несколько производственных корпусов и один нештукатуренный пятиэтажный жилой корпус — собственно тюрьма.
Когда подошли к двери корпуса, я невольно содрогнулся. Сразу за открытой дверью была высоченная решётка из здоровенных железных прутьев, а за ней, как мне с перепугу показалось, ужаснейшие рожи, искажённые злобной гримасой или глупо ухмыляющиеся, визжавшие, сквернословящие и зубоскалящие. Впрочем, у них были и тела — в грязных брючищах, распоясанных, рваных рубахах. Но преобладали рожи.
«Боже правый! И мне предстоит жить в этом вертепе?» — с ужасом подумал я. Часовой, стоявший снаружи, отпер набранную из таких же прутьев дверь.
— А ну, позволь! — крикнул сопровождавший меня надзиратель, и, когда рожи отступили на шаг, мы прошли в дверь и сразу же по лестнице в подвал. Вдогонку мне полетел хохот и такие эпитеты, перед которыми заводские виртуозы матерщины показались мне жалкими приготовишками.
Надзиратель провёл меня по сырому и мрачному коридору, тошнотворно пропахшему карболкой, отпер камеру и, сказав на прощание:
«Будешь сидеть в карантине», ушёл, оставив меня, наконец, одного. Камера была непомерно большая. Судя по числу коек, поднятых на день, привинченных к угольникам, шедшим вдоль двух стен, помещение было рассчитано на 12 человек. В конце было широкое окно с решёткой, нижней частью выходившее в бункер, но позволявшее наверху видеть ноги проходивших мимо. Длинный дощатый стол с нарисованной на ней шашечной доской, посередине две лавки, медный чайник, деревянная ложка и алюминиевая миска, параша в углу да волчок в двери завершали убранство карантина.
Не успел я всё это рассмотреть, как снаружи послышалось что-то вроде взрыва, и вслед за ним с медным грохотом, конским топотом и отчаянным криком мимо меня промчалось пар сто ног в невероятных и разнообразных опорках или совсем без них. Я терялся в догадках: что тут произошло? Очевидно, вырвались и умчались куда-то те рожи, которые рявкали на меня из-за решётки. Но кто их выпустил? Может, это массовый побег? Но происходил этот звенящий ураган словно от идущей в атаку римской конницы?
Я был разочарован, когда через десять минут те же ноги пошли назад, но уже чинно, попарно. Между ними на палках висели здоровенные полушаровидные тазы с кашей и огромные чайники кипятку с написанными на них номерами камер. Впоследствии, наблюдая за повторявшимся трижды в день бегом взапуски, я окончательно понял, что напугавшие меня рожи принадлежали дежурным от камер, которые в ожидании ужина сошли со своих этажей. Их не выпускали до удара колокола. Сразу за решёткой шла лестница не только вниз, но и наверх. Поэтому люди, сидевшие на нижних ступенях и стоявшие выше, казались мне взгромоздившимися друг на друга. Кухня, очевидно, помещалась в другом корпусе. Дежурные бросались туда наперегонки, чтобы занять очередь на раздачу. Медный звон происходил от столкновения посуды, которой усиленно колотили любители производить как можно больше шума.
В общем, всё оказалось очень прозаично и не так уж страшно. Только рожи были ещё те…
Вечером кто-то заглянул в глазок:
— За что сидишь?
— За отказ от военной службы.
В ответ послышался смех и громкий крик:
— Ребята, святого привезли!
Хорошо было сидеть в карантине. Голоса за дверью и сновавшие перед окном ноги давали пищу для наблюдений. Так как в исходе суда я не сомневался, то взял с собой пару книжек и английский учебник на случай, если их разрешат пронести в тюрьму. Действительно, их никто не пытался у меня отобрать, так что в карантине я не терял времени даром. Первые сутки мне не давали есть, но я не голодал, так как доедал собственные запасы.
Единственное, чего я боялся, — это попасть в камеру с урками. Я ещё на воле довольно наслушался. Как они обирают попавших к ним посторонних заключённых. Как ещё заранее проигрывают в карты одежду и паёк первого вошедшего. Как жестоко избивают при малейшей попытке оказать сопротивление, как унизительно потом заставляют себе служить, превращая в раба. Это было страшно. «Господи, да минует меня чаша сия!»
Через полтора дня благодатное житьё кончилось, и меня проводили в канцелярию корпусного старосты, переделанную из карцера и находившуюся в другом конце того же коридора. Староста назначался из числа заключённых, наиболее заслуживших доверие начальства. В его обязанности входило распределение заключённых по камерам.
Меня ожидал молодой человек лет тридцати, лощёный и ухоженный, но в общем вполне изящный. Он расспросил меня, зачем и почему, чрезвычайно удивился моей статье и внезапно почувствовал ко мне расположение. Он даже пустился в откровенность относительно своей персоны.
— Вы знаете, кто я? Я бывший председатель кинотреста Даревский, король растратчиков. Наверно, слышали? Про моё дело в газетах писали. Я растратил миллион червонцами. До меня ещё никто столько не растрачивал! Здесь хорошо устроился, имею отдельную комнату. Жена притащила ковры и всё необходимое. Обед каждый день привозят из ресторана «Прага».
Меня тронуло его доверие. В самом деле, какие могут быть секреты между интеллигентными людьми?
В какую же камеру вас устроить, чтобы не ободрали? Пожалуй, помещу к легавым. Это очень приличная публика и самая культурная здесь камера.
Староста культурной камеры — Вентцель, мужчина лет сорока, в чёрной суконной гимнастёрке, с благообразным энергичным лицом, осмотрел меня с головы до ног оценивающим взглядом и спросил:
— Ж. продаешь? Дам пять рублей.
Он, наверно, думал, что я прикидываю, согласиться ли на его цену или запросить десятку, а до меня просто не сразу дошёл смысл его предложения. Слишком это было ново, свежо, оригинально. Наконец я сообразил, чего он от меня добивается.
— Ты с ума сошёл!
— Как хочешь. Дороже никто не даст. Здесь деньги в цене… Займёшь койку около параши.
Я уже знал этот неписанный закон тюрьмы: новичок — около параши, особенно, если он не идёт навстречу желаниям старосты камеры.
Камера № 4 на пятом этаже была отведена под бывших военных и административных работников. Когда я туда прибыл, в камере находилось 13 человек, и 4 койки оставались свободными.
Все заключённые были более или менее интеллигентными. Но говорили они на особом языке: сказав одно общепринятое слово, они добавляли пару слов совершенно нецензурных. На многие обычные фразы у них были заготовлены рифмованные похабные выражения, которые они не упускали случая вставить. Эти непристойные потоки циничных выражений и богохульств употреблялись, так же как и отвратительные физиологические подробности, в самом дружеском разговоре и, помимо всего прочего, очень удлиняли речь. Спросивши что-нибудь, приходилось долго ждать, пока спрошенный извергнет длинное витиеватое ругательство и только в конце односложно ответит на вопрос. Несмотря на то, что я прошёл предварительную подготовку на заводах, я всё же чувствовал гадливость, физическое отвращение ко всем, говорившем на этом замысловатом языке, пока не перестал его воспринимать, просто пропускать мимо ушей. Впрочем, некоторые эпитеты, относящиеся к определённым категориям людей, показались мне очень меткими и едкими. Я жалею об их совершенном неприличии, и потому моя врождённая скромность не даёт мне возможности их воспроизвести.
И вот что удивительно: в разговорах с каждым в отдельности я находил умного и симпатичного собеседника, он даже начинал выражаться по-человечески. Но стоило им собраться вместе, как они превращались в стадо злобных и вредных дураков. У них абсолютно отсутствовали серьёзные интересы. Все разговоры вертелись вокруг порнографии и преступлений. Они ссорились из-за пустяков, готовы были перегрызть друг другу горло, но, впрочем, никогда не перегрызали и легко мирились. Они были всегда возбуждены, подозрительны и крикливы. В хорошем настроении они садились играть «в кости» (тогда ещё не было известно выражение «забивать козла») и способны были заниматься этим все вечера подряд. Впрочем, человека три иногда читали книги, один даже готовился поступать в ВУЗ, когда выйдет на свободу.
Постепенно я узнавал причины, по которым сидели эти люди. Вот примерная характеристика.
Вентцель сидит за взятки. Он был народным судьёй. За сотню-другую он брался оправдать любого преступника или наоборот, закатать в тюрьму лет на 8–10 заведомо невиновного человека, если какой-либо взяткодатель был в этом заинтересован.
Некто Шауфус, бывший агент уголовного розыска, сидит за растрату. Совершенный эротоман, имеет срок три года, но жене соврал, что год, будучи уверен, что она не вынесет и уйдёт к другому. Постоянно говорит о её возможной измене, доводит этими мыслями себя до исступления. В то же время держит у себя негативы фотографий голых женщин, на которые часами жадно любуется. Очень ревнует, если кто-нибудь взглянет через его плечо.
Ещё есть начальник отделения милиции. Грубая скотина. Попал за убийство и истязание заключённых.
И так дальше, в том же роде.
Контраст представлял только афганский офицер Ахмет Хализад. Очень воспитанный, подтянутый человек. Но он был полон свойственным мусульманам изуверских представлений о чести. Он был в числе нескольких офицеров, присланных в СССР на стажировку ханом Ахмануллой. Один его товарищ, пообтёршись в нашем обществе, позволил себе пройтись по адресу мусульманской религии. Ахмет выхватил кортик и зарубил богохульника.
— Как я мог поступить иначе? Ведь он оскорбил Аллаха и священную память предков!
Он получил 10 лет и хлопотал об отправке на родину, хотя знал, что там его ждёт пожизненное заключение в тёмной вонючей яме, в кандалах. Лишь бы вырваться из окружения этих русских, которых ненавидел и презирал за грубость, за матерщину. А они изводили его, обидно переделывая его фамилию:
— Али в пред, али в зад?
В конце концов его освободили и выслали на родину. Как он мучился, перетаскивая в такси свои семь чемоданов с барахлом, главным образом, парфюмерией!
Наша камера жила в постоянном страхе перед урками. К легавым последние испытывали классовую ненависть и, оказавшись с ними на равных правах в тюрьме, нередко сводили с ними счёты. Поэтому наши на другие этажи не ходили, даже когда их пускали, и те, кто имел основание особенно опасаться мести, даже на прогулку выходили отдельно, в другие часы.
Вообще-то условия были санаторные. Восьмичасовой рабочий день, час прогулки. На дворе были гимнастические снаряды, правда, в большинстве поломанные. Зато заключённые с увлечением играли в чехарду. В клубном корпусе два раза в неделю кино или самодеятельность. Хотя письма шли иногда подолгу, валялись в тюремной цензуре, но обычно их никто не читал. Передачи разрешались три раза в неделю, свидания — по разрядам. Так как я попал в самый низший, шестой разряд, куда вначале попадали все новички, то мне полагалось свиданий только четверть часа в две недели. В случае побега или какого-либо происшествия применялась круговая порука: вся тюрьма лишалась свиданий или продуктовых передач.
Самой тяжёлой была окружающая среда, и я решил её преобразовать. Установил себе строгие правила поведения: утром, как говорили в тюрьме «спросёнок», делать гимнастику и обтирание, днём ни минуты не сидеть без дела, при чтении не валяться на койке, делиться передачами, не отказывать в просьбе одолжить какую-либо вещь. Другие в таких случаях отвечали: «Иди ты на…». Главное правило — не допускать непарламентских выражений. О своих убеждениях, о религии, о вегетарианстве и т. п. я никогда не заговаривал первым, не проповедовал, но если спрашивали — высказывался откровенно. Одним словом, единственным способом пропаганды служил мой пример.
Эта тактика неожиданно скоро дала хороший результат. Я заметил, что в разговорах со мной товарищи старались не сквернословить. А через неделю я услышал, как один заключённый говорил другому:
— Ну чего ты ругаешься? Вот Арманд не ругается. Наверно, можно отвыкнуть от этого!
Обычно ссорились перед чаем: никто не хотел идти за кипятком. Я в таких случаях молча брал чайник и отправлялся. Но мне редко удавалось дойти до двери. Кто-нибудь из споривших вырывал чайник и бежал сам. Вся камера привыкла брать у меня иголку, нитки, бумагу, книги… Но зато, когда я что-либо просил, отказа не было. Угощение брали с трудом — стеснялись. Над вегетарианством потешались в первое воскресенье. Но, убедившись, что я отдаю праздничный кусок мяса соседу, решили, что это чудачество, в общем, для камеры не вредное.
Вообще даже эти люди были похожи на известную механическую игрушку; так, грязный комочек, смотреть не на что. А если размочить, то распускается цветок, и иногда очень интересный…
Раз даже мои взяточники пустились в философию. Как-то вечером, случайно, заговорили о роли интеллигенции, потом перешли на роль личности в истории, потом на предполагаемую гибель цивилизации. Оказалось, они кое-что слышали о Шпенглере. В этот вечер домино пролежало втуне. Я никакого участия в разговоре не принимал.
Мои скромные успехи на педагогическом поприще доставляли мне большое удовольствие. На это не жалко было времени. Я видел своё назначение в том, чтобы очеловечивать окружающую среду.
На моей памяти камера совершила два благородных поступка. Раз к нам поступил новый заключённый, убедивший каким-то образом корпусного старосту, что он был чьим-то начальником. Но у нас самозванство быстро обнаружили. Оказалось, что он был заурядным вором, проигравшимся где-то в другой тюрьме в карты и не уплатившим.
«Закон у́рок» был жесток. Пословица гласила, что «ссученный» (изменник, доносчик) хуже «заигранного» (карточного должника), «заигранный» хуже «задроченного» (онаниста), «задроченный» хуже «занюханного» (наркомана). Заигранного били всей камерой и, когда он терял сознание, списывали с его карточного долга один рубль. Когда он выздоравливал, экзекуция продолжалась. Это могло длиться месяцами и часто кончалось летальным исходом. Избиваемый обычно просил перевода в другую тюрьму, но, куда бы его ни укрывало начальство, вслед за ним приходила шифровка, в которой сообщалось, сколько ему ещё остаётся заплатить своими боками, и новая камера с воодушевлением принималась выколачивать с него долг.
Наш новый собрат, пробравшись в камеру легавых, попросту спасал свою шкуру. Я был очень удивлён, когда камера, после двухчасового гвалта, постановила не выдавать его на растерзание и оставила у нас со строгим предупреждением не воровать.
В другой раз в камеру приняли Серёжку — мальчишку лет двенадцати, малолетнего преступника, бежавшего из колонии. Я взял над ним шефство и потратил на него немало сил и времени. Подкармливал его, разрешал рыться в своих вещах, рассказывал «случаи из жизни», имевшие, по моему мнению, педагогическое значение. Выписал с воли журнал «Мир приключений». Серёжка быстро приручился, относился ко мне с собачьей преданностью, целые дни искал случая оказать какую-нибудь услугу и даже ни разу у меня (увы, только у меня!) не украл.
Когда я мастерил себе столик к стенке кровати, чтобы не тесниться за общим столом, он мне очень умело помогал. Я удивился:
— Где ты выучился так работать?
— Магазины взламывал. При нашей профессии без уменья пропадёшь.
Он был добр и доверчив, со мной. Но курить и сквернословить так и не отучился.
Но самым трудным ребёнком, которого мне пришлось няньчить, был афганец. Увидев, что я всё свободное время занимаюсь то английским, то эсперанто, Хамет вцепился в меня, упрашивая давать ему уроки по обоим языкам и вдобавок по русскому, которым он владел далеко не в совершенстве. Я согласился и проклял свою судьбу, так как его способности сильно уступали его усердию. Интересней были беседы с ним, в которых я узнал о его стране, об обычаях и религии. Я никак не мог понять, как такой культурный и относительно образованный парень может придерживаться таких диких, реакционных взглядов на власть, на сословную структуру общества, на женщин, на вопрос воинской чести. С тех пор я питаю антипатию к исламу.
Раз произошёл трогательный случай. Давали спектакль артисты города. Все сгорали от нетерпенья, Хамеет в особенности. Но билетов не хватало и их разыграли по камерам. Выиграл я. Хамеет — нет. Видя, что он чуть не плачет, я уступил ему свой билет. Сказал, что он для меня слишком дорог (50 копеек). Хамеет поблагодарил, купил билет и принёс его мне. Причём он признался, что понял, что я соврал и просто хотел доставить ему удовольствие, а дело не в деньгах.
Но порой Хамет бывал навязчив со своими традициями. Сколько Гале пришлось побегать по Москве в поисках для него специальных щипчиков, которыми он подолгу по одному волоску выщипывал свою бороду. Уверял, что афганцу не положено бриться и в то же время необходимо следить за своей наружностью. Но когда он кончал выпалывать левую щёку, на правой волосы уже успевали отрасти на сантиметр.
Галю он засыпал поручениями, говоря, что может доверять деньги только людям, которые «верят в бога», хотя бы и христианского.
Впрочем, я не всё время тратил на воспитание и просвещение стрекулистов, хватало и на себя. Я усердно занимался английским. У меня был словарь, учебник и Джек Лондон, которого я с большим удовольствием читал в оригинале. Ещё охотнее я читал старинную книгу «Memoirs de Ninon de Lenclos» — воспоминания великосветской куртизанки времён Людовика XIV, очень умной женщины, вмешивавшейся даже в политику, высмеивавшей своих любовников, министров, кардиналов, и последнему из них, на коленях умолявшему не отвергать его, ответившей: «Пора и честь знать. Сегодня мне исполнилось 80 лет».
По-русски я в то время прочёл «Клерамбо» Ромена Роллана — книгу, которую мне принес Михаил Васильевич. Она захватила меня сходством ситуации — герой повести, пацифист, отказывался от военной службы в момент всеобщего шовинистического угара в начале мировой войны. Как я ему завидовал! Он не удовлетворился успокоением своей совести, он был трибуном, громившим милитаризм на больших собраниях и митингах под свист и улюлюканье толпы. На такую деятельность у меня не хватало пороха.
Затем я с наслаждением прочитал «Записки моего современника» и без всякого наслаждения ранние произведения Леонова, Лидина, Пильняка. Их постоянные старания уснащать свои речи жаргонными словечками, многими псевдонародными выражениями, парадоксальными сравнениями, их оригинальничанье и позёрство, призванные маскировать мелкотемье, производили особенно тяжёлое впечатление после такой простой, искренней и значительной книги, как автобиография Короленко. Наконец, «Моя жизнь и мои достижения» Генри Форда волновали меня в то время проповедью деловитости и идеями НОТа.
Были у меня развлечения и помимо книг. В исправдоме существовала воспитательная часть, которая, правда, в камерах не показывалась, так как состояла преимущественно из старушек, боявшихся заключённых, но неплохо поставивших работу тюремного клуба. Он помещался в том же корпусе, что и кухня. По субботам и воскресеньям нас водили туда в кино. Билет стоил гривенник, и я решил, что могу позволить себе это удовольствие. Половина фильмов представляла собой грубые любовные агитки, но попадались изредка и серьёзные вещи. Примерно раз в месяц выступала самодеятельность, и это была действительно воспитательная работа, хотя бы потому, что в женских ролях выступали жёны и дочери надзирателей, и заключённые привыкали вести себя прилично в присутствии женщин.
Шпана в общем музыкальный народ. Среди преступников и мошенников нашлось несколько талантливых артистов. Сам король растратчиков постоянно блистал в амплуа первого любовника. Опишу один вечер.
Первым номером шла старая комедия, где высмеивались светские манеры и воспевалась деревенская простота нравов. Потом парень, одетый старым каторжанином, в кандалах, неплохо пел сибирские тюремные песни. Следующим номером шли романсы в исполнении какого-то «мирового баритона», строившего для вящего эффекта немыслимые рожи. Две девушки танцевали матросский танец. «Любимец русских и заграничных тюрем» Саша Шухов рассказывал еврейские анекдоты. Недурно играл оркестр, состоявший из полутора десятков струнных и ударных инструментов. Выступал «виртуоз танца» с прямо-таки сверхъестественными ритмами чечётки — «Ламца-дрица-им-ца-ца!» Девочки декламировали частушки, иногда довольно едкие.
Всё было на уровне культуры, который могли принять зрители. Но всё же на более высоком, чем их обычное времяпрепровождение. Зато в другой раз, после двух вещей Чехова пускали такие анекдоты, что я сразу понял, почему тюремные щи такие постные, — всё сало пошло на этот спектакль.
Раз спектакль давали приезжие артисты, из которых особое впечатление на тюрьму произвела Русланова. Она была молода, дебела, одета в сарафан и так выразительно выводила:
Подойди ко мне, ты мне нравишься, Поцелуй меня, не отравишься!что изголодавшиеся по женщинам урки пускали слюну и корчились на скамейках. И долго потом не смолкали отзывы ценителей: «Как поёт, а? А какие буфера!»
Внутри «баркаса» — тюремной стены с вышками по сторонам и углам, правильным квадратом окружавшей двор, помещались, кроме жилого, административного и клубного корпусов, ещё многочисленные производственные постройки: ткацкая фабрика, кроватно-слесарная, фабрика фотопластинок, «Геркулес», производившая толокно, красильня, трикотажная, картонажная и так далее. Строились и новые фабричные здания. На стройку свозили и разбивали в щебень могильные плиты и памятники с соседнего кладбища.
На ткацкой стоял допотопный мотор с прямоугольным ярмом и парой полюсов на шесть сил. Он весил столько же, сколько трамвайный 35-сильный. Тем не менее, этот музейный экспонат вертел несколько десятков отчаянно стучавших «Нор-тропов». После конструирования кустарных станочков я их разглядывал с большим интересом. В кроватно-слесарной мастерской визжали ножёвки и десятки молотков били по железу. На фотофабрике царила тишина и благолепие и привилегированные заключённые, вроде моего афганца, чинно макали стёкла в эмульсию и расставляли их в прорези станочков для сушки.
Меня послали мотористом на «Геркулес». Он производил, как и следует из названия, кашу-геркулес, толокно и детскую муку для печенья «Нэстле». Фабрика работала в две смены. В ней было три цеха: поставной, просевной и сушильный. На поставах работал в каждую смену один человек, на россеве — один, в сушилке — два. Кроме того, в первую смену полагался моторист, во вторую — слесарь, который по совместительству следил за мотором. Кроме того были вольные заведующий и его заместитель, а также патронируемый мастер. Патронируемый — значило отсидевший свой срок, живущий на воле, но находящийся под гласным надзором. Тюрьма его обеспечивала работой, но платила половинное жалованье и не проводила в профсоюз.
Несмотря на маленький объём производства толокна марки «Сид» (Сокольнический исправдом), этим продуктом была завалена вся Москва. До тюрьмы я его ел каждое утро, после тюрьмы — никогда. На этикетках написано, что толокно изготавливается из отборного овса под специальным надзором врача. Такового я за полгода работы ни разу не видел, но наблюдал кое-что другое. Овёс, действительно, был отборный: его сортировали и лучший сорт шёл на геркулес, а отсевы мололи на толокно.
Я осмотрел фабрику. В сушильном отделе стояла сортировка, давилки, два запарочных чана и громадные сковороды с вращающимися ножами-мешалками. Когда я пришёл впервые, в чанах сидели два голых мужика, толстый и тонкий, и с блаженством хлестали себя по лопаткам вениками. В заключение они в той же воде выстирали свои подштанники и портянки, потом мыльную воду сменили и засыпали овёс, даже не ополоснувши чана. Видать, саннадзор был здесь поставлен, как говорится, «на большой».
Поставное отделение представляло собой полутёмный сарай, до потолка заваленный мешками. На подмостках солидно гудели два стальных постава и крупорушка. Рослый красавец Миша ходил от одного к другому, засыпая овёс в бункера, регулировал подачу и оттаскивал мешки с мукой и отрубями. Самый хитрый механизм представлял собой россев. Это был громадный шкаф, поваленный навзничь и подвешенный за четыре угла на карданных подвесах. Шатунно-кривошипный механизм заставлял его непрерывно трястись мелкой дрожью, при этом в его бесчисленных ящичках и ситечках перетекала мука, обсевки попадали в воронки и ловушки отдельно и разделялись на фракции: обсевки отдельно, крупная, мелкая мука, всё отдельно. Россев был страшно капризен, и низенький толстенький Волобуев, по прозвищу Балогуев, постоянно его отлаживал и настраивал. С виду он был типичный мельник, и нельзя было понять, вечно он вымазан в муке или от роду так белобрыс.
Вся эта «музыка» сидела на одном трансмиссионном валу, проходившем через все цеха, и ответвляла от себя такое количество приводных ремней, что, когда они все вертелись, кружилась голова и рябило в глазах. Вся фабрика приводилась в движение одним мотором, хозяином и слугой которого был назначен я.
Работа на «Геркулесе» мне нравилась. Первым делом мне пришлось участвовать в установке нового мотора. Делали цементный постамент, укрепляли салазки, втаскивали мотор, выверяли. Операция была не из лёгких, если учесть, что «Васька» (так звали мотор) имел 57 сил и весил более двух тонн, а техника в нашем распоряжении значительно уступала той, которая применялась при строительстве пирамид. Мне не приходилось устанавливать моторы в Институте, поэтому я относился к этим операциям с большим интересом.
Потом я перебрал пусковой реостат, размером с чемодан, сделал новый щиток, установил ограждение на ремень, выкрасил в ядовито-зелёный цвет, почистил коллектор, притёр щётки, и работа пошла. «Васька» был ростом почти с меня и имел дурной нрав: где-то обмотка замыкалась на корпус, и при каждом прикосновении он «давал сдачи» — всё-таки 220 вольт. В общем после этого он не причинял мне хлопот, только слегка бил в подшипниках.
В остальном убранство моторного помещения состояли из верстака, подоконника и колченогой табуретки. Началась спокойная жизнь под мерное хлопанье приводного ремня, уходившего через дыру в стене в поставное отделение. Можно было и в рабочее время заниматься английским.
Производственное неустройство и бедность были поразительны. Сплошь и рядом нельзя было достать керосина, чтобы полить машину, каплю кислоты для пайки, кусок фанеры для ограждения. В инструменталке не было самого необходимого: ни отвёрток, ни кусачек. Когда мне надо было сделать в моторном отделении переносную лампу, я не мог достать вилки. Вырезав деревянную форму, я вложил два гвоздя в качестве штекеров и залил серой. Нельзя сказать, чтобы вилка вышла не огнеопасная, но я остался очень доволен своей изобретательностью и мастерством.
Жалованье мне набегало 7 р. 50 коп. в месяц. Из них одну треть мне записывали на книжку, и я мог покупать на неё товары в тюремной лавочке. Две трети заносились в неприкосновенный фонд и поступали в моё распоряжение лишь после освобождения, чтобы, выйдя на волю, я не был вынужден снова заняться воровством. Но по особому ходатайству, крайне неохотно, из неприкосновенного фонда часть передавали родным до истечения срока.
Меня очень беспокоило положение Гали. Она зарабатывала мало, денег не хватало. Вселившаяся в нашу комнату буйная коммуна, состоявшая из колонистов и шабшаевцев, проедала и пронашивала больше, чем она могла восполнить. Кроме того, нужно было посылать деньги маме в Пермь, куда она переехала к Маге и Льву Семёновичу. Все трое были без работы, а Мага ждала ребёнка. Поэтому я решил зарабатывать как можно больше. Случай скоро представился.
Тогда существовал такой странный либеральный обычай: заключённых, у которых вскорости кончался срок и которым начальство доверяло, отпускали на несколько дней в отпуск. Слесарь «Геркулеса» Иван, ражий детина, почти в сажень ростом и с лошадиным лицом, дождался такого отпуска. Он говорил, что «задержится» на воле недельку лишнюю, чтоб хорошенько кутнуть. Начальник тюрьмы Можаев, услыхав о его замыслах, предупредил его, что отпустит всего на три дня в сопровождении мента (надзирателя) с тем, чтобы тот ночевать его приводил в исправдом. Ивану это не понравилось, он напился и на прогулке, схватив кирпич, бросился на Можаева. Тот оказался без револьвера и пустился наутёк. Иван гонял его по всему двору, а сзади бежали менты, не решаясь стрелять, дабы не подстрелить начальника. Сотни заключённых с восторгом смотрели на эту охоту. В конце концов Можаев влетел в караулку, где «моськи» (конвойные) дружно навалились на Ивана, скрутили и уволокли в карцер на три недели. На другой день, проспавшись, он подал заявление с извинением, но заключённым шепнул в окошко:
— Всё равно я его убью!
Меня назначили на совместительство слесарем, работать в две смены за двойную плату — ещё 15 рублей.
Но эти 15 рублей не дались даром. В первый же день мне пришлось чистить эксгаустер — громадный железный короб, проходивший на чердаке и пропускавший через себя весь жар и пар от печей и всю мякину от сортировки. Хотя я включал вентиляторы, но производство работало, естественная тяга продолжалась и температура в эксгаустере была убийственная. Я разделся до трусов, влез в трубу и принялся орудовать лопатой, сбивая комья слежавшейся мякины, подобные торфу и прилипшие к стенкам. Когда они рушились, поднимались такие столбы муки и пыли, что положительно не мог придумать, чем тут можно мне дышать. Разборка фасоли на чердаке в Липовке показалась мне пикником на прохладном ручейке. Я только бормотал про себя: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его». Я был уж готов вовсе выбывать с вещами в царство небесное, как неожиданно труба кончилась и я подполз к отверстию. Дружный взрыв хохота, которым меня приветствовали, когда я вылез на крышу, показывал, что я был очень хорош. Притом я почти ослеп, так глаза были забиты пылью. Уж и отмывался же я потом в котле для овса!
Донимали меня ремни, из которых некоторые достигали двадцати сантиметров ширины и семи миллиметров толщины; истрёпанные, они постоянно растягивались, а новые кордные то и дело рвались. Приходилось их без конца перешивать сшивками или специальными болтами с плоской шляпкой. Я не сразу овладел искусством пробивать для них дыры так, чтобы ремень давал хорошее сцепление и, с другой стороны, не заклинивал подшипник. Больше выезжал на дефицитной канифоли, которую безбожно сыпал под ремень.
Остальные слесарные и жестяные работы были более интересны. Они заключались в ремонте разных деталей машин и починке многочисленных замков, бог весть откуда притаскиваемых начальником фабрики.
Личный состав на «Геркулесе» был весьма удачным. Любой отдел кадров мог бы гордиться таким составом. Петро — караульный мастер, высокий, очень вежливый юноша, недавно отсидел срок за соучастие в убийстве в своё время известного «толстовца-коммуниста» Семёнова. В первые дни революции Семёнов поднял вопрос об экспроприации мельницы, принадлежавшей отцу нашего мастера. «Толстовца» они дружно угробили, за что отец был расстрелян, а старшие братья ещё досиживали свои сроки.
Работавший на поставах Миша Гришин, на воле большой общественник, председатель исполбюро какого-то техникума, сидел за «изнасилование путём обмана», то есть за то, что пообещал жениться, соблазнил, а на следующее утро выгнал свою «даму сердца» на улицу. Она не побоялась огласки и подала в суд.
— Ну, прямо сказать, ни за что, просто неудачно употребил девчёнку, подумаешь, какое дело! — пояснил он. Толстый и тонкий с сушилки были бытовиками. Толстый в пьяном виде «слегка погладил тёщу бутылкой по голове. А она возьми и помри».
Тонкий поджёг дом соседа в отместку за кур, которые вечно лезли к нему в подворотню и разгребали огород. Оба были добродушнейшими людьми.
Наконец, Волобуев был самым весёлым из убийц. Он охотно рассказывал про своё дело.
— После гражданки осталось у нас в Орловской губернии много оружия. Ну так, больше обрезы всякие. Мы, конечно, ребята молодые, нам девчат надо. В нашей деревне многие завербовались на текстиль, значит не хватало. Многие бросились в соседнюю деревню, а там свои ребята, они нас в кулаки. Мы говорим, чем драться то, давайте бой устроим. Кто победит, тех все девчата будут с обеих деревень. Так и порешили. Почистили ружья, обрезы, у кого что было, и пошли по лесочкам, по овражкам в наступленье. Мы не по злобё воевали, а так, для примера, вроде игры устроили. Однако, человек двадцать на тот свет отправили, раненых — вдвое. Мы, было, уж совсем побеждать стали, да тут из уезда роту красноармейцев прислали. Ну, с ними не повоюешь! Грубый народ, нешто они понимают? Всех, кто был жив — забрали. Девок вовсе без женихов оставили. Потеха!
Волобуев получил 6 лет. Половину уже отсидел.
Работая в две смены, я очень мало бывал в камере и, придя с работы, сразу после поверки заваливался спать. Способность засыпать при ярком свете и адском гвалте была у меня в то время феноменальной. Бывало, лягу, а у самых моих ног располагается компания играть в «кости». Все отчаянно ругаются и поминутно кричат:
— Мазчики, есть мазу!
Это значит, приглашают болельщиков поставить свои деньги на кон. В случае проигрыша проигравший платит им всем, в случае выигрыша — со всех получает. На койке, стоявшей вплотную к моей, сосед рассказывает, как трудно лавировать со свиданиями, когда имеешь несколько жён. На днях он по ошибке послал одной жене письмо, предназначенное другой, и теперь ждёт скандала. С другой стороны в полуметре от меня другой сосед долго и упорно «выдаёт» идиотские похабные анекдоты. Слушатели ржут. Третий во всё горло поёт «Кому тоску-кручинушку смогу я рассказать?» А в углу целый хор грянул любимую песню:
Стаканчики гранёные упали со стола, Упали и разбилися, знать, тому судьба…При этом тюремный «bon ton» требует везде вставлять «ы»: «Сытаканчики гыранёные упыали сы стыла…»
И вот под эту разнообразную «музыку» я в три минуты засыпал блаженным сном.
Тюрьма лопается и трещит. За первый месяц моего пребывания число заключённых увеличилось с 600 до 860 человек. Вновь осуждённых возят из тюрьмы в тюрьму; везде полно, нигде не принимают. В «нашей» четвёртой камере уже не 14 человек, а 19, двое спят на приставных койках, втиснутых в проходе.
Как всегда в таких случаях, началась утечка. Развилась форменная эпидемия побегов. Один заключённый ушёл со свидания, подделав себе пропуск. В другой раз компания урок отвлекала внимание мосла на вышке, затеяв отчаянную драку у её подножия, а другие в это время накинули на баркас верёвочную лестницу с крюком и удрали. Самым эффектным был побег пожарной команды. Эта команда составлялась из особо доверенных воров и жила в отдельном деревянном домике на задворках тюрьмы рядом со своими лошадьми и бочками. Все её члены имели внутренние пропуска и пользовались относительной свободой. Однажды утром, придя на прогулку, старший надзиратель обнаружил пустую пожарку и в ней записку: «С приветом». Ночью команда делала обход и затем исчезла. Впрочем, при наличии пожарных лестниц это было нетрудно, особенно, если мослы на двух соседних вышках спали или были пьяны.
Шпана очень легко смотрела на побеги. Обычно бежали весной, пробирались в Ташкент, Ростов и Одессу, растекались на промыслы по курортным местностям. Осенью ночевать под кустом становилось неуютно, и урки приходили с повинной. Им набавляли за побег по трёшке или пятёрке, на что было решительно наплевать, так как у каждого из них срок и так заходил за пределы жизни или, во всяком случае, воображения.
Но вот случилось экстренное событие — из нашей камеры сделал попытку побега Шауфус. Жена узнала его истинный срок и написала, что дожидаться не собирается. Шауфус впадал то в ярость, то в отчаяние, никак не мог решить, как чеховский мститель, кого ему лучше зарезать, когда он выйдет на волю: её или его или обоих сразу. Он работал на внешних работах по ремонту дома надзора, помещавшегося через улицу. Однажды он, бросив носилки, драпанул по Матросской Тишине. Приставленный к носилкам мент крикнул согласно уставу два раза «стой!», на третий выстрелил в воздух; всё-таки жалко — свой, легавый. Шауфус, вообразив, что его убили, от страха шлёпнулся… Он попал на три недели в карцер и затем под суд «по новой». Ему дали ещё три года. «Дурак!» — был единодушный приговор камеры. Другой заключённый, румын Карауш, конный милиционер, по той же причине через несколько месяцев принял яд и благополучно умер в тюремном околотке.
Меня выводили из себя эти грозные мстители, независимо от того, убивали ли они себя или своих жён, требуя от последних абсолютной верности, оставляя при этом за собой право изменять, когда им вздумается. Они признавали, что это слабость, но чтобы женщины, которых они считают по сравнению с собой существами безвольными и вообще более низшими, не имели этой слабости. Они претендуют на прощение, но сами не прощают. В сознании своего права все мужчины были удивительно единодушны. В спорах об этом я всегда оказывался одиноким.
Побеги привели к смене начальства. Можаев был снят за мягкость. При этом, кстати, вспомнили его небезупречное прошлое. Он был раньше начальником Лианозовской колонии для осуждённых на принудработы. Эти колонии по иронии судьбы назывались «реформаториумами». В какой-то истории Можаев убил жену надзирателя. Кроме того, ему инкриминировались растраты, бесхозяйственность, произвол, протекционизм, попойки… Но справедливость, хоть поздно, но восторжествовала — его прямо из начальников тюрьмы отдали под суд. И приговорили… к назначению директором фруктотреста. «Будет груши околачивать» — смеялись заключённые. Вместе с ним сняли с работы всех его «сявок» — человек сто надзирателей.
Вместо Можаева был назначен некто Кипс, здоровенный латыш, имевший замашки, вполне подходящие к уголовному миру. Говорили, что он был начальником в «Крестах» и имел квартиру, выходившую окнами на тюремный двор. Один пижон, интеллигентный растратчик, завёл привычку перемигиваться с его молодой женой. Однажды, когда по его сведениям Кипса не было в тюрьме, он до того обнаглел, что вскарабкался по пожарной лестнице к самому окну, оставив внизу товарища стоять «на стрёме». Но внезапно появился Кипс. Он не стал долго цацкаться и уложил двумя выстрелами из нагана и юного любовника, и его «придурка». Разумеется, его судили по всей строгости законов и постановили, подобно Можаеву… перевести начальником в Сокольнический исправдом. Так он оказался у нас.
С Кипсом пришёл новый начальник рабочей части Земляков, необычайно толстый человек, заспанный и всегда пьяный, с двумя «клопами» в петлицах. Впрочем, не очень вредный.
Кипс назначил нового начальника корпуса. Кацвин был маленький худой еврейчик с отёчным лицом, с красными воспалёнными глазками, гнилыми, наполовину выпавшими зубами, словом, со всеми признаками неумеренного употребления марафета (кокаина). Он обладал жаждой власти, злоупотребления властью и какой-то особой зловредностью, которая, говорят, бывает только у людей очень маленького роста. У него была привычка постоянно держать руку на рукоятке пистолета.
Одновременно вернулся из больницы его заместитель Илюткин. Этот человек с отличной военной выправкой, прямой и стройный, с холодным лицом деспота и совершенно голым черепом, на котором виднелась глубокая вмятина. Он был не новичком в Сокольническом исправдоме. Он пользовался всеобщей ненавистью и за жестокость и за бездушный формализм. Однажды с ним рассчитались. Когда он производил поверку у урок, те внезапно вытолкнули из камеры сопровождавших его надзирателей с конвойным и прежде, чем он успел схватиться за револьвер, ударили его по голове страшным тюремным оружием — полутораведёрным медным чайником. С проломом черепа он пролежал полгода в больнице. Теперь, вернувшись на прежнюю должность, он стал не то чтобы добрее, но много осторожнее: входя в камеру, не отходил дальше двух шагов от двери, держался вплотную к конвою.
Новое начальство принялось наводить в тюрьме порядок. Клипс педантично любил чистоту. Было объявлено, что за один окурок, брошенный на пол в камере, все жители камеры лишаются очередного свидания и передач, за второй — староста идёт в карцер. Для порядка он огородил со двора колючей проволокой небольшой клочок и приказал только там проводить прогулки. Там повернуться было негде. Карцеры забили щитами, почти совсем не пропускающими света. Сажали туда в одной рубахе и подштанниках и зимой, в лютые морозы, топили только один раз в неделю.
Наконец, ввели ограничение переписки по срокам и по объёму написанного.
Но всего этого казалось мало. Необходимо было дать нам почувствовать, что мы сукины дети. Подходящим поводом для этого сочли юбилей Толстого. К нему тщательно готовились, пригласили артистов, которые должны были показать заключённым гуманизм великого писателя. Заключённые вышли во двор в возбуждённом состоянии: накануне был издан приказ закурочить все камеры, хотя параши были только ещё заказаны. Мы колотили во все двери, требуя выпустить нас в уборную. Грохот целые сутки стоял адский, надзиратели сбились с ног, бегая от камеры к камере и отпирая тяжёлые замки. Во дворе ожидал новый сюрприз. Все смены надзирателей и почётный военный караул были выстроены против выхода из корпуса. Кацвин зачитал новый приказ: отныне ходить в клуб и на прогулки разрешалось только парами, строем и молча.
— Первая камера, в две шеренги постройсь! — скомандовал Кацвин.
В ответ раздались взрывы брани. Ни один человек не вышел. Даже легавые, которые услужливо выползали, выполняя все распоряжения начальства, были возмущены. Свободный проход в клуб, до которого было шагов полтораста, заключённые рассматривали как свою прерогативу. Клуб был единственным местом, где они раз в неделю чувствовали себя людьми, и нате-ка, извольте строиться.
Толпа угрожающе загудела и двинулась на начальство. 400 человек разъярённых уголовников (в клуб ходили в две смены) — это не шутки! Мослы взяли винтовки наперевес, менты выхватили револьверы из кобур. Кацвин, на которого бросились сразу несколько урок, отбежал под защиту солдат и там, размахивая наганом, истошно кричал:
— Стрелять будем! Всех мерзавцев перебьём!
Но всё-таки обошлось без стрельбы. Конвой пустил в ход приклады. Вышибли несколько зубов, расквасили несколько носов. Кто-то из заключённых крикнул:
— Ива́нов, Ива́нов! (вожди урок).
В ответ раздалось:
— По каморам, ребята. Не пойдём на ихнего Толстого. Ну его!
И толпа повалила обратно. Артисты разгримировались и уехали. Гуманные взгляды великого писателя остались для заключённых неизвестными.
На другой день урки забаррикадировались на втором и третьем этажах и издали приказ: «Никому не выходить на работу». Все бытовики, растратчики и даже легавые подчинились. Не то, чтобы хотели присоединиться к бунту, но просто страх перед урками был сильнее страха перед вооружённым начальством. А урки объявили голодовку и «психовали». С их этажей доносились вопли, ругань, угрозы; они требовали городского прокурора для предания суду Кипса и Кацвина.
К вечеру начальство объявило, что прокурор прибыл и требует парламентёров для переговоров. Выбрали человек тридцать «Иванов», и они пошли в административный корпус. Когда они проходили по длинному и узкому коридору к кабинету начальника, из всех боковых дверей выскочили превосходящие силы противника — заранее приготовленные вооружённые конвойные и после короткой схватки скрутили парламентёров и увезли в Лефортовский изолятор. Их судили и «по новой» отправили кого в Орловский, кого в Александровский (Иркутский) централы, славившиеся своим невероятно суровым режимом.
Мелкая шпана, оставшаяся без главарей, и к тому же за сутки изрядно проголодавшаяся, быстро сникла и сдалась на милость победителей. Бунт был подавлен.
Я думал: какая разительная разница между политическими заключёнными и уголовниками. Первые выдерживают голодовки по 30 дней, умирают, а не сдаются. Вторые способны только на вспышкопускательство. Видно, только идея, благородная цель придают людям силу в неравной борьбе.
Всё же кое-какая польза из нашего бунта получилась. Похоже, чересчур ретивое начальство где-то «поправили», потому что часть задуманных мер так и не воплотилась в жизнь, хотя режим стал заметно строже. Кипс объявил, что если в камерах не будет картежа, кутежа и галдёжа, то параши не введут. А я уже со страхом наблюдал, как растёт их гора около жестяницкой мастерской. Маляры, как ни тянули, а всё-таки по паре в день вынуждены были их красить.
Примерно в это время наши добровольные стряпчие посоветовали мне подать заявление о применении амнистии, которая была объявлена по случаю десятилетия Октябрьской революции. Дело было сомнительное: амнистию применяли к тем, кто совершил преступление до её объявления. Но моё «преступление» не имело определённой даты, оно было перманентно. К какой дате его «прикрепят»? Если к подаче моего первого заявления об отказе, то выходило, что я подлежу амнистии, если к суду, то — нет.
Мне не хотелось подавать заявление. Хотя формула не требовала употребления каких-либо унизительных слов вроде «помилования» или «смягчения», всё же становиться в просительную позу было неприятно.
Кроме того, домашние дела были столь не блестящи, что мне положительно не улыбалось выйти на волю раньше срока. Некоторые друзья, в частности, Николя и Мейер ещё до ареста попросились ко мне в Спасоналивковский на несколько ночей, так как у них-де собственное жильё должно было появиться в ближайшие дни. Но когда меня взяли, они остались с Галей под предлогом её «защиты» и вскоре перестали даже искать другого удобства. К Мейеру переехала его сестра Лиза, к Николе часто приходили ночевать какие-то строительные рабочие, его товарищи. Кроме того, часто приходил и оставался ночевать на правах «друга детства» Борис Плаксин, ставший очень грубым, взбалмошным, нередко пьяным. С ним приходили Лиля, Люся (Существо) и прочая «Борькина банда», как они себя называли. Они целые ночи вели пустые споры, курили, ссорились. Потом приехала из деревни с письмом от Нины Чёрной некая Маруся, которую бросил муж после первой ночи. В письме содержалась просьба приютить её, утешить, устроить на работу и вообще «спасти». Наконец, явочным порядком вселилась «всех давишь» Тоня. Со свойственной ей невероятной бесцеремонностью она потребовала, чтобы все убирались ко всем чертям, что она тут будет жить только с Галей. Галя этого боялась более всего: опять начнутся избиения её, отнятие последних денег и т. п. А Тоня ещё заявила, что выписывает из Ленинграда свою сестру Ваву, которая, если её не примут здесь, немедленно кончит самоубийством.
Весь этот «Ноев ковчег» до большой степени кормился за счёт Гали, которая не имела мужества им отказать и потому делала невылазные долги. И всё же Тоня была для неё страшнее всего этого. В добавление ко всему она жила в маленькой проходной комнате, через которую днём проносилась, швыряя поленьями в Галину голову, пьяная новая соседка Анисья с оравой грязных вшивых детей, а по ночам к соседке тянулись «гости» с пьяными рожами, которых она и её пятнадцатилетняя дочь ласково принимали. Обокрала эта, с позволения сказать «семейка», Галю до нитки. К ним нередко наведывалась милиция, но, к удивлению всех окружающих, милиционеры никогда ничего не предпринимали против этой соседки. Более того, многие из них «загащивались» у Анисьи на целые ночи.
Председатель «Куста» бушевал и никак не мог решить, как выселить всю эту «малину». А бедная Галочка в конце концов просто сбежала из своего дома, найдя приют у каких-то своих друзей. Несколько позже она нанялась стеречь у них квартиру на время их отъезда на юг.
Я предвидел, что первое, что мне предстоит делать на воле, — это чистить эти Авгиевы конюшни. Я мог бы вышвырнуть посторонних, да и всех, но с Николей, Мейером и его сестрой, наконец, с Тоней, с которой я должен был бы церемониться из боязни огорчить маму, пришлось бы вести долгие и трудные, полные психологии разговоры. Немудрено, что по сравнению с этой перспективой безмятежное сиденье в исправдоме казалось райской жизнью. Но именно эта трусливая мыслишка и заставила меня принять решение: «Ты забился в угол, благоденствуешь и надеешься, что на воле как-нибудь всё само образуется? Ты хочешь выезжать на жене, которая уже теряет последние силы, разрываясь между тяжелой работой у Зеленко, буйными постояльцами и Тоней? Хотя никогда, ни одним словом не жалуется на свою жизнь? Так нет же!»
И я подал заявление в Верховный совет.
Мало того, я подал ещё в Главумзак (Главное управление местами заключения) заявление о досрочном освобождении или переводе меня на принудработы, чему подлежали только заключённые на срок менее одного года.
Меня вызвали по поводу второго заявления в Наблюдком. Он должен был поддержать его перед Распредкомом, который окончательно решал дело. Наблюдком заседал под председательством судьи. От администрации присутствовал Кацвин, от воспитательной части — какая-то толстая старушка. Было и ещё каких-то пять человек.
Судья с места в карьер объявил, что я человек интеллигентный, «который имеет дело со стихиями», а потому он не верит, чтобы я имел такие дикие убеждения и считает меня симулянтом и мошенником. Кацвин спросил, отказывался ли от военной службы мой отец и, получив отрицательный ответ, заключил:
— Значит, он не был таким дураком, как вы.
Когда я в ответ на какой-то вопрос упомянул, что учился в школе Свентицкой, старушка от учебной части вдруг встрепенулась:
— Да ведь это Даня! Лучший друг моего сына! Такой хороший был мальчик. Я там сколько лет в школьном совете работала!
— И вырастили такого бандита! — пробурчал Кацвин.
И тут я узнал Лидию Петровну, мать Лёньки Самбикина.
Я сказал почтенной комиссии, что насчёт моего исправления положение совершенно безнадёжное, хотя бы меня тут держали всю жизнь, а потому будет выгоднее для обеих сторон отпустить меня на волю и дать работать по специальности. Судья возразил, что если так, то справедливость требует распустить всю Красную Армию. А так как я, по его мнению, эту армию разлагаю, то он моё заявление не поддержит. И он сдержал слово. Распредком — отказал.
Польза от этого вышла та, что я обрёл Лидию Петровну. Она рассказала, что живёт против тюрьмы, в доме надзора, и что Лёня учится на кинорежиссёра. Добрая душа, мы с ней дружили, пока я сидел.
Но пора рассказать об урках, или о «своих», как их здесь называли. Уж не знаю, класс это или прослойка, только в исправдоме они составляли большинство. Если рассудить по Марксу — орудия производства: «перо» (финка), «фомка» (ломик), «гитара» (отмычка) принадлежит им на правах частной собственности, а способ производства — чужими руками, способ присвоения — примерно тот же, что и у капиталистов. Выходит, что они только прослойка буржуазии, но прослойка, не лишённая своеобразия.
Первое впечатление я получил от них в бане. Когда я вошёл, то подумал, что попал в стан дикарей. Грудь и живот, спина и то, что пониже, у десятков людей было исписано и расписано. Я стал ходить между полок и разглядывать моющихся. Чего тут только не было? Бесчисленные девы в натуральном виде с длинными распущенными волосами или завитые барашком, с точным обозначением имён и клятвами в верности, иногда по пять штук на одном, верном до гроба «шармаче». Целые стихи похабно-сентиментального содержания с увековеченными вокруг пупа грамматическими ошибками. Затем зверинец: орлы, змеи, львы, совы… Различные виды транспорта: автомобили, самолёты, пароходы… У одного от плеча до плеча был вытатуирован со всеми техническими подробностями военный корабль, ведущий огонь по противнику. До шеи поднимался флаг с Георгием Победоносцем. Но более всего меня растрогал самокритичный рисунок, запечатлённый на казённой части одного типа: женская нога, колода карт, бутылка водки и под всем этим надпись: «Вот за что страдаю».
Я так зазевался на эту выставку, ведь художественные впечатления были очень ограничены, что забыл сам мыться. Меня вывел из эстетического экстаза звонок, извещавший о конце мойки. Пришлось облиться и выходить. В бане выдавалось бельё, всем одинаковое. Одному до пят, другому до пупа. Пуговиц не было, кальсоны крепились с помощью верёвочек. Дрань невероятная; если у кальсон не хватало полбрючины, то это ещё было счастье. Верхнюю одежду разрешалось носить свою, но у «своих» давно всё было спущено или проиграно в карты. Они так и ходили в отрепьях казённого белья.
Татуировку, «накалыванье», производили особые мастера по рисункам, трафаретам, собранным в тетрадки. Заказчики по ним выбирали рисунок, как дамы выбирают платья в ателье по модным журналам. Потом рисунок переводился серией уколов иглой на кожу и в ранку втиралась краска или порох. Операция была мучительной, рисунок долго не заживал, нарывал. К тому же татуировка облегчала поимку преступников. И всё же ни один урка не мог удержаться от соблазна. Что поделаешь — мода! Красота требует жертв.
Ещё более жестокие мучения начинались, когда надо было свести татуировку, например, если новая шмара не желала, чтобы её возлюбленный обнимал её телами её соперниц. Со мной работал один бандит, который не на шутку задумал исправиться. Он хотел покончить со своим прошлым, но расписанная кожа непрерывно ему и всем о нём напоминала. Так он принялся выжигать себе татуировку кислотой. С поразительным стоицизмом он жёг себе одну руку за другой, потом грудь, потом спину. Каждое сожженное место покрывалось язвами и затем мучительно болело месяц, а то и больше. Но иначе не выведешь.
В первые же дни я заприметил пару заключённых. Они очень выделялись. Один — брюнет с густыми бровями в чёрных роговых очках, другой — блондин, высокий, с открытым лицом, с политическим зачёсом. Оба чисто, даже щеголевато, одеты, со шпаной не якшались, всегда серьёзны, даже было что-то печоринское во взгляде. Начальство к ним относилось с явным уважением. Я решил познакомиться, — наверно, политики. Но как они сюда попали? К счастью, сперва расспросил в своей камере.
— Это крупные медвежатники (взломщики). Великие мастера автогена и электросварки. Иваны уголовного мира. Действительно интеллигенты! Бывшие техники или даже инженеры. А теперь князья: только бровью поведут, им шпана что угодно из-под земли достанет. По 10 лет имели за взлом сейфов в банках.
Остальная братия, щеголявшая в кальсонах, состояла из домушников, форточников, городошников (базарных воров), шармачей (карманников), скокарей (трамвайных воров) и прочих. Все были узко специализированы, как в Главпрофобре, но с виду неразличимы. От них надо было держаться по возможности в стороне, но, если приходилось иметь с кем-нибудь дело, например, на работе, то ни в коем случае не «залупляться». Такова уж тюремная демократия, она не смотрит на то, почему ты попал в исправдом. Хоть ты и фравёр, иначе штымп, грач, одним словом, не «свой», но раз ты здесь, изволь быть со всеми запанибрата. Перед законом все равны. Иначе изобьют до полусмерти.
Внешне я подчинялся этой традиции, конечно, не допуская фамильярности. Но было трудно. Особую гадливость во мне вызывал благообразный пожилой мужчина с окладистой бородой, ткач по профессии. Он растлил свою дочь в возрасте полтора года. Девочка при этом умерла. Поразительно! Жена ему способствовала! Ткач со смехом и бахвальством рассказывал все подробности своего ужасающего преступления. Он повадился ходить ко мне на работу. Он, конечно же, был «чумовой» (ненормальный), но от этого я не чувствовал себя лучше, когда он по-дружески протягивал мне руку.
Между собой урки «бо́тали по фене» (говорили на своём языке). Как-будто по-русски, и в то же время ничего не поймёшь. Иногда обыкновенные слова мешали с блатным жаргоном. Тогда кое-что можно было понять.
Вижу, раз на прогулке, урка сидит на бочке и плачет, размазывая грязными кулаками по лицу слёзы. Товарищ его спрашивает:
— Ты чего?
— Пахан загнулся.
— В доску?
— В ящик.
Оказывается, у парня умер отец.
Некоторые слова вошли в тюрьме во всеобще употребление и даже проникли в изящную литературу, как например глаголы «шамать», «кемарить», «кнацать». Друг друга урки называли по прозвищу. Часто встречались такие как «цыган» (брюнет, курчавый), «кинто» (грузин, кавказец), «седой» (блондин), «чума» (псих) и т. д.
Урки были жестоки, вероломны, обидчивы, вспыльчивы, но в то же время трусливы и иногда сентиментальны. Сплошь алкоголики и наркоманы, они часто теряли облик человеческий. Глубоко заблуждаются те люди, которые видят в этой публике стремление к романтике, к проявлению своеобразной храбрости. В массе они напоминают обезьян, каковыми и показались мне с первого взгляда, но не горилл, злобных и вздорных, а трусливых павианов.
Я уже упоминал про закон урок. Не раз я слышал его действие. Когда камера пела хором, если прислушаться, можно было различить крики и стоны истязуемого. Это, заглушая стоны пением, спускали седьмую шкуру с заигранного. Надзиратели относились безучастно к таким экзекуциям. Пение производилось для их удобства — чтобы они могли сказать, что не слышали стонов.
Говорили, что в Таганке в камере урки повесили на тюремной решётке своего товарища, обнаружив, что он был ссученным.
Раз я был свидетелем такой сцены. В тюремной лавочке за всякой дрянью, карандашом или катушкой ниток, надо было стоять в очереди 2–3 часа. Внезапно какой-то урка с шальными деньгами, видно, только что ободравший «штымпа» (новенького), ввалился, растолкал всех и потребовал, чтоб ему отпускали товар без очереди. Продавец, здоровенный детина, бывший матрос, а теперь тоже заключённый, отшил нахала, причём сильно досталось и его матери. Тот смылся, но через несколько минут появился вновь с двумя «сявками» (такими же «товарищами») и с дрыном (палкой). Они зажали матроса в угол и раз десять огрели дрыном по голове и по физиономии. Но матрос встрепенулся как ни в чём не бывало и, хотя кровь залепляла ему глаза, бросился в погоню за пустившимися наутёк врагами, на ходу скликая товарищей.
— Теперь пойдёт по камерам поножовщина, — говорили опытные заключённые.
Действительно, поножовщина состоялась. У главврача околодка — заключённого, крупного специалиста по подпольным абортам, сильно прибавилось хирургической практики.
Интересно, что администрация и в этом случае не вмешивалась. «Ведь никого не убили, надзор не пострадал! Ну и пусть разбираются сами!»
Во дворе, на майдане — месте сборищ, игр и карт — собрался арестантский суд. Участвовало человек 150. Председателем был выбран «справедливый вор Сашка, который зря мухи не обидит и все законы урок знает и соблюдает». Истец матрос (поножовщина не в счёт) вышел на середину круга и изложил свою обиду. Потом слово было дано ответчику. Потом своё мнение высказали «шиханы» (Иваны). Потом суд вынес приговор глоткой, всеобщим криком. Нападение на продавца было признано недопустимым хулиганством. А надо сказать, что кличка хулиган тут была самая обидная. Вор, бандит, налётчик полезет в драку — назови его хулиганом. Приговор был — шесть горячих.
Обвиняемый встал навытяжку, палач, он же истец, отпустил ему шесть оплеух. Полагается бить ладонью, но матрос уж постарался, так что у подсудимого едва голова не слетела с позвонков. Такое наказание хорошо во всех отношениях: обычно оно обходится без членовредительства, но щёки потом горят и рожа распухает на несколько дней. Случаев, чтобы приговорённый не встал во фронт, не бывает. Всем известно, что в этом случае неподчинившегося просто подвергнут линчеванию для поддержания авторитета суда.
Время от времени в тюрьме устраивались «шмоны» (обыски).
Часа в два ночи корпус внезапно наполнялся администрацией. Начальник тюрьмы громко отдавал распоряжения надзорам и конвойным по разговорной трубе, проходившей, как на корабле, по всем пяти этажам. По камерам проносился классический клич:
— Зекс, пацаны, шухер на бану!
Я не могу точно перевести эту фразу, но смысл её был ясен: «Внимание, ребята, в корпусе тревога!» По этому крику во дворе поднималась метель. Это из окон всех этажей выбрасывались тысячи игральных карт, со звоном разбивались о мостовую бутылки из-под водки, шлёпались другие запрещённые предметы. Заключённых, прячущих деньги, марафет, а порой и ножи — в рот и в другие отверстия человеческого тела, всех выгоняли из камер, тщательно обыскивали и выводили во двор, где они должны были стоять в две шеренги, пока менты в камерах рылись в их вещах. Зимой это была довольно жестокая операция, если учесть, что «бытовики», побывавшие в камерах урок, ничего не имели, кроме казённого белья, да и часть самих урок была одета не лучше.
Откуда брались в тюрьме незаконные вещи? Приведу два примера.
Карты изготовляли «фармазонщики» (фальшивомонетчики), хорошо на этом зарабатывавшие. Для них это было плёвое дело. Через неделю после шмона в каждой камере опять было по несколько колод. Колоды — что! Говорили, что в камерах сидят такие специалисты, что могут простым ножом вырезать на резиновой подкладке приличное клише кредитного билета.
Водкой при Можаеве широко торговали надзиратели, пронося её на дежурство под видом своих завтраков. Большей частью они выменивали её на вещи, отнятые урками у других заключённых. Нередко богатеньких арестантов: кулаков, растратчиков и т. п. нарочно подсаживали в камеры урок, чтобы те их ободрали. Надзор имел от этого большой профит. Кроме того, водку передавали на свиданиях и при передачах шмары (жёны), забелив её для виду молоком. Когда Кипс принял строгие меры, запретив передачи каких-либо жидкостей и отдав под суд нескольких надзирателей, водки в тюрьме не убавилось. Только через несколько месяцев докопались до её источника. Заключённые водопроводчики постоянно вынуждены были прочищать канализацию, которая то и дело засорялась. Водопроводчики заталкивали в трубу из смотрового конца колодца толстую стальную проволоку с привязанным к её концу квачем или тряпкой. Секрет состоял в том, что поволока проходила в следующий колодец, находившийся за баркасом (забором). Там в это же время работали вольные водопроводчики, «клиенты» заключённых. По фене «клиент» значит просто товарищ. Их стараниями в тюрьму вытягивалась проволока, нагруженная не одной четвертью водки.
Нелегальная переписка совершалась воздушной почтой. Урки постоянно висели на окнах верхних этажей. А по Матросской Тишине в это время фланировали их «задрыги» (проститутки, любовницы). Молниеносно, неуловимым жестом, из окна выбрасывалась маленькая фанерка, пущенная как плоский камешек по воде, пролетала над самой головой растерявшегося мосла и скрывалась за баркасом. На фанерках были послания: и заказы на марафет, и просьбы сообщить в другие тюрьмы о заигранных, и угрозы ссученным, и уговоры о встрече в случае побега или отпуска. Завязывались и новые романы. Раз я подобрал недолетевшую фанерку. На ней было намалёвано с невоспроизводимой орфографией: «Рыжая. Ты мне подходящая. В сентябре хряю в отпуск. Приходи в малину у Гавриловой хазы. Перепихнёмся». Эти словечки на языке уголовников означают: «хряю» — иду, «малина» — явочная квартира, «хаза» — дом, «перепихнёмся» — виноват, стесняюсь перевести.
Новая администрация приняла меры и против переписки: конвойным было приказано стрелять после первого окрика во все головы, появляющиеся во всех окнах. Но это мало помогало: боязнь получить в лоб «маслину» — пулю — не удерживала урок. Время, которое требовалось на предварительный окрик, было совершенно достаточно, чтобы запустить фанерку и соскочить с окна. Но невинные люди иногда страдали. Так, в соседней камере пуля, отскочившая рикошетом, тяжело ранила сидевшего на койке ни в чём не повинного взяточника.
Я сам был грешен. В дни, когда допускались только передачи, чертовски хотелось взглянуть хоть одним глазком, как Галя пойдёт по улице. Я поминутно влезал в окно, уповая на то, что солдат устанет наблюдать непрерывно за несколькими десятками объектов. Но однажды я сам потерял бдительность и слетел с окна только тогда, когда пуля разбила стекло над моей головой.
Однажды по тюрьме разнеслась сенсация. У нас был молодой и, нам было достоверно известно, влюблённый в свою молодую жену мент Вася. Сам он только по ошибке не был создан барышней: маникюрился, пудрился, завивался, душился. Притом был очень набожен. Благоговел перед наукой, но считал её греховной.
Он был очень добр, никогда не мог сказать заключённым не только бранного, но просто строгого слова. Но в то же время был отчаянный службист и из-за трусости — феноменально придирчив. Его все звали «Зануда». Вася любил помечтать при луне. Однако, из коридора, где был его пост, луну видно не было. Потому как-то во время ночного дежурства, он забрался в уборную, влез там на окно и, усевшись поудобнее, размечтался, рассудив, что ночью его мосол не заметит, а если заметит, — различит его форменную фуражку и не станет стрелять. Он, очевидно, заснул и проснулся уже на полу с простреленной задницей.
— Во, хохма-то! Мосол мента подстрелил!
Я завёл себе разнообразные знакомства. Долго ходил ко мне и упрашивал заниматься с ним математикой один бородатый бывший чекист. Очень вспыльчивый человек. Когда взъярится, то рвёт и мечет:
— Продали, сволочи, революцию! Вот я, какие заслуги имею, сотнями пленных белогвардейцев расстреливал! А к чему придрались, гады?!
Придрались, кажется, к тому, что он, увлёкшись, расстрелял своих же, да притом ещё ответственных.
Вот другой, наоборот, чрезвычайно вежливый человек. Он имеет 12 судимостей за кражи, но всё при царе. При советской власти считает красть позорным и потому завязал, прямо-таки сошёл с этого дела. Теперь переквалифицировался в карточные шулера, за что сидит по новой. В парках, поездах подсаживался к играющим компаниям и обирал их как липку. Имел баснословные доходы. Впрочем, он своей вины не признаёт:
— Просто у меня талант к картам. Без всякого мошенства. Да разве теперь дадут развернуться таланту?
Впрочем, урки не были лишены и других талантов. Интересный контакт у меня произошёл на этой почве с одним шпанёнком. Он, как и многие «ширмачи», в порядке овладения несколькими профессиями, занимался в тюрьме соломенными аппликациями. Им приносили с воли шкатулки, коробочки, рамочки, портсигары и тому подобные нехитрые заготовки. Они оклеивали их переплетёнными крашеными расплющенными соломинами. Иногда украшали ракушками. Вещицы, выходившие из их рук, часто были по-настоящему изящными. Подбор цветов и композиции свидетельствовали о недюжинном чувстве вкуса, кропотливая аккуратность исполнения — о неожиданном феноменальном терпении. Изделия сбывались на хозяйственных этапах и стоили от полтинника до трёх рублей.
Мне очень хотелось послать такую рамку в подарок Галочке. К тому же я думал, что она может оказаться полезным образцом для курсов по ручному труду у Зеленко. Я выбрал самую дешёвую за пятьдесят копеек, но у меня был только целый рубль и некому было его разменять. Шпанёнок предложил сходить к себе на второй этаж, где есть всякие деньги:
— Гад буду, через пять минут принесу.
— Смотри, не обмани, я тебя за человека считаю.
Когда он ушёл, камера подняла меня на смех:
— Плакали ваши денежки. Нашли кому доверять. Он из карманов ворует, а здесь сами ему дали, так только ленивый не украдёт. — Я надеюсь, что именно потому, что я ему сам дал, он и принесёт. — Нет уж, теперь амба, не принесёт.
Через неделю я поймал парня на прогулке:
— Что ж ты? И не совестно?
— Да я, лопни мои глаза, хотел отдать. А как пришёл к себе в камеру, дай, думаю, сыграю в стос. Какая сольётся! Выиграю, и тебе отдам, и сам буду с деньгами. И не повезло. Последнюю шкуру спустил. Без пайки хожу (хлебный паёк). Как заимею, отдам.
Ну что с него взять? Встретил ещё через месяц. Объяснил, как мне нужны деньги. Сказал, что работаю в две смены, чтобы немножко помогать на воле жене и матери, которые обе больны. А он мне деньги в карты поигрывает. Не сомневался, что он опять «будет гад». Легавые надо мной продолжали подтрунивать:
— Ну как, Арманд, насчёт воспитания высоких моральных качеств у воров?
«Сволочи, думаю, сами-то вы их нюхали, моральные качества?» А сам всё на что-то надеялся. И как же я обрадовался, когда месяца через два в камеру вошёл мой аппликатор и, страшно расстроенный собственным благородством, выложил передо мной полтинник. Обрадовался я не полтиннику, а за человека, хотя он, надо думать, украл его где-нибудь. Камера решила: «Везёт Арманду, в рубашке родился. Да, это ещё потому, что вор молодой больно, видно, не совсем совесть пропил».
На сей раз они были правы.
Среди урок много психов. Но трудно бывает отличить настоящих психов от симулянтов. Бывает, какой-нибудь запсихует, его волокут в карцер. В карцере он всякие штуки выделывает: воет, визжит, рычит сутки напролёт. Или высунет в форточку руку и давай ею колотить по решётке. Я как-то наблюдал эту операцию, когда ещё щитов на окнах не было. Окошко коридора — всё в крови, рука — отбивная котлета. А псих всё колотит и колотит об острый железный угол, непрерывно изрыгая богохульства и проклятия.
Ну, такого возьмут на ЭКСПОГИ — Экспертный психологический институт или что-то в этом роде, что помешался в Щаповском монастыре. Держат там недели две-три и возвращают — «здоровёхонький»! Как же мог здоровый человек себе такую пытку устраивать. Но это обычный жест в ответ на какое-то неудовлетворённое требование. Говорят, что урки в результате злоупотребления алкоголем и наркотиками так себя взвинчивают, что способны даже на самоубийство. Здесь теряется грань между нормальным человеком и умалишённым.
Раз я иду по коридору, а из запертого карцера дым валит. Я побежал за надзирателем, отперли, глядим: там урка замотался в соломенный мат, который выдавали в карцере вместо тюфяка, и поджёг себя. Мы еле потушили огонь. Обгорел он очень сильно, но всё-таки остался жив. И требование, по поводу которого он протестовал, оказалось самое вздорное, взбалмошное.
Из культурных развлечений урки больше всего любили хоровое пение. Пели: «Ах, чья-то лошадёночка стоит у бардака…», «Как пошли мы раз в бардак…», «Мне всего шестнадцать лет, а… уж нет…», «Через речку баба шла…» и другие фольклорные номера в том же роде. Особое воодушевление вызывал знаменитый «Гоп-со-смыком!» Когда кто-нибудь запевал:
Вы меня послушайте, друзья, ха-ха, Гоп-со-смыком, это буду я, ха-ха, Ремеслом я выбрал кражу, Из тюрьмы я не вылажу, Исправдом скучает без меня, ха-ха (2 раза),то вся камера тотчас подхватывала. Песня была полуцензурной. Пока Гоп-со-смыком играл в карты, умирал, попадал на Луну, дрался с чертями, напивался, покупал шкуру (крал бумажники), в том числе у Иуды Искариота, её можно было слушать не краснея. Но когда на Луне он встречал Марию Магдалину, начиналось чёрт знает что.
Иные песни были трагические и вполне приличные. Например, про Марусю, которая ссучилась и которую её сожитель — вор за это убил:
Ты зашухерила всю нашу малину, Так теперь маслину получай…Или про удалого молодца, которого жестокие судьи приговорили к тюрьме, в то время как единственной его целью было
Получше выпить, закусить, В кругу девчонок повертеться…Такое невинное желание кончается тем, что
И вот красивый, молодой И не похож совсем на вора, Теперь стою перед судом И дожидаюсь приговора… Я прокурору заявил, Что приговором не доволен, При первом случае бегу И буду снова птицей вольной!Стариной веет от песен, сочинённых ещё до революции:
Ты скажи-ка брат, голубчик, Это что за серый дом? А ещё скажи, голубчик, Кто хозяин будет в ём? Эта дом стоит казённый, Александровский централ, А хозяин в етом доме Сам Романов Николай.Очень популярна была песня про убийцу, осуждённого на пожизненную каторгу.
Сорок лет в Сибири дальней В руднике я просидел, И совсем за эти годы Весь, как лунь я поседел…Вдобавок его мучает совесть. Он убил из ревности свою жену и товарища, а потом выяснилось, что они вовсе не совершили прелюбодеяния. Ему являются привидения:
Вот она передо мною В белом саване стоит. Голова залита кровью, И в груди кинжал торчит…После таких мрачных просто необходимо было грянуть залихватскую:
Ах и не стой на льду, Да лёд провалится, Ах не люби вора, Да вор завалится. Вор завалится, Да будет чалиться, Передачи носить, Не пондравится…Наконец, пели всякую цыганщину и душеспасительные романсы, вроде:
Не пора ли нам, измученным душою. На минуточку прилечь и отдохнуть,или:
Сердце рвётся от тоски, На душе тревога. Угоняют в Соловки… Дальняя дорога!..Вообще пьяная и жестокая, хныкающая и вероломная шпана очень любила поговорить в стихах и песнях о своей страдающей и загубленной душе.
Что касается моей души, то я всячески старался её усовершенствовать. Читал теософические книги «У ног учителя Кришнамурти» и «Чему мы будем учить» С. Джинарджадаза, каждое утро медитировал и старался давать себе на день, не слишком, впрочем, успешно какое-нибудь нравственное задание. Очень плодотворный разговор о религии вышел у меня с одним заключённым, убеждённым атеистом. Оба остались при своих мнениях, но оба обогатились новыми мыслями. Под конец он мне задал вопрос: «Что такое мысль с идеалистических позиций?» и я, сшивая ремни на «Геркулесе», приготовил ему целый доклад по этому поводу.
По случаю каких-то торжеств в Москве было много иностранцев. Их водили везде и, когда они высказывали желание познакомиться с нашими тюрьмами, их приводили в Сокольнический исправдом, который, очевидно, считался образцовым и наименее «впечатляющим». Так, у нас побывали две экскурсии: немцы и швейцарцы. В обеих оказались эсперантисты, и я с удовольствием лишний раз убедился в пользе и практической применимости эсперанто. Я поговорил с гостями вволю и, конечно, рассказал о преследовании отказников в РСФСР. Эсперантисты переводили мои слова своим товарищам. Гости были удивлены, так как их уверяли, что у нас освобождают всех, кто отказывается от военной службы по своим убеждениям. Они, в свою очередь, удивили меня рассказами, что в Вене сейчас происходит совершенно легальный конгресс абстинентов из разных стран и никто их не сажает за решётку. Что в большинстве стран существует замена военной службы тяжёлыми невоенными работами для лиц, идейно не желающих служить в армии. Только в Швейцарии это дело преследуется, да и то не как у нас.
Во время моего разговора с иностранцами начальство, повсюду следовавшее за экскурсантами, стояло и мило улыбалось, явно гордясь культурным арестантом: «Вот-де у нас какая страна, мазурики и те как чешут по-немецки!»
Беседа с иностранцами была не единственной почестью, которой я удостоился. Мне была посвящена радиопередача! В ней говорилось, что такой-сякой имярек учился пять лет на казённый счёт, получал от государства стипендию и за неё ответил чёрной неблагодарностью. Окончив ВУЗ, он уклонился от воинской обязанности под предлогом религиозных убеждений. Например, военкомат предлагал ему заменить строевую службу санитарной или работой в рудниках, в пожарной части и т. п., он отказался от всего. Советский суд вскрыл подлую личину дезертира и шкурника. Преступник получил по заслугам. Позднее я узнал, что примерно то же было воспроизведено в «Правде» и в каком-то журнале, кажется, в «Безбожнике».
До этого случая, когда я читал в газетах или слышал по радио о каких-то политических обвинениях или судебных процессах, я думал, как большинство людей: «Ну, это, конечно, очень преувеличено, но ведь нет дыма без огня, что-нибудь непотребное он всё же натворил. Не могли же всё выдумать!» Теперь я убедился, что сильно недооценивал способностей советской прессы в области научной фантастики. Она ведь унифицирована, следовательно, никто не может поймать газету или журнал за руку и сказать: «Не ври!» Словом, с тех пор я убедился, что факты могут быть буквально вывернуты наизнанку. Когда кого-нибудь называют «врагом народа», я не верю ни единому слову. Может быть, я иногда бываю неправ, — что ж поделать, так меня научили на моём собственном опыте.
В Сокольнический исправдом поступили ещё два отказника, оба баптисты, оба — крестьяне. Я с ними познакомился. Так как они были старше, то были призваны на военную службу раньше меня. В Сокольниках они отбывали второй и третий сроки. На их примере я убедился, что железный закон о фактически пожизненном заключении для отказников — не пустой звук.
Вашкевич был белорус, с низким лбом, серыми водянистыми маленькими глазками, толстыми губами и вечно мрачным выражением лица. Он производил неблагоприятное впечатление. Он был по существу мужественным, преданным идее человеком, но обладал несносным характером. Крайне фанатичный, он не умел молчать. В любой компании и по любому поводу он принимался проповедовать и громить, тут же переходя на обличение присутствующих. Заключённых он в лицо называл жуликами, преступниками и христопродавцами, погрязшими в грехе, и угрожал им вечной небесной карой. Худшей тактики нельзя было придумать. В тюрьме его ненавидели все, любая высказанная им мысль была скомпрометирована, причём ненависть распространялась и на его идеи, и на его секту, и на его состатейников. Мне он очень вредил!
— Ну, Арманд, — злорадно говорили заключённые, — хороши же у вас союзники. Видно, и ваши идеи такого же сорта.
На это нечего было возразить. Действительно, союзником Вашкевич был довольно-таки средним.
Я присутствовал при его грехопадении. Вашкевич приболел и попал в околодок. Однажды я вышел на работу в вечернюю смену и видел, как выздоравливающих вывели на прогулку. Один из них висел на турнике вниз головой, пытаясь подтянуться. Халат упал ему на голову, виден был только голый живот и ноги в кальсонах. Фигура была уморительная. Каково же было моё изумление, когда во вставшем, наконец, на ноги заключённом я узнал Вашкевича! Увидев, что я смотрю на него, он сделался красен как рак, заморгал, на глазах даже выступили слёзы. Ещё бы! Я застал его, вероучителя, за таким богопротивным занятием, как физкультура!
Второй баптист — Рушнов — нейтрализовал дурное впечатление, производимое Вашкевичем. Великорус из Центрально-Чернозёмной губернии, с правильными чертами лица, голубоглазый, с вьющейся седой бородкой, он удивительно походил на Христа, как его изображают на русских иконах, с той только разницей, что всегда улыбался. Это была кристально-чистая душа. Тип нестеровского святого юноши. Далеко не глупый, он был не менее твёрд в своих убеждениях, чем его товарищ, но неохотно ввязывался в споры и, главное, всегда высказывал неизменную благожелательность к своим собеседникам и ко всем окружающим. Он не был чужд современности: с восторгом рассказывал об электрификации своей деревни, в библиотеке брал книги по технике и особенно увлекался астрономией. Когда он достал Фламариона, то сиял так, словно его мёдом по губам помазали.
У этих, столь различных людей, было нечто общее — непоколебимая вера в правоту своих убеждений, ради которой они обрекли себя на вечное скитание по тюрьмам. Говорят, такая преданность абстрактной идее — исключительная способность русских. А первые христиане, умиравшие на цирках Римской империи? А еретики, горевшие на кострах инквизиции? Нет, это «сквозная» порода людей, присутствующая во всех нациях и не дающая им закоснеть в меркантильности.
В это время одно событие с воли из той же области привлекло внимание. Среди многих торжественных собраний, посвящённых памяти Л. Толстого, одно доверили провести толстовцам. Галя попала на это собрание. Выступали Чертков, Горбунов-Посадов, Апостолов, Гусев и другие. Играла на арфе Эрдели. Некоторые речи были очень сильные, особенно речь Ивана Ивановича Горбунова-Посадова. Он напомнил, что среди главных заветов, которые оставил Толстой, были борьба против милитаризма, против смертной казни, против выжимания всех сил из народа с помощью налогов и за расширение прав крестьянства. Эти заветы не потеряли актуальности и при советской власти. Он говорил необычайно резко. Ему устроили овацию, которая продолжалась минут десять. Очень откровенно, не по-советски выступили и другие ораторы. В «Известиях» потом писали, что, хотя продажа билетов была для всех желающих, но толстовцы подстроили так, что аудитория состояла исключительно из сочувствующих.
Зеленко в это время задумал издавать учебники в плане своих курсов. Все преподаватели, в том числе и Галя, должны были записать свои лекции. У Гали это был первый литературный опыт, и она очень боялась, что наделает ляпсусов. Она просила меня подредактировать рукопись. И вот я занялся правкой сочинения, которое никак не вязалось с окружающей обстановкой. Речь шла о кустарном искусстве, художественном ткачестве, о плетении национальных поясов, об изготовлении гамаков, о плетении художественных сумок и сетей и уж не знаю о каких ещё чудесах рукоделия. Для нас было праздником, когда руководство вышло в семи тетрадках журнала «Труд в школе и детдоме».
Беспокоила меня дисквалификация. Коля Стефанович написал мне письмо. Он сообщил, что окончил электротехникум, в ВУЗ не попал, но поступил на работу. Выполняет ответственные задания: замещает заведующего подотделом, заключает договора, сдаёт и принимает сложные машины. А я радуюсь, что овладел искусством рубить зубилом, не попадая по пальцам, да приобрёл некоторые познания в плетении поясков.
Ещё я занимался, как классический арестант, наблюдениями над животными, преимущественно над голубями и мышами. Тех и других было на «Геркулесе» множество. Мыши меня поражали способностью взбегать по водопроводным вертикальным трубам. У голубей было занятно наблюдать флирт. Самец надувается, опускает распушённый хвост книзу, шею вытягивает насколько может кверху и становится на цыпочки. В таком виде он прыгает вокруг голубки, а иногда опускает голову и крутится на одном месте, как будто кого-то бодает, очевидно, желая продемонстрировать свою храбрость. Самочка обычно убегает, отворачивается и без конца торопится клевать овёс. Попрыгав с четверть часа, самец начинает сердиться и принимается быстро клевать овёс, чтобы она, оставшись без пищи, обратила, наконец, на него внимание. Иногда он прикидывался равнодушным, поглядывает на подругу искоса, но если она удаляется, не выдерживает и опять пускается вдогонку. Ни разу я не видел, чтобы самец, убедившись в равнодушии своего предмета, пошёл к другой. Всегда он по неделям охаживает одну и ту же голубку.
Гораздо менее привлекательную сцену ухажорства я наблюдал среди людей. Я ставил лишнюю лампочку в отделении поставов, а Миша Гришин ворочал мешки. Когда в цех вошла женщина, это было поразительное явление — слабый пол, за исключением старушек воспитательниц, да изредка приезжавших артистов, никоим образом в тюрьму не допускался. Женщина была немолодая, лет сорока пяти. К тому же некрасивая и какая-то унылая. Её прислало по договору некое санитарное заведение морить крыс. Миша сейчас же надулся, подобно голубю, и принялся вокруг неё танцевать и ворковать. Минут через десять он затолкал её в тёмный угол и начал проявлять себя весьма агрессивно. Он мне подмигивал и мотал головой, всячески показывая, чтобы я ушёл. Но я, памятуя, за что он сидел, решил остаться. Я боялся, что он изнасилует крысиную даму. Израсходовав все ресурсы мимики и жестикуляций, Миша злобно плюнул. Женщина спокойно кончила ставить ловушки и ушла.
— Чёрт бы тебя побрал! Ну на дьявола ты здесь карапаешься? Какой случай из-за тебя упустил! Как бы на мешках здорово получилось! Но не мог же я при тебе…
— Скажи спасибо, от нового срока тебя спас.
— Да какой срок!
— Дурак же, хоть и интеллигент!
Я остался при своём мнении. Миша на меня дулся целый месяц.
Мне отказали в переводе неприкосновенного фонда родным на волю и с октября вдвое уменьшили ставки зарплаты. Я зарабатывал как мог законными и незаконными способами. Заместитель заведующего «Геркулесом» купил себе сдвоенный примус. Но к нему не было таганка. Он заказал мне вырубить его из трёхмиллиметрового листа, пробить там две камфорки «розанчиком», сделать съёмные ножки из углового железа и приклепать скобы для их крепления. Всей работы часов на 16–18. Особенно тяжело было пробивать 14 отверстий для «розанчиков», на каждое требовалось около 50 ударов зубилом. Когда заказ был готов, скряга замзав предложил мне заплатить казённым геркулесом. Мы даже нэстле имели вдоволь: старший мельник выдолбил во время насечки поставов секретные отделения в них, куда при помоле набивалась мука. Когда нужно было чистить постав, он «залил» добычу на всю бражку. Словом, я попросил заплатить мне за плитку деньгами. Замзав долго злился, бедняга, получал всего 200 рублей в месяц, но в получку всё-таки выдал мне один рубль советскими ассигнациями.
Постепенно я создал себе клиентуру среди заключённых. Моей специальностью были ремонт замков и изготовление ножей. На замки при всеобщем воровстве был большой спрос. Ножи были страшной нелегальщиной. Во-первых, на них шли казённые полотнища, во-вторых, в камерах могли друг друга порезать или напасть на начальство. Списывать поломанные полотна было чертовски трудно. А во избежание непотребного употребления я не продавал ножи уркам. Полотно надо было заточить, выстрогать деревянную ручку, сделать в ней прорезь, вставить туда нож и закрепить его латунным кольцом, вырезанным из трубы. Ножи шли по 16 копеек, а в экспортном исполнении — по 20. Взялся я также за плату давать заключённым уроки английского языка, но так как половину перевели в вечернюю смену, половину — в другие тюрьмы, я с них ничего не получил. Но всё же за месяц набегало рубля три, и я посылал их в Пермь маме или покупал в тюремной лавочке продуктов для Гали и передавал их с обратной передачей. Она, бедная, из кожи лезла вон. Чтобы выплачивать долги, содержать младшую сестру и Тоню, носить мне передачи и строить в комнате перегородку, так как с многочисленной воровской и распутной семьёй соседки жить становилось немыслимо. Пришлось ей думать о приработке. Ничего не говоря Зеленке, она согласилась преподавать ручной труд на педагогическом факультете Второго МГУ, а также в Академии коммунистического воспитания. Но уже перед вторым занятием она не выдержала и призналась Зеленко о своевольных занятиях. Неожиданно он очень одобрил её действия, так как был весьма заинтересован в распространении своих педагогических идей. Кроме того, он посоветовал Гале согласиться на предложение поработать, пока бесплатно, в отборочной комиссии рисунков для детских книг в Институте детского чтения. Она охотно согласилась, но, увы, скоро ей пришлось от всего этого отказаться из-за переутомления и болезни приехавшей к ней сестры.
Когда она рассказала мне о своей широкой педагогической деятельности, я написал ей: «Ставят ли тебе графин с водой на кафедру во время лекций? По-моему, это необходимо для успеха дела. А ещё имеешь ли ты длинную указку, чтобы хлопать по головам непослушных учеников? И ещё, чуть не забыл, заведи себе круглые роговые очки в толстой чёрной оправе. Это помогает всем профессорам, особенно малолетним, внушать уважение к себе своих студентов».
Остряки из администрации провели у нас подписку на заём. Подписываться разрешалось за счёт неприкосновенного фонда, облигации обещали передавать родным. У некоторых заключённых было заработано по несколько сотен рублей и, кому оставалось ещё долго сидеть, охотно подписывались, видя в этом единственное средство разморозить сбережения. Кипс устроил перетруску всей тюрьмы по статьям, срокам и разрядам. Была весёлая картина, когда 800 человек, суетясь и толкаясь, перетаскивали своё барахло по коридорам. Администрация не сумела организовать дело толком, и 100 человек оказались без места. Они выстроились в очереди к канцелярии с вещами, как на вокзале. Меня долго не знали, куда девать. Сунули в камеру к военным, но там места не хватало для настоящих военных. Тогда поместили сверхкомплектным в 20-ю камеру с 18 растратчиками и 8-ю мошенниками. Я спал на обеденном столе. Растратчики были пустой народ. Правда, они вынесли постановление «не ругаться в камере», но даже сами инициаторы этого не выполняли. Мошенники, два друга Кравцов и Буяновский, непрерывно грызлись между собой или дружно изводили толстого и сонного растратчика Лейбовича. Сидели они за то, что «выпустили собственный государственный заём», который отпечатали у знакомого фармазонщика и распространили на несколько десятков тысяч рублей.
Самым симпатичным был здесь Кокорев; по его фамилии называлось знаменитое Кокоревское подворье и бульвар на Болоте между Москва-рекой и Канавой. Подворье принадлежало его отцу. Оно славилось роскошными выездами, которые сдавались богатым аристократам, митрополитам для перевозки чудотворных икон, для богатых свадеб и т. п. После революции подворье превратили в Бюро похоронных процессий. Ковров младший, который со мной сидел, был крупным оптовиком, председателем акционерной компании мукомолов, владельцем ряда заводов, инспектором Союза местной промышленности, помощником начальника охраны Кремля, начальником хозяйственного управления московского военного округа, командовал дивизией на фронте и так без конца. Страстный лошадник, он играл на скачках, барышничал, сам ковал лошадей, имел дело с конокрадами. Потом пострадал за революцию, потом за контрреволюцию. Сидел за сокрытие церковных ценностей, за спекуляцию, за мошенничество и, наконец, за растрату, совершённую на немецкой концессии «Мологолес». Уверял, что невинно, как в песне
В Камчатку сослан был, Вернулся алеутом. И крепко на руку нечист.Впрочем, он пользовался абсолютным доверием тюремного начальства, работал в главной конторе и служил неисчерпаемым источником «радио-параш». Словом — интеллигент. В камере он занимался главным образом тем, что потешался над моим вегетарианством.
Я пробыл в 20-й камере месяца два, а потом запросился в одиночку в Лефортовский изолятор. Мне отказали, но перевели в 6-ю маленькую камеру, где сидели за хозяйственные преступления. Народ симпатичный и уж во всяком случае солидный.
На соседней койке со мной помещался громадный толстый старик в роговых очках по фамилии Пестов, из дворян, бывший агент волжского пароходства «Кавказ и Меркурий», великий знаток вин и гастроном, к тому же чемпион тюрьмы по шахматам. Это был человек доброго старого времени. Кроме замечательно хорошего характера, он обладал ещё двумя добродетелями, которые делали его всеобщим любимцем: абсолютным слухом и удивительной памятью. Он помнил все партии всех опер и исполнял нам слегка надтреснувшим голосом то «Евгения Онегина», то «Пиковую даму». На воле Пестов работал последнее время старшим бухгалтером, в тюрьме — истопником, поваром и дворником.
Ещё там был Петелин, главный архитектор Кремля, на редкость культурный и приятный человек. Он производил ремонт дворца и чем-то не угодил Сталину, сел на 5 лет. Он часами ходил по камере с грустной усмешкой и всё мурлыкал одну и ту же песенку:
Вот он идёт, идёт в халате, Надетом прямо в рукава, И шапка чёрная на вате, Чтоб не болела голова.Был там ещё славный человек, инженер Лукашевич, старик, к которому на свидание приходила молодая жена с девочкой двух лет. Каждый раз он готовил девочке из проволоки то бабочку, то зайчика. Он был бригадиром механической мастерской и преподавал на курсах в тюремной профтехшколе. Зарабатывая рублей 60, всё посылал семье, которая жила только на его передачи.
Об общем культурном уровне камеры можно судить по факту, что когда Галя принесла мне монографию художника Нестерова с репродукциями, все записались в очередь на эту книгу.
Непривычным было отношение ко мне товарищей, когда они узнали, что я не ем мясного супа, они стали мне накладывать тройную порцию каши или картошки. Когда я во время обеда оказывался на дежурстве, мне всегда оставляли еду. Ничего подобного не делали ни легавые, ни растратчики.
В камере кто-то намалевал портрет Ленина. Ему на грудь повесили отрывной календарь с единственной целью — считать дни до освобождения. На календаре всегда стояло завтрашнее число. Считалось, что если день «разменяли», то он уже в счёт не идёт. В ноябре для меня появилась возможность перейти на новую работу. Амба с «Геркулесом», который мне успел основательно надоесть. Меня назначили помощником главного монтёра тюрьмы, тоже патронируемого, как на «Геркулесе». Мои обязанности были многосложны: я должен был следить за моторами новых цехов, ремонтировать наружную воздушную проводку, поставить коммутатор и провести всю внутреннюю телефонную сеть исправдома (24 телефона), провести звонковую сигнализацию и, кроме того, в нерабочее время быть дежурным электриком по всем производственным и хозяйственным корпусам, то есть выходить на все аварии, где бы что ни случилось. Ох, сколько раз меня поднимали ночью, отрывали от еды и от занятий в свободное время! За всё это я получил внутренний пропуск, достояние всего двух десятков заключённых. Ареал моего распространения сильно расширился, я познакомился со всеми цехами и многими интересными законами тюрьмы. Пропуск я, конечно, на второй день потерял. Начальство заподозрило, что я его кому-нибудь продал. Мне дали 7 суток карцера, но так как достаточно грамотного монтёра в тюрьме не нашлось, то заменили карцер на «дисциплинарку», выговор с занесением в дело. Это лишало меня права получения отпуска когда-либо до окончания срока. Но пропуск выдали новый.
Праздновали годовщину Октябрьской революции. Сводили в баню и заставили лишний раз вымыть полы. Накануне на тюремной ферме зарезали свинью и пустили её в картофельное пюре. После того, как повара собрали ясак, администрация и надзор отобрали пробы, дежурные от камер, неся обед, наскоро засунули лучшие куски в рот. Пюре, к моей радости, снова стало совершенно вегетарианским, и я его ел, не испытывая ни малейших угрызений совести.
Собственно, на том празднование и кончилось, если не считать самодеятельного спектакля в клубе и доклада о наших достижениях. Камеры были отперты, напротив нас собрались певцы из не попавших на концерт и устроили хоровое пение. Пришёл Кацвин. Хор, исполнявший в тот момент «Как пришли мы на бардак», быстро переключился на Интернационал. Но не угодили, и Кацвин, услышав слова:
Добьёмся мы освобожденья Своею собственной рукой…взъярился, сказал, что он провокаций не допустит и, чтоб доказать, что своею собственной рукой мы ничего не добьёмся, приказал запереть камеры и держать всё седьмое число на запоре.
Вот здесь-то и пригодился мой пропуск. Я вышел на какую-то аварию и имел удовольствие наблюдать, как собирались на демонстрацию. Впереди ехала Кипсова машина, набитая детишками начальства, затем шёл Кацвин со знаменем, Илюткин с красной повязкой (распорядитель колонны), Кипс во главе надзора, свободного от дежурства и, наконец, человек 30 рязанских мужичков-лапотников, вольнонаёмных рабочих, плотничавших на стройке нового ткацкого корпуса. Заключённые пустили слух, что на знамени у Кацвина были написаны слова из популярной тогда песни: «Все тюрьмы и церкви сравняем с землёй!» Но я свидетель, что это была хохма — продукт арестантского остроумия.
На следующей неделе был объявлен воскресник по уборке двора и огорода, заваленных песком, щебнем, цементом, железом и брёвнами за год строительных работ. Явка, как водится, была добровольной, но не вышедших переписали, а вышедшим обещали зачесть этот день за два дня заключения. Я не сомневался, что обманут (и оказался прав), и не хотел идти. Но поглядел, как возят тачки, корчуют пни, и так потянуло поворочать, что не утерпел, пошёл таскать брёвна, выбирая самые тяжёлые, и через два часа ссадил себе плечи. Тогда принялся таскать носилки, но за три часа измотал двух партнёров, и больше никто не хотел со мной в паре носить. Тогда взялся возить тачку и занимался этим до конца воскресника. Получил несравненное удовольствие…
Воскресник сначала шёл из рук вон плохо. Многотонные грузы по четыре раза заставляли переносить с места на место. Заключённые филонили, часами болтали, опершись на лопаты. Среди них были белоручки, которые брали щепку не иначе, как в перчатках и с брезгливым видом. Я злорадствовал: люблю всё же, когда буржуазиат заставляют пачкаться. Кацвин пришёл, ткнул два раза лопатой со страдальческим видом в кучу мусора, не подцепил ни гвоздя и ушёл дежурить на свиданьях. Кипс, наоборот, зарекомендовал себя молодцом. Он подобрал лихую команду и принялся корчевать вековые ивы, росшие вдоль Яузы. Азартно орудуя лопатой, он приговаривал:
— Тай ка мнэ, фот как нада старатца!
Всё же 650 человек — сила. Как ни лодырничали, а половину задания выполнили. Никто не рассчитывал на такой успех, поэтому и администрация, и заключённые остались очень довольны. Считали себя героями.
В декабре ударили небывалые морозы. Несколько дней термометр показывал ниже 30°. Мне как раз выпало работать на столбах. Лазить как муха по столбу с кошками на ногах было развлечение в моём духе. Добавочное удовольствие я получил от работы над самым баркасом. Прямо подо мной ездили извозчики на санках, пробегали на лыжах физкультурники, играли ребятишки… Так хотелось спрыгнуть на их сторону. Мослы на соседних вышках читали мои мысли и сильно нервничали.
Но временами было лихо. Когда мела метель, а я по четыре часа висел на столбе в лёгкой курточке, когда коченели ноги, зажатые кошками, когда по полчаса, снявши рукавицы, я копался с мелкими винтиками, а голые руки примерзали к железной арматуре и инструментам, мне мерещилось, что я превращаюсь в ледяную глыбу, навечно подвешенную к верхушке столба. Досадно также то, что я каждый раз должен был предупреждать карнача о своих экскурсиях на столбы. Столбы выходили на «смертную зону» — на сажень от баркаса (стены). Если заключённый туда выходил, часовые должны были стрелять без предупреждения. В Таганке так застрелили одного легкомысленного монтёра.
Случалось, что прямо с баркаса меня вызывали на какую-нибудь аварию в красилку. Изо всех щелей этого ветхого здания валил пар, как из лопнувшего котла. Внутри в огромных чанах — «баркан», варились кипы чулок. Жара и духота необычайная, воздух так насыщен парами анилина с хлором, что невозможно дышать, из глаз сами собой текут слёзы. Видимость — едва ли один метр. Приходилось лезть под потолок, нагромоздивши ящики и табуретки, поминутно рискуя свалиться в горячую чёрную краску. Работал под напряжением, производственный процесс нельзя было прерывать. От сырости вся изоляция истлела и било током решительно всё: каменные стены, деревянные перегородки и даже фарфоровые изоляторы.
Раз вызвали по тревоге в административный корпус. Там темнота, Кипс и оба его помощника рыщут с фонариками и револьверами, уверяя, что кто-то выключил свет со злым умыслом. Вся конвойная команда поднята по тревоге. Меня отозвала в сторону уборщица и говорит:
— Это я всё наделала. В уборной паутину снимала и волосок оборвала. Только начальнику не говорите. Дюже осерчает.
Я полез в уборную, воткнул нового жучка, свет загорелся. Кипс ко мне.
— Отчего потухло?
— А кто его знает! Висел, висел предохранитель, да и перегорел. Ничто не вечно под луной, гражданин начальник.
В другой раз я нашёл какое-то распоряжение администрации несправедливым и выключил свет и сигнализацию на всех постах. Вот переполох был! Мослы засвистели, разводящие и карнач забегали, ища в темноте злоумышленников. Кацвина чуть родимчик не хватил. Я суетился больше всех, но через час решил, что хватит играть на нервах, «да будет свет», и «нашёл повреждение».
Я становился «отделом». Мне дали трёх помощников. Двое были молодыми бандитами. Кубанские казаки, лет по семнадцати, они с родителями ушли в плавни и оттуда, делая набеги на станицы, убивали председателей комбедов, военкомов и прочих деятелей советской власти. Постепенно их всех выловили, отцов и старших братьев расстреляли, а парней посадили на 10 лет. Они были очень добродушные и усердные ребята, страстно интересовались электротехникой, всерьёз собирались «исправиться», хотели овладеть профессией и ловили каждое моё слово. Оба отлично били шлямбуром дыры в каменных стенах.
Третий был Шапкин. Сын инженера, он унаследовал от отца золотые руки. Ещё на школьной скамье стал магом и волшебником по части «хулиганской техники»: устанавливал в классе невидимые звонки, которые нельзя было ни найти, ни остановить, подводил ток к дверным ручкам и к чернильницам на учительском столе и т. д. Однажды, поймав крысу, «электрифицировал» её так, что она подпрыгнула чуть ли не до потолка и угодила прямо на грудь входившей учительнице. За эту проделку он вылетел из школы, не доучившись полгода до аттестата. Отец женился во второй раз, Шапкин не поладил с мачехой, устроил ей какой-то «световой эффект», в результате чего вылетел из дома. Работал по разным частным мастерским слесарем, электромонтёром, токарем, сварщиком. Всё знал, всё умел, зарабатывал большие деньги, но больше «на материале». В результате в 24 года досиживал уже второй срок. Он был очень славный парнишка, относился ко мне с вниманием и, когда мы расставались, сделал мне на память монтёрский ящик для инструментов.
В конце концов я сам себя заключил в одиночку. Раз начальство не хочет… Под лестницей в главном корпусе был закуток, где помещались входные лягушки и распределительный щит на все коридоры и производства. На щите размещались счётчики, рубильники устрашающей величины, пластинчатые предохранители, амперметры и вольтметр. В скошенной треугольной комнатке оставалось два квадратных метра, в которые я вогнал верстак, он же письменный стол. Рядом я поставил керамиковую канализационную трубу, обмотанную нихромовой проволокой, и вместо промозглой сырости подвального помещения в воздухе разлилась приятная теплота градусов 28. В качестве освещения ввернул себе лампу в 300 ватт в патроне «голиаф» от уличного фонаря, приспособив к ней абажур из многих слоёв папиросной бумаги.
Там я возился с телефонным коммутатором, который мне предстояло поставить в административном корпусе, или просто читал по-английски Конан Дойля. Донимали только поверки. Когда дежурил старший надзиратель Шахбазов, всё было хорошо. Бывало, стукнет в дверь:
— Арманд, вы здесь?
— Здесь.
— А посторонних нет?
— Нет, коротаю время в полном одиночестве.
— Ну и коротай.
Шахбазов был благообразный пожилой армянин, с усиками. Его любила вся тюрьма. При проверке он в каждой камере умел сказать что-нибудь утешительное или пошутить, внимательно выслушивал заявления, серьёзно к ним относился, всегда исполнял свои обещания. В его дежурства не бывало бунтов или побегов. Шахбазова не хотели подводить.
Но иногда на поверку приходил сам Кацвин. Он громко стучал в дверь кулаком или наганом:
— Отворите! — Я открыл.
— Почему так жарко? Топите казённым электричеством. Кто разрешил? На вас 20 копек в день отпускается…
— Щит греется.
— А что это? — показывая на трубу.
— Дифференциальный потенциал для регулировки напряжения.
Не желая показать, что он ничего не понял, Кацвин переключился на другую тему:
— Отчего такой свет? Лампочка на 40 свечей полагается на 20 человек, а здесь на одного…
— Триста, подсказал я. А в коммутаторе 3000 деталей с булавочную головку. Попробуйте их разобрать и собрать при сорока свечах.
Кацвин был больше всех заинтересован в скорейшей установке коммутатора и потому опять замял разговор.
— Небось, прячете здесь своих дружков? Вот я проверю.
И он лез за щит, единственное место, где можно было кого-нибудь спрятать.
— Гражданин начальник, вы бы поосторожнее. Видите, на приборе 200 ампер. Если, когда вы туда лазите, перегорит предохранитель, то я за последствия не ручаюсь.
— «Не пугай девку», — ответил он грозной пословицей.
«Погоди, я тебя попугаю», подумал я. И к следующему его дежурству я ослабил клемму на одном предохранителе, привязал к нему проволоку и нижний её конец закрепил за деревянный половой мат, лежавший перед щитом.
Когда Кацвин, по обыкновению, полез проверить, «не прячу ли я своих дружков», мат спружинил, проволока натянулась, предохранитель выскочил из гнезда, с треском, подобным взрыву, вызвав яркую вольтову дугу. Вдобавок прессшпановая крышка предохранителя сорвалась и полетела Кацвину прямо в физиономию. Он отпрянул назад, но напротив была стена и он ударился затылком, к тому же от вспышки он временно ослеп и отчаянно перепугался. Сопровождавшие его мосол и мет, было бросившиеся наутёк, вернулись и под руки повели его на лестничную площадку.
— Ах, гражданин начальник, ведь я вас предупреждал. Эдак, неровен час, можно и дуба дать!
И, представьте, подействовало! Отныне и Кацвин спрашивал через дверь:
— Арманд, вы здесь?
— Здесь. Опять ночное задание. Посторонних нет.
— Ладно, сидите.
И я снова принимался ковыряться в коммутаторе, перебирал бленкера, штакера, сигнальные лампы, лабиринты разноцветных проводов, не уставая восхищаться премудрости человеческой.
Мне пришло в голову, что я только второй раз чувствую присутствие Бога. В первый раз на Кавказе, когда за поворотом Мзымты открылись залитые солнцем снежные вершины, и второй — когда под моей рукой безошибочно заработали звонки и сигналы коммутатора — этой удивительной машины. Я ему посвятил всю свою вечернюю медитацию. Няня сказала бы, что грех молиться за телефон. А по-моему, ничего. Мне даже пришло в голову, что у машины есть душа, хотя бы групповая, как у животных, — одна на всю серию или типоразмер.
Впрочем, меня немножко мучила совесть, когда я вспоминал слова Якова Фабиановича: «Хлопцы, завещаю, никогда не вступайте на скользкий путь слабых токов!». Не раз мне приходилось беспокоить Колю техническими вопросами, и он неизменно доставал и присылал мне отличные руководства именно по слабым токам.
Когда я установил коммутатор, первые дни мне пришлось сидеть на нём в качестве телефонной барышни. Я испытывал муки Тантала: коммутатор не только соединял все отделы и заводы тюрьмы, но имел выход в город. До чего же просто было бы позвонить домой! Но я не рисковал: было бы глупо получить лишние три года ради удовольствия перекинуться словечком с Галочкой.
Мой непосредственный начальник, патронируемый монтёр Игнатьев, был интересным человеком. К моменту посадки — партиец с девятилетним стажем, депутат Моссовета, член ЦК профсоюза транспортных рабочих, он был по служебной линии начальником Моспогруза. Руководители транспортных учреждений, которые он должен был обслуживать, предпочитали нанимать частников, которые не требовали соблюдения правил охраны труда. Подведомственные Игнатьеву транспортные артели простаивали, плохо зарабатывали. Чтобы обеспечить им заработок, Игнатьев стал давать взятки, но не сумел провести их по отчётам и попал под суд. Не желая никого подводить. Он оговорил себя, сказав, что произвёл растрату. В результате вместо двух лет, полагавшихся за взяточничество, он получил все пять.
Когда я рассказал Игнатьеву, каким соблазнам меня подвергает телефон, он сказал: «Это проще пареной репы» и повёл меня на чердак над кабинетом Кипса. Там к стропилу была укреплена переходная коробочка от личного телефона начальника. Игнатьев сказал, что стоит отъединить кабинет и соединить провод с переносной трубкой, которая была у меня по долгу службы, и говори сколько хочешь.
— А если кто войдёт?
— Никто никогда сюда не ходит.
— А если Кипс позвонит по другому телефону в Бюро повреждений и сообщит, что его телефон испортился?
— Так пройдёт два часа, пока они пришлют монтёра.
Словом, через пять минут я уже наслаждался впервые бесконтрольным разговором с Галей. Опыт удался превосходно, и потом я уже не мог удержаться, чтобы хоть раз в неделю, опутавшись для отвода глаз поводами и нагрузившись инструментом, не влезть на заветный чердак.
Однажды, когда мы ворковали с Галей таким образом более получаса, вдруг люк приподнялся, и в нём показалась лохматая голова Игнатьева со страшно вращающимися глазами и угрожающими знаками. Оборвав скрутку, я тотчас швырнул трубку в тёмный угол и едва успел захлопнуть коробочку, как показался весь Игнатьев, а вслед за ним, о ужас, другая голова в фуражке, на которой поблескивала кокарда с молниями.
Монтёр быстро сориентировался:
— Это что за человек? — обратился он к Игнатьеву.
— Это заключённый, мой помощник, он производит здесь новую сигнализацию на посты.
— Ну, ясно, он и замкнул провод у начальника. Дайте-ка я погляжу коробочку.
К развороченной коробочке его нельзя было подпускать ни в коем случае. «А что, у начальника не работает телефон?», решил я взять инициативу в свои руки. «Это подлец Огарков, он опять там на крыше шурует. Вечно своими антеннами провода замыкает».
Огарков был заключённый радиотехник, совершенный мальчишка. Игнатьев горячо поддержал мою мысль:
— Ах, Огарков на крыше? Ну конечно, это он! Как я сразу не подумал!
И он усиленно подталкивал монтёра телефонной станции к слуховому окну. Когда тот полез, он, на минуту задержавшись, сделал мне знак рукой, как бы завинчивая что-то отвёрткой. Это было совершенно лишнее: я и сам принялся обрабатывать коробочку с наивысшей возможной скоростью. Через минуту монтёр показался назад:
— На крыше всё в порядке. Покажите всё-таки вашу коробочку.
Я с оскорблённым видом пожал плечами:
— Пожалуйста!
— Что за чёрт! И здесь всё в порядке!
И он полез вниз, в кабинет начальника. Взял трубку, телефон работает. Он выписал Кипсу 25 рублей штрафа за ложный вызов и уехал.
Игнатьев рассказал мне причину его внезапного появления. Кипс, действительно, заявил на станцию о периодических порчах его телефона. Монтёр оказался случайно в соседнем доме с тюрьмой на какой-то аварии. Ему позвонили, и он тотчас пришёл.
А Кипсу так и надо. Он мне в то время очень надоедал. Завёл манеру вызывать к себе в кабинет и затевать со мной идеологические дискуссии. Он называл это «психологическим экспериментом». Его, видите ли, интересует, как это образованный человек в наше время может быть верующим. Он часами копался в эпохе древних христиан, в буддизме и т. д. и всё пытался доказать, что все духовные движения произошли «от экономики». Он показал неожиданные познания в истории, но спорить с ним было скучно. К тому же я с трудом понимал его латышский акцент. А встать и уйти было нельзя.
Может быть, эти беседы так раздражали меня, что я в это время переживал кризис мировоззрения. В тюрьме я читал много теософических книжек, и они перестали меня удовлетворять. Не то, чтобы в них чего-то не хватало, но было много лишнего. Они изобиловали поэтическими сравнениями, аллегориями, длиннотами, повторениями. Временами натыкаешься на вычурный пафос, на сентиментализм. Иногда из-за этого тумана никак было не докопаться до содержания. Мне хотелось при обсуждении основных вопросов бытия большей строгости, большей скупости в словах. Начитавшись Джинараджадаза, Анни Безант, Ледбитера, я тосковал по учебнику Филипса и Фишера «Геометрия». Мне приходило в голову, что теософы пишут от избытка добрых чувств, но не от избытка мыслей. Теософия стала казаться для моего рационалистического ума то ли слитком индийской, то ли слишком дамской религией, во всяком случае, слишком мистической. Впрочем, все эти сомнения не касались некоторых основополагающих книг, таких, как «У ног Учителя» и «Свет на пути» и вообще этических основ учения. Здесь всё по прежнему казалось правильным и логичным.
В это время Кришнамурти распустил Теософическое общество и «Орден звезды на Востоке». Он отрёкся от своих учеников и рядовых теософов призывал отойти от сектантства, идти в мир, ничего не принимать на веру, до всего доходить своим опытом. Главной целью для каждого он ставил «искать Истину». Мне по душе был такой поворот, но всё же в словах Кришнамурти чудилась какая-то недоговорённость. Как её искать, Истину? И что есть «Истина»? Я ночи напролёт думал над этим вопросом. Если Истина есть «объективная реальность», то что же её искать, её надо узнавать, изучать, видеть вокруг. Но это пассивное отношение к миру. Мы должны его переделывать, совершенствовать, но как? В этом я ждал указаний от вождей теософии. А тут мне говорят: «Думай своим умом».
Незадолго до Нового года — 1929, случилось удивительное происшествие. Я уже привык к постоянным отказам на все мои просьбы. В последний раз мне отказали в прошении об однодневном отпуске на том основании, что я якобы «приурочил его к празднику Крещения, чтобы соблюсти церковный обряд». Вот уж удружили! Так или иначе, я совершенно забыл, что когда-то подавал заявление о применении амнистии. Однажды на поверке Шахбазов зачитывал ответы на разные претензии заключённых.
— Арманд!
— Мне уже во всём отказали, больше я ни о чём не просил, — проворчал я. Шахбазов улыбнулся:
— Советую не отказываться.
И он прочёл решение Верховного Совета, который признавал законной мою просьбу, постановил амнистию применить и сократить срок заключения вдвое. Это значило, что мне осталось сидеть три месяца. Вся камера пришла в возбуждение, все бросились меня поздравлять, большинство, впрочем, с чувством горечи, так как сравнивали оставшиеся мне три месяца со своими многолетними сроками.
Я сейчас же написал об этом событии Гале и обоим родителям. В первое же воскресенье Галочка пришла на свиданье вместе с отцом. Оба улыбались, как будто я уже вернулся. Но вид у Гали был ужасный. У неё уже второй месяц болели зубы и уши, воспаление надкостницы распространилось на половину рта. Лечение в районной амбулатории не давало результатов, а платить по два рубля за приём в частной она не считала возможным, хотя отдавала нуждающимся колонистам в десять раз больше.
Отец смущался, как всегда, и молчал, хотя вид у него был довольный, а уходя сказал:
— Ну, я лучше тебе напишу.
И присылал письма, полные цитат из Гегеля, Фихте и Шеллинга, с отвлечёнными рассуждениями о долге, о разуме, о любви и о крушении цивилизаций согласно учению Шпенглера, которым он в то время увлекался. И, странное дело, переписываясь на такие далёкие от действительности темы, я больше, чем когда-либо, чувствовал к нему тепло, ощущая невидимое его присутствие.
Меня опять перевели в другую камеру. На этот раз в «блатную» — 38, где помещались расконвоированные заключённые, обслуживавшие весь исправдом.
В камере сидели, между прочим, «чердашники» — конокрады, которые по необъяснимой тюремной традиции исполняли обязанности водопроводчиков. Все большие остряки и прожжённые бестии.
Самой большой диковинкой 38 камеры был Тимощук. Я хорошо помнил по газетам дело военного лётчика Клима и бортмеханика Тимощука, угнавших военный самолёт в панскую Польшу. Через некоторое время Тимощук стал «чалиться» — плакать, каяться, валить всё на Клима и проситься на родину. Поляки его выдали, а здесь его посадили на 8 лет.
Ражий детина, безобразный до чрезвычайности, он был гармонической личностью, то есть моральный его облик полностью соответствовал его внешнему безобразию. Вечно пьяный, насквозь прокуренный, издающий тошнотворный запах, он говорил и делал исключительно одни гадости. Кажется, не было той подлости или жестокости, которой он не смог бы сотворить. Это был предел вырождения человека.
Тимощук был не только бортмехаником, но и лихим шофёром. Кипс, любящий быструю езду, приблизил его к себе, назначил водителем своей личной машины, выезжал с ним в город, почему Тимощук совсем не ощущал себя заключённым. Они вместе пьянствовали и нередко, после дебоша в ночном ресторане или какого-нибудь уличного происшествия, ночевали в отделении милиции.
Впрочем, меня всё это мало касалось, так как я к тому времени совсем забурел, проводил дни и ночи на работе или в своей будке и редко приходил в камеру. Я даже усвоил блатные замашки. Например, однажды, не выиграв билета на очередной эстрадный концерт вольных артистов, обвешался монтёрскими причиндалами, взгромоздил на плечи лестницу и пошёл себе через три кордона, каждый раз прорываясь со скандалом и доказывая, что меня вызвал завклубом ликвидировать аварию. Завклубом поймал-таки меня на слове и заставил поставить новый выключатель в кинобудке. Но зато потом я величественно возвышался в зале на своей стремянке, как в царской ложе, и наслаждался концертом. Концерт, по общему мнению арестантов, был отличным, потому что приезжие артисты, словно сговорившись, прохватывали тюремное начальство и порядки и тем срывали бешеные аплодисменты.
Верхом нахальства, превосходившим даже мои постоянные телефонные разговоры с Галей, было незаконное свиданье с ней, которое мне удалось организовать в сочельник.
Главный ввод в тюремную электрическую сеть, как я уже говорил, помещался в моей будке. Кабель оттуда шёл непрямо в электросеть, а сперва прихватывал соседнюю психиатрическую больницу. По словам Игнатьева, во время его сидки однажды какое-то повреждение на территории больницы вызвало перерыв в подаче энергии в исправдом, и его водили туда для починки. Моя фантазия тотчас заработала, и вскоре у меня созрел роскошный план. Сообразив расписание дежурств надзирателей и распределение выходных дней у патронирующих, я написал Гале письмо (минуя тюремную цензуру, послал с тем же Игнатьевым), в котором попросил её быть на территории больницы в сочельник, в 6 часов вечера.
В 5 часов я отключил ввод всего исправдома. Остановились все заводы, погасло освещение, замолчали все звонки. Около помещения щита столпилось всё начальство. Я лез из кожи вон, щёлкая рубильниками, крутил маховички реостатов, зачищал контакты. Всё было тщетно. Через полчаса я констатировал, что кабель повреждён на территории больницы и предложил послать туда Игнатьева. Игнатьев, как и следовало ожидать, оказался выходной. Кипс распорядился:
— Послать Арманда с конвойным.
Весь план рушился. С незнакомым конвойным нельзя было рассчитывать на свиданье. К счастью, вызванный конвойный заупрямился:
— Как хотите, а с этим бородатым бандюгой не пойду. Он непременно побег задумал, стукнет гаечным ключом и амба! Пусть надзиратель с ним идёт!
Обмотанный цепью, которой я прикреплялся к столбу, я действительно выглядел как бандит в кандалах.
Некогда было препираться. Кликнули коридорного — явился Вася, недавно вышедший из больницы, и охотно со мной отправился. У меня установились с ним отличные отношения. Я на него и рассчитывал.
Какое наслаждение было идти по улице! Был тихий морозный вечер, падал лёгкий снежок, деревья в больничном парке были опушены инеем, поблескивающем в свете фонарей. И главное, по улицам проходили совсем рядом вольные люди. Удивительно хорошо.
Надо было пройти всего метров двести. Я, как мог, растягивал это удовольствие.
У входа в психиатрическую больницу мальчишки рассуждали:
— Раньше у них был другой монтёр, кудлатый. Так он один ходил.
— А этот, видать, отчаянный. Одного нельзя пустить, убегнёт.
— Познакомься, моя жена, — представил я Васе Галю, когда мы вошли в пустынный подъезд, в котором одиноко стоял диванчик для посетителей. Вася вылупил глаза:
— А зачем она здесь?
— Случайно. Вероятно, зашла полечиться. Она у меня психическая.
— Нет, как же так, это незаконно. Да ты чини поскорее, да пойдём назад.
— Да здесь дел не меньше, чем на полчаса. А ты, Вася, сходи-ка на уголок, на Стромынку, выпей пивка, а я пока всё исправлю, — и я протянул ему трёшку.
— Нет, нет, что ты! Ты ведь сбежишь, пожалуй.
— Да неужели ты меня за такого дурака считаешь, что побегу, когда мне меньше трёх месяцев сроку осталось?
Вася мучительно колебался. Но, видно, последний аргумент показался ему убедительным. К тому же он сообразил, что три рубля это много больше, чем стоит даже несколько бутылок пива.
— Ну, уж не подведи, — сказал он, исчезая.
Эти полчаса, что мы сидели прижавшись на холодном диванчике, остались у меня как одно из самых лучших воспоминаний в жизни. О многом успели поговорить, условиться, делились огорчениями, строили планы на будущее.
Через полчаса Вася является:
— Ну как, здорово? Да ты и не начинал?
— Не твоя забота. Пойдём.
И мы отправились в обратный путь. Начальство встретило меня у ворот:
— Почему не исправили? Света нет. — Что же, я, по-вашему, под током буду работать? Прежде чем пойти в больницу я выключил ввод в исправдоме.
Это была чистая правда. Я прошёл к себе и подсоединил линию. Вспыхнул свет, моторы завертелись. Начальство обрадовалось, заключённые, дремавшие у станков, потягивались:
— Здорово отдохнули! Каждый бы день такие аварии!
Даже Кацвин похвалил меня за распорядительность. Я лёг с приятным сознанием, что сейчас доставил многим людям радость: и заключённым, и администрации, и Васе, и, главное — моей Галочке. Я заметил, что все надзиратели стали относиться ко мне снисходительно и, я бы сказал, предупредительно. Даже маленький кастрат, всегда злой как собака, справлялся о здоровье и желал спокойной ночи, когда я шёл с работы. Вскоре причина выяснилась, она была далеко не бескорыстна. Одному нужно починить плитку, другому — пять метров провода, третий прямо просил спереть для него казённый выключатель.
Ко всем моим обязанностям прибавилась, ещё одна. Я должен был сидеть в Стройбюро, где работали заключённые инженеры, и проектировать электрические сети для всех московских тюрем: Лефортова, Таганки, Гордома, Сретенского домзака и новых корпусов нашего исправдома. Работа была интересная, действительно инженерская. Я напрягал память, вспоминая курс расчета сетей, который я не так давно слушал в институте и с удовольствием убеждался в применимости на практике законов Кирхгофа. Мне повезло: я мог пользоваться отлично изданным каталогом AEG, который мне подарил всё тот же спасительный Коля.
Работу по проектированию должно было выполнять особое конструкторское бюро из заключённых инженеров, которое предполагалось организовать в Новоспасском монастыре. Комиссия из Главумзака переписала кандидатов, забрала наши дела, но подготовка тянулась бесконечно. Кто-то возражал, кто-то не отпускал инженеров, какая-то вольная контора строила козни, стремясь получить себе заказы. Все заключённые кандидаты хотели скорее попасть в ОКБ, ожидая там лучшей работы и лучших условий. Они нервничали, ловили и разносили слухи, среди них начались склоки, так как сказали, что число людей, которые будут переданы в ОКБ, ограничено. Один заключённый мне прямо заявил, чтобы я не надеялся, что «там без жидов обойдёмся». Все подсиживали друг друга.
В это время у меня появился неожиданный приятель — Кацвин. Кто бы мог подумать? Он приходил ко мне в будку поболтать, поспорить о религии, о сектантах, об отказах. Видимо, хотел обратить меня в свою веру, но поддался на мой спокойный доброжелательный тон и не заметил, как стал изливать мне душу. Он рассказал мне свою биографию, после чего стал не то чтобы симпатичен, но более мне понятен. По его словам, он был очень добрым мальчиком, всем помогал, защищал младших. Во время гражданской войны, четырнадцати лет был разведчиком у красных. Его поймали белые, жестоко избили. В камере он встретил своего отца, за одну ночь тот поседел. Отца три раза выводили на расстрел, но стреляли нарочно мимо, у самой головы, добиваясь, чтобы он под влиянием моральной пытки выдал местонахождение своего старшего сына — председателя ревтрибунала. С тех пор Кацвин ожесточился и решил посвятить свою жизнь «самому благородному» делу — мести. До самого конца войны он всюду ловил и уничтожал белых.
— А вся шпана здесь — их приятели, — заключил он.
Я возражал, что, предаваясь мести, он оказывает плохую услугу будущему обществу, так как месть вызывает ответную месть. Мудро поступает тот, кто разрывает эту дурную бесконечность. Он махнул рукой:
— Это всё философия! К ногтю их надо, гадов!
Но всё-таки, может быть, я заронил в него каплю сомнения.
Наконец, первая партия ушла в Новоспасский. Я остался. Говорили, что Кипс меня не отпускает. Не то, чтобы я очень огорчился. Мне было всё равно, где отсиживать оставшиеся два месяца, и, однако, когда я был назначен на вторую очередь, я обрадовался. Как-никак это было новое, а до нового я был очень жаден.
После долгой канители меня в последнюю минуту потеряли в списках, и я опять не попал. Но с третьей партией я всё-таки оказался в «переходном исправдоме», как официально именовался Новоспасский монастырь.
Говорили, что в «переходном» сидят заключённые переходного, то есть высшего разряда, которых в воскресенье даже домой отпускают. Всё это были враки. В новой форме был только один «переходник», остальные же третьего разряда. Но вот чем Новоспасский действительно отличался от Сокольников, это расхлябанностью.
Не было железных ворот, обычная дверь, закрывавшаяся на замок, у которой меня тотчас оставили одного. Не было конвойных, только надзиратели. Заключённым разрешалось ходить по всему двору, по мастерским и даже по галерее на стене. За чистотой никто не следил, камеры не прибирались и не проветривались, если этого не делали заключённые по своей инициативе. Заключённых было всего несколько десятков.
В камере, в которую меня ввели, была невероятная грязь и духота. Большие железные кровати стояли вплотную, не оставляя места даже для общего стола. Камеры представляли бывшие монастырские кельи со сводчатыми потолками, невероятно толстыми стенами и маленькими окошечками.
Я сразу убедился, что попал отнюдь не в инженерную компанию. Товарищами моими были бытовики, хозяйственники, урки. Крик и брань стояли невозможные. Среди заключённых нашлись политиканы, которые ожесточённо спорили по ночам. К полночи политическая дискуссия обычно заканчивалась дракой. Четверть камеры составляли калеки: два глухонемых, два одноногих, один слепой. Сосед по койке — татарин, по-братски поделился со мной своими вещами.
Меня назначили опять помощником монтёра. Его мастерская помещалась в подземной келейке, вероятно, предназначавшейся для какого-нибудь схимника. Келейка не отапливалась, морозы стояли двадцатиградусные, поэтому все стены были украшены раскалёнными никелиновыми спиралям. Я нашёл, что это очень красиво.
Монтёр дал мне задание. Я понимал, что меня не для того перевели в Новоспасский и потому старался ничего не делать. Обошёл все мастерские. Их было четыре: швейная, пуговичная, картонажная, конвертная. На каждой работало человек по пять заключённых и, кроме того, патронируемые «принудники», вольные.
На третий день пришёл начальник ОКБ Лебедев, дал мне путную работу и перевёл в камеру инженеров.
В камере было всего 8 человек, из них 5 заключённых по Сокольникам. Идеальная чистота, свежий воздух, яркое освещение, хороший стол для занятий. За похабное слово — штраф 50 копеек в фонд улучшенного питания. Решётки не тюремные — монастырские, узорчатые. Из окна вид на кладбище с красивыми памятниками и величественными купеческими мавзолеями. Нет, положительно я попал в рай! О лучшей жизни нельзя было и мечтать.
Старостой был Петелин — мягкий, внимательный, культурный человек. Камера была дельная, разговоры большей частью на интересные технические темы. В свободное время читали, играли в шахматы или дружно пилили Карпова, пытаясь отучить его от наркотиков. Карпов был инженер-путеец средних лет. Чуть отвернёшься, накапывает себе в нос морфия и потом дремлет с блаженной глупой улыбкой.
Работали мы в клубе, который днём превращался в конструкторское бюро. Кроме подрядов на реконструкцию и ремонт тюрем, брали вольные работы. Иногда заключённые оказывались в положении технических контролёров по отношению к тюремному начальству. Последним это не нравилось, они жаловались в Главумзак, всячески тормозили нашу работу. Но Лебедев, горячий сторонник новых гуманных идей в пенитенциарной политике, отстаивал нас грудью.
По вечерам камеры обходил начальник УВЧ и приглашал нас в тот же клуб «играть в оркестре и петь хором». В Сокольниках начальник УВЧ носил «шпалер» на поясе и два «клопа» в петлицах. Здесь начальник УВЧ носил модную широкополую шляпу и каракулевое пальто. Разговоры об оркестре были только для приличия. В клубе имелась балалайка-контрабас и одно вконец испорченное пианино. Пели хором голосами не столь сильными, сколь противными, три человека. Остальные занимались кто чем. Смотрели прошлогодние журналы, играли на бильярде.
Я занимался радиотехникой. Ещё в Сокольниках провели трансляцию к каждой койке, за наш счёт, из неприкосновенного фонда, установили наушники. Это было мудрое нововведение: гвалт и ругань в камерах сразу уменьшились вдвое. Многие по вечерам лежали на койках с трубками на ушах. Мне так понравилось это изобретение, что я решил сделать Гале в подарок радиоприёмничек. Это в то время было большой новостью и редкостью. Попросив её под каким-то предлогом принести из дома деревянный ящичек, служивший для гвоздей и шурупов, я принялся всё остальное мастерить сам: наматывал из телефонного провода катушку самоиндукции, из жести выпиливал конденсатор переменной ёмкости, монтировал схему. Только кристаллик детектора нельзя было собрать из соплей и потому окончание монтажа пришлось отложить до освобождения. Я потратил на это дело все вечера в течение месяца, но приёмник, к моему удивлению, удался на славу. Потолкав минут пятнадцать пружинкой в кристалл, удавалось попасть на живую точку и услышать в трубку отдельные звуки концерта или последние новости РОСТА.
Совсем урывками я читал «Сагу о Форсайтах», от которой чем дальше, тем труднее было отрываться. В письмах к Гале я делился соображениями о том, какую главную мысль хотел провести между строчек Голсуорси. Я пришёл к выводу, что главная мысль заключалась во вреде богатства. Люди опошляются, обмещаниваются, когда им нечего желать. И наоборот, жизнь становится осмысленной и любовь глубокой, когда люди должны идти на серьёзные жертвы, чтобы доставить маленькую радость любимому. Не малую роль играла и политика против христианской морали нерасторжимого брака, за свободу развода, если цепи Гименея становятся мучительными. В этом вопросе я видел большое преимущество советских законов о браке и семье. С другой стороны, из них следует лёгкое отношение к семейным обязанностям со стороны части молодёжи, но всё-таки я считаю это меньшим злом.
Увлечённый всеми этими занятиями, я перестал работать над собой: забросил медитации, работу над теософическими книгами, сознательные размышления о влиянии на окружающих. Я горько упрекал себя в оппортунизме. Впрочем, подводя итоги пребывания в тюрьме, я видел и положительные результаты: я узнал новые стороны жизни, преимущественно, отрицательные, не погрязши в них. Вопреки мнению некоторых колонистов, я считал, что совсем ни к чему перепробовать все гадости на себе, достаточно посмотреть на них со стороны и принять к сведению их существование. Я также высоко ценил приобретение технических знаний и практических навыков — всю технику, которую мне мог предоставить исправдом, я высосал до дна, до пуговично-конвертного производства.
Для составления проектов электрических сетей меня стали вывозить в московские тюрьмы. Прежде всего я посетил Сретенский домзак, расположенный около Трубной площади на высоком коренном берегу Неглинки. По случаю ремонта заключённые из него были выведены. Я с любопытством разглядывал массивное здание, построенное для тюрьмы ещё в прошлом веке царским правительством. Двойные ворота, караульная вахта, широкие коридоры с постами надзирателей, ряды мрачных одиночек внизу и общие камеры наверху. Всё это производило впечатление власти, устроившейся навеки. При царе тут помещалась Сретенская «часть». Домзак стоял на горе и не был застроен домами, поэтому из окон верхних этажей можно было видеть соседние улицы. Уж не знаю, облегчало ли это жизнь заключённых или дразнило близостью свободы.
Обмерив и записав, что мне было нужно, на что пошло часа три, я отправился на каланчу, венчавшую здание. Путь туда шёл по совершенно сгнившей лестнице среди огромного чердака. Он мне напомнил путь на вышку в пушкинском «Шато». Но страх только подхлестнул моё самолюбие и заставил лезть вверх. Судя по слоям пыли и голубиного помёта, по лестнице уже лет десять никто не рисковал подниматься. Однако всё обошлось благополучно, я вышел на круговой балкон и был вознаграждён за настойчивость.
С каланчи открывался вид на пол-Москвы. Был солнечный мартовский день, и Москва показалась мне великолепной. Я прекрасно знал её, по крупным зданиям различал многие улицы и вспоминал происшествия, с которыми они были связаны. У моих ног кишела воспетая Чеховым «Труба». Гул голосов, собачий лай и птичье пение, прерываемое отчаянными звонками трамваев, спускавшихся с Рождественского бульвара, доносились до меня. Этот весенний город, голубое небо до горизонта вместе предчувствием скорого освобождения создавали у меня чувство крылатости, — кажется, прыгнешь и полетишь.
Мой персональный мент, очевидно, проник в мои мысли и забеспокоился, как бы я действительно не сиганул в город — ищи потом по Трубной толкучке. Не рискуя вступить на шаткую лестницу, он закричал снизу:
— Какого чёрта ты так долго там чикаешься! Слезай!
— Проектирую прожектора для освещения бараков, чтоб с вашей каталашки никто не убежал, — ответил я, однако минут через пять слез.
Совсем другое впечатление осталось от поездки в Гордом. Эта тюрьма помещалась в самом центре Москвы, в Зарядье, как раз на том месте, где теперь возвышается гостиница «Россия». В противоположность Сретенскому домзаку она была втиснута в ряд трёх-четырехэтажных домов и кругом застроена. Позади имелся крохотный двор-колодец, асфальтовый, живо напоминавший мне полотно Ван-Гога «Прогулка заключённых». Тюрьма была набита битком, но так замаскирована, что ближайшие вольные соседи и не подозревали о её существовании.
Когда я обходил камеры в сопровождении двух надзирателей, «моего» и гордомовского, заключённые принимали меня за большое начальство. Некоторые испуганно вставали, но большинство, продолжая сидеть, глядели на меня с враждебным любопытством. Я видел по их выражению, что они только что играли в карты или рассказывали анекдоты или избивали какого-нибудь заигранного, но когда дверь открывалась, я заставал только живую картину. Кроме коек тут мебели не было, половина заключённых сидела на полу. Духота и грязь были невероятны. Освещение слабое, густой пар немытой человечины был настолько тяжёл, что я едва мог стоять. Заключённые, в большинстве урки или их жертвы из бытовиков, были одеты в живописные лохмотья, как мне показалось сплошь серого цвета. В целом камеры напоминали капканы, битком набитые злыми уродливыми крысами. И удивительней всего мне казались взрывы хохота, которые доносились из некоторых камер, — крысы в капкане веселились.
Лебедев только вздыхал, глядя на мои проекты, насыщенные яркими осветителями и могучими вентиляционными установками:
— Ведь всё равно не пройдёт!
Вырвавшись в город, я убеждал надзирателя, что мне необходимо заходить в разные учреждения для получения норм, расценок, стандартов и т. д. Раз под этим предлогом я завёл его в Управление МГЖД. Я шёл туда с некоторым страхом, минуя заведомо враждебные кабинеты начальства. Но в Службе подвижного состава, вопреки ожиданиям, товарищи встретили меня с распростёртыми объятиями. Особенно рады были Фишман и Григорьев:
— Так вы уже на свободе!
— Ещё не совсем. Я в городе, в командировке.
— Как же вас, такого преступника, пускают одного?
— И не пускают. Незримое око властей предержащих сидит сейчас в вестибюле и, если только не задремало, видит через стены, как вы готовите мне побег.
В другой раз я завёл недреманное око в Малый Харитоньевский переулок, где впоследствии долго помещалось Техническое отделение Академии Наук, а тогда высокий подвал был занят Курсами повышения квалификации педагогов по труду А. У. Зеленко. Здесь я провёл второе незаконное и незабываемое свидание с моей Галочкой. Впрочем, это было чистое озорство. Законные свидания в Новоспасском бывали каждое воскресенье по часу и более в отдельной комнатке, куда надзиратель только заглядывал иногда через окошко. Помню молчаливый взгляд бедняги, выражавший мольбу, когда шёл уже третий час нашей беседы с Галей. Он не решался нас прервать, потому что и порядки здесь были вольные и ещё потому, что он, будучи на дежурстве, каждый раз, проходя по нашему коридору, неизменно просил у меня кружку для кипятка.
Последний раз Галя пришла ко мне с Митрофаном. Его чистая душа, заразительный смех, неистребимый оптимизм, вместе с громадными общественно-полезными делами, которые он нёс на своих могучих плечах, делали его посещение настоящим праздником. Он когда-то ездил на Кавказ, посетил Олега и Борю и рассказывал про их жизнь. Если б я знал тогда, что вижу его в последний раз, и мог предвидеть ту ужасную смерть, которой умрёт этот прекрасный человек!
Накануне освобождения Галя должна была уехать в командировку и вернуться только через несколько дней. Поэтому я не удержался и, думая, что меня теперь уже никто не остановит, позвонил ей прямо из коридорчика около канцелярии. Разговор длился минут пять, но вдруг меня увидел молодой вольнонаёмный бухгалтер и устроил скандал:
— Как вы смеете, будучи заключённым, разговаривать по телефону! Я вас отучу своевольничать!
Никаких возражений, что я завтра освобождаюсь, что меня каждую неделю отпускают в город, он не хотел слушать. И тут же написал рапорт начальнику домзака. Я пришёл в камеру и обо всём рассказал Петелину.
— Ах, как же можно делать такие вещи, — сказал он, — ведь у нас круговая порука. Да вы и сами очень рискуете, как бы вам не набавили срок!
Срок мне не набавили, но вышел приказ — всю камеру лишить свиданий на две недели. Хуже ничего не могло быть. Выходило, что я, освобождаясь, сделал им, остающимся в тюрьме, на прощание гадость. Товарищи были явно раздосадованы, хотя, не желая мне портить великий день, ограничивались лишь лаконичными замечаниями. Я ходил, словно в воду опущенный, и не знал, как загладить свою вину.
За полчаса до освобождения 19-го марта 1929 года я с вещами сидел в дежурке. Дежурный старший надзиратель перелистывал сегодняшнюю почту. Одно письмо было мне. Он долго вертел письмо в руках:
— Не знаю уж, ваше можно теперь и не проверять. — И он с сомнением передал мне конверт.
Наконец формальности окончены, дверь отворилась, надзиратель у ворот пожелал мне счастливого пути, и я зашагал по весенней грязи вдоль монастырской стены к Спасскому мосту. Оглянулся, за мной никто не идёт. Стало страшновато: «Как же так, без охраны? Ведь мальчишки обидеть могут!» Дойдя до Зацепы, успокоился, развеселился. В самом деле закончился? А судьба Рушнова и Вашкевича? Я не видел, каким образом я смогу её избежать. Э, да ладно, будь, что будет!
НА ЗАВОДЕ «ДИНАМО» (1929–1935)
Начались поиски работы. В МГЖД идти было бесполезно. Не тянуло и на завод «Динамо», который поставлял электрическое оборудование для трамваев: может быть, там знали о причинах быстрого увольнения нового приёмщика трамвайных моторов. Больше электротяговых предприятий в Москве не было. Я решил податься на родственные заводы. В течение месяца я обошёл Завод малых моторов, завод «Прожектор», завод имени Владимира Ильича, Электроламповую фабрику. Везде говорили:
— Инженер нужен. Оставьте документы и зайдите через неделю.
И везде, ознакомившись с моими документами, где было чёрным по белому написано: «Освобождён из тюремного заключения, которое отбывал по приговору Военно-революционного трибунала, на основании статьи 193, § 2», с каменным лицом вносили поправку:
— Отдел, куда мы предполагали вас взять, пришлось ликвидировать. — Или:
— При просмотре штатов выяснилось, что у нас нет свободной единицы.
Я уже подумал, что моя судьба на ближайшие 50 лет будет подвешивать «паутинку» да чистить сортиры. И всё же решил для очистки совести толкнуться на «Динамо». Последняя попытка и амба.
На «Динамо» меня направили к заведующему техническим отделом Динеру. Маленького росточка, пожилой, полненький. После стандартной фразы, что инженер нужен, я решил не тянуть резину, а сразу сказал:
— Только я прямо из тюрьмы.
— Вот и чудно. И я в своё время пришёл оттуда. За что вы сидели? — Чудак. Ну, да это ваше дело. Давайте документы. — Они некрасивые. Вряд ли нашему отделу кадров понравятся. Ничего, попробуем уладить.
И уладил. Ну разве я не говорил, что в рубашке родился? Однако выяснилось, что мне нужно иметь воинский билет. Ох, как же мне не хотелось напоминать о себе в военкомате! Я надеялся, что они обо мне вспомнят не раньше, чем через полгода, а за это время я успею спокойно поработать и расплатиться с долгами. Но ничего не поделаешь. Ведь если не пойду туда сейчас, не получу работы.
Военком Пролетарского района (по месту направлявшего меня завода «Динамо») внимательно прочёл мои документы, включая сакраментальную фразу, внимательно посмотрел на меня через окошко, почесал ручкой за ухом и принялся заполнять книжку. Печать, росчерк…
— Распишитесь.
Я взял книжку и читаю: «Арманд Давид Львович, 1905 года рождения, освобождён от военной службы по религиозным убеждениям»… Вот, думаю, бестолочь!
— Товарищ комиссар, вы не поняли. Я не освобождён, это я просил освободить, но мне суд отказал. Теперь по закону я должен призываться снова…
— Вот каков! Он ещё рассуждает! Дают — бери, а бьют — беги! А то передумаю!
И он у меня перед носом захлопнул окошко.
Вот уж истинно, не знаешь, где найдёшь милого человека! Так бы его и расцеловал, если бы он не за окошком сидел! Конечно, свидетельство о моих «религиозных» убеждениях для заведующих кадрами не самое привлекательное, но съедят, по крайней мере мои взгляды официально признаны. Но какая симпатичная советская власть! Кабы не этот обворожительный беспорядок, так и жить невозможно было бы! Полдюжины заявлений во все инстанции, письмо Ворошилову, пять судов… И вдруг какой-то комбат росчерком пера в одну минуту меня освободил! Я едва осознал, что вся моя судьба изменилась и представляется куда более осмысленной. А может быть, это компромисс с совестью? Быть может, нужно пойти в высшую инстанцию и заявить о происшедшей ошибке? Нет, это было бы слишком глупо. И потом это значило бы подвести под монастырь доброго военкома.
Нет, ведь вот рубашка-то! Говорят: «Пришла беда — отворяй ворота». А счастье-то, видно, тоже не любит ходить в одиночку!
Я был назначен на должность младшего конструктора в машинный отдел технического бюро завода «Динамо». О лучшей должности я и не мечтал. Техническое бюро показалось мне огромным. В одном машинном отделе оказалось столов сорок, стоявших правильными рядами, лицом в одну сторону. Столы были наклонными (кульманы ещё не были изобретены), а первый ряд занимали четыре письменных стола для самых умных — расчётчиков. А потом был ещё аппаратный отдел, а потом отдел штампов и приспособлений, а потом отдел механика завода. Всего, наверное, более сотни народу.
В начале нашего зала, повёрнутое ко всем столам навстречу, стояло бюро, и за ним была видна голова заведующего машинным отделом — Долкарта. За бюро было, очевидно, вращающееся кресло, так как голова всегда поворачивалась вместе с плечами. Было ли там туловище, я долго не знал, но голова целый день вращалась туда-сюда, оглядывая свою епархию, и под её взглядами все работали. Об анекдотах не могло быть и речи, для этого выходили в коридор. Я сначала злился. Зачем нужен такой заведующий, который ничего не делает? Много позже я понял, что уметь заставить работать других, самому не суетясь, — самое ценное качество для начальника. Увы, мне это не было дано. Много раз потом я занимал руководящие должности и всегда лез из кожи вон, в то время как мои подчинённые в лучшем случае не надрывались. И пользы от этого было очень мало.
Долкарт был толст, благообразен, с очень правильными и очень невыразительными чертами лица. Всегда безукоризненно одет — в костюм бутылочного цвета с искрой. С сотрудниками строг, но вежлив. Говорили, что он сидит в своём кресле ещё с тех времён, когда завод принадлежал Вестингаузу. Со временем я обнаружил, что он всё-таки иногда работает. Если глаза опускались долу, это означало, что он считает на линейке. Он проверял выполненные расчётчиками расчеты машин и, говорят, имел зоркий глаз на ошибки. В трудных случаях расчётчики обращались к нему за советом. Он был еврей, но как две капли похож на англичанина.
Отдел разделялся на две группы, во главе которых стояли главные конструктора — Чернов и Слабов. Слабов был взбалмошным мужчиной, знаменитый тем, что нюхал табак, всегда был с грязным носом и окружавшим его приторным запахом. Я не имел к нему прямого отношения и только опасался, как бы он на меня не чихнул. Я работал в группе Чернова.
Иван Евграфович Чернов был личностью поистине замечательной. Человек без высшего и даже без среднего образования, он сумел выдвинуться ещё при хозяевах. Был сперва рабочим, затем чертёжником, наконец — конструктором. Он имел смутное представление о сопротивлении материалов и механический расчёт производил, тщательно избегая иксов и игреков, применяя невероятно длинные чисто арифметические методы. Если мы щеголяли сигмами, интегралами и эпюрами, он говорил:
— С вашими закорючками вы обязательно наврёте. Вот глядите, как надо считать.
Он исписывал целые страницы рядами цифр, причём неизменно оказывался прав. Я не видывал человека, который до такой степени чувствовал материал, знал бы, в каких условиях будет работать деталь, подмечал бы слабые места. Вот кто мог бы удовлетворить самые строгие требования СВАРЗовского Антоненко! Кроме того, он прекрасно знал технологический процесс. Он постоянно озадачивал меня замечаниями вроде:
— Вы говорите, что на это ребро 5 миллиметров достаточно. А как сюда сталь зальётся, покумекал? Небось не чугун. И литник негде поставить.
Или:
— Циковку внутри станины изобразили? А как вы со штиндалем к ней подлезете, не подумали? Это фрезеровать придётся, да ещё специальное приспособление делать. Встанет заводу в копеечку, да ещё в какую. Поищите решение подешевле.
Под влиянием таких казусов я стал целыми часами пропадать в литейке, в штамповочной, в механической, везде изучая технологические процессы. Завод восхищал меня. Он не только преобразовывал сырьё, как БКЗ, он не только чинил и заменял детали, как СВАРЗ. Он создавал новые сложные механизмы, используя для этого самые различные материалы: литьё, поковки, легированное железо, медь, пластмассы. Для их обработки применялись самые разные приёмы, бездна остроумия и хитрости и потом он собирал их так, что все они оказывались частями одного целого, все слаженно работали на одного хозяина. На первый взгляд это было уму непостижимо. Я жадно усваивал все премудрости и начинал понимать, что быть конструктором совсем не простое, но до чего же интересное дело!
Бригадиром моим был старший инструктор Шляпин, очень лощёный, очень любезный молодой человек. Так вот этот Шляпин вначале держал меня на переделках. И правильно делал. Выпустят новый стандарт на медь, и расчётчик уже волокёт расчёт якоря ДТ-54. Медь изменилась всего на 0,5 миллиметра, а уже надо подобрать и другую изоляцию, и прокладочку, и клин, пресшпан и петушки. Ввели метрическую резьбу вместо резьбы Витверта на крепление полюсов, и надо изменять и сами полюса, и дырки в станине, и пружинные шайбы, и коронковые гайки. И на каждую вещь надо выписывать чертежи и детальные, и сборочные, и общий вид из архива техбюро, и с производства, и из технологического отдела, и из отдела формирования. Потом уж я клеммовые дощечки стал проектировать. Но ко всему я относился с равной почтительностью: вот дожил же до настоящей работы — механическим лошадям гвозди для подков кую!
Работать было весело. Техбюро было полно хорошей молодёжи, в особенности наших шабшаевцев. В аппаратном отделе главным конструктором был «хитрый пассажир» — Михаил Михайлович Синайский, старшим конструктором — мой приятель и однокурсник Лёва Лехтман, целая куча ребят, шабшаевцев, окончивших институт, пока я сидел в исправдоме: Коля Санков, Федя Соколов, Саша Степанов и многие другие, о которых у меня до сих пор сохранились самые тёплые и дружеские воспоминания. Все работали что было сил, все были влюблены в завод и поминали добрым словом «хедер» Каган-Шабшая.
Конечно, «в семье не без урода». Однажды Федя сказал мне, указывая на расчётчика, болгарина Дедова, здорового парня с грубым одутловатым лицом и маленькими злыми глазками-шариками:
— Ты с этим поосторожней. Это наш стукач. Небось, уже взял тебя на мушку с твоим отказом.
Летом мы снова поселились у Кирпичниковых в Лосинке. У Лёвы Гордона окончился срок ссылки. И он и мама имели минус шесть, то есть право жить где угодно за исключением шести главных городов и их областей. Но на лето они нелегально приехали на время в Москву, чтобы выбрать себе место жительства и работу. Пока же они поселились тоже в Лосиноостровской, неподалёку от нас. Мы с Галей очень радовались близкому соседству после стольких лет разлуки, но получилось не так, как хотелось бы. У них теперь была большая семья, включая двух членов, требовавших неустанного большого внимания: маленькой Марьяны и Тони. Мама была постоянно в хозяйственных хлопотах. Я, со своей стороны, очень, очень уставал на заводе, приезжал домой поздно, и у меня часто не хватало энергии, чтобы подняться с места. Сама близость расстояния невольно способствовала оттяжкам: ну, думалось, живём рядом, всегда успеем наговориться. Очень уж мешала этому Тоня. Стыдно вспомнить, но часто я по две недели не видел маму.
Осенью Лёва устроился в Бюро научной информации вуза-совхоза Верблюд (ныне Зерноград) в Сальской степи Ростовской области, и все они уехали туда. Мама решила поехать с ними, чтобы помогать Маге ухаживать за ребёнком.
Мы с Галей вернулись в Москву. Анисья, успевшая за лето начисто обокрасть нас, встретила нас в штыки. Жить больше с ней стало совершенно невозможно, и мы решили меняться, хотя сами не верили в успех этого предприятия. Действительно, кого могла соблазнить полупроходная комната высотой в 2 метра за фанерной перегородкой, комнатка с крохотным окошком и, главное, с разваливающимися стенами и потолком? Да ещё с такой соседкой! Вся надежда была на имеющиеся у нас 160 рублей, скопленных с огромным трудом на всякий случай.
Мы расклеили на всех столбах объявления. Но, как правило, желающие меняться, поднявшись по крутой и тёмной деревянной лесенке, при виде нашей площадки, где коптили 4 примуса, поворачивали обратно. Так продолжалось месяца четыре, когда случилось третье чудо за этот год: пришли некие супруги неопределённого возраста, бегло взглянули на нашу комнату и заявили:
— Нас устраивает. Но наша комната лучше.
— Мы не скрываем никаких недостатков комнаты. Но если у вас лучше, доплатим полтораста рублей.
— Согласны, но меняться сразу.
Ну, думаем, значит у них ещё хуже. Соседи, что ли, грозятся убить или дом сносят, не иначе. Тут же поехали посмотреть. Дом, хоть на окраине — каменный, комната прекрасная, на втором этаже, с двумя итальянскими окнами на юг, ничего не протекает и не обваливается! В чём дело? Кой чёрт их гонит. Мы всё искали тайного подвоха и не нашли. В три дня оформили обмен. Таким образом мы начали новую жизнь на Рабочей улице, за Рогожской заставой. Несмотря на дальность от центра, нам всё нравилось, тем более, что это было близко от завода «Динамо». Правда, Гале пришлось далеко ездить на работу.
Потом уже соседи со смехом объяснили нам причину обмена. Супруги Бриллиантовы были, по общему мнению, просто психи. Они постоянно ругались между собой и шесть раз разводились. Однако через некоторое время выясняли, что жить друг без друга не могут, и снова съезжались. Их поведение стало «Притчей во языцех» во всей округе. Над ними издевались даже окрестные мальчишки на улице. Перед обменом с нами они находились в очередной разлуке, и им приспичило сойтись в седьмой раз. Но они не рискнули это сделать на старой квартире и срочно нашли новое место.
Бриллиантовы не успели вкусить «прелесть» Анисьи. Уже через две недели они осточертели друг другу. Жена сбежала, а мужа вскоре отвезли на Канатчикову. Получилось, что мы «построили своё счастье на несчастье других партийных и беспартийных товарищей».
Через год после моего поступления на «Динамо» завод получил распоряжение освоить производство крановых моторов постоянного и переменного тока. Изготовление чертежей было поручено: первых — группе Слабова, вторых — Чернова. Чернов, пошушукавшись с Долкартом, пришёл ко мне и сообщил, что я получаю чин старшего конструктора и назначен бригадиром трёхфазных асинхронных моторов.
— Конструировать целую серию!? Да разве я могу?
— Сумеете, мы поможем.
Пришлось суметь. Мне были приданы «войска всех родов оружия»: один младший конструктор, одна деталировщица и две копировщицы.
Откровенно говоря, «чёрт был не так страшен, как его малюют». По договору с АЕС (Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft) мы получили чертежи их крановой серии и в общем ориентировались на них. Но, безусловно, у нас были другие стандарты на крепсы, на шарикоподшипники, на медь, другая изоляция, другие марки стали. Мы обладали меньшим искусством при изготовлении мелких деталей и поэтому делали их немного тяжелее, но зато прочнее. Мы внесли русские традиции в конструкции щёткодержателей, расположение клеммовых дощечек и кое-чего другого. Электрический расчет не входил в наши обязанности, его нам давали расчетчики. Словом, это была работа как раз для растущего конструктора первой ступени. Она была хороша ещё и тем, что попутно я быстро овладевал немецким языком.
Мы начали с самых маленьких моторов и в течение полутора лет подвигались к третьему размеру — на 70 лошадиных сил. Каждый размер делался в трёх вариантах: на 750, 1000 и 1500 оборотов в минуту, да ещё в герметическом корпусе и без него, всего 54 варианта. На каждый изготовлялось полсотни чертежей: гора, море, вавилонская башня синек, наклеенных на картон. У меня голова кружилась. Я стал засиживаться до поздней ночи на работе и плохо спал. Посреди ночи мне вдруг начинало казаться, что я где-то наврал, и вот уже сейчас по моей вине, в ночной смене литейщики отливают или станочники точат явный брак. Я покрывался испариной и порывался бежать на завод. Наутро страх оказывался напрасным. Кроме того, благодарение Богу, во всём свете существовало правило, о котором я сначала забывал, — не пускать в серийное производство ни одно изделие, не изготовив и не испытав тщательно пробную модель.
Зато сколько было невинной детской радости, когда в цехах выстраивались длинные ряды станин или крестовин, когда потом они обрастали роторным железом, когда обмотчицы укладывали в них замысловато выгнутые секции и когда, наконец, они дружно жужжали на испытательных стендах. А в коммерческом отделе так же жужжали толкачи от заказчиков:
— Да когда же, наконец, отгрузите нам моторы КТ 5? Мы не можем без них цех пустить!
Я никак не мог привыкнуть к мысли, что так много умелых и умных голов хлопочет над моим детищем, что их принимают всерьёз.
В конце лета я получил отпуск с завода, Галя — в лаборатории по труду имени Радченко, где она работала с А. У. Зеленко. Мы запланировали умопомрачительную поездку на Кавказ. Сперва на недельку к маме в Верблюд, потом пешком по Военно-Осетинской дороге на Кутаиси, Поти, Батуми и назад по побережью.
Верблюд стоял в голой как стол степи. Любители леса ходили на маленький железнодорожный полустаночек, где рос единственный в округе тополь. Впрочем, в самом совхозе уже торчали малюсенькие саженцы, обозначая линии будущих аллей. Кроме жалких саженцев там было несколько учебных и производственных корпусов, общежитие для студентов и десятка два двухэтажных кубиков по восемь квартир каждый — для сотрудников. В таком кубике на втором этаже Лёва получил квартиру.
Он работал в отделе информации, одновременно учился на тракториста, желая иметь хоть одну не гуманитарную специальность. Мага работала в библиотеке. Мама ходила за Марьяной и новорожденной Леночкой и одновременно вела всё хозяйство. Мне было больно видеть её, всегда такую деятельную, всегда играющую руководящую роль, решавшую принципиальные или организационные вопросы, погружённой в жизненную прозу: где достать, что сварить, каков желудочек у ребёнка. Но она не жаловалась, говорила что под старость это обычная судьба — сокращать свой размах. Теперь её цель — обеспечить Магочкино счастье, это тоже полезная организационная задача.
Трудно было придумать более паршивое место: жара, тучи пыли, ни капли тени, ни капли воды, вся видимая территория обработана для посевов, кроме только стравленного, занавоженного выгона с пучками полыни. Оно, конечно, житница, но как же в ней тяжело жить! Правда, хозяйство образцовое, машин тьма. Сюда привозили первые закупки американской техники на испытание. Вот где я нагляделся на своих механических лошадей! Даже увидел баснословных механических верблюдов — комбайны. Мне не надоедало часами их разглядывать, во мне проснулся земледелец.
Но жара, совершенно необходимо искупаться! Где же тут ближайший водоём? Нам сказали, что в десяти километрах есть пересыхающая речка, кажется, Мечетка. Там в бочагах, наверно, ещё есть вода. Подумаешь, десять километров! Пошли!
Разумеется, пошли мы только с Галей. Шли по океану пшеницы, созревшей для уборки. Километрах в четырёх за её колосьями исчезли крыши совхоза. Кругом только хлеба да безоблачное небо, да свирепое солнце, да нитка грейдера. Я понимаю, что и в степи есть поэзия, что и степь можно любить. Но это любовь не моего романа.
Мечетка действительно пересохла. Но бочаг, окружённый густым тростником, нашёлся. Влезли, опасаясь змей, в тёплую как в ванне воду. Ноги почти до колен утопали в липком чёрном илу. Передвигаясь с большим трудом, добрались до края тростника. Окунуться было нельзя, так как глубина воды выше ила была не больше двадцати сантиметров. Побрызгались как сумели. Чуть-чуть всё же освежились. Но, конечно, не поплавали. Помокли с полчаса. Когда вылезали, оказались все чёрные от ила, а помыться было невозможно. Кое-как обтёрлись майками и пошли назад. И решили позагорать на ходу.
На обратном пути совхоз неожиданно показался очень быстро и притом как-то сбоку. Недоставало ещё заблудиться! Но грейдер тот самый, нет сомнений. И вдруг меня осенило — мираж! Настоящий мираж, тот самый мираж, который, если верить Лункевичу, морочит голову путникам в Сахаре! Вот это здорово! До какой широты доехали! Совхоз помаячил с полчаса, потом декорацию убрали. Зато на грейдере появились впереди разливанные озёра. Совершенно натуральные, только бы дойти! Дошли — сухая степь. Спасибо степи, она развлекала нас всю дорогу, пока не показался взаправдашний совхоз, который мы приняли сперва за мираж. Кабы не мираж всю дорогу, язык бы на плечо. Пришли мы довольные: впервые мы с Галей видели безграничную степь, высохшую реку, впервые — мираж. Всё это в копилку жизненного опыта.
По неопытности, решив загорать, я шёл всю дорогу без рубашки, не учтя силу южного солнца. На другой день вся спина была в волдырях и температура скакнула к сорока градусам. Галя пострадала меньше. Через неделю мама нас вылечила.
И всё-таки мы оба остались довольны этим походом.
Неделя у мамы пролетела очень быстро. Надо было ехать дальше.
— Как скоро, — сказала мама на прощанье. — Я, конечно, понимаю, что вам самим надо отдохнуть как следует.
Мне было стыдно. Ведь Кавказ — только удовольствие.
На станции Дарг-Кох мы пересели на «кукушку». Снежные горы так манили, но они приближались к нам безбожно медленно. Галя соскакивала на ходу, рвала заморские цветы и догоняла вагоны. «Кукушка» довезла нас до станции Алагир. Здесь ещё была степь, но совершенно другая, чем в Верблюде. Поля перемежались с садами, виноградниками, сёла кубанских казаков сменились сёлами осетин. Дальше мы пошли пешком.
Переночевали в Алагире. Вышли на мутный Ардон, теперь он будет течь нам навстречу до Мамисонского перевала. По мере того, как мы продвигались в горы, река врезалась всё глубже. Сначала окружили нас галечниковые холмы. Но вот и скальные породы, первое ущелье. Мы входили в горы как в храм, через длинный ряд преддверий, и за каждой дверью находили что-нибудь новое: скалы, деревья, цветы, птиц, насекомых — относящихся к священным реликвиям Кавказа, и потому не уставали восхищаться. Шли целый день, он показался нам очень тяжёлым. Плечи ещё не обмялись под рюкзаками, ноги не приспособились к новой обуви.
Следующая остановка в Мизуре. Наши знания в экономической географии равнялись нулю, и мы были очень удивлены, увидев прилепившееся к скале высокое и узкое здание обогатительной фабрики, новенькое, всё из стекла и бетона, построенное немцами. Рядом было разрушенное здание, где какой-то предприниматель, ещё до покорения Кавказа русскими, плавил руду. Я уверил главного инженера, что буду на заводе «Динамо» строить моторы для подвесной канатной дороги, и получил для нас право осмотреть всю фабрику. Процесс обогащения и в особенности флотации нас совсем очаровал.
Мы узнали, что неподалёку в горах есть цинково-свинцовый рудник, и решили на другой день сделать боковой рывок туда — в Садон. Положительно ничего не хотелось упускать!
Мы лезли так круто, как нам ещё не приходилось, завидуя мачтам рудовозной канатной дороги, которая легко и грациозно поднималась впереди нас через пропасти. Прося в рудоуправлении разрешение, я придумал аргумент: мне как инженеру-электрику необходимо ознакомиться с условиями работы рудничных электровозов, к проектированию которых я приступаю. Я думал, что опять удачно соврал. Начальник любезно разрешил:
— Да, да, мы уже дали заказ на завод «Динамо». — Вот ведь начальник, оказывается, правду сказал!
Тусклое пятно шахтёрской лампочки скупо освещало давившие своды. Мы полезли в штольню в сопровождении десятника. Внезапно выкатывавшиеся нам навстречу вагонетки ручной откатки, полуголые горняки в войлочных шляпах, оглушительный стук отбойных молотков и несусветная пыль в забое произвели на меня сильное впечатление. Шахты прекрасно освещены, но нет никакой вентиляции. Дым от взрывов динамита буквально душил. За год состав шахтёров сменялся — больше не выдерживает самый сильный и здоровый человек. Подъём на сто метров по лестнице отнимает у рабочих полчаса свободного времени, так же спуск. Подъёмников нет. Так вот где рождаются чушки, которые я бросал в ванну винцового пресса на ВКЗ! Ох, и тяжелы же их роды! Ну что ж, это новости тоже в копилку.
Я говорил со многими инженерами и шахтёрами, почти сплошь осетинами. Они приветливы и откровенны. За последние годы выстроено много школ, больниц, дорог, много аулов переведено на равнину. Кабы было что есть, лучше б и желать нечего. Над осетинизацией смеются: «Зачем нам эта искусственная культура, зачем нам письменность?» И валом валят в русские школы, рабфаки, ВУЗы.
Следующим аттракционом был Цейский ледник, к которому мы также не преминули завернуть. Красоту Цейского ущелья не стоит описывать, она общеизвестна. Оно вывело нас на древнюю конечную морену, где расположено священное для осетин место — Реком. Собственно, Реком — старинная церковь, полухристианская, полуязыческая. Она стояла в совершенно пустынном месте, к счастью для нас, потому что иначе нам бы не уйти оттуда живыми.
Это небольшая изба на огромной поляне, сложенная из здоровенных сосновых брёвен. У крыльца пузатые колонны, на крыше — резной конёк. Ни дать, ни взять, Билибинская акварель. Снаружи поляна окружена полуразрушенной стеной, сплошь покрытой рогами туров и оленей. Их приносили сюда в жертву после первой охоты. Тут же росло деревцо, тогда уже совершенно засохшее, увешанное тысячами колоколов и колокольчиков разных размеров и ярких тряпочек. При раскачивании дерева все колокольчики звенели на разный тон, а тряпочки качались и мелькали как огоньки. У корней дерева лежала также куча бесчисленных рогов животных. На двери висел увесистый замок. Нам было очень любопытно поглядеть, что внутри. Пользуясь своей худобой, я пролез в окошко. Внутри был алтарь, рядом на столе тренога с подвешенным к ней котлом, по-видимому, для жертвоприношений. Кругом стояло множество предметов: вместе с православными иконами и крестами здесь находились традиционные осетинские медные кувшины, роговые кубки, витые кованые вилки и т. п. В качестве последнего по времени дара богу фигурировал затейливый флакон из-под одеколона. Всё это я вытаскивал в окно и передавал Гале для обозрения. Затем тем же порядком мы аккуратно переправляли все диковинные предметы назад и расставляли в том же положении.
Мы пошли дальше по тропе и часам к двум достигли ледника. Выкупавшись под падающим с него водопадом, отдохнули. Язык ледника напоминал формой, цветом и унылым видом кита, лежащего на мели. Мы вскарабкались на него, бегали и дурачились, впервые попирая ногами настоящий ледник, хотя и засыпанный мелкими камешками. Я сбрасываю со счёта ледяной грот на Монте-Роза. Положительно в этом путешествии географические чудеса так и лезли нам в руки. Мы переночевали на турбазе.
Дальше наверх лёд светлел и в конце его были видны сверкающие на солнце голубые ступени. До них пришлось добираться целый час, но зато мы были вознаграждены видом ледяных обрывов, бездонных трещин, прозрачных озерков, скатывающихся с ледника водопадов. Почему-то я вышел в тот день с турбазы в тапочках. Они совершенно не были созданы для хождения по льду, размокли и невероятно скользили. А тут мне взбрела в голову мысль пройтись по узкому наклонному гребешку между двух озерков. Я поскользнулся и покатился вниз. Чудом, с большим трудом задержавшись, я увидел, что нахожусь в критическом положении: я сидел верхом на узком остром ледяном гребне, всё круче спускавшемся вниз. Влезть наверх было невозможно, если же попытаться соскользнуть вниз, то даже благополучно приземлившись, я рисковал умереть, не оставив потомства. В стороны шли почти вертикальные спуски к озёрам во льду, из которых не было никакого выхода. Я похолодел, ясно представив себе безвыходность ситуации. Господи, и как это в такой радостный день всё может в одну секунду смениться ужасным отчаянием! Галя тем временем паслась где-то рядом внизу и, не замечая моего положения, что-то мне весело кричала. Я не хотел звать её на помощь, ведь она никак не могла меня выручить. Чтобы её не испугать, я крикнул, чтобы она шла тихонечко вперёд, меня не дожидаясь, чтобы не на её глазах произошла со мной катастрофа, которая казалась мне неминуемой. Руки, которыми я держался за лёд, совершенно окоченели и отказывались служить. Я решил пожертвовать животом: лёг на гребень и, стараясь сжимать его ногами, свесив для равновесия руки, заскользил вниз. Я старался, чтобы нагрузку принимал поясной ремень, а не голое тело. Но когда я помчался вниз со скоростью автомашины, все предосторожности оказались тщетными: живот, руки и ноги все в крови, рубашка и брюки совершенно разорваны и мокрые, зубы стучали от страха и острой боли. Словом, жалкое зрелище! Ледник с его красотами показался мне ужасным, отвратительным. Галочка мужественно помогла мне подняться, обмыла кровь и повела вниз на базу, поскорее получить медицинскую помощь.
Когда меня привели в человеческий вид, я узнал, что я не один раз, а дважды рисковал жизнью. Когда я рассказал о посещении Рекома, мне разъяснили, что осетины, заметив нас там, убили бы обоих, что они страшно возмущены святотатством, насмешками туристов и похищением части их священных предметов. Они предупредили, что будут убивать подряд всех забравшихся туда. Чистая случайность, что нас там не застали.
Вообще это весёлое путешествие не было лишено опасностей. На той же турбазе нас предостерегли от ведения политических разговоров с населением:
— Знаете, настроения разные, — сформулировал заведующий.
Действительно разные. За неделю до нас в горы пришли два комсомольца, взявшие, в дополнение к отдыху, на себя миссию агитировать за коллективизацию. Их убили в первом же ауле, где они пытались выполнить своё социалистическое обязательство.
Поэтому мы не на шутку перетрусили, когда встретили на следующий день буйную компанию осетинской молодёжи, явно пьяной и орущей под звуки неведомых нам музыкальных инструментов. Мы ожидали всяческих антирусских эксцессов.
— Куда идёшь? — Через Мамисон в Грузию. Мы отдыхаем, хотим посмотреть разные страны.
— Тогда необходимо выпить!
На сцене появилась огромная оплетённая бутыль с аракой, из которой нам налили жестяную кружку.
— Пэй!
— Да что вы, мы не пьём, большое спасибо.
— Пэй! За здоровье моего брата. Он сегодня женился. На красивой дэвушке жэнился! Пэй!
— Увольте, нам ещё далеко идти сегодня. С рюкзаками.
Парни побагровели:
— Пэй! Рэзать будем!
Это был сильный аргумент, и мы сняли возражения. Давясь и кашляя с непривычки, мы выпили по кружке и даже тост провозгласили за молодых. Увидев, что нас сразу разобрало, осетины всё же с сожалением и хохотом нас отпустили.
Недалеко от Заромага мы увидели трос, перекинутый через Ардон. К нему была подвешена люлька. В ней сидел полуголый парень и, подтягивая себя на блоке, измерял вертушкой скорость течения реки в разных местах. На его лице было написано такое благодушие, а грозные скалы поднимались над ним так величественно и река ревела и пенилась так неистово, что у меня что-то перевернулось в душе. Я подумал: «Вот это жизнь! Разве могут с ней сравниться крановые моторы, хоть бы и с наивысшими оборотами? Но, увы, жребий брошен». И всё-таки потом я долго вспоминал эту картину и мысленно переименовал ущелье Ардона в «Ущелье счастливого гидролога».
Впечатление испортил небольшой отряд войск ГПУ с ружьями и пулемётами, продвигавшийся в горы на грузовиках. Мы спросили прохожих:
— Разве в горах идёт война?
— Нет, это они едут проводить коллективизацию…
Вот вам и идиллия с гидрологом!
Заромаг — своего рода центр. А как же! 60 дворов, не считая боевых башен и могильников. Все сакли, как построенные до русских, так и самые новейшие, похожи на развалины. Бедность неописуемая. Я обошёл 15 дворов в поисках пищи и купил одно яйцо за 10 копеек. Кооператив есть, но съестным не торгует. Осенью этот кооператив скупал у населения кукурузу по твёрдой цене — 15 копеек за пуд. Теперь крестьяне для своего питания покупают её на базаре в Алагире по 10 рублей за пуд. Катастрофически снизилось количество овец — главного богатства Осетии. Здесь были иные высказывания, чем в Мизуре и Садоне.
Турбаза в Заромаге до безобразия плохая. Заведующий — настоящий жулик. Для оптэвской группы (ОПТЭ — Отдел пролетарского туризма и экскурсий) он купил барана, зарезал и съел его сам, а туристов кормил жилами и остатками. Члены группы, приехавшие раньше нас, набросились на нас, выпрашивая хлеба.
Мы решили путешествовать культурно. Перед походом купили тогдашнее чудо техники, фотоаппарат «Турист». Это была громоздкая камера с шестью кассетами. Так как светосила была мала, прихватили с собой штатив и дюжину пачек стеклянных пластинок размером 9×12. Всё это оттягивало нам плечи, так что о палатках и спальных мешках нечего было и думать. Да у нас их и не было, вернее, мы и понятия не имели о такой роскоши. Ночевать собирались на турбазах по туристическим путёвкам или в деревнях.
За котловиной Заромага Военно-Осетинская дорога выходит из ущелья и подымается вдоль его верховья — Мамиссона, траверсируя сравнительно пологие склоны. Пройдя в тот день в гору 40 километров, мы окончательно выдохлись. Выручал нарзан, родники которого попадались каждые 3–5 километров. Обычно вокруг располагались землянки осетин, привозивших сюда на всё лето своих больных и стариков. Мы наслаждались нарзаном, пили его много. Он придавал силы, но в то же время возбуждал огромный аппетит, что было невыгодно для нашего кармана.
Хотя мы в Москве на Кузнецком купили отличные карты — десятивёрстки (были же такие блаженные времена!) и уверенно приближались к какому-то обозначенному на них аулу, последнему перед перевалом, аул оказался пустым. Пастух объяснил нам, что жители скрываются в горах от коллективизации. Где-то внизу, судя по карте, должен быть другой аул — Лисри. Быстро наступила темнота. Вскоре в долине под нашими ногами появились светлые точки. Мы полезли к ним без дороги. Попали в заросли крапивы, колючих ежевики и держи-дерева. Выкатывающиеся из-под наших ног камни ухали где-то невообразимо далеко. Неоднократно мы едва не ухали вслед за ними. Чудо, что этого не случилось. Но вскоре мы убедились, что манившие нас огни были просто стайками летающих светлячков, резвящихся над ужасной пропастью. А мы-то всё удивлялись, что огоньки аула несколько раз меняли своё местонахождение. Едва выбравшись из гремящего ущелья, так как стенки его были отвесно круты, и проблуждав ещё часа два, мы, наконец, пришли в Лисри. У околицы встретили взволнованных пастухов, утешивших нас тем, что на нашем пути медведь только что задрал их жеребёнка. Возможно, было нашей удачей, что в это время мы ползали по склону ущелья.
В первой же сакле, куда мы постучали, нам ответили:
— Заходи, гостем будешь, — так гостеприимно!
И действительно, накормили ячменным хлебом, овечьим сыром с холодной водой. Это всё, что у них было. И уложили спать на голой лавке, подстелить было нечего. Но заснуть нам не удалось. Жестоко кусали блохи, хозяева всю ночь что-то варили, громко спорили и кричали. Утром мы обнаружили вокруг нас кучу любопытствующих ребятишек всех полов и возрастов. Бедность и грязь в жилище были поразительные. Времянка топилась по-чёрному, хотя сын их был рабфаковцем во Владикавказе.
Мы мучились проблемой: платить за ночлег или не платить. Нас предупреждали, что если гость заплатит хозяевам, он становится их врагом. Осетины народ горячий и за такое могут «нэмножко рэзать». Мы ограничились тем, что раздали ребятишкам по куску сахара. Хозяева были довольны, мы расстались друзьями.
Между прочим, они нас предупреждали, что местность кишит опасными волками и изредка встречаются медведи, поэтому после захода солнца здесь никто не ходит. Да и среди людей попадаются плохие. А мы-то какое легкомыслие проявили! Впрочем, после этого предупреждения не изменили своих привычек.
Вблизи перевала дорога стала какой-то мрачной. Холодные субальпийские луга чередовались с обширными каменным осыпями. Нигде ни кустика. Горы скупо сочатся водой. На соседних вершинах сидят тучи. Шоссе переходит в бесконечный серпантин. В Северном приюте заказали яичницу. Завбазой отговаривал нас идти в ночь, но, когда мы всё-таки пошли, дал нам палку, чтобы отбиваться от собак, и к ней — кучу хороших советов. Крутой подъём, наконец, начал выполаживаться. Вот и перевал. Но тут нас поджидала новая неожиданность: он покрыт снегом, а мы в тапочках и майках. Дрожа от холода, попытались бежать бегом. Но увесистые рюкзаки, набитые фотостеклом, сбавили нашу резвость, да и высота не способствовала, оно хоть и не 5000, но всё же 2829 метров. Осматриваясь, мы похолодели: на сверкающем снежной белизной перевале виднелись во множестве черновато-кровавые пятна. Вот только тут мы вспомнили предостережение завбазой: «Волки! А может быть хуже… басмачи!» мелькнуло у каждого из нас в голове. Не сговариваясь, мы помчались вниз, не разбирая, где бежим, по обледенелой и очень скользкой поверхности. Галя скоро поскользнулась и кувырком покатилась вниз вместе с рюкзаком. «Разобьётся!» мелькнуло у меня в голове. Приостановилась она на уположенном участке, как раз посередине одной из кровавых луж. Я был потрясён, услышав её крик: «Иди скорее ко мне!» «Что ещё случилось? Сломала ногу или ещё хуже?» Присев, глиссируя как альпинист, я помчался к ней с ужасными догадками. Приблизившись, я увидел её улыбающуюся, сидящую в центре… клумбы красных тюльпанов! Так это цветы, не кровь! Цветы, здесь, на снегу!? Невероятно!
Несмотря на холод, промокшие майки и тапочки, мы сделали остановку, наслаждаясь прекрасным как в сказке зрелищем. Вот откуда взялась сказка «Аленький цветочек!» Любуясь невиданным зрелищем, мы тут же заметили бледно-серые пятна, кишевшие мельчайшими прыгающими насекомыми, а среди них небольшие розовые пятна:
— Да это же ледяные блохи, помнишь, Сергей Викторович рассказывал про них? — А про розовых бактерий мы узнали только по приезде в Москву.
Ниже нам пришлось перебираться через горный поток шириной метра в четыре. Он бешено скакал по камням и шумел. Мы «ничтоже сумняшеся» взялись за руки и шагнули в его ледяные волны. Галя тут же покатилась вместе с водой. Хорошо, что она не бросила мою руку! Её вертело и бросало, она вставала и снова падала. Сила течения была огромная. Я вцепился в её руку двумя своими и кричал: «Держись, а то сейчас же в Черном море окажешься!» Не помню уж, как я её буквально выволок на другой берег. Она вся была в синяках и ссадинах, но бодро пошла дальше.
На южном склоне неожиданно скоро повеяло теплом. На той же высоте, где на северном расстилались суровые каменистые склоны, здесь росли пышные леса из ели, бука, вяза и липы. Появились лианы, птицы, невиданные цветы, травы заболели гигантоманией. Шоссе оживилось прохожими, воздух стал легче, ветер приносил сочные, томительные и ленивые запахи. Так вот она, благословенная Грузия!
Опять шли ночью, опять спускались с бог весть каких круч. Несколько раз нас опять обманывали летающие светлячки. А днём было страшно смотреть, по каким же отвесным обрывам карабкались мы к иллюзорным аулам, как ни разу не сверзлись в глубокую долину Чаегахэ. Нас спасали кустарники, на кручах, за которые мы хватались. Наконец, нашли деревню на берегу реки. Если б не палка, нас разорвали бы собаки. Долго никто не отпирал. Наконец, достучались в саклю. Мы думали, что нельзя найти жилище беднее и грязнее, чем у осетин в Лисри. Но грузины их превзошли. Хозяйка и её сестра, больные и калеки, но с густо накрашенными губами, встретили нас без удивления. Видимо, туристы здесь были не в диковинку. После вопросов, где работаем, сколько получаем, хозяйка заявила: — За ночлег по рублю с человека, а кормить нечем.
Цена была баснословная. Но куда денешься? Везде так же. Какая разительная разница в характере народов! Потом нам сказали, что горячий народ грузины, если не заплатишь за ночлег, обижаются и могут даже «рэзать». Впрочем, здесь кроме характера народа играет роль и конъюнктура. Если туристов много, то предоставление ночлега становится промыслом. Не будешь же каждую ночь принимать гостей! Если же промысел, то логика товарного хозяйства побуждает брать за услуги как можно больше.
Однако нам дали воду, в которой плавал творог и куски кукурузной лепёшки, за что взяли с каждого ещё по 20 копеек.
На другой день мы сделали большой переход до горного курорта для военных. Очень усталые, мы предались заслуженному отдыху на турбазе. Вечером на открытой веранде ресторана мы ели мацони и винный кисель и под какую-то грузинскую музыку наслаждались теплом, созерцанием экзотических растений и прекрасных ажурных построек курорта.
Наутро мы сговорились с каким-то парнем, что он за небольшую плату даст нам смирных верховых лошадей, которых ему всё равно надо было перегонять в Они. Там мы должны были передать лошадей его родственнику.
«Смирные» лошади показались нам заправскими скакунами, а кабардинские сёдла — отличными орудиями пытки. До этого мы ездили только на казачьих сёдлах. К моему седлу были привешены серебряные стремена с чернёным рисунком — «фамильная драгоценность», объяснил нам хозяин и просил их особенно беречь.
Не знаю, почему наш вид вызвал у него такое доверие, что он поручил нам лошадей. Лошади с первых шагов перешли в галоп. Впрочем, никакой другой аллюр в этих сёдлах выдержать невозможно. Однако и на галопе я через 10 километров норовил сесть как-нибудь боком. К нашим попыткам управлять лошадьми они относились с великолепным презрением. Они мчались вниз по шоссе, принципиально ступая на самый край обрыва, перебрасывая при этом наружные ноги прямо над пропастью и бессовестно нарушая при этом принятую в СССР правостороннюю систему движения.
Через 20 километров, когда я думал о горькой судьбе моей казённой части, на крутом внешнем повороте дороги стремя со стороны пропасти оборвалось и я устремился к Риону, кипевшему где-то в тошнотворной глубине. К счастью, я машинально сжал поводья, лошадь вздёрнула голову и я благодаря этому задержался недалеко на склоне. Уцепившись за кустик шиповника, кое-как выкарабкавшись, я увидел, что конь стоит на месте как вкопанный. Привязав благородную скотину, я с трудом отдышался. Галя, скакавшая впереди, не заметила моего падения и умчалась, увлекаемая своей неуправляемой лошадью.
Тут я стал размышлять о судьбе фамильной драгоценности. Найти её надо было во что бы то ни стало. Я полез вниз. Склон был не отвесный, но крутой, градусов 60–70. Он весь густо зарос шиповником, ежевикой и держи-деревом, что давало мне весьма сомнительное преимущество за них держаться. За этим занятием меня застала артель пильщиков. Они шли по той же дороге и с десяток раз, срезая по тропинкам серпантины, обгоняли наших скакунов, после чего добродушно смеялись над нами. Их было трое, все старики. Никто из них не говорил по-русски. Они стали кричать мне и показывать жестами. По их интонации я понял, что они спрашивают, что со мной случилось. Связав свои пояса, они помогли мне выкарабкаться с обрыва. Тут только я понял, что сам я никак не мог бы этого сделать. Я им показал уцелевшее и оборванное стремена и указал в пропасть. Старики покачали головами, поцокали языками и стали искать стремя поблизости от дороги. Не найдя, они, подвязав ещё что-то из одежды к поясам, с помощью которых вытащили меня, снова спустили меня под кручу в колючие заросли, но значительно ниже, чем я уже был. Я с новым рвением стал шарить под кустами. Все руки были в крови, но нашёл-таки стремя. Когда меня вытащили вторично, я почти терял сознание от головокружения. С добродушными улыбками старички пожали мне руку и, отказавшись от вознаграждения, взяли свои пилы и пошли своей дорогой.
Придя немного в себя, я сел чинить седло. Длительное отсутствие Гали меня беспокоило. Но вот она появилась, пешком, и рассказала:
— Убедившись, что тебя сзади не видно, я решила подождать. Чуть пониже шоссе нашёлся зелёный пятачок с травой, я слезла и пустила туда лошадь покормиться. Но, прождав минут десять, забеспокоилась и хотела возвратиться к тебе. Но лошадь меня к себе не подпускала даже близко, лягалась, вертелась и даже кусалась. С отчаяния я решила идти к тебе пешком, что сделаешь с бешеной лошадью. А расстояние между нами оказалось 5 километров. Но что с тобой, Даня? Почему ты такой бледный?
— Устал, потом подробно расскажу.
Наладив сбрую, хоть это было не легко, мы пошли с Галей к её лошади. За этот путь я вернулся «в форму».
Бунтовщица и меня никак не подпускала к себе. Когда же, наконец, мне удалось схватить её под уздцы, она стала дико махать головой, повернувшись к пропасти. Я летал туда и сюда над трёхсотметровой бездной и думал: «Удержусь ли? Руки слабеют. И повод, наверно, лопнет. Сбруя гнилая оказалась».
Как я справился с безумной лошадью, я уже плохо помню. Галя следила за нашей борьбой совершенно белая от ужаса. Но всё окончилось благополучно, хоть понадобилось немалое время, чтобы нам обоим прийти в себя.
Когда сели в сёдла, лошади снова, по привычке, понеслись галопом по самому краю пропасти. Как мы мечтали об окончании этой проклятой эпопеи! И когда сдали лошадей хозяину, почувствовали себя счастливейшими людьми. На четвереньках спустились к Риону и его ледяными водами пытались утишить боль и жар окровавленной плоти.
Проклятые кавказские сёдла с рогами спереди и сзади!!
Кто бы мог подумать что Они в основном еврейский город! Мы вообще не подозревали о существовании евреев в горах. Это племя с незапамятных времён поселилось в Грузии, но, благодаря сплочённости и «психологической несовместимости» с грузинами, они сохранили все характерные черты своей национальности, умноженные на величие и красоту горцев, эти горские евреи.
По крайней мере «чичероне», который напросился водить нас по городу, был поразительно похож на Христа, и не затравленного Христа на картинах художника Ге, а спокойного, красивого, гармоничного Христа в изображении Иванова. Как будто на спектакле, он носил, а возможно надевал специально для приезжих туристов длинную белую рубаху и явно играл роль Мессии. Но, показав все редкие достопримечательности города, бесцеремонно запросил такую цену, что мы решили, что за Христа приняли Иуду. Всё-таки он выклянчил свои 30 сребренников.
Еврейский квартал любопытное, ни на что не похожее зрелище. Узкие улочки, на которых от массы народа негде яблоку упасть. У каждого дома сидят, едят, спят, чинят обувь, пьют, стирают, торгуют и, главное, все со всеми разговаривают. Прохожие, двигаясь по улице, не прекращают разговора, так как говорить приходится со всеми, сидящими у крылечек. Изо всех окон, дверей, балконов свешиваются проветривающиеся и сохнущие бебехи. Все что-нибудь продают: кто пучок чесноку, кто охапку травки, кто снопик соломы, кто тарелку вишен…
Особенно поражает количество ребятишек. Это что-то ни с чем не сообразное. Они лезут во все подворотни, сидят на всех заборах, носятся по всем улочкам шайками человек по 20 и буквально нападают на прохожих, требуя купить у них стакан воды, кстати сказать, довольно грязной, или купить коробку спичек. А то набрасываются на вас с криком:
— Слюшая! Здравствуй! Давай десять копеек!
При этом одному дать нельзя, иначе остальные так и будут сопровождать вас, пока не добьются своего.
Мы зашли в прекрасную синагогу. Присутствующие делились на две части: передние молились и подвывали, а задние в то же время шумно торговали.
Службу служил величественный бородатый старик, ни дать, ни взять праотец Авраам. Рядом молча стоял комсомолец в юнгштурмовке. Когда раввин кончил служить, комсомолец обратился к народу с речью антирелигиозного характера. Раввин что-то сказал, после чего толпа страшно загалдела, зажестикулировала, полезла вперёд к комсомольцу. Запахло дракой. Мы заинтересовались, в чём дело. Наш чичероне пояснил, что молодой человек требует предоставить синагогу на вечер для антирелигиозного спектакля. Раввин, явно испугавшись, пустил дело на плебисцит. Большинство присутствующих было откровенно против:
— Их пусти разок, а потом не выгонишь. Превратят нашу синагогу в подлый клуб!
Нам надо было ехать далее. От Они ходил автобус. Это был лимузин человек на 15 с откинутым тентом. Мы купили билеты до Кутаиси.
Грузин-шофёр, изрядно выпивший, вероятно, для храбрости, вёл машину пулей под уклон, описывая виражи над пропастью, визжа тормозами на внезапных поворотах, впритирку разъезжался со встречными.
Пассажиры скоро все перезнакомились. Временами они с интересом разглядывали останки машин, видневшихся глубоко внизу в русле и на берегах Риона. Прости Господи! Человек с забинтованной головой, с рукой на перевязи и на костылях, оказавшийся директором местного отделения банка, развлекал нас рассказом, как три месяца назад он вот на таком же лимузине совершил прыжок на дно ущелья. Окончилось, по его словам, всё удачно: почти все пассажиры погибли, а его без сознания вытащили и в больнице собрали по кускам:
— Вот ведь жив! Разве не удачно?
Теперь он ехал в санаторий долечиваться. А мы сидели после его рассказа ни живы и не мертвы.
Мой сосед по автобусу, экономист, рассказал о Рачинском районе: много хорошего появилось. Построено 5 больниц, организованы артели для еврейской бедноты. Но глупости перевешивают всё хорошее. Например, вышел приказ: увеличить посевные площади на какой-то определённый процент. А у них уже обработан каждый доступный клочок. Кругом — скалы. С них требовали — пришлось поднатужиться. Привязывая «пахарей» к скалам, поднимали с реки землю в корзинах на верёвках. Дотянули всех клочков до 7 % от общей площади, при этом затратили 100 % лишнего труда. А первый же дождик смыл всю почву с посевами в реку!
Перспективы района богаты и великолепны, и они используются издавна. Это горная и лесная промышленность, мясо-молочное животноводство, курорты всесоюзного значения… Однако из Москвы сыплются директивы одна за другой: «Создавать земледельческие совхозы», а они лопаются как мыльные пузыри. Несмотря на то, что ни одну земледельческую машину в горах применить невозможно, а ведь это главное преимущество колхозов и совхозов, район завалили веялками. В Они в каждом дворе у чайных, на площадях их стоит по нескольку абсолютно без дела. Этому способствовал какой-то украинский завод, выпускающий веялки. Он обязался перевыполнить свой план за год, вот и разослал свою продукцию повсюду, куда не надо. Наш район отказывается, протестует, а их шлют и шлют. А обходятся они дорого. Одна перевозка только из Франко в Тбилиси 75 рублей каждая, а к нам — 175 рублей. У нас нет сил оплатить хотя бы транспорт. Наш банк на этом разорился, прогорел. А кто виноват?
Местный народ очень трудолюбив, но разве можно так размножаться?
Посреди рассказа заведующего банком впереди показалась натянутая поперёк шоссе проволока, как раз на такой высоте, чтобы снять головы всем пассажирам. Машина неслась на большой скорости. Шофёр резко затормозил. Проволока зацепила за раму ветрового стекла, закрутилась вокруг зеркала и потянула машину к бровке. Одно колесо повисло над бездной. Монтёры, натягивающие телефонные провода, подошли и затеяли с шофёром перебранку:
— Куда едешь, пьяный чёрт, не видишь, что люди работают!!
Вот с такими весёлыми приключениями мы добрались до Кутаиси. Этот город оставил у нас самые скверные впечатления. Несмотря на будний день и рабочее время по улицам и бульварам слонялось громадное количество щеголеватых молодых лоботрясов. Было совершенно непонятно, чем живёт местное население. В основном оно занималось щёлканьем орехов и загрязнением улиц шелухой. Оставив Галю на четверть часа на главной площади с рюкзаками, чтобы узнать, где находится турбаза, я застал её красной от злости и страха, чуть не плачущей и отбивающейся от целой оравы наседавших на неё хулиганов.
— Да что вы, разве не знаете, что в Грузии нельзя девушку оставлять одну на улице, особенно блондинку? — говорили нам потом знакомые.
Едва вырвавшись из своры кобелей, мы укрылись в совершенно пустой, населённой только клопами, турбазе. Надо было платить, но по аккредитиву нам денег не выдали, у них не было наличных, сказали подождать день-два. Единственная в городе столовая, долженствующая кормить туристов по путёвкам, закрылась на три месяца, и была прекращена выдача хлеба по карточкам.
Заведующий турбазой обрушился на нас с грубой бранью и просто выгонял нас, когда мы объяснили наше положение. Пришлось уйти на вокзал и длительно дожидаться поезда до Поти. Грузины демонстративно игнорируют русский язык: на вокзале расписание поездов написано только по-грузински. Даже в Шови в ресторане была только одна надпись по-русски: «Окурки на пол не плювать».
Деньги в конце концов нашлись, и мы уехали. Я всегда был свободен от национального шовинизма, но крепко недолюбливаю грузин. Они ассоциируются у меня с толпой фланирующих фатов, бросающих жадные и нахальные взгляды на проходящих женщин. Нет, конечно, «в семье не без урода», есть и в Грузии хорошие люди, например, старые пильщики, которые помогли мне найти стремя.
В Поти лил проливной дождь, и вполне законно. Должны же как-нибудь выливаться почти 2000 миллиметров годовых осадков! В городе повсюду были не то большущие лужи, не то маленькие озерки, заросшие тростником и окружённые очень декоративными плакучими ивами. Ночью в доме крестьянина мы слушали прямо-таки громоподобный хор тысяч лягушек. Они недурно спелись и тянули партии на четыре голоса.
Утром мы сговорились с какой-то парой, наняли старомодную пролётку, громко именовавшуюся «фаэтоном», и поехали по направлению к Батуми. Другого сообщения между городами не было, и оборотистый грек неплохо на этом зарабатывал. Дорога шла по песчаной пересыпи между морем и озером Палеостом. От озера веяло прелью водорослей, а от его названия — временами аргонавтов. Было забавно во время привала купаться то в солёной воде моря, то, перебежав дорогу — в пресной воде озера.
В Сууксу нас поразил вид чайных плантаций. До этого чай в нашем представлении рос только в магазинах бывшей фирмы Высоцкого и Ко. А здесь, насколько глазу хватало, он поднимался параллельными извивающимися кулисами, такими пушистыми, на окрестные холмы и исчезал постепенно, синея вдали.
В Сууксу мы выехали на железную дорогу и распростились с извозчиком. Батуми был удивительно мил. Хотя дождь принимался несколько раз в день, тёплый бриз был исключительно нежен. На приморском бульваре росли роскошные пальмы, агавы и юкки. Над всем царил очаровательно-одуряющий запах магнолий, которые были в полном цвету. Мы как драгоценность подняли сорванный цветок, боясь прикоснуться к его росистой белизне. А ведь магнолий там было, что ёлок в Ельдигине.
Мы сели на пароход и через сутки плавания в очень грязном тесном трюме были в Сухуме. Там мы узнали, что экскурсионная группа украинцев-комсомольцев отправляется в Новый Афон, и присоединились к ним. Бодренько отмахали 27 километров, частью по насыпи недостроенной Черноморской железной дороги.
Афон поразил нас своей высокой культурой и благоустроенностью. Здесь при монахах был образцовый виноградник, фруктовый сад, оливковая роща, плантация мандаринов, лесное хозяйство. В наше время даже предельно обезображенное и запущенное это имение как небо от земли отличалось от всего окружающего. Особенно впечатляли технические сооружения: сами здания монастыря, дом игумена, отделанный как дворец, канатная дорога на Шерскую гору к развалинам VI века до нашей эры, фуникулёр к лесоразработкам, узкоколейка до пристани, электростанция, построенная в 1906 году, сеть дорожек, мощёных белым камнем, искусственное озеро с белыми и чёрными лебедями, подсвеченное под водой электрическими огнями. И всё это было построено людьми, не имеющими никакого технического образования. Даже в советском путеводителе было сказано, что Новый Афон создан людьми, обладавшими недюжинным талантом и трудолюбием.
Нам очень хотелось посетить знаменитую Новоафонскую пещеру. Группа украинской молодёжи согласилась с нами повидать её. Мы очень долго искали вход. Он был завален камнями. Наконец, мне удалось найти буквально мышиную нору. Ходок шёл круто вниз, двигаться можно было только лёжа, вытянувшись вперёд ногами, по склизкой мокрой глине, нашпигованной острыми камнями.
Я первый покатился по этому жёлобу, в полную неизвестность и тьму. Длина жёлоба оказалась порядочной, так как необычайно быстрое скольжение продолжалось минуты две. Внезапно я влетел в котёл ледяной воды и решил, что жизнь моя кончена, но по инерции продолжал двигаться в воде и, наконец, ударился о дно. Встал на ноги и поднялся на поверхность. Так я жив!
Предупредить следующего об обстановке не было никакой возможности, так как они там у верхнего отверстия галдели невероятно, спорили о том, кому же рисковать следующему. Галочка примчалась ко мне второй. Я был очень доволен её решимостью. Далее посыпались, как горох, 10 юношей. Собрались, пересчитались. Кого-то одного нет. Кого же? — «То це ж моя бульбочкя», — закричал один юноша. Не появилась единственная в их группе девушка «Бульбочка». Она действительно была порядочно толстенькая и напоминала картофелину. Все испугались — «А вдруг она из-за своей толщины застряла в узком жёлобе!». Юноша стал кричать:
— Бульбочкя, Бульбочкя, тякай судой, издест гарно!
Он свой призыв повторил несколько раз. Наконец, послышался крик, визг, посыпались камушки и… бульканье. Юноша не выдержал и нырнул вторично в ледяной водоём спасать подругу. Зажгли свечи и увидели Бульбочку, которую крепко держал за пояс её любимый и подчаливал к нам. Но в каком она была виде!
Решили идти далее. Увидели в нескольких местах такие же узкие ходы. Поползли в один из них. Ноги затекли, расцарапанные колени ныли от холода, поэтому мы были рады, когда получили возможность встать на четвереньки. Вышли в зал, обросший сталактитами и сталагмитами, в стенах торчали крупные раковины. Далее шёл снова узкий ход, кончающийся большим подземным озером. Один юноша оступился и рухнул в воду. Мы убедились, что это было серьёзное озеро — глубокое, с отвесными глинистыми берегами. Товарищ сам вылезти никак не мог. Верёвки ни у кого не было. Посоветовавшись. Юноши быстро образовали живую верёвку из трёх человек, и, крепко держась руками за ноги предыдущего, «утопленник» схватился за нижнего и, стуча зубами, выкарабкался к нам.
Вскоре мы заметили, что свечи быстро догорают, это последние. Решили жечь зараз по одной свечке. Наступила почти полная темнота, а мы пробирались дальше и дальше, где червяком, а где на четвереньках. Прошли ещё ряд залов, в том числе один громадный, пересекли три озера вброд или по краю. И повернули обратно.
Ох, и мил же нам показался божий свет! А до чего мы были грязны!! Уму невообразимо! Гурьбой помчались к морю за два километра. Встречная старушка шарахнулась в сторону и долго потом крестилась, явно приняв нас за 13 чертей, выскочивших прямо из преисподней.
Из Афона мы с Галей ехали на новеньком теплоходе, купленном нашим правительством у немцев. Комфорт третьего класса нас поразил: отдельные каюты, салоны, ванны. Однако в наших условиях после нескольких рейсов на Чёрном море всё пришло в норму: ванные были заколочены, туалеты сломаны, вентиляторы сняты…
В Новороссийске поглядели на клубы дыма и цементную пыль знаменитого завода. Мы тогда ещё не читали Гладкова, а потому не почувствовали к нему — Новороссийску — должного уважения. Паршивый город, бестолковый, грязный.
Ох, и тяжело же было возвращение в цивилизацию! Вместо свежего воздуха — вонь, духота вокзалов, вместо гостеприимства крестьян — споры и проверка документов на турбазах, вместо яиц и брынзы, хоть и скудных — суточные щи в столовых и споры в райторгах о выдаче хлебного пайка по туристическим карточкам.
Далее мы ехали поездом, направляясь в Днепрострой. На станции Иловайская меня арестовали. Дело в том, что за путешествие, особенно после Афонской пещеры, я невероятно обтрепался. Бдительный милиционер заинтересовался оборванцем с фотоаппаратом и проверил документы. Я показал отпускное удостоверение: «Инженер завода „Динамо“ им. Кирова».
— Ясно, документы краденые! Какой он к черту инженер, — заключил начальник отделения милиции. — А что это за фамилия?
— Ничего особенного, обыкновенная французская фамилия. Мои предки — выходцы из Франции. — А вот мы сейчас тебя и уличим. Коли ты француз, тем более инженер, а ну, поговори-ка по французски!
Я довольно бойко сказал несколько французских фраз. Начальник, конечно, ничего не понял, но… перешёл на «вы» и, задав ещё несколько вопросов, отпустил меня на все четыре стороны. Он явно не хотел ввязываться в международный конфликт.
На Днепрострое нас поместили на турбазе, состоявшей из одной комнаты на 60 коек. Там размещались вперемешку и мальчики и девочки, туристы обоего пола, и мы опасались, что попали в вертеп разврата. Но таково уж было простодушие тогдашней украинской молодёжи, что мы за трое суток не заметили ни малейшего проявления никакой нескромности при удивительной, прямо-таки евангельской простоте нравов.
Посёлок Кичкас, где помещалась турбаза, имел богатое прошлое: крепость печенегов, Запорожская Сечь, ставка Сагайдачного, штаб Потёмкина в турецкую кампанию, немецкая колония и курорт — Александробад, вот его главные этапы.
При нас Днепрострой был в самом разгаре работ. Моя электротехническая душа возрадовалась, била копытом и я был готов простить советской власти все её прегрешения за великолепный проект и размах его осуществления.
Трудно описать Днепрострой того времени. Гигантские взорванные скалы, забаррикадированное осушенное дно Днепра, торчащие из него зубья высотой с 20-этажный дом — костяк будущей плотины. На земле рвы, насыпи, котлованы, перемычки и везде рельсы. Свистки паровозов, вой сирен, грохот взрывов. Как хозяева этого ада, ползают по рельсам паровые краны, как умные и сильные звери, вертят лапами во все стороны, хватают брёвна, громоздкие камни, бетонные плиты, перетаскивают их из стороны в сторону; если товарный вагон загораживает ему путь, такой зверь берёт его, как котёнка, за шиворот и перебрасывает через себя.
Рядом строилась улица новых белых домов — великого Запорожья — будущий социалистический город, который должен был поглотить Кичкас, мощные заводы и 100 тысяч населения.
Захлёбываясь, я писал в Верблюд о том, сколько энергии будет вырабатывать Днепрогэс, как разрешит проблему навигации по Днепру, сколько оросит земель.
После трёх дней упоения техникой я поехал в Москву на работу, а Галя в Новый Буг искать Берту, которую умыкнули родители, чтобы спасти от тлетворного влияния Грини и заодно от колонистов, а в целом от всяких русских.
После возвращения работа на заводе стала ещё интереснее. Крановая серия была закончена, и меня перебросили на тяговые моторы. В то время в этой области было много нового. Создавались первые пригородные электрические железные дороги. Для них нужно был строить необычайно, по тем временам, мощные моторы ДПТ-140. Постоянный ток был для меня внове: коллектора, катушки, щёткодержатели, индукционные катушки — было над чем поломать голову.
За образец были взяты на этот раз американские моторы GEC (General Electric Company) и итальянские Савельяно. Какие лучше? Победили итальянцы. На завод пришли горы итальянских инструкций, которые никто не понимал. Дирекция металась в поисках переводчика. У меня отец был без работы, и я уверенно взял переводы для него. Но как назло он поступил переводчиком в Коминтерн, очень уставал, доделывал работу по ночам и от итальянского отказался. Что делать? Понёс я всё назад к директору:
— И слышать не хочу! Взял так делай! Отец не может, делай сам!
Я взял тетради на синьках и стал переводить сам с незнакомого языка. Первые страницы переводил по полдня. Потом дело пошло скорее. Многие корни были знакомы, с французского или с эсперанто, а уж до чего язык был красив! Просто пальчики оближешь. На нём бы не инструкции про гуперовскую изоляцию писать, а любовные сонеты! Кончил инструкцию, взял технические условия. Так я, не оставляя немецкого, выучил итальянский, по крайней мере в пределах технической терминологии.
В техбюро работали иностранцы: англичанин Браун — консультант Метро Викерса и американец Липман — от GEC. Браун был дельный инженер, но несколько настороженный против всего советского. Мы-то все скверно говорили по-английски, а он это принимал за оскорбление. После каждого разговора он надувался как мышь на крупу, и на его лице отражалось глубочайшее презрение. Но советы он давал дельные.
Липман был великолепен. Он, собственно, был не столько американец, сколько швейцарский еврей. Он родился в России и прекрасно говорил по-русски. С аристократической внешностью в нём сочетался большой демократизм. У него чесались руки всё делать самому. Начальник штамповочного цеха, коротышка Кудимов, выдвинутый из рабочих, торопил его:
— Думай, думай скорее, Липман! Какого черта сидишь над этой пресс-формой целых полчаса!.
Липман невозмутимо отвечал:
— Скорее делается, чем думается. Ты, вот, спать можешь скорее, чтобы выспаться за два часа вместо семи? Скоро думать нельзя!
Иван Евграфович учил меня осторожности:
— Что бы вы ни делали, пишите служебную записку. По поводу каждого шплинта — в отделы нормирования, контроля и снабжения.
— Но Иван Евграфович, ведь это же бюрократизм! Отдел нормирования в соседней комнате. Проще пойти и договориться о пересмотре норм на шплинт.
— Это не бюрократизм, а предусмотрительность. Сейчас кажется не важно, а в случае коснись…
Я привык писать записки и копил их копии в тетрадочках в своём ящике на случай — «в случае коснись…»
Кончили конструировать ДПТ, начали — осветительные динамки РТ-2, потом подоспели моторы для электровозов и ещё умформеры, моторгенераторы и, наконец, моторы для метрополитена. И я прикоснулся к ним, правда, только краем.
Дома всё было хорошо, жизнь наша потекла спокойно. Новая комната была большая, с итальянском окном в полстены, сухая, соседи хорошие, хоть было их три семьи. Казалось бы, что ещё надо? Но… всё портила Галина сестра Нина, которую она пригласила временно пожить с ней, пока я отсутствовал, а Нину выселяли из общежития. Как только я вернулся, Нина приняла какую-то отрицательную позицию, хотя выселиться мы ей не предлагали. Она вела себя в комнате как хозяйка. Диктовала совершенно неприемлемые условия. Жить стало нестерпимо. «Трое в одной лодке» оказалось немного тесно. Мы старались наладить отношения, в чём только можно уступать, но дело только ухудшалось в связи со следующими обстоятельствами.
В минуты нежности мы с Галочкой называли друг друга «глупсами», при этом шутливо спорили: «Ведь это ты глупс-то!» — «Да нет, ты всё перепутал, это ты глупс!» Как-то нам пришла в голову мысль, что если мы заведём сына, а мы были уверены, что у нас родится именно сын, что вот тогда-то он и будет глупсом. Мы будем умсами. Так и порешили.
Нина, узнав об увеличении нашего семейства, стала вовсе нестерпимой. Когда Гале было уже трудно работать, она оставила свою интересную работу у Зеленко и бывала много дома.
Мы стали думать, как разъехаться с Ниной — сменять нашу комнату на две маленьких. Предложений было много, и различных. Мы предоставили Нине возможность выбирать, но она проявила при этом невозможную строптивость и не соглашалась ни на какие варианты: «Вам плохо. Ну и убирайтесь отсюда, а я вообще никуда не поеду!» Мы были в отчаянии.
Я написал директору моего завода письмо, что я не могу жить вчетвером, а с няней — впятером в одной комнате, что я прошу помочь мне с жильём, иначе буду вынужден уйти с завода. Директор, прекрасно понимая, что деваться мне некуда, без обиняков заявил:
— Пойдёшь заведовать электрическим цехом, — получишь комнату, нет — делай что хочешь и живи как хочешь.
Я стал раздумывать, а тут подвернулась однодневная экскурсия инженерно-технических работников «Динамо» в Швецию. Ну, не так, чтобы совсем в Швецию, а на шведский концессионный завод ASEA в Ярославль. Завод этот изготовлял моторы примерно таких же мощностей, как и «Динамо».
На заводе работало 60 шведов и 640 русских.
То, что мы увидели на этом заводе, поразило нас. Мы, как удивились в заводоуправлении, так и оставались в состоянии удивления во всё время осмотра завода. Заводоуправление состояло из ряда комнат со стеклянными стенами. В каждой комнате сидело по одному шведу. По бокам письменного стола катались на колёсиках пишущая и счётная машинки, обе с электрическим приводом. Поражала стерильная чистота и мёртвая тишина, царившие во всех помещениях. Те же качества были и в цехах. Между станками с встроенными моторами были такие расстояния, что проходили трёхтонные электромобили, развозившие материалы. Операции были так рассчитаны, что каждая деталь уходила только на соседний станок. У станков допускался не более, чем однодневный запас полуфабрикатов, сложенный в идеальном порядке. В литейке ни дыма, ни копоти. Каждый формовщик имеет свою комнату, формует не в ручную, а на специальном станочке, модели алюминиевые, а не деревянные.
— А где у вас отжигалки? — спросил я водившего нашу экскурсию шведского инженера, вспомнив жуткую отжигалку на БКЗ и желая уличить шведа, что он скрывает от нас антисанитарные места своего завода.
— Вы как раз опираетесь на неё спиной.
Я опирался на какой-то вертикальный цилиндр, выкрашенный чёрной эмалью. Это оказалась мармина, куда краном загружались медные бухты, после чего она герметически закрывалась и электрическими спиралями доводилась до нужной температуры.
На дворе не валялось ни куска металла, кроме чугунных чушек, сложенных штабелями. Нигде ни одного плаката или лозунга. Никто не стоял без дела, никто не курил. Шведы не могли нахвалиться на русских рабочих. Всего 10 сборщиков собирали за месяц 2000 моторов, в то время как у нас 40 сборщиков собирали 300–400.
— Они работали бы ещё лучше, если б не мешал им Союз, — говорили шведы.
Любопытно, что у них профсоюзами строго преследовались ударничество и соцсоревнование, которые рассматривались как подхалимаж перед иностранными специалистами.
Мы посетили также стоявший из ворот в ворота наш новый автомобильный завод. Нас оглушил шум и грохот. Двор был почти непроходим: там валялись вперемешку горы самых разных деталей, полуфабрикатов, станков. В цехах был бедлам. Рабочие изворачивались между тесно стоявшими станками, грудами как попало сваленных заготовок и громадными плакатами, призывавшими крепить ударный труд и соблюдать правила техники безопасности. К тому же на заводе была принята почему-то допотопная трансмиссионная система, и сотни плохо ограждённых ремней бежали во всех направлениях, так что голова кружилась. Десятки рабочих сидели в курилке и толпились около свежей стенгазеты, призывавшей к соцсоревнованию.
После посещения завода ASEA я дал Жукову согласие на переход в цех. Появилась мыслишка: «А что, если сумею сделать из цеха нечто подобное?» Это, конечно, было самоутешение. Перед собой было неловко признаваться, что берусь за дело ради комнаты.
Для придания мне солидности меня решили послать на ХЭМЗ — Харьковский электромашиностроительный завод — попрактиковаться недельки две. Я поехал в Харьков с удовольствием. Новое место, новые впечатления! Поселился я в комнате практикантов и стал ходить на завод. В Харькове его все называли ВЭКгом (Всероссийская электротехническая компания) по старой памяти.
Завод специализировался на производстве синхронных генераторов для турбин, но производил и малые моторы. Это было «чудище обло, огромно, озорно, стозевно и лаяй». 18 000 человек, то есть в четыре раза больше, чем на «Динамо», и на столько же больше беспорядка. Однако было и немало технических новинок, которыми я не переставал восхищаться, намереваясь потом применить в своём цехе.
Встретили меня хэмзовцы очень радушно и не уставали доставать по моей просьбе из своих премудрых архивов, добавочно осложнённых путаницей, техническую документацию и давать в цехах бесконечные объяснения. Создавалось впечатление, что инженеры и рабочие рады оторваться от своих монотонных дел, чтобы побеседовать с заезжим динамовцем. Я их эксплуатировал вовсю.
Вечерами я был свободен. Первый раз один в чужом городе. Это было очень здорово. Я чувствовал себя как молодой бог и предавался утончённым наслаждениям: бродил по городу, посещал кино и раз даже попал на украинский балет, где все балерины красноречиво молчали на украинском языке, так что я половины не понял.
В городе на меня произвёл наибольшее впечатление гигантский дом промышленности; новая советская архитектура мне очень нравилась. Было только обидно, что рядом тянулась глубокая балка, битком набитая пещерами и халупами, где ютились граждане третьего сорта. Они топили свои жилища по-чёрному и освещались лучинами.
В Харькове у меня оказалось много знакомых — шабшаевцев, проникших во все электротехнические учреждения города, часто на больших ролях. Завелись и новые знакомые. У меня была рекомендация — письмо к неким харьковским теософам. Когда я соскучился по семейной обстановке, я пошёл к ним. Это семейство жило в собственном особняке, выстроенном главой дома. Семейство состояло из старого архитектора, добродушного, хромого, лысого, почти слепого человека, в своё время построившего ряд лучших зданий Харькова; жены, лет на 20 моложе его, поразительно красивой, хотя уже с проседью, женщины и жильца на правах члена семьи, пианиста, статного мужчины с вдохновенным лицом и шевелюрой Бетховена. Жена очень любила мужа, нежно ухаживала за ним (он пережил инсульт). Пианист был откровенно влюблён в хозяйку дома, благоговел перед ней и постоянно исполнял мелкие поручения по хозяйству. Он, похоже, вполне примирился со своей ролью чичисбея. Он дал двухчасовой домашний концерт по случаю моего прихода. Играл он великолепно, и я, обычно зевавший на концертах, слушал его с наслаждением.
Я воспользовался сравнительной близостью к Ростову, чтобы повидать хоть один день маму в совхозе «Верблюд».
Мага к этому времени поступила работать в Отдел научной информации совхоза. На маму легла забота не только об обеих девочках, но и обо всём домашнем хозяйстве. Держать ребят летом в «Верблюде» было бы жестоко, и мама собиралась поехать с ними в менее безотрадное — более зелёное место.
— Как ты ненадолго, — повторяла мама, глядя на меня. Чтобы продлить свидание, мама проводила меня до Ростова. Мы очень хорошо поговорили в поезде. Я рассказал ей про «Глупса». Потом она заснула, положив мне на колени голову, в которой проглядывали первые серебряные нити. Вот так когда-то я спал у неё на коленях. Этим она как бы передавала эстафету жизненной борьбы, признавая меня сильным и взрослым, в то время как её роль окончена. Неужели окончена! Я чувствовал прилив благодарности и безотчётной тревоги за неё. И… не напрасно. Это было наше последнее свидание.
На окраине Краснодара мама сняла комнатку на лето в уютном домике и перевезла туда девочек. Марьяне было три года, Леночке — месяцев шесть. У Маги всё равно не было молока для ребёнка, а ехать в Краснодар она не могла из-за службы. С двумя малышами маме хватало забот, но она, как всегда, писала, что ей хорошо. Также писала, как она рада будущему внуку, что до этого она не надеялась дожить до счастья стать бабушкой и строила планы на будущее — обязательно переселиться к нам — растить внучка.
Однажды мы получили телеграмму от мамы, гласившую: «Немедленно выезжаю чт…мн…кн…т…»
Мы ломали голову, что бы это значило. Почему же немедленно? Потом решили, что маме не терпится к нам, так как она знала, что очень скоро у нас должен появиться «Глупс».
Мы спешно привели нашу комнату в идеальный порядок, украсили всю цветами и с нетерпением ждали приезда любимого человека.
Через день меня вызвали в завком. Опять будут ругать за сверхурочные, подумал я.
— Вам телеграмма, — сказал делопроизводитель.
Телеграмма была от Гордона: «Почему не приехал. Лида умерла от воспаления лёгких». Я ничего не понял. Какая Лида? И только со второго раза дошло: ведь это же про маму!! Как умерла? Так совсем? Тут только я понял, что первая телеграмма вызывала меня приехать к больной маме, а на почте перепутали текст…
Я растерялся. Как же я без мамы? Никакой я не сильный, не взрослый. Я только потому и казался сильным, что чувствовал за плечами её сильную волю, при ответственных решениях всегда советовался мысленно с ней, опирался на неё, угадывал: как бы она поступила в этом случае?
Позже из письма Маги мы узнали, что мама заболела за неделю до смерти. Она не хотела их беспокоить, думала, обойдётся, пересиливала себя, тогда как температура доходила до 40°, и ухаживала за девочками. А потом уже была не в силах сообщить им о своей болезни — впала в беспамятство. Хозяйка не сразу нашла адрес родных, так что, когда Гордон приехал, мама уже была без сознания. Похоронили её там же в Краснодаре. Мне никогда не удалось побывать на её могиле.
Между тем приближались роды, а обещанной квартиры всё не было. Что было делать? Ехать к Нине с ребёнком было невозможно.
10 июля 1931 года начались схватки в четыре часа утра. Я повёл Галочку на станцию, так как в Лосиноостровской был плохо оборудованный роддом. Поездов не было. Ждали до 6 часов 15 минут. Ехали на поезде. На вокзальной площади пришлось долго ловить машину, никакие частники не соглашались отвезти, а такси ещё не работали. Я сходил с ума, видя, как Галочка страдала, хоть и крепилась, кусала губы, делалась то бледной до прозрачности, то багрово-красной с синим оттенком. Наконец-то нашёлся добрый человек с машиной. Галочку приняли в Первый образцовый, называемый Шелапутинским, роддом имени Н. К. Крупской на Ульяновской улице. Это был наш районный.
Я помчался домой, попросил Нину приготовить передачу. В 9 часов вернулся назад:
— Ну как?
— Всё благополучно, роды продолжаются.
Я пошёл на завод, но ничего не соображал. В 6 часов вечера снова слышу:
— Всё благополучно, роды продолжаются.
Я готов был повеситься на их благополучии. Так я ходил по 2–3 раза в день. Ответ был тот же. Я готов был биться об стенку головой. Ведь моя Галочка ни в чём не виновата, за что же она так страдает!!!
Так продолжалось до 9 часов вечера 12 июля. Я сходил с ума и сетовал неизвестно на кого: «А ещё говорят, что в природе всё разумно»! И слышу:
— Всё нормально, родила сына.
Какой камень свалился с души. Всё стало лучше, светлее. Я с трудом удержался от того, чтобы не выкинуть какой-нибудь фортель — выражение буйной радости, прямо тут же, в приёмной роддома.
Глупс был настоящий глупс, столько страданий доставил своей маме, и так длительно. Но в то же время был рекордсменом: вес его был 10, 5 фунтов. Уфф!
У меня началась «черная жизнь», которую я, однако же, принял с великой радостью и небывалой энергией. День я был на работе, со всеми трудностями налаживал новый цех, потом бежал в роддом делать передачу, по дороге в трамвае писал Галочке письмо, потом мчался в магазины, чтобы до закрытия достать для Гали молоко, овощи, фрукты, простояв несколько часов в 2–3 очередях. После закрытия магазинов отправлялся к знакомым собирать пелёнки, подгузники, распашонки. Ввиду трудного положения с мануфактурой стихийно возникло такое правило, что родители, у которых дети немного подросли, передавали пелёнки и т. д. родителям новорожденных, часто вовсе до того не знакомых. Позже и мы включились в эту эстафету в течение нескольких лет. После обхода по сбору пелёнок я садился и корпел над сверхурочной работой, которую брал в техбюро, так как расходы наши не укладывались в приход. Много предвиделось экстренных расходов. А тут ещё оказалось, что всё собранное детское бельишко, которого набралось 70 штук, надо перестирать и прокипятить. Нина игнорировала все это дела.
Немудрено, что новый завцехом на первых порах проявил свои способности больше в качестве прачки, нежели в качестве инженера.
Наконец-то наступил день выписки Галочки с Глупсом домой. Я с трепетом и благоговением взял малышку в руки. Посмотрел, откинув с личика одеяльце: «Да ведь он совершенно настоящий человечек!» С каким удивленьем он уставился на меня своими большими ярко-голубыми глазками!
У нас было заранее твёрдо решено, что это будет АЛЕША. Теперь скажу по секрету, что всё-таки чуть-чуть маячило резервное имя для девочки — АЛЁНУШКА. Но оно не пропало, когда мы запланировали дочку, через четыре года, и твёрдо знали, что тогда обязательно должна быть дочка. Так оно и вышло, оба раза по нашему заказу.
Наш большой друг — Михаил Васильевич Муратов к тому времени женился, и когда увидел нашего Глупса, сказал:
— Не задавайтесь. Вот увидите, что у меня тоже будет хороший сынище.
Жена Михаила Васильевича, заслуженная учительница литературы и русского языка — Татьяна Григорьевна, узнав о наших трудностях с квартирой, вопрос о которой ещё не был решён, поговорила со своими знакомыми — семейством Липиных и просила приютить нас в их квартире, пока они будут всей семьёй в экспедиции на Телецком озере. Они охотно согласились, эти исключительно любвеобильные и радушные люди, которые до этого ничего о нас не знали. Так что прямо из родильного дома мы поехали к ним на Пятницкую улицу. Это был двухэтажный особняк. В нижнем этаже жили они, а наверху располагалась геологическая лаборатория и жил сам академик, президент Академии наук Александр Петрович Карпинский.
В квартире Липиных был невероятный хаос. Мы привели в порядок одну комнату и поселились в ней.
С громадным волнением прошло у нас первое купание Глупсика. На другой день я пошёл с ним гулять. Галочка была ещё не вполне здорова. Солнышко сияло, было жарко — июль. Я решил, что мальчику пора загорать, развернул пелёнки и с полчаса подержал его на солнышке, стоя на чугунном мосту. Ведь недаром Макаренко сказал, что воспитывать детей следует со дня рождения, а закалка — важнейший элемент воспитания. Алёше был уже месяц, значит, я уже на 30 дней опоздал!
Когда мы пришли домой, у мальчика уже была температура около 40°. Позвали доктора. Она сказала Гале:
— Если вы будете позволять отцу и дальше делать такие глупости, вы потеряете ребёнка.
Глупса отходили, а над моей педагогической инициативой был учреждён жестокий контроль. Я удивлялся. Откуда молодые мамы всё знают, что касается ребёнка?
Бабушка Лена и дедушка Саша страшно и радостно переволновались по поводу появления у них внука. На нас посыпались их письма из Вологды. Бабушка Лена писала: «Мои дорогие, любимые, это письмо не вам, а Алёшеньке. Хочется приветствовать его как можно скорее и сказать: „Добро пожаловать в наш сумбурный мир“. Я бесконечно рада, что Галинька поправилась. За мальчика не беспокоюсь, верится, что он родился под счастливой звездой. Вас, больших деток, крепко любимых, нежно целую. Мы с Саней взволнованы за себя лично, что оказались впервые в бабушках-дедушках. Всех троих целую крепко, бабушка Лена».
Дедушка Саша писал более пространно:
Племяша! Друг! Так ты не шутишь? Ты стал доподлинным отцом!? И, может быть, от счастья кутишь!? И сын родился молодцом!? И мать, как принято в сей жизни, Сияя робостью, несёт Недоедающей отчизне Ещё один пайковый рот!? Пирамидально, друг, чудесно!! Не всяк «промплан» свершает в срок… Но Алексей родился честно, День в день исполнив свой урок! Я рад! Я плачу с непривычки, Ударным темпам ВНУКА горд… Что скажет в пользу обезлички Какой-нибудь паршивец Форд! Нет! Сдельщина и в этом деле Творит миракли, в самом деле… Постой! Я, кажется, в уклоне, И тему выправить пора… Я ВНУКУ гаркаю «Урра!» Подняв субстанцию бокала И прослезившись в сотый раз, Хотел бы я изречь мал-мало Мой внуку дедовский «Наказ». Алеша! Внук! Послушай деда! Чтоб жизнь не превратилась в ад, И чтоб не чахнуть без обеда — Ты бойся всяческих «Матмлад»! Там для младенца: Бинты, полотенца, Присыпки, примочки, Анкеты, листочки, Весы, докторицы, Ланцетики, шприцы, Эмульсии, клизмы, Щипцы, афоризмы, Бациллы, плакаты, Тампоны из ваты, Термометры, банки, С лекарствами склянки, Касторки, горчицы, Опять докторицы, И так бесконечно И ныне и вечно!!!! Не надо «Матмлада»! Не надо теорий! Не надо весов И болезней историй! Живи, Как живут на земле Жеребята, Котята, Щенята, Бычки, Поросята! Поближе к природе, Подальше от Ада, Который зовётся Системой «Матмлада». Соси свою маму Всегда до отказу Согласно мудрейшему Деда наказу! Промокнешь — Просохнешь! Просохнешь — Промокнешь! Наешься досыта, Не бойся, не лопнешь! У каждого в жизни Своя «пятилетка»… Так в путь же без страха, Внучатая детка!! Антиматмладный Дед.Итак, у племянников сын, а у нас внук.
А мы со старухой сидим ухмыляемся друг другу, да с таким видом, что не в каждом столетии и не в каждой стране случаются такие случаи!!
Вот какие мы счастливые!
Несмотря на харьковскую практику меня начинало тошнить, и земля уходила из-под ног, когда я представлял себе, какое бремя я на себя взвалил. Ну кем я до этого командовал? Три десятка ребят в школе, которыми я управлял совместно с другими членами сельхоза. Группа из трёх человек в техбюро. Всё. А теперь — цех почти в 500 рабочих, 6 мастерских с самыми разными видами производства: коллекторская, две катушечных, машинная и аппаратная, изолировочная, сушильно-пропиточная, гальваническая. Они были разбросаны по четырём корпусам.
Коллекторская была фактически механической мастерской. В ней фрезеровались петушки коллекторных пластин, собирались коллекторы, точились муфты и шайбы, коллектора свинчивались или напрессовывались и затем протачивались.
В катушечных делались из изолированной меди разного сечения катушки — полюса машин и электромагнитных аппаратов. В сушильно-пропиточной они пропитывались изоляционными смолами в вакуумных аппаратах и затем подвергались сушке в громадных печах, в которых были проложены рельсы для вагонеток. Туда же из обмоточной привозили якоря.
Изолировочная мастерская имела дело с порошками и бакелитовым лаком. При смешивании их получались разные пластмассы, из которых прессовали клеммовые дощечки и разные мелкие детали. В сушильно-пропиточной всегда вкусно пахло бакелитовым и шеллачным лаком. Наконец, гальваническая мастерская помещалась на задворках завода в загаженной церкви. Внутри она напоминала не то средневековую лабораторию алхимика, не то кухню ведьмы. Там несколько стариков из бывших кустарей колдовали над маленькими ванночками и полдюжины старых баб в донельзя прожжённых всеми кислотами и щелочами халатах каторжного цвета лениво копошились в боковых приделах, отведённых под травилку. Всё, вплоть до воздуха, было до такой степени пропитано разной химией, что все молодые люди отказывались там работать, а прикосновение к стенам или царским вратам было равносильно прикосновению к электрическому скату.
Я, конечно, понимал, что с инженерией кончено. Отныне я администратор (тогда ещё не было изобретено слово «менеджер»). Главная моя обязанность отныне будет заставлять людей работать. Ох, уж и ненавидел же я это занятие! Насколько мне доставляло удовольствие любую работу делать самому, настолько же воротило с души тянуть других. А потому никогда не получалось.
Но ведь справляются же другие! Мой товарищ и предшественник, наш шабшаевец Георгий Иванович Китаенко прекрасно правил цехом. Всегда спокойный, во всех делах авторитетный, он одним своим видом побуждал людей подчиняться, быстро разрешал все конфликты, к его голосу прислушивалось заводоуправление. На мою беду его решили перевести на должность заведующего машинной частью завода, причём сделали это за несколько месяцев до моего назначения. За период междуцарствия цех съехал на 70 % выполнения плана. Я принял его в состоянии глубокого прорыва и разброда.
Первой моей заботой был переезд коллекторной мастерской. Ей дали новое помещение, попутно подкинули новые станки «Эшер» вместо допотопных «Красных пролетариев», производившихся ещё во времена Бромлея. Планировка новой мастерской была отдушиной в моей печальной жизни. Выдержать шведские нормы не удалось. Но всё же самтерская получилась приличная, светлая и довольно просторная. Я и контору свою при ней учредил, и вышло так, что более всего занимался этой мастерской. Старший мастер её — Перфильев, человек самостоятельный и с амбицией, — сохранял внешнюю лояльность, пропуская мои распоряжения мимо ушей и делал всё по-своему. Впрочем, я и в самом деле по неопытности частенько покушался на его прерогативы.
Через месяц после моего перехода на меня навалился отдел нормирования, требуя, чтобы я ужесточил расценки. Рабочие, конечно, встретили в штыки это мероприятие, и вместо того, чтобы поднять производительность, принялись филонить. Я крутился между молотом и наковальней. В первую же получку один слесарь, напившись пьяным, гонялся за мной с резцом, обещая проломить мне голову. И проломил бы, если б я, убегая, не завёл его в комнату военизированной охраны, где его связали.
Я всё искал экономический стимул, который автоматически побуждал бы рабочих повысить производительность труда. В то время усиленно насаждались хозрасчётные бригады. Я попытался их ввести у себя, но из этого ничего не вышло. Хозрасчётные бригады оправдывали себя только при бесперебойном снабжении сырьём и самостоятельном обслуживании ремонтным персоналом. У меня же все бригады зависели друг от друга, а первая — от отдела снабжения, который имел привычку не додавать то медь, то коллекторные пластины, то шеллак, то наполнители. Весь ремонт находился в руках механика завода, чьих слесарей надо было иногда дожидаться по месяцу, придумывая, куда бы перебросить станочника, чтобы он не простаивал.
Партком и завком без конца жали на соцсоревнование. Не то, чтобы они в него верили, но честно выполняли роль среднего звена в пословице: «Барин лупит кучера, кучер лупит лошадей». Мне всегда это казалось дикой чушью. Хотя я говорил на собраниях все нужные слова и подписывал договоры на себя и на цех, но я видел по отношению рабочих, что им глубоко наплевать на то, выработают ли они больше или меньше ХЭМЗа (Харьковского машиностроительного завода, с которым мы соревновались). Одни откровенно смеялись над этим делом, другие с серьёзным видом подписывали обязательства и тотчас об этом забывали. И никогда, где бы я потом ни работал, я ни разу не видел, чтобы соревнование хоть кого-нибудь заставило пошевелить лишний раз пальцем. Всё, что приписывалось соревнованию, достигалось или премиями, или организационными методами, или административным нажимом. Моральный стимул явно не срабатывал, да и морали-то никакой в победе на соревновании не было. Работа не футбол.
Единственное мероприятие, которое мне удалось, был техминимум, занятия по которому в коллекторной мастерской я сам проводил. Обдумывая программу, я пришёл к убеждению, что рабочих нельзя заинтересовать, давая только практические сведения из их профессии. Надо дать им основы теории, чтобы они знали, что надо делать так, а не иначе. Но как им это объяснить? Я долго трудился над популяризацией моего курса.
В конце концов мне удалось большинству вложить в голову и про перескакивающие электроны, и про электродвижущую силу, которая гонит ток по проводам, и про магнитное поле, которое поворачивает якорь, по очереди хватаясь за каждую секцию. Среди рабочих были и тупые и светлые головы. Я ориентировался на последних.
Завод работал на редкость неритмично. К 15-у числу поступало необходимое сырьё. До 20-го маховик раскручивался. С 25-го я бежал в завком, просил разрешить рабочим сверхурочные. Поломавшись, числу к 28-му завком разрешал, но только за отгул. С 28 по 31 вкалывали на всю железку; я не выходил из цеха и спал на столе часа по два в сутки. До 3-го выпускали продукцию за прошлый месяц, улещивая приёмщиков составлять акты старой датой. 3-го вечером выходила победная сводка, что план выполнен с превышением, на 100,1 %. Затем наступал мёртвый сезон до 10-го числа. Большинство рабочих отсутствовало — отсыпались. С 10-го по 15-е число работали с прохладцей, делая из старых материалов, что можно. Сбивали с толку постоянные эксперименты с календарём. Декретом объявлялось в неделе то 5, то 6, то 7 дней. Начиналась чехарда с выходными днями. Мы совсем запутались.
В конце месяца директор созывал заводоуправление, всегда от 1 до 3 ночи. Это было модным и свидетельствовало о неусыпном усердии, с которым он боролся за выполнение государственного задания. В 3 часа мог позвонить заместитель министра и спросить, как его дела.
Жуков, человек не злой, но морально и физически грузный, глядел мрачно, нападал то на того, то на другого завцехом, обзывал и говорил, что в случае чего заводоуправление должно будет сделать выводы. Он был членом МК (Московского комитета партии), бывшим рабочим и выдвиженцем.
Главный инженер Толчинский, высокий и худой, подсыпал, анализировал конкретные ошибки и указывал, какие меры нужно было принять. Завцехами оправдывались, валили на объективные причины, друг на друга, на снабженцев, на механика и на электрика. Те божились, что всё будет сделано. Бдение кончалось к шести утра. Директор и главный инженер ехали себе спать до полудня, а мы с головной болью и красными глазами отправлялись по цехам готовиться к утренней смене.
До самой зимы я приводил в порядок коллекторную мастерскую и добился того, что она стала выполнять план. Я столкнулся с проблемой, о которой раньше мало думал: с производственными травмами. Фрезеровщица вздумала на ходу смазать тончайший шлиц-фрез и отхватила себе два пальца. Пропиточник в сушилке полез в вакуумный котёл с бензолом, захватив с собой лампу-переноску. Изоляция была неисправна, дала искру, пары бензола вспыхнули. Рабочий так обгорел, что казался безнадёжным. Его всё же спасли, но он стал инвалидом: почти слепой, всё лицо стянуло шрамами. Ученик в гальванической мастерской травил детали без очков. Проволока оборвалась, деталь упала в ванну, брызгами серной кислоты ему выжгло один глаз. По каждому такому случаю инспекция охраны труда производила расследование, и если обнаруживалось, что виновата администрация, завцехом и мастер шли под суд. К счастью для меня все рабочие и мастера были мной предупреждены: нельзя было смазывать механизмы на ходу, нельзя было лезть в котёл с переноской, нельзя было травить без очков. Но независимо от ответственности я не мог не переживать каждый несчастный случай и не чувствовать моральной ответственности: значит, плохо объяснил опасность рабочему, недостаточно жёстко контролировал исполнение.
Со временем я стал больше внимания уделять охране труда: ограждениям, вывешиванию инструкций, вентиляции.
В конце года проводилась инвентаризация. Нужно было переписать не только все станки и инструменты, но также все детали, материалы и готовую продукцию. В каждом цеху его заведующий был председателем инвентаризационной комиссии. Предварительно надо было привести всё в порядок… Но порядка-то я и не мог добиться. У русских людей была органическая потребность созерцать своё рабочее место в состоянии хаоса. Выкатывали крупные муфты и шайбы коллекторов на самый проход под ноги. Я десять раз говорил об этом с рабочими, уговаривал, грозил. Они только добродушно посмеивались. А наказать их рублём у меня не было права. Мастера в этом вопросе молчаливо поддерживали рабочих. Я молча страдал и за полчаса между сменами сам укладывал тяжёлые отливки в штабеля. Это замечали, посмеивались надо мной, и я ещё больше терял авторитет. Я не мог себе представить Китаенко или любого другого из начальников, ворочающими отливки, а при них в цеху было больше порядка, чем при мне. Нет, определённо, я не был рождён администратором.
Так или иначе инвентаризация началась, к ней удалось мне самому с двумя рабочими привести цех в порядок. По бухгалтерским требованиям её надо было закончить в одни сутки. Это было очень трудно; мы работали до глубокой ночи. Самое хитрое было переписать якоря и катушки, которые в это время находились в сушильных шкафах. Процесс сушки нельзя было прерывать, а в печах температура поддерживалась от 95 до 110°. Застегнувшись на все пуговицы и надев перчатки, мы втроём вошли в сушилку. Раньше я читал, что турецкие пекари выдерживают такие температуры. Ну, думаю, значит, могу и я. И действительно выдержали. Мы провели в печи 10 минут, я записывал детали и каждую минуту думал, что это последняя, которую я смогу выдержать. Но дотерпел до конца. Только нельзя было ни к чему прикоснуться голыми руками. Даже карандаш и бумага оставляли на руках ожоги. А печей было три.
После инвентаризации, в конце декабря, я, наконец, получил отпуск. Галя за эти несколько месяцев поправилась совсем. Поэтому я эгоистически решил отдохнуть и куда-нибудь поехать. Я понимал, что Галке с маленьким будет трудно одной, но, с другой стороны, я вовсе валился с ног. Кроме того, я последнее время проводил на заводе так много времени, что для помощи дома вовсе не оставалось времени и сил. Я должен отдохнуть, чтобы им обоим, моим маленьким, было лучше. Глупс стал очень хорошо спать по ночам, и Гале стало с ним значительно легче.
А какой он стал забавный и весёлый! Такой толстенький, крепкий и всё пытается сам сесть и встать на ножки. Но Галя строго говорит мне:
— Нельзя, ещё рано!
И откуда эти мамы набираются женской мудрости?
Но куда же поехать? Под Москвой всё известно. На Кавказе, в Крыму — грязь, слякоть. А что, если поехать на север на лыжах? Чем больше я думал, тем больше мне нравилась эта мысль. Но где найти спутников? Я опросил всё техбюро. Одни уже отгуляли отпуск, другие спрашивали, не рехнулся ли я. Всё же одного конструктора — Бориса Суслова мне удалось соблазнить.
Мы разработали план. Поедем в Хибинские горы, перейдём через них на озеро Имандра, дойдём до Мурманска и постараемся попасть на берег океана. В Хибинах только три года назад Ферсман нашёл апатиты, и там началось строительство рудника, фабрики и города. А за освоенным пятачком весь край представлялся неисследованным, диким, пустынным. Путешествие обещало быть романтичным.
Горных лыж в продаже не было. К счастью, у Кирпичниковых на чердаке лежали спокон веку две пары лыж из канадского гикори. Они предложили мне выбрать любую пару и купить. Я сказал об этом Борису и мы пошли за лыжами вместе. К сожалению, одна пара оказалась короткой, женской и, кроме того, одна лыжина кривая. Борис взял себе хорошую пару, сказав мне, что я легко могу починить свою кривую:
— Распарить и выпрямить, вот и всё! — весело сказал он. Однако три дня, потраченные на это, ни к чему не привели. Так я и поехал на коротких и кривых лыжах. Ну и намучился я!
Я выехал на три дня раньше Бориса — 30 декабря. День повёл в Ленинграде, день — на Волховстрое и ещё день — в Петрозаводске.
Новый, 1932-й, год я провёл на переполненном вокзале в Званке, в большой, шумной компании, которая хрипела, сквернословила, курила махру и непрерывно плевалась. Наутро, пользуясь всё тем же испытанным приёмом («Динамо» должно поставлять моторы, необходимо изучить условия их работы), я получил пропуск на электростанцию, которая по старой памяти называлась Волховстроем, а официально 6-ой ГЭС. Не обошлось и без помощи работавших там шабшаевцев, которые проникали во все щели и, как члены масонской ложи, помогали друг другу.
Начальство на Волховстрое отнеслось к моему «заданию» со всей серьёзностью, так что по разным отделам электростанции меня сопровождали и давали объяснения четыре инженера.
Если на Днепрострое меня привел в восторг пафос стройки, то здесь я был захвачен отлаженной работой гигантского механизма. Первая советская гидростанция, творение инженера Винтера, определённо удалась. Больничная чистота машинного зала, мерное гудение громадных по тем временам турбин, полумрак бесконечных коридоров, проложенных в теле плотины, таинственная работа заделанных в бетон датчиков наполняли меня гордостью, как будто и я был сопричастен к этим замечательным делам. Ведь как-никак и я электрик, а значит и «мы пахали»!
Петрозаводск произвёл впечатление выдержанностью стиля. Город из аккуратных деревянных домов, словно большие избы. Очень чистые улицы. Красивый собор — модель московского храма Христа Спасителя. Громадный длинный завод под горой, а на горе торжественный полукруглый дворец генерал-губернатора. От него так и веет екатерининскими временами. Нехорошо только, что генерал-губернаторская резиденция называлась теперь Карцик, нечто среднее между цирком и карцером.
Турбазы не было. Обедал я в столовой дома крестьянина — нового деревянного здания, построенного с великим вкусом и благородством. Свежеструганные бревенчатые стены, переводы и стропила крыши без потолка сочились свежей смолой. А вежливость молодых подавальщиц была такова, словно я попал, по крайней мере, в Норвегию. Так и хотелось назвать их «фрёкен».
Вечером я пошёл смотреть на величавое замёрзшее Онего. Было 25° мороза, и крыши, деревья, фонари искрились серебряным инеем. Карелы носились по улицам верхом на дровнях, запряжённых мохнатыми лошадками. Видно, русские дровни-розвальни не соответствуют характеру народа.
Взгромоздившись среди ночи на верхнюю полку вагона, я обнаружил под собой Бориса, ехавшего прямо из Москвы.
Чем дальше на север, тем беднее, тем суровее становилась природа. Последняя ночь, как нависла, так, казалось, и не собиралась кончаться. Жутко ехать в населённое ведьмами Калевалы «Царство тёмное Похьолы».
Вылезали на станции Апатиты в 7 часов утра и решили не ждать поезда в Хибиногорск, который должен пойти через несколько часов. Не терпелось испытать наши лыжи. Кроме станционного домика начальника — никаких строений. Его огонёк померк сразу, как только мы отошли. Нас окружила невысокая тайбола: ёлки, берёзки, ивы и ненадёжные замёрзшие ручьи. Мы основательно заблудились, всё пытаясь разглядеть компас при свете спички, но это не очень-то удавалось. «Хибины страшны внезапно налетающими буранами». Оный буран налетел на нас в 9 часов утра, когда всё ещё было совершенно темно. Жизнь заметно похужела. Через час вышли на реку Энеманиок (Белую) и пошли вверх, параллельно её течению. В 11 часов начало светать. Солнце в Хибинах в это время не выходит, но стоит под горизонтом, и четыре часа в сутки бывает относительно светло.
Мы уже начали сомневаться: «Да существуют ли вообще Хибинские горы?» Как вдруг увидели над собой головокружительные белые вершины. Это придало нам силы, и мы бодрее потащили тяжёлые рюкзаки. У станции Титан наткнулись на большое кладбище. Это были похоронены заключённые, которые строили ветку Мурманской железной дороги Апатиты-Хибиногорск, прообраз будущих многомиллионных концлагерей, покрывавших весь север России.
От кладбища мы вышли на шоссе, которое поднималось в город. Хибиногорск был построен в котловине озера Большой Вудъявр и на седловине, прорытой в горах вытекающей из озера рекой Белой. Как потом выяснилось, место было выбрано исключительно неудачно. Городу некуда расти, улицы карабкаются на склоны Айкуайвенчорра. Солнца в городе почти не бывает. Утёсы и облака нависают над ним, и благодаря температурной инверсии он всю зиму погружён в море холода.
В городе уже было 35 тысяч жителей. Россыпь бревенчатых стандартных двухэтажных домов покрывала склоны. Внизу гремела обогатительная фабрика. Рудник находился на противоположном берегу озера в горе Кукисвумчорр.
Турбазы опять не было, но уполномоченный ОПТЭ (Отдел пролетарского туризма и экскурсий) — местный прокурор Захаров устроил нас в гостиницу. Усталые, пройдя за день 25 километров, мы крепко заснули, одни в большой комнате человек на 20. Конечно, мне снилось, что кто-то меня пихает и тащит. А наутро мы проснулись под кроватями. А на кровати расположились девицы, бесцеремонно стащившие нас ночью за ноги и за руки. Это была экспедиция Ленинградского педтехникума. На улице свирепствовала пурга, но когда девицы, проснувшись, взялись за гитару и дружно запели, мы решили, что лучше погибнуть на воле от непогоды, чем от кошачьего концерта. Надели лыжи и ушли.
Была темнота. На озере так мело, что едва можно было устоять на ногах. Всё же мы его перешли и попытались штурмовать Вудъяврчорр. Из-за темноты ничего не было видно, поэтому выбрать маршрут мы не могли. Подъём сразу пошёл очень крутой. Мы полезли сначала серпантином, потом перешли на ёлочку и, наконец, на лесенку. Лесенку то и дело сбивали камни и скалы. Мы потеряли друг друга и только перекликались под рёв бури. Под конец лезли способом скалолазания; лыжи были только помехой. Поднялись над озером метров на 300. Наконец убедились, что склон переходит в отвесную скалу и решили поворачивать. В таких случаях спускаться всегда труднее, чем подниматься. Наши следы замело, мы шли по неизвестной дороге, рискуя каждую минуту соскользнуть в пропасть. А лыжи, как лошади, возвращающиеся домой, изо всех сил ускоряли бег. Это был целый час падений, ударов о камни, выворачивание ног из-за не снимающихся креплений. Предельно избитые, мы, наконец, выкатились на ледяную поверхность озера. Прокурор не мог поверить, что в такую погоду мы поднялись почти на половину Вудъяврчорра.
На другой день погода была немного лучше. Мы поднялись по ручью Юкспориок, затем свернули в ущелье Гакмана и стали подниматься на Юкспор, траверсируя склон. Склон горы покрылся ветровым настом, обледенел и имел выпуклый профиль. Слететь с него — костей не соберёшь. Наши лыжи не были окантованы и мы постоянно попадали в такое положение, что, казалось, дальше нельзя шагу ступить, шевельнуться, чтобы не сорваться. В течение минуты кровь стыла в жилах. Каждый раз нас выручала взаимная помощь, то есть протянутая товарищу лыжная палка.
Совсем стемнело, когда мы поднялись на платообразную вершину. Здесь вьюга усилилась, стало очень холодно. Мы стучали зубами, уныло бродя по плато, не зная, где можно спуститься. Везде было слишком круто. Внезапно мы наткнулись на полностью занесённую снегом землянку. К ней вёл ходок, прорытый в глубоком снегу. Толкнули дверь и оказались в комнатке, жарко натопленной, освещённой фонарём «летучая мышь» и полной народа. Кто мог скрываться в этой снежной пустыне? — Только беглые уголовники, которыми нас пугал Захаров.
Однако дело оказалось проще. Геологическая партия бурила гору сверху вниз, надеясь найти ещё одну сокровищницу апатита (и впоследствии нашли-таки). Буровики работали по трое суток, потом сменялись. Влезали наверх по вырубленным ступеням вдоль натянутого каната. Скатывались вниз (500 метров высоты) на железных листах по кулуару. Нам этот путь не подходил, так как выводил к Лопарскому перевалу, очень далеко от города. Буровики показали нам направление к относительно пологому склону Юкспориока.
Мы убедились, что пологость его уж очень относительна. Я сорвался с него и пролетел кувырком метров 50, едва задержавшись на каком-то сугробе, и набрал полную пазуху снега.
— Данька, ты жив? — раздался сверху голос Бориса.
— Кажется, жив. Отпускай, катись ко мне!
В следующий момент мимо меня пронеслась какая-то лавина, в которой мне почудились все четыре конечности Бориса. Лавина застряла где-то много ниже. Настала моя очередь, и я, не пытаясь встать на ноги, покатился, сидя на пятой точке. Нам повезло: склон не был обледенелым, и камни из него не торчали. Спуск, если не назвать его падением, продолжался с полчаса, пока при очередном броске у меня сучком не вырвало клок одежды. Я этому несказанно обрадовался: значит, деревья, значит, земля близко! Действительно, скоро склон стал выполаживаться, и мы въехали в лес.
— Руки вверх! — раздался голос, и мы оказались окружёнными красноармейцами с предупредительно направленными на нас ружьями.
Мы охотно сдались. Патруль предложил нам следовать за ним. После долгого пути по лесу нас привели в караулку. Мы вошли в неё прямо на лыжах, расстёгивать обледенелые крепления было бы слишком долго.
— Кто разрешил вам вторгаться в зону аммоналовых складов? Кто вы такие? — начал допрос карнач.
— Мы туристы, инженеры завода «Динамо». Какие у вас тут склады, понятия не имеем. Если хотите, чтоб здесь не ходили, надо поставить предупредительные плакаты.
— Со всех сторон поставлены. Но чтоб люди на нас с неба валились, извините, не предусмотрели. С тех пор как склады стоят, такого случая не было.
Выяснение отношений и переговоры по телефону с прокурором (какое счастье, что он же уполномоченный ОПТЭ) продолжались часа два. Карнач сам виноват, что в караулке натекли две большие лужи. В конце концов он нас отпустил, посоветовав впредь не спросясь броду не лезть в воду. Он дал нам сопровождающего до выхода из зоны, так как его людям дан приказ стрелять нарушителей без предупреждения. Серьёзные порядочки!
Девицы нам осточертели, и мы ушли в Тиетту. Тиетта по-лопарски значит «Наука». Так Ферсман назвал основанную им научную станцию по изучению природы, главным образом геологии Хибин. Станция помещалась в самом центре массива гор, в котловине озера Малый Вудъявр. Оно соединялось с Большим Вудъявром речкой, вдоль которой была проложена санная дорога. На всём озере Тиетта была единственным зданием. Высокий бревенчатый дом, окружённый балконом, с высокой треугольной крышей, он напоминал русский терем и стильно выделялся на фоне соснового леса.
В Тиетте мы прожили сутки. Для нас была новой обстановка научного отшельничества, в которой обитали сотрудники. Разбирали коллекции, сидели за микроскопами, чертили карты. При станции имелся хороший минералогический музей, в котором мы с удовольствием провели часть дня. Жизнь среди природы, совмещающаяся с деятельностью исследователя, показалась мне почти такой же привлекательной, как работа гидрометриста на висячем мосту через реку Ардон.
Сотрудники рассказали нам про трагический случай, который произошёл в прошлом году. Два туриста пошли зимой в Хибины и попали в буран. Заспорили, куда идти, и разошлись в разные стороны. Один вышел через три дня, весь обмороженный, в лопарское поселение, второго нашли только весной, в полукилометре от рудничного посёлка. Это был скелет, начисто объеденный росомахами. Осталось неясным, загрызли ли они его ослабевшего, или объели уже замёрзшего.
Мы познакомились с лаборантом Володей, и он взялся нас проводить через Хибины. Пошли. Начали медленно подниматься по долине Поачвумйока. Глубокий снег и тяжёлые рюкзаки затрудняли движение. Володя взял револьвер, мотивируя это обилием в тайге росомах. Через три часа утомительного подъёма по долине Володя скомандовал:
— Стоп, ущелье Рамзая. Чуть не прошли.
Действительно, без него мы обязательно прошли бы мимо, так узок и незаметен был вход в ущелье. Сквозное ущелье Рамзая представляло самый удобный из трёх проходов в Хибинских горах, которым можно было выйти на запад к Мурманской железной дороге и к озеру Имандра. Два другие прохода — ущелье Географов и перевал Чоргорр — труднее и выше, гораздо выше.
Мы вошли в знаменитое ущелье с чувством должного благоговения. Оно представляло собой трещину — клямм, разделявшую массивы Тахтарвумчорра на юге и Часначорра на севере. Стены его угрожающе нависали и пестрели всевозможными пятнами. Когда мы задирали головы, нам мерещились зеленоватые, лиловатые и даже красные тона. Вверху белела узкая полоска неба. Всё смотрелось через густой фильтр крупного снегопада. Местами клямм достигал всего десятка метров ширины.
В середине ущелья мы тепло распрощались с Володей. Чтобы оправдать наличие револьвера, он решил дать прощальный салют. Едва раздался сухонький звук выстрела, повторенный многократным эхо, как высоко над нами, вспугнутый громким звуком, задымился снежок. Потом он заструился водопадиком на нижележащую ступень скалы, потом, вобрав в себя лежавший там снег, обрушился ещё на несколько метров ниже. Мы глазели на эту игру с бескорыстным интересом, как вдруг, сообразив, что это имеет к нам непосредственное отношение, пустились наутёк. Но не тут то было! Ноги увязали в глубоком снегу по колено, лыжи не показывались на поверхности, палки погружались наполовину и не помогали движению. А лавина росла и своим шумом вызывала себе подобных в других точках ущелья. Так бывает во сне: убегаешь от опасности, а ноги вязнут в какой-то патоке, и так ни с места. Сухая лавина сошла в нескольких десятках метров от нас и рассыпалась конусом, завалив нас только по пояс. Да, нам чертовски повезло! Если б с головой, то мы так бы и остались стоять до лета, будучи намертво привинчены к земле жёсткими креплениями и навалившимся на них снегом.
Выбарахтавшись кое-как из снежного капкана, мы вышли к противоположному концу ущелья. Перед нами открылась широкая долина Лутнермайока, покрытая лесом и полого спускающаяся к Имандре. Мы были вознаграждены почти непрерывным трёхчасовым скольжением — апофеозом лыжного туризма. Вечером мы со станции Хибины сели в поезд, шедший в Мурманск.
Мы слезли в Коле, решив пройти до Мурманска пешком, чтобы познакомиться с ландшафтом. Кола представляла собой деревушку с совершенно почерневшими избами. Главной достопримечательностью была крохотная церквушка времён Господина Великого Новгорода.
Действительно, ландшафт в корне изменился. От Колы на север тянулось почти горизонтальное плато, покрытое чахлой тундровой растительностью. То и дело выступал на поверхность рухляк — кора выветривания. Морской ветер сдувал снег, так что временами приходилось снимать лыжи.
В Мурманске, состоявшем из двух-трёх рядов двухэтажных, преимущественно деревянных, домов, мы первым делом направились в порт, чтобы узнать, как можно пробраться поближе к Баренцеву морю. Нам показали на тральщик, который должен был выйти к Терскому берегу и, так как для промысла был не сезон, он сможет забрать пассажиров. Но так как он только 5 дней как пришёл из аналогичного рейса, вся команда, не исключая капитана, гуляла, то есть была вдрызг пьяна.
— Когда проспятся, тогда и пойдут, — объявил начальник порта.
Этого счастливого момента мы ждали два дня. Когда матросы, наконец, пришли, они, успев сильно опохмелиться, едва держались на ногах. Капитан пропитым голосом матерился в трубу, но механик никак не мог запустить двигатель, и вообще бестолочь была удивительная.
Всё же отчалили и пошли. Полюбовались живописными берегами Кольской губы, которая представляет объединённый эстуарий Колы и Туломы. Когда стемнело, мы принялись искать своё место в жизни. Но мы упустили возможность занять стулья в крохотной кают-компании. К тому же набившиеся туда человек 20 пассажиров дружно закурили махру, так что валивший оттуда дым мог соперничать с дымом из печной трубы. Эврика! Мы положили палки на перила поперёк трапа, ведущего в каюты, с комфортом разлеглись на них и так переночевали, хотя выходящие пассажиры неизбежно стукались головой о наши самодельные полати.
Утром вошли в Екатерининскую гавань, расположенную близ выхода из губы. Здесь в посёлке помещался ГОИН — Государственный океанографический институт. Рассчитав оставшиеся до конца отпуска дни, мы сообразили, что дальше нам не уехать, и сошли.
В ГОИНе мы быстро сошлись с одним зоологом, который предоставил нам право ночевать в его комнате в обмен на обещание служить гребцами и крутить лебёдку на катере при драгировании. В комнате зоолога поддерживалась невероятная грязь и беспорядок. На столе в дружном сообществе лежали объедки колбасы и селёдки, сапоги, микроскоп, патроны, шкурки убитых уток, какие-то черви в формалине и без и т. д. Трупы животных тошнотворно воняли. Вот когда мы подумали, что спать под кроватями у девиц с гитарами не так уж плохо.
Зато драгирование было великолепным занятием. В четырёхвёсельной лодке мы выходили в море. Зоолог травил трос, и мы принимались грести, как на всемирной олимпиаде, выпахивая и соскребая ножом драги каменистое дно бухты. Мы скидывали по очереди ватники, свитера, рубахи и, наконец, майки, невзирая на десятиградусный мороз. Потом начинали с не меньшим напряжением крутить лебёдку, поднимая драгу. А когда копошащаяся масса морских ежей, голотурий, морских звёзд и актиний оказывалась на дне лодки, в наши обязанности входило изумляться, демонстрировать свою зоологическую неграмотность, задавая бесчисленные вопросы:
— А это что ещё за морское чудо?
Хозяин был очень доволен нашей работой.
Один раз мы совершили длинный поход в Сайда-губу, сливавшуюся с Кольской губой около её выхода в море. Вид напоминал мне известную картину Рылова «В голубом просторе».
Пора было возвращаться. Единственная возможность попасть в Мурманск заключалась в использовании почтового катера. Команда его состояла из двух человек: капитана и механика. Мы упросили взять нас с собой.
— Инженеры пригодятся, — наложил резолюцию капитан.
В каюте было места едва на двоих. Мы там расположились.
Немного спустя капитан нас позвал: «Лезьте в машинное отделение. Мотор заглох. Если не запустите, нас трахнет о скалистый остров. Тогда капут».
Вход в машинное отделение был из рубки и весьма оригинально помещался между ног капитана. Мы нырнули туда. На капитана не хочу грешить, но механик опять-таки был пьян, как стелька. Мы оттащили бездыханное тело в сторону, где оно храпело и пускало пузыри до самого Мурманска.
Положение действительно было серьёзным. Стемнело, сильнейший ветер-вест гнал судёнышко поперёк губы. Снегопад перешёл в метель, в которой тонул слабый свет фары и топового фонаря. Мы стали лихорадочно разбираться в двигателе, мобилизуя в памяти лекции Лобача-Жученки. Но двигатель не походил ни на одну знакомую схему. Вот деталь, очень похожая на карбюратор, но тут же шао накала, которого вовсе не должно быть. В отчаянии мы вертели маховички, открывали и закрывали краники.
Волна хлестнула через борт, обдав брызгами машинное отделение. В каюту она проникла через трубу от времянки, из которой с шипеньем полетели угли, наполнив помещение дымом.
— Один пассажир на помпу! — скомандовал капитан. Оставив Бориса с двигателем, я схватился за ручку помпы. И очень своевременно: волны одна за другой начали переливаться через борт. Отчаянно качало. Наши рюкзаки, привязанные к кабемтану, насквозь промокли и обледенели. Скалистый берег рокового острова уже показался в фаре. Как вдруг двигатель зачихал. Ещё минута, и чиханье перешло в ровное тарахтенье.
В последнюю минуту Борису повезло: он нажал на нужное место. Катер снова обрёл управляемость, капитан круто повернул румпель, и мы пошли на юг. Мы сменялись в машинном отделении. Через 10 часов после выхода из Полярного мы вошли в Мурманск.
— Молодцы инженеры, — похвалил капитан.
— Но скажите, ради бога, что у вас за машина? Мы такой не проходили.
— Норвежская «амфибия». Помесь дизеля с карбюраторным двигателем.
За время поездки мы приобрели вкус к Северу. А жутковатые моменты: восхождение на Юкспор, лавина в ущелье Рамзая, критические минуты на почтовом катере превратились в воспоминания как о весёлых приключениях.
Дома было всё в порядке. Галочка и Глупс здоровые и весёлые. Сын такой буян! Спасу нет. И уже говорит «папа» и «мама». Но, кажется, не относя это непосредственно к нам. А сильный, по-мужски. Уж если вцепится ручкой, не оторвёшь. И научился хитрить. Галя на руки его берёт редко, чтобы не приучать. А то ведь потом не справишься с ним и со всеми делами. А он что делает! Начинает попискивать, будто ему что-то нужно, а когда Галя подойдёт и наклонится к нему, он сильными лапками вцепляется в одежду и не отпускает. Ну, она и не выдерживает, возьмёт на руки, а он прыгает, радуется. Но Галя как-то умеет, взяв его, погладить, поговорить, и после этого он спокойно ложится в свою кроватку, и надолго.
Вот ведь не так много времени я его не видел, а как он изменился! Вырос, поумнел. А самое главное, он стал чемпионом района на конкурсе питомцев нашей консультации. по весу, хабитусу, экстерьеру, тургору и вообще здоровью. Вот это здорово. Мне захотелось вычертить кривую его показателей, собственно, веса, по месяцам: синим — контрольные цифры средних нормальных весов для ребёнка его возраста и красным — эмпирическую кривую его веса. Ну, куда там! Красная выскочила намного выше. Галя рассказала, что у него появилось красное пятнышко на щёчке — ангиома. И когда в консультации ему выжигали углекислотой, он не пикнул, только морщился.
Мы окончательно решили, что он вовсе не Глупс, а настоящий Умс.
На завод я пошёл с удовольствием. Правда, там сразу создались трудности с итальянским языком. Закупили чертежи и технические условия у итальянской фирмы Савильяно. А языка никто не знает. Ну, я опять взял их отцу для перевода. И снова оказалось, что он только что поступил на работу в ЦК МОПР (Международное общество помощи рабочим) и опять от перевода отказался. Снова-здоро́во. Толчинский заявил:
— Чтобы был перевод на русский. Делай как знаешь.
Пришлось засесть. Было очень трудно. Но под конец я так втянулся, что делал это с удовольствием.
Особые условия в цеху создались благодаря тому, что часть командиров производства прошла школу партизанского движения. Так, однажды, начальник механического цеха Цирлин перехватил и установил у себя в цеху предназначавшийся мне токарный станок. Жалобы в заводоуправление не дали результатов.
— Сумел захватить, ну и молодец! А ты не зевай! — наложил резолюцию директор Жуков.
Я обозлился и решил доказать, что я тоже молодец. В распоряжении замдиректора Боброва находилась «дикая дивизия», бригада татар-такелажников. Я выпросил их на одну ночь под предлогом передвижки станков. Я целил на размёточную плиту, которую давно и тщетно просил у Цирлина, а у него их было две. Я заранее обмерил её и приготовил фундамент. Механический цех работал только в две смены. Ночью я нагрянул с «дикой дивизией» туда, снял плиту. Перенёс краном через весь цех, поднял многотонную махину на второй этаж и установил в коллекторной. До утра для верности я успел залить плиту цементом. Стратегический план и проведённая подготовка обеспечили успех операции. Цирлин рвал и метал, но, предвидя ответ, не решился жаловаться. Забрать назад плиту он не мог, ведь мой цех работал в три смены.
Лихорадило не только мой цех. Весь завод переживал, когда предстоял первый выпуск моторов для метро. Пустить метрополитен в Москве, целиком построенный из советских материалов, на советском оборудовании — это был вопрос престижа советской техники. Как свирепствовал отдел контроля! Заведующий производством Генко, главный инженер Александров и сам директор ходили невыспанные, больные, злые в течение нескольких месяцев. Метро пошло, но настроение не разрядилось. В сборочном цеху сразу появились первые электровозы серии ВЛ изготовления Коломенского завода, которые мы должны были наполнить всякой электрической начинкой. Переход на электрическую тягу был поистине историческим моментом для индустриализации СССР, и мы понимали, что на нас, кто с надеждой, а кто с сарказмом, смотрела вся Европа: пойдут или не пойдут.
На завод приехал Орджоникидзе. К его приезду готовились: убрали все безобразия, повесили побольше лозунгов. Все начальники цехов стояли с утра на стрёме. Когда появилась торжественная процессия, я махнул рукой, и все рабочие засуетились, проявляя повышенную деятельность. Серго шёл туча тучей. Привыкши видеть его на портретах лихим чернобровым красавцем с острыми усами, я был удивлён, увидев старого, седого, очень толстого человека с мешками под глазами и усталым мрачным взглядом. Неизменной оставалась только генеральская папаха. Нарком, обводя взглядом мастерские и слушая объяснения директора Жукова, казалось, думал о чём-то своём, очень неприятном. Я пошёл в хвосте крестного хода через весь цех, готовый дать любую справку, но Орджоникидзе так и не задал ни одного вопроса.
Истинным наказанием были рационализаторы и изобретатели. Обычно это бывали ловкие бездельники, которые наловчились не работать, шастать по цеху и выискивать, что бы можно предложить. Они выспрашивали у рабочих их туманные идеи и тотчас оформляли их от своего имени как «рабочие предложения». Делали они это ради премий, которые получали регулярно, как вторую зарплату. Были и у меня в цеху таких типа 2–3, особенно некто Смирнов, нормировщик из соседнего цеха. Изобретатели всегда вносили предложения, не касавшиеся их профессии. Они, предложения, были технически невыполнимы, или экономически невыгодны, или губительны для качества продукции (так называемые «упрощенческие»). Тем не менее БРИЗ (Бюро по рационализации и изобретательству), от которого начальство требовало максимум внедрённых рабочих предложений, постоянно становился на их сторону. Постоянная борьба с изобретателями очень мешала работе и трепала нервы. Я не говорю, что все рабочие предложения были нелепы, но как раз наиболее дельные шли мимо БРИЗа. Всесоюзное электротехническое объединение — ВЭО — снесло яичко и, по примеру кукушек, подкинуло в моё гнездо. Это был немецкий специалист Гебгардт, нахал и пьяница, которого мне подсадили в качестве консультанта. Он не был знаком с нашими условиями, всё мерил на немецкий аршин и обычно попадал пальцем в небо. Для цеха он был обузой, а для меня вдвойне: разговаривать с ним приходилось по-немецки. Ругательных выражений, кроме Donnerwetter, я не знал, а он быстро овладел русской матерной лексикой, которую я не употреблял.
Гебгард понял механику БРИЗа и стал вносить не просто предложения, что было его обязанностью, а «рабочие» предложения. Чтобы лукавство его не так бросалось в глаза, он столковался со Смирновым и подавал заявки на усовершенствования за двумя подписями.
Я отбивался от него два года. И однажды, когда я отказался упростить операцию, что могло, по моему мнению, повести к пробою коллекторных пластин, Гебгард написал в заводскую многотиражку статью, где обвинял меня в расточительстве, зажиме критики, отрыве от рабочих масс и чуть ли не во вредительстве. Копию он послал в Объединение.
ВЭО, получив сигнал, тотчас назначил комиссию под председательством какого-то ответственного работника. Зная обычаи того времени, я уже готовился сесть в тюрьму, когда, будучи вызван на заседание комиссии, увидел, что «ответственный работник» — мой старый друг Юрка Зайченко. Строгим взглядом он предупредил всякие проявления фамильярности с моей стороны, называя меня не иначе как «товарищ Арманд», и повёл дело к спуску на тормозах, проявляя в то же время чрезвычайное почтение к «иностранному специалисту».
— А чего ты, собственно, хочешь? — спросил он меня в перерыве, когда мы остались вдвоём.
— Чтобы ты убрал куда-нибудь этого черта. Он мне не даёт работать.
Заключение комиссии гласило, что Гебгард на заводе Динамо не находит достаточного применения для своих знаний и что комиссия рекомендует перевести его на другое предприятие, более близкое к его специальности.
Вот когда я оценил фильтрующуюся способность шабшаевцев.
В коллекторной подобрался крепкий костяк рабочих. Особенно меня радовал вдумчивый, хозяйственный подход к делу токаря Перпилова. Я выдвинул его и ещё двоих, в том числе одного комсомольца, сменными мастерами. Теперь можно было обратить внимание на другие мастерские цеха.
Самым слабым местом была гальваническая. Я написал в заводоуправление докладную записку, где доказывал полную бесперспективность замены или ремонта оборудования, пока она находится в разрушенной церкви. Необходимо выделить хорошее помещение и всё построить заново. Заводоуправление сказало «добро» и отвело в торце нового корпуса площадь раз в шесть большую прежней.
Я засел за электрохимию, с которой был совершенно не знаком, зачитал до дыр учебник гальванотехники Изгарышева, съездил ещё раз в Харьков на ХЭМЗ ХТЗ, где изучил все антикоррозийные покрытия, обошёл с полдюжины московских заводов. Когда мне стало ясно, «что такое хорошо и что такое плохо». Я стал выяснять, где можно купить оборудование. Оказалось, что кроме умформера (гальванические ванны требуют мощного постоянного тока), а также вентиляторов, ничего купить нельзя. Ванны, барабаны, колокола, пескоструйные аппараты в СССР не производились, а валюты на покупку за границей не давали. Я только облизывался на прейскуранты AEG и GEC. Десятки заводов, имевших гальванические цеха, строили всё оборудование своими силами, кто во что горазд.
Задача осложнилась, хотя и становилась несравненно интересней. Всё надо было спроектировать и сделать самому. Я роздал заказы в отдел механика завода. Но так как никто ничего в этом деле не понимал, то я сам засел за конструкторскую доску. Особенно интересно было конструировать барабаны для массовой оцинковки крепёжных деталей. Представляете: вместо того, чтобы каждый болтик подвешивать на проволочке к катоду, можно было заложить сразу несколько сотен болтов в барабан. Покрутить их мотором с часок и готово, всё оцинковано. Такое повышение производительности очень меня увлекало. Пришлось взяться за роль снабженца. Ездил в Гжель за кислотоупорными сосудами и метлахской плиткой, в Ленинград — за базальтовыми кирпичами, в Перерву за кремнефтористым натрием. Последний пришлось просто украсть, вынести через дыру в заборе. Уж очень сложной и канительной была процедура выписки и отпуска его. А он валялся кучами во дворе под открытым небом и у самой дыры.
В это время общая обстановка всё усложнялась. У меня в каждой мастерской было по цеховому инженеру. В первой катушечной был Липшиц — молодой парень, инженер не ахти, но неплохой мужик, только трусоват. Мы иногда с Китаенко и с ним по воскресеньям ходили на лыжах на большую гору в селе Коломенском. Однажды Липшиц исчез. Искали его два месяца, а потом вдруг прочли в газетах, что он арестован по делу об организации покушения на Сталина и Ворошилова. Он якобы должен был стоять на улице Моховой и махнуть рукой бомбометателям, когда машина Сталина выедет из Кремля.
Зная полнейшую аполитичность и робость Липшица, я ни минуты не сомневался в фантастичности этого обвинения. Но… Липшиц был расстрелян с другими «террористами».
Разгромили Институт Каган-Шабшая. Он был передан Наркомпросу и, по иронии судьбы, преобразован в Институт слабых токов, от которых постоянно нас предостерегал Яков Фабианович.
Сам он устроился работать в какой-то металлургический институт. Вся партийная и профсоюзная верхушка Электротехнического института: оба Бирбайера, Рубинштейн, Грант и многие другие евреи были арестованы якобы как участники оппозиции, вместе с группой студентов во главе со Шполянским. Они, будто бы, были связаны с меньшевиками. Это просто били по евреям.
Безотрадно складывалась судьба моих родных.
Лена и Саша, отбыв три года ссылки в Коканде, получили три новых в Сыктывкаре. Утешало разве то, что они поселились в пригороде Сыктывкара, называемом «Пиренеи». Когда же кончился и этот срок, им назначили новый — в Вологду на пять лет. В прежних местах Саша работал по специальности — экономистом в Облплане. Благодаря высокой образованности и горячему отношению к делу, он приносил там немалую пользу. В Вологде это было запрещено. Жить им было нечем. Мы им посылали каждый месяц небольшую сумму, чего, конечно, не хватало на семью из четырёх человек. Для развлечения они организовали в местном клубе детский кукольный театрик. Саша писал пьесы. Лена с Наташей делали кукол и сами же были кукловодами. Получалось хорошо, но заработок был минимальный.
В это время в райвоенкомате проверяли картотеку. Нашли: Арманд Д. Л., рядовой, необученный. Почему необученный? Надо обучить! И призвали меня на всевобуч или на допризывную подготовку, не помню, как это тогда называлось.
Я пошёл в военкомат объясняться. Доказывал, что освобождён от военной службы, хоть и было совестно размахивать незаконно полученным белым билетом.
— Освобождён? С чем вас и поздравляем. А мы вас призывать и не собираемся. Только обучим на всякий случай, а там отказывайтесь себе на здоровье. Но уж если обучаться откажетесь, тогда не взыщите.
Что же делать? Опять садиться в тюрьму, сейчас, когда жизнь наладилась, когда на заводе интересная, творческая работа? Ну, скажем, этим можно пожертвовать, но что будет с Галей, как она прокормит, вырастит малыша? Кто будет помогать Лене и Саше с дочкой двенадцати лет? Как-то оказалось, что от меня зависит благополучие целых шести человек. Не эгоизм ли подвергать их всех, особенно маленького, страданиям ради чистоты своей совести? Ох, как правы были народовольцы, что отрекались от родных и не заводили семьи, посвящая себя революционной работе.
С другой стороны, если сейчас пойду во всевобуч, то как я буду выглядеть в случае войны? Помимо того, что спрос с обученного будет строже, чем с необученного, что я скажу, когда меня спросят: «Для чего же ты обучался в мирное время? А теперь, когда есть опасность для жизни, так ты и в кусты?»
В конце концов я всё же решил идти на всевобуч. Ох, как не хочется писать про эту историю, тем более, что всё вышло гораздо гаже, чем я предполагал! Да уж, видно, из песни слова не выкинешь. В моей памяти это запечатлелось как самый беспринципный мой поступок. Но, что сделано, то сделано.
Районный штаб всевобуча помещался близ Таганки на тихой Воронцовской улице. Нас набралась рота молокососов, причём я не запомню ни одного человека не то что с высшим, но даже со средним образованием.
Учились повзводно. Взводный командир читал политграмоту. Это было не только для меня, но и для всех бойцов чистым наказанием. Настолько примитивными, шаблонными, газетными были все аргументы, лозунги, выводы, что не заснуть не было возможности. И засыпали, и получали наряды. Немногим лучше были занятия по строевому уставу. Всё ж-таки там надо было что-то учить, запоминать. Но это было нетрудно. Когда шла проверка, меня всегда подмывало поднять руку, но я сдерживался, так как взводный предупредил, что будет лучших бойцов выделять в отделённые. Этого мне только недоставало!
Ротный фельдшер читал курс «гигиены и санитарии». Это был единственный предмет, против которого я ничего не мог возразить, но, увы, он не шёл дальше того, что от сырой воды болит живот, а от развратной жизни делается сифилис.
Все оживлялись, когда начинались практические занятия. Строй я прекрасно знал со скаутских времён и, даже испытывал некоторое удовольствие, когда взвод чётко проделывал артикулы. Это как коллективная гимнастика. Командовал взводный лихо, но нельзя было сдержаться от смехе, когда он орал на замешкавшегося парня (он был еврей):
— Какие могут быть пегчатки после команды говняться?
Не плохо было маршировать по улицам, хотя пробежка от Таганской площади до Спасской (ныне Крестьянской) заставы давалась с трудом. Зато с души воротило, когда отдавался приказ: «Запевай!». На беду я попал в роту «химиков».
Роты, роты, роты Даёшь газомёты, Баллоны поскорее, Чтоб было веселее!«Ничего себе, веселее. Какой цинизм!» — думал я.
Остальные песни поражали своей глупостью:
Хорошо на вольной волюшке С книжкой в поле работать, Чем поповски сказки глупые С дымом-ладаном глотать.Или:
Через речку перешли, у канавы встали, Мы не долго, с полчаса командиров ждали. Едет, едет командир с красными войсками, У них ружья за плечами с красными штыками.Сколько я ни спорил, что надо петь «с острыми штыками», сколько ни доказывал, что штыки никогда не красят, ребята продолжали долдонить своё. Очевидно, они считали, что чем больше красного, тем больше будет довольно начальство.
В одной из песен пели такое:
Товарищ Ворошилов На белом коне, На коне вороном…— А вы почему не поёте? — несколько раз придирался взводный. — Слуха нет. — Как такое нет, когда был пгиказ!
Интересный предмет был конструкция оружия. Она была несомненно остроумна. Миномёт, винтовка ловко разбирались и собирались, мне это напоминало завод. Отсечка-отражатель одна чего стоит! Эх, кабы изобретательность военных конструкторов направить на невоенное дело! Гадливость только вызывали газомёты и газовые баллоны, изучение свойств удушливых газов. В мировую войну я видел в госпитале солдат, поражённых газами, и имел некоторое представление о том, как выглядит это средство истребления людей. Между прочим, я заметил, что военные никогда не произносили слов «убить людей», но всегда «поразить цель». Какая деликатность!
Поражать цель — пожалуйста! Я и сам любил это занятие, когда цель была деревянная. Вероятно, благодаря многочисленным упражнениям в стрельбе из лука я оказался в числе лучших стрелков во взводе. Нам мало давали боевых винтовок, и потому стрельба в цель рассматривалась нами как праздник.
За два дня до конца занятий нам объявили, что они кончатся принесением воинской присяги. Это для меня было полной неожиданностью и повергло в состояние растерянности. Принести присягу, чтобы потом её нарушить? Это совершенно исключалось. Чтобы потом её исполнить? Это значило отречься от главного принципа своей жизни. Продать то, за что я пять раз был судим, сидел в тюрьме. Считать, что присяга чистая формальность, спрятаться за reservatio mentalis[41] — ведь я не иезуит, это абсурд. Значит, нужно было её избежать. Но как это сделать? У меня не было знакомых врачей, имеющих право выдать мне бюллетень. Да я и не хотел бы впутывать в это дело кого бы то ни было. Уж если идти на обман, то одному. Я даже дома Галке ничего не сказал о присяге и пошёл в последний день на всевобуч, как на казнь.
С утра ещё были занятия. Присяга предполагалась после обеда. Я сел в первом ряду, чтобы взводный меня видел, и принялся изображать больного: держался за голову, стискивал виски, вставал в перерыве с лёгким стоном и держась за спинку стула. Три часа валял дурака и безрезультатно. Только на последнем часе взводный, наконец, заметил:
— Что с вами, Агманд?
— Голова разваливается, товарищ ротный командир. И спину ломит, в ноги отдаёт. Стоять не могу. Вероятно, простыл вчера после бани.
Я хотел добавить, что температура повышенная, но воздержался: может послать к фельдшеру проверить. Хотя я и в самом деле чувствовал себя прескверно. Ведь я две ночи не спал, всё решал своё «быть или не быть!»
— Ну, так можете идти домой. Потом пгидете в военкомат, Вам поставят штамп о пгохождении военной подготовки.
Так просто!? Очевидно, сам взводный смотрел на присягу как на простую формальность. И тут я чуть не загубил всё дело: от радости слишком резво вскочил со стула.
Итак, на этот раз проехало. Но, боже мой, как мне стыдно!! Я шёл, кусая себе губы, и ворчал: «До чего докатился!» Потом мне пришло в голову, что вопрос вовсе не решён. От меня могут потребовать принесение присяги, когда я приду за штампом. А если не приду, я останусь рядовым необученным и при любой следующей проверке всё начнётся сначала. Один еврей сказал: «Обмануть советскую власть иногда удаётся, перехитрить — никогда».
Я не пошёл в военкомат. Я так устал от этих переживаний, что предпочёл повторение в неопределённом будущем, только не сейчас. Как потом выяснилось, до самой войны никто меня не беспокоил, никому я не был нужен.
Напротив нашего дома построили плавательный бассейн ЗИСа. Это был второй бассейн в Москве, если не считать старый, крохотный в Сандуновских банях, ещё дореволюционный.
Из нашего окна с пятого этажа было видно, как там парни и девушки плавали и, поднимаясь на 8-метровую вышку разбегались и… исчезали под водой. В моей душе вовсе не угас спортивный пыл, и я не мог равнодушно глядеть на это зрелище. Так и подмывало пойти туда. Но я считал, что моё время уже прошло, что в 27 лет бородатому инженеру стыдно прыгать или плавать с мальчишками. Но главное — некогда. Ведь редко когда я приходил домой с завода раньше девяти часов вечера и весьма нередко, во время авралов, не выходил с завода по трое суток. Притом уставал дико. Куда уж мне!
Однако, Галя взяла меня в оборот:
— Тебе необходима разрядка. Можешь ты, наконец, два раза в неделю приходить с завода вовремя?
Она уговаривала меня до тех пор, пока я не записался. А несколько позже записалась и сама. Я очень скоро почувствовал, как она была права. Бассейн делал чудо: давал заряд сил, ни с чем не сравнимый.
Я попал в группу инструктора Сливиной, совершенной девчонки, однако мастера спорта и какой-то чемпионки.
— Вы умеете плавать?
— По-собачьи, лягушачьи и сажёнками.
— Отлично. Чем скорее вы забудете всё это, тем лучше. Отправляйтесь на мелкий конец бассейна и будем учиться заново.
Я узнал, что уважающие себя люди плавают кролем, брассом, оверармом, баттерфляем и ещё прочими премудрыми стилями. И начал терпеливо ими овладевать.
Через год я уже недурно овладел брассом и оверармом и просто влюбился в кроль. Особенно мне нравилось ходить на дальние дистанции. Я всегда начинал урок с 1000-метровки. Мерное движение, подобное качанию маятника (бассейн был в длину 25 метров) приводило меня в какое-то сомнамбулическое состояние и удивительно успокаивало нервы. Я пробовал прыгать с вышки и с трамплина. С вышки я с трепетом прыгал с 8 метров только солдатиком. С трёхметрового трамплина пробовал простые фигурные прыжки.
Однажды, когда в бассейне было устроено публичное соревнование, я подумал, что занимаюсь уже несколько лет и пора бы мне выступить. Но с чем? Плавал я хорошо, но скоростью не обладал, какая требуется на соревнованиях, да и тужиться не любил. Ватерполистов у нас было две команды, причём по иронии судьбы капитанами в них были Неживой и Бессмертный. Первый всегда побеждал второго. Но я был плохой ватерполист и выступать не решился. Не попробовать ли мне счастья в прыжках? Чем черт не шутит?
Настал праздник, и трибуны были полны народом. Прошли заплывы, начались прыжки. Я заявил три простеньких прыжка с трамплина. Мне приходилось потом выступать с лекциями перед двумя тысячами слушателей, говорить по-французски перед учёными всего мира, но, ей-богу, я наполовину так не волновался, как стоя на трамплине. Особенно меня смущала борода, единственная среди участников соревнования. Мне казалось, что она обязывает показать экстра-класс.
«Солдатиком» я прыгнул сносно, «козла под себя» не докрутил и вошёл в воду на троечку. Поэтому, делая последний прыжок «ласточкой», я так оттолкнулся от трамплина, что перевернулся на спину и лёг на воду точнёхонько плашмя, причём здорово расшибся. Мне не хотелось выныривать на поверхность. Но всё-таки пришлось вылезать. Публика ревела, хохотала, свистела. Первые ряды, в том конце, где я шлёпнулся, были покрыты водой, как после дождя. Женщины вытирали платками платья. Сливина сказала:
— Осрамил мою седую голову!
Кроме бассейна, я по воскресеньям подвизался на лыжах при ОПТЭ (Общество пролетарского туризма и экскурсий), московское отделение которого тогда возглавлял Бархаш — самый ярый альпинист и лыжник. Школа горнолыжного спорта там же возглавлялась мастером спорта Ерковым. Я записался к нему. По воскресеньям мы ходили на Воробьёвку или ездили на Сходню — на Бархашину горку, где изучали все премудрости: «армбергскую стоечку», торможение «плугом», поворот «христиания», «телемарк» и другие. Лыжи были у кого какие, большей частью неподходящие, с креплениями полужёсткими, военными, ерковскими. У начальства были «кандахара», «ротофеллы», которые только начинали входить в моду.
Верхом моих достижений были три прыжка с малого трамплина, с непременным приземлением на «пятую точку». Никогда я не замечал, что она меня перетягивает. На Сходне я часто встречал своего старого друга Колю Эльбе, патрульного. Он тогда уже был географом. Я его спрашивал:
— Ну как, Коля, женился?
— Я принципиальный холостяк, никогда.
Я очень гордился, что моим учителем был сам Ерков, душевный парень и изобретатель популярного тогда крепления.
Алёнька так нас радовал своим характером — весёлым, покладистым. Кажется, он никогда не плакал, а своё недовольство выражал какими-то тоненькими звуками, вроде ворчания.
Галочка его хорошо понимала и при «ворчании» разговаривала с ним, почти как со взрослым. Удивительнее всего то, что он как будто понимал её увещевания и очень скоро становился снова сияющим и живым.
Сколько радости он вносил в нашу жизнь, невозможно описать. С мыслью о нём и работалось легко и всякие неприятности (а их — внешних — было достаточно) переживались легче и скорее.
Но вдруг, ни с чего, казалось бы, он заболел, да так здорово! Так грустно было смотреть на маленького страдальца. Врачи не понимали, с чего бы ему болеть. А через два дня выяснилось, что он съел шишечку от своей новой коляски. Вот это номер!! Я и то не сумел бы проглотить такую штуку!
Через недельку-полторы поправился наш малыш. Да с такой мамой, как моя Галочка, я был уверен, что он скоро поправится.
После болезни Алёнька быстро стал набираться сил и с каждым днём всё больше веселился. Стал снова вставать на ножки и целыми днями болтать по-своему.
Как и прежде, он больше всего любил купаться. Когда он видел, что в тазик наливают воду, он от нетерпения перегибался через перильца в кроватке и как-то попискивал, топоча ножками.
К сожалению, тазик, в котором его купали, был для него очень мал. Правда, его это нисколько не смущало. Он, буйно радуясь, так бил ручками и ножками по воде, что большая часть её оказывалась на полу и на нашем платье. Зато, когда нам подарили наташонкину (дочки Лены и Саши) ванночку длиной более метра и 60 сантиметров шириной с соответственной высотой, да когда Галя соорудила в ней гамачок из марли, вот тут Алёнька показал все свои богатырские способности. Отталкиваясь ножками от торца ванночки и подпрыгивая в гамачке на волнах, он громко хохотал, махая ручками и ножками, а мы с Галочкой вместе с ним. Конечно, при этом он напивался воды из ванночки, но, по-видимому, ему это не вредило. На его весёлое купанье собирались соседи, приходили наши знакомые специально полюбоваться на это зрелище. А имеющие младенцев стали тоже сооружать гамачки. Никого не смущало, что после такого аттракциона все оказывались в мокрых платьях, а нам целое дело — вытирать с пола обильные лужи.
К этому времени — около полугода — Алёша проявил способность, возможно, как и все маленькие дети, распознавать окружающих людей. По своему характеру и жизнерадостности он был доверчив со всеми и с радостью шёл на руки ко всем знакомым и незнакомым. И так как Галя не часто брала его на руки, он с хитрой улыбкой протягивал свои ручки приходящему: «Возьми меня на руки».
Мы были очень удивлены, когда первая жена Игоря Лена попыталась взять его на руки, он горько заревел и отчаянно сопротивлялся до тех пор, пока она не посадила его назад в кроватку. Значительно позже мы выяснили, что эта женщина оказалась дурным человеком. А мы-то этого и не подозревали. По её доносу Игоря арестовали, но уже через месяц он был уже полностью оправдан. Сама Лена призналась, что сделала это, чтобы распродать имущество мужа. А продавать было что: Игорь, как художник, собирал коллекции картин и мебели в комиссионных магазинах, и его квартира была настоящим музеем мецената. Но Лена промахнулась: всё имущество было вывезено теми, кто делал обыск при аресте Игоря. Сама Лена вместе с братом и матерью куда-то сгинула.
Игорь, потрясённый такими событиями, переехал на жительство в Москву, чему Галя была чрезвычайно рада. Она очень любила брата.
Нам постоянно не хватало денег. Среди знакомых и особенно родных был целый ряд людей, которым надо было помогать. Поэтому мы всегда были в долгах. В получку отдавали долги и тут же принимались занимать снова. А тут ещё появилась совершенно для меня неожиданная проблема: Галя сказала, что ребёнку нужна дача. Надо было думать о приработке. Я написал техническую статью в ведомственный журнал «Электрическая тяга», писал туристические статьи в «Вокруг света», делал рефераты в какое-то научное обозрение, но всё это были крохи по сравнению со стоимостью дачи. Галя решила искать работу, но, когда мы прикинули конкретно её возможный заработок, то увидели, что необходимая при этом домработница съела бы весь Галин заработок плюс к тому торчала бы у нас как бельмо на глазу в нашей небольшой комнате. Нет, нет, это не выход.
Галя нашла работу, которую она могла выполнять на дому. Это была артель «Всекохудожник», где уже работала сестра Нина. Они обе проявили способности в росписи узоров на ткани, блузках, платках и т. п. Галочкин заработок дал нам возможность нанять дачу. Но после этого она оставила работу и занялась полностью сыном.
Откровенно говоря, я весьма кисло смотрел на дачное предприятие. Мне казалось, что мы «обрастаем» и этим включаемся в ряды буржуазиата.
Снова решили жить на даче вместе со Стефановичами. Мы очень были дружны, дети одного возраста. Почему бы и не вместе?
Сняли половину деревенского дома на берегу прекрасного озера, на противоположной стороне которого располагалось роскошное бывшее имение-дворец среди прекрасного парка. Это было в Расторгуеве по Павелецкой железной дороге. Хорошая была рекомендация Игоря — он знал эти места.
Переезд был тяжёлый, измотавший нас обоих. А Алёше дача была по душе. Ему исполнилось уже десять месяцев. Он уже говорил ряд настоящих слов, нас называл «пап-Дань» и «мам-Галь». Носился на чевереньках так, что трудно было его догнать, но как-то смешно — несколько боком. Он мне напоминал при этом какого-то краба. Он чувствовал себя на свободе «в своей тарелке» и целыми днями колесил, быстро передвигая ручкам и ножками, по нашей комнате, террасе, увитой виноградом и палисаднику. Почему-то ему не нравилось пробовать ходить по-человечески на ножках, вероятно, из-за неуверенности и медлительности этого способа. При ползании он всегда выражал своё удовольствие мурлыканьем себе под нос чего-то непонятного.
Галя постоянно его учила ходить как все. По существу он уже мог. Но не хотел или боялся, он был очень осторожен. Галя давала ему кончик носового платка в ручку, другой конец брала сама, и так они шествовали на порядочном расстоянии. Алёнька думал, что мама его ведёт, и спокойно шагал вперёд. Но когда он замечал, что мама бросила свой кончик, он сразу терялся и переходил на четвереньки.
Любовь к воде чуть не сгубила его. Кода Галя, ещё в мае, пошла с ним впервые на озеро, села на бережку и увлеклась чтением, пока он ковырялся в песочке. Она не заметила, что скоро Алёша с довольной улыбкой быстро направился к воде, вероятно вообразив, что это большой таз с водой, вошёл в воду и сразу погрузился на дно. Погода ещё стояла холодная, и он был солидно одет. Ясно, что намокшая одёжка потянула его вниз. Хорошо, что Галя быстро заметила, что сына нигде нет, а из воды поднимаются пузыри. Она быстро вбежала в воду и выхватила его со дна. К счастью, он ещё не успел захлебнуться. Конечно, простудился, но быстро оправился.
Вообще-то Алёнька в это лето многократно «развлекал» нас, особенно Галю.
Галя в жаркие дни ставила большой таз с водой на солнышко и сажала в него сыночка. Он это очень любил. Вылезти из таза самостоятельно он ещё не мог и, когда ему надоедало сидеть, звал маму на помощь.
Однажды Галя его так посадила и ушла в дом. Выйдя через несколько минут на террасу, она окаменела: Алёша, каким-то образом выкарабкавшись из таза, шагал по направлению к лошади с плугом, которую привёл хозяин. Жара стояла невыносимая, слепни и другие кровососы буквально облепили лошадь, и она непрерывно лягалась, страдая от укусов этих гадов. Алёша был уже в двух шагах от брюха лошади. Что Галя пережила! Когда же она подлетела к Алёше, он уже был там и топтался под самым брюхом животного. Она зажмурилась в ужасе. Но тут случилось чудо! Умная лошадь, по-видимому, увидев ребёнка, совершенно перестала лягаться, только двигала участками кожи, стараясь согнать своих мучителей. Галочка зарыдала от потрясения и, схватив сынишку, убежала в комнату. Но, посадив Алёшу, побежала к лошади с горбушкой хлеба и кусками сахара, в благодарность умному животному.
В другой раз в воскресенье, когда мы все сидели на террасе, Алёше куда-то исчез. Всего несколько минут назад все видели его у калитки, наблюдающего за курами у дороги. И вот исчез! Стали все искать. Нет! Побежали по деревне, спрашивали всех. Никто его не видел. Сосед наш взял драгу со словами: «Не иначе у пруд мырнул». Он долго и безрезультатно шарил драгой по дну грязного прудишки посереди деревни. Мы пришли в полное отчаяние. Я бросился к озеру: «Неужели Алёнька мог добежать до него? Расстояние порядочное, а он едва научился передвигаться!» Тут я услышал, что меня зовут. У Галочки на руках был спящий сынок, весь в пыли и песке. Оказывается он, наглядевшись на кур, купающихся в пыли у стенок колодца возле самой нашей калитки, решил и сам лечь в такую ямку, как-раз на противоположной стороне колодца от калитки, да там и сладко заснул. А мы-то бегали мимо него много раз и не заметили его.
Изредка к нам на дачу приезжал мой папа. Он как-то неумело пробовал играть с Алёшей. Это было очень трогательно. А гуляя с Галей, рассказывал о своей невесёлой жизни. Там он был просто несчастен. Тамара пилила его за всё на свете непрерывно, вплоть до того, что он виноват, что у нас советская власть, отнявшая у них богатство дедов, и так далее. Это не имело конца, во всём он был виноват. Как же я его жалел, но что я мог сделать, чтобы ему помочь? Мы с Галей всячески проявляли к нему внимание и ласку, чтобы хоть этим, как говорится, скрасить его грустную жизнь. В ней ему не уделялось ни капли теплоты. Он любил приезжать к нам и проводить время с внучком. Как это хорошо — три поколения вместе! Но, увы, Тамара не часто отпускала его к нам, разве только за деньгами. Но он очень стеснялся просить, зная, что у нас их также не хватает. У меня сердце разрывалось, глядя на него, и я старался давать денег сколько мог, не ожидая просьб с его стороны.
В сентябре 1932 года мы решили, что заслужили отдохнуть. Галя долго сомневалась, как оставить сынка. Но я её уговорил, что и ему надо от нас когда-нибудь отдохнуть. К нашему удивлению сестра Нина согласилась остаться с Алёнькой: он уже к тому времени перешёл на коровье молоко и манную кашку, а Нина, тоже неожиданно, стала питать к нему очень нежные чувства.
Маршрут мы разработали великолепный: по Волге до Каспия, далее до Баку, оттуда в Армению на Севан, а обратно — через Военно-грузинскую дорогу.
Рассуждая: я заведующий цехом или нет? — решили в первый раз в жизни разориться на отдельную каюту до Астрахани. Канала Москва-Волга тогда ещё не было, и путь наш лежал по Москве-реке через шесть стареньких шлюзов. Нам же проходить через них было страшно интересно. От этих шлюзов веяло деревянной культурой прошлого века. Они ведь были построены 60 лет назад!
Я вникал в детали механизмов на шлюзах и дивился разуму предков. Ведь совсем недавно здесь применялась туэрная тяга.
В то время «злобой дня» был первый полёт советского стратостата. Он вылетел накануне нашего отъезда. Все переживали это событие не меньше, чем 25 лет спустя полёт в Космос первого спутника. Гадали: где-то он спустится? И надо же такому случиться: он спустился почти на наш пароход, когда мы подходили к Коломне. Ещё километров за десять мы увидели на небе крохотный шарик, не догадываясь, что это стратостат. Пароход шёл вниз по течению и казалось, шар спускался нам наперерез, вырастая на глазах. Вскоре пароход остановился по техническим причинам, а стратостат приземлился совсем рядом с нами на пойме реки. Мы боялись, что он сядет в воду. Громадный, неуклюжий, он полоскался на ветру, как бы не желая примириться со своим приземлением. Маленькие по сравнению с ним люди ползали по нему, пытаясь угомонить оболочку, а со всех сторон бежали невесть откуда взявшиеся зрители, целые толпы.
Это происшествие придало нашему и без того радостному настроению совершенно праздничный характер. Ещё бы не праздник: впервые за ряд лет мы ехали не торопясь, без забот и обязанностей, а впечатления сами наезжали на нас, как в кино. Когда мы уставали сидеть на палубе и глядеть на берега, мы уходили в каюту и подолгу дулись в шахматы или, растянувшись на мягких койках, читали беллетристику. Удивительно, безо всяких хлопот обедали в столовой, и никто даже не намекал, чтобы мы мыли за собой посуду! Это ли не жизнь? Никогда, никогда ещё такого не бывало в нашей жизни. Но Галочка очень скучала по Алёше.
Выехали на Оку, проехали Рязань. От Касимова Ока течёт к югу, а потом поворачивает на северо-восток. Во мне кипел избыток сил, и я не знал, что бы выкинуть. Перед Касимовым я предложил Гале:
— Ты поезжай дальше, а я пойду пешком наперерез и буду тебя встречать в Елатьме.
— Опоздаешь!
— Ан не опоздаю.
Поспорили на щелчок, и я отправился налегке. Пароход должен был прийти в Елатьму через шесть с половиной часов, расстояние по прямой равнялось 25 километрам, а по дороге — 30.
Сразу за Касимовым я свернул на просёлок, который по словам прохожих сокращал путь, и попал в такие глухие, безлюдные и дремучие леса, что невольно вспомнил песню:
Едут с товарами в путь из Касимова Муромским лесом купцы…И вспомнил, чем эта езда кончилась, и стал мне за каждым кустом мерещиться Соловей-разбойник. Поэтому я всё ускорял шаг и, несмотря на то, что вышел на речку Унжу не у моста и потратил некоторое время на переправу, на берег Оки выше Елатьмы я пришёл на полчаса раньше намеченного времени. Вопреки законам природы левый берег здесь выше правого, Ока видна далеко. Я стал ждать и жевать кусок хлеба, который взял в дорогу, да, убегая от разбойников, таки не успел съесть. Прождав час, я стал волноваться. Может, думаю, пароход приналёг, да проскочил раньше срока. Нет! Вот на горизонте показался дымок, и я припустил к пристани. Всё окончилось благополучно, и Галя получила заслуженный щелчок.
В Нижнем жизнь похужела. Пока пароход стоял, мы сбегали на почту. Обещанной телеграммы не было, и мы заскучали об Алёше. В Казани повторилась та же история, и жизнь показалась нам совсем чёрной. Мы решили, что если в Ульяновске не будет телеграммы, то мы прервём путешествие и вернёмся в Москву. Надо сказать, что Казань стоит в трёх километрах от Волги и ехать в город надо было по пойме на паршивом трамвайчике. Назад мы едва успели и вскочили на пароход в мыле и пене, когда матросы уже сняли трап.
В Ульяновске почта была не только далеко, но и на высоком берегу. Узнав, что пароход стоит полтора часа, не раздумывая ринулись вперёд. Без конца карабкались по крутой узенькой деревянной гнилой лестнице и далее бегом по улицам. На почте была очередь, без очереди нас не пустили, как мы ни уверяли их, что мы с парохода. Литературно грамотные ульяновцы отвечали равнодушно:
— Все с парохода!
Мы выстояли очередь и были вознаграждены телеграммой: «Алёня восхитителен, здоров. Письмо Баку». Теперь только бы успеть на пароход!
Когда мы выбежали на бровку склона, то услышали второй гудок. Как мы летели с лестницы — через три ступени, поминутно рискуя сломать себе шею! И всё напрасно. Оставалось ещё треть лестницы, когда раздался третий гудок и пароход медленно отчалил, увозя наши вещи, куртки, деньги и… на столе только чуть начатый великолепный арбуз!!
Горе молодых родителей не поддавалось описанию. Мы бросились к капитану пристани:
— Так вам и надо, разини! Ишь ты, пошли прогуляться! Какие туристы нашлись!
Обругав нас и поиздевавшись как следует, он, однако, смягчился и сказал, что через четыре часа пойдёт на низ другой пароход и, если на нём будут места и если тот капитан нас возьмёт, то мы имеем шансы через три дня доесть наш арбуз.
Капитан следующего парохода был милостив и пустил нас задаром в общую каюту IV класса. Мы и этому были довольны. Днём было ничего: мы сидели на палубе и любовались Жигулями. Но ночью… как же мы мёрзли на жёстких скамьях в лёгких рубашках и без одеял. В два часа ночи остановились в Самаре. «А вдруг наш сынок в эту ночь заболел!» И я помчался на телеграф, благо он был открыт круглосуточно. Ничего нет. Я мчался назад по широким улицам, одна из которых какими-то высокими ступенями спускалась к пристани. Едва, едва успел и свалился, не имея возможности отдышаться, рядом с Галкой.
На другой день «злобой дня» был голод. У нас в карманах оказалось несколько копеек, на которые мы купили один фунт хлеба и дисциплинированно съедали в обед и ужин по крохотному кусочку, чтобы растянуть на два дня.
В Саратове мы догнали наш пароход, и пока причал был занят, наш новый капитан встал на якоре в нескольких метрах от него. Как мы ни умоляли причалить к его борту или спустить для нас шлюпку, он ни на что не соглашался. Мы видели окно нашей прекрасной каюты и испытали все муки Тантала при мысли об арбузе. Через полчаса наша каюта поплыла дальше, и тогда только капитан причалил к освободившемуся дебаркадеру.
Была ещё одна холодная ночь и ещё один голодный день. Наконец, на подступах к Царицыну (теперь Волгограду) мы обогнали наш пароход и причалили первыми. С замиранием сердца мы подходили к нашей каюте. Что стало с нашим вещами? Может быть, их разграбили? Или капитан их сдал в Самаре или Сызрани в камеру забытых вещей?
Оказывается, коридорная даже не заметила нашего трёхдневного отсутствия. Каюта была заперта. Ключи были у нас. Всё было цело. Только арбуз порядочно прокис. Но, мучимые голодом, мы его с жадностью съели.
Нина нас не баловала новостями. Телеграммы мы не получили больше ни в Царицыне, ни в Астрахани. Как это нас мучило! Мы простились с нашей каютой, которой так плохо воспользовались. Астрахань произвела на нас унылое впечатление. Запомнились деревянные мостовые, рыбачьи сети на берегу, полуразрушенный Кремль.
У нас был целый день до морского парохода. Мы взяли лодку, уехали на острова и там в полном одиночестве провели день на золотых отмелях, то купаясь, то загорая среди зарослей шелюги.
«Анастас Микоян» отошёл вечером. У нас опять была каюта второго класса и мы, измученные, скоро заснули. Было душновато. Наутро мы занялись осмотром судна. Якоря, кабестаны, тали, лебёдки, всё нас занимало, так же как и грузы, наваленные на палубе. Днём в каюте стало нестерпимо душно. Мы уселись на скамейке на палубе.
— Подходим к траверзу Махачкалы. Будет болтанка.
Предсказание начало сбываться. Пассажиры стали бледнеть и постепенно исчезали с палубы. Мы решили не уходить и крепиться, сколько сможем. Мутило всё больше, но мы отвлекались чтением и шахматами. Вахтенный матрос, ходивший мимо туда и сюда, похвалил нас и сказал, что мы самые стойкие пассажиры на «Микояне».
Вечером мы спустились в каюту. Качка уменьшилась, но там было нестерпимо жарко, душно, пахло машинным маслом и кухней. «Ничего себе второй класс», думали мы. Ночь кое-как прошла. Приближались к Баку. Собирая вещи, мы нашли в рундуке изогнутую трубу. Рассматривая её и размышляя, к чему бы она, мы заметили, что диаметр её в точности равен диаметру иллюминатора. Когда вставили её на место, каюта тотчас наполнилась свежим морским ветерком. Вот когда мы с сожалением подумали: «Какая была бы чудесная поездка, если б кто-нибудь подсказал нам о существовании и назначении этой трубы!»
В Баку жила Ольга Павловна, сестра дяди Саши. Мой кузен Миша недавно женился и переехал к тётушке, так как в Сыктывкаре было мало шансов найти работу. Здесь он поступил слесарем в ремонтную мастерскую, но мы его не застали.
Мы прожили у Ольги Павловны три дня, осматривали Баку и его окрестности. Жила она против стены старого города. Весь город был в запустении и в жалком виде, а старый и подавно. Всё же мечети и приморский бульвар произвели на нас сильное впечатление. Но базар в самом центре города был ужасен. Пыль, гонимая ветром по немощёным улицам и площади, садилась на ковры и продукты, покрывала лица худшей половины человечества. У лучшей половины несколько спасала от пыли паранджа. А лица спящих и даже не спящих детей были пятнистыми от кишевших мух, и матери совершенно не обращали на это внимания. Вонь от лошадиного и ослиного пота, навоза и мочи, покрывавших мостовую, от гниющих фруктов и овощей стояла невообразимая. «Вот где очаг дизентерии и холеры», подумали мы и не стали ничего покупать.
Решили осмотреть город. Пошли в Биби-эйбат познакомиться со знаменитыми нефтепромыслами, тогда, вместе со всеми промыслами Баку — крупнейшими в Европе. Биби-эйбат вызвал у нас удивление и уважение к могуществу человека и, в то же время, удручающее впечатление от зрелища испоганенной земли, природы. Насколько хватало глаз — тянулся однообразный лес вышек. В глазах рябило от мерного движения качалок. Головки балансиров, похожие на клювы, клевали и клевали не виновную землю, с каждым взмахом выплёвывая из неё чёрную кровь. Весь ландшафт был монотонно чёрен: чёрные лабиринты труб, переплетавшихся между вышек, чёрная земля без единого кустика, без единой травки, чёрные лужи и озёра. А если бросить спичку, каким красным морем огня обернётся эта чернота!
В Баку было очень жарко, и хотелось купаться. Но нам люди пояснили, что в Бакинской бухте это невозможно, она сплошь покрыта нефтяной плёнкой. Мы поехали на Север Апшерона в район Бузовны. Там нашли прекрасный пляж, но всё-таки вылезли из моря в чёрных вовсе несмываемых пятнах, как леопарды.
Конечно, познакомиться с городом мух и нефти было небезынтересно, но всё же хотелось поскорее унести из него ноги. Несмотря на жуткую дорожную духоту, мы вздохнули свободней, когда в окне вагона потянулись выжженные унылые пейзажи серо-палевой Ширванской степи. Мы вылезли на станции Акстафа, пристроились к какому-то разваленному автобусику, пересели на поезд и поехали на юг, в Армению, по направлению к Севану. Долго тянулись степи по долине Акстафа-чая. Под конец дорога вошла в мягкий лиственный лес, он принёс нам прохладу, нежную зелень красок, на которой отдыхали глаза, и чувство особого горного уюта, создаваемого пушистыми склонами.
К вечеру мы доехали до Дилижана, слывшего курортом, но представлявшего собой весьма заурядный армянский городок. Правда, он красиво расположен на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря. Главная улица, она же шоссе, шла по бровке глубокой долины, почти ущелья и состояла из маленьких домиков. На дне ущелья виднелись казармы стоявшей здесь воинской части. Вверх по горе тянулись более импозантные здания, очевидно, курортного назначения.
Переночевав на турбазе, мы на другое утро пошли смотреть окрестности. Поднявшись метров на 200, мы оказались в чудесном чинаровом лесу, где на листве играли яркие солнечные зайчики. На коре множества чинар были вырезаны олени и другие звери, не свойственные здешним местам, а также охотники и пастухи. Чем выше по стволу, тем неразборчивее становились рисунки — они заплыли и заросли корой. Очевидно, они поднимались вместе с ростом деревьев, будучи когда-то вырезаны на уровне роста человека. Таких стволов были сотни и сотни. Кто их вырезывал? Очевидно, пастухи и сборщики хвороста — несомненно, местные жители, потому что среди рисунков были надписи на армянском языке. Это, конечно, не было археологической находкой, но, право же, импровизации выглядели как наскальные рисунки каменного века. Идя дальше, мы пришли во фруктовый лес. Возможно, это были заброшенные сады. Мы попробовали и яблоки, и груши, и сливы. Всё оказалось вполне съедобным. Ну, не то, чтобы первосортным — все плоды были мельче садовых, но вовсе не плохие. Во всяком случае для компотов годились бы прекрасно. Мы пожалели, что громадные площади плодовых лесов никак не используются. На другой день мы, повесив на себя громадные рюкзаки, пошли на юг. Лес кончился, мы поднялись на Семёновский перевал высотой около 2150 метров, и вскоре перед нами открылась панорама Севана. Это было грандиозное зрелище. Оно лежало внизу, как горное море, на севере обрамлённое вершинами Шахдагского хребта, на юге, в сторону Ново-Баязета озеро терялось в дымке. Едва проглядывались волнистые формы вулканического плато. Мы не сразу заметили — выше облаков, невероятно далеко, прозрачные, как призраки, возвышались два конуса. Это были Большой и Малый Арараты. Подумать только, они глядели на нас за 120 километров из Турции! К сожалению, Ноев ковчег не был виден. Он ведь причалился с другой стороны. Галя сделала фотографию, на которой я получился стоящим одной ногой на Большом Арарате. А на западе прямо в небо втыкались покрытые снегом четыре башни невероятно крутого Алагеза.
Мы чувствовали себя так, словно присутствуем при сотворении Земли.
Было страшно жарко, мы изнемогали под тяжестью рюкзаков, но всё же почти бегом спустились с перевала. У подножия скалы, на крупной гальке мы сбросили с себя всю амуницию и бросились в воду, которая оказалась неожиданно пронизывающе холодной. Всё-таки 1900 метров над уровнем моря!
Зато с каким аппетитом мы поели у костра, тут же, на береговой гальке, хотя обед состоял только из брынзы, хлеба и кипятка. Потом мы лежали на камнях и не могли налюбоваться на озеро. Мы строили планы дальнейших маршрутов и решили первым посетить уютный зелёный островок, который лежал неподалёку. На островке виднелись симпатичные домики, и туда из селения Севан ходил речной трамвайчик.
Увы, это были наивные мечты. На острове помещался дом отдыха ГПУ, и нас предупредили, что не только посетить, но и наводить фотоаппарат на него опасно. Мы ещё не привыкли к тому, что все лучшие места в природе занимают или правительственные дачи или ГПУ.
На Севане не было ни турбазы, ни дома крестьянина. Население показалось нам негостеприимным, и мы решили искать ночлега в деревне. У околицы происходила молотьба. По току с разостланными хлебными колосьями кружилась лошадь, волоча за собой на валке широкую доску, ребристую с нижней стороны. На доске стоял, держась за вожжи, человек. Он правил лошадью и своей тяжестью способствовал молотьбе. Мы подивились на такой способ, столь не похожий на тот, который мы применяли в колонии.
На реке работала мельница. Мы заглянули в открытую широкую дверь. Нас оглушил шум громадного колеса, стук поводков, сотрясавших бункера, скрежет поставов, а больше всего крик и песни десятка армян, частью толкавших мешки, частью сидевших вокруг фонаря в ожидании помола.
Стемнело, идти дальше не хотелось, да и устали. Мы спросили, нельзя ли куда-нибудь устроиться переночевать. Крестьяне сперва расспросили нас: кто мы, куда идём, да зачем, а после сказали:
— Ночуйте здесь, места хватит, — и указали на кучу мешков.
Страшный шум, неровные жёсткие мешки, синий дым от курева, подвыпившая, весёлая компания, страшно галдевшая, всё вместе показалось нам не очень подходящим для ночлега и отдыха после трудного пути, но делать нечего, мы остались. Мельница работала всю ночь, и мы вовсе не спали, несмотря на усталость. Рано утром, поблагодарив хозяина, собрались уходить. Но мельник загородил нам дорогу.
— Никуда вы не пойдёте. Вот придёт милиция, проверит, кто вы такие и решит, что с вами делать.
— Да ведь мы объяснили, кто мы такие!
— Начальство разберёт. Ходят тут всякие, а граница всего 100 километров!
— Когда же придёт милиция?
— Я послал в Севан. Когда придёт, тогда и придёт.
Крестьяне смотрели на нас волками. Как будто хотели сказать: «A-а, турецкие шпионы, попались! Посмотрим, как вы в ГПУ запоёте!»
Мы молча сидели в сторонке. Томительность ожидания усугублялась голодом. Продукты у нас кончились. Часов в 12 приехал милиционер. Долго проверял документы, допрашивал, осматривал рюкзаки. Договориться с ним было трудно: он плохо понимал по-русски. Мельник с ним спорил, мы догадались, он доказывал, что нас нужно задержать. Наконец, милиционер решил, что придраться не к чему: документы в порядке. К тому же я пригрозил, что работаю на военном заводе и в случае чего ему могут быть большие неприятности. К огорчению мельника, явно ожидавшего награды за поимку шпионов, милиционер решил отпустить нас.
Запасшись в деревне брынзой, мы зашагали на запад, обсуждая впечатления от армянского гостеприимства. Путь наш лежал через пологий Памбакский хребёт. Он был абсолютно безлесен, степные увалы сменились такими же степными котловинами.
При каждом подходе к армянским селениям мы имели неприятности со злыми собаками, и потому ходили с крепкими палками. На абсолютно безлюдном отроге мы не ждали встречи с ними. Вдруг из-за пригорка вылетело с полдюжины таких зверей, что мы испугались. Каждая величиной с телёнка. Они неслись на нас с таким рычаньем, с такой яростью, что куда там наши палки, мы не успели ни разу ими махнуть. Вслед за собаками показались люди. Нам в голову даже не пришло, что это наше спасение. Люди были в отрепьях, полуголые, лохматые, бородатые. Они мчались к нам навстречу, издавая страшные гортанные крики, на бегу размахивая длинными дубинами как копьями. «Умрём как мученики», — только успел я подумать… Три «копья», брошенные в нас с большого расстояния, просвистели в воздухе рядом и… упали в нескольких шагах от нас, удивительно метко сбив с ног трёх собак, которые с визгом полетели по траве. Остальные звери отступили… «Дикари» обступили нас, отгоняя вновь прибывающих собак. Только тут мы поняли, что их военная операция была предпринята в нашу защиту. Кто же эти люди? Ни один из них не понимал ни слова по-русски. Своими мясистыми носами они сильно напоминали ассирийцев — московских чистильщиков сапог.
Наши добрые спасители повели нас за перевальчик, где у них паслось громадное стадо овец, горел костёр, около него лежала невиданная медная утварь и какое-то яркое тряпьё. Затем, оставив собак стеречь стадо, они проводили нас с километр и спокойно удалились.
К вечеру мы пришли в глубокую котловину, пологие склоны которой не прорезало ни одно ущелье. На дне её было болото. Местечко сильно смахивало на вход в Дантов ад. Солнце уже зашло за бровку, но было ещё светло. На бровке чётко вырисовывался силуэт большого зверя, который терзал барашка. Я сразу узнал крупного волка. Он стоял как раз в том месте, где наша тропинка выходила на гребень. Волк перестал рвать свою жертву и, держа лапу на ней, внимательно глядел на нас, ничуть не показывая, что испугался и, казалось, готовый вступить в бой за свою добычу.
— Опять собака, — сказал я, чтобы не напугать Галю. — Давай лучше переждём, а то за гребнем их может быть целая свора.
Мы стояли и ждали какое-то время. Я боялся, что Галя поймёт всю неправдоподобность моей версии. Где это видано, чтобы овчарка съела овцу. Сколько-то минут длился поединок глазами. Наконец, наши четыре глаза одолели два волчьих. Он подхватил в зубы барашка и нырнул за горизонт. Тут Галя призналась мне, что с самого начала поняла, что это был волк, но что овчарок она испугалась бы гораздо больше. Биолог! Что поделаешь!
В темноте мы подходили к очередной армянской деревне, предвкушая встречу с собаками и людьми, неизвестно как настроенными. Ведь мы шли параллельно государственной границе, до неё оставались всё те же 100 километров! Как же мы были рады, увидев вместо приземистых каменных саклей рубленые русские избы. И никаких собак!
В первый дом, куда мы постучали, хозяйка гостеприимно пригласила нас к себе. Нас поразило благообразное убранство и какая-то почти стерильная чистота и во дворе и в доме. Мы обратили внимание на отсутствие икон. Откуда здесь взялись эти странные люди?
На сочном старорусском языке хозяйка рассказывала нам, что они молокане и деревня их называется Молоканка. Сидя за чаем, мы с интересом слушали рассказ о том. что их предки ещё в прошлом веке преследовались правительством и синодом и были высланы из русских губерний в Армению, как с трудом обживали они непривычную землю и налаживали отношения с местными людьми. Теперь в Закавказье целый ряд молоканских сёл. Живут хорошо, зажиточно, но трудятся очень много. Община дружная. Хозяйка наша вдова, но «братья» ей помогают и всё-то у неё есть.
Мы рассказали ей о встрече с первобытными пастухами. Она разъяснила:
— А это курды. Они живут в Персии и в Турции. Кочуют через все границы, ничего не признают. Но люди мирные, никого никогда не обидят. Вот собачки их, правда, собачки разорвут и спасибо не скажут.
Мы переночевали в чистой горнице этой женщины, а утром напились молока и пошли по булыжному шоссе, на котором стояла Молоканка. Шоссе вело в Караклис (теперь Кировокан).
Появились леса, поля, стали встречаться прохожие. Часов в пять мы вошли в городок и направились к станции. Ждали поезда на открытой дачной платформе, весело болтая. Не прошло и четверти часа, как мимо нас замаячил милиционер. Сделав несколько концов, он состроил грозную физиономию и сказал классическую фразу:
— Пройдёмте, граждане.
Мы сложили в рюкзак хлеб и брынзу, которыми только что начали закусывать, и прошли в железнодорожное ГПУ. Началась снова проверка документов и допрос. Всё им казалось подозрительным:
— Зачем поехали в Севан? Почему не проехали на Ереван? Почему ночевали в Молоканке? У вас там родственников нет? Зачем носишь ножик?
Но, конечно, самым подозрительным дежурному показался наш «Турист». Он засветил плёнку-пластинку, снятую перед самым Караклисом, но, к счастью, не отличил другие снятые плёнки, которые лежали в коробке в рюкзаке рядом с неснятыми. Наконец, перед самым поездом нас освободили. Я решил немного пофрондировать: «Что это такое, товарищ дежурный, почему нас, обыкновенных туристов, на каждом шагу задерживают, проверяют документы, засвечивают пластинки? Район не пограничный, пропусков не требуется, никаких правил мы не нарушаем…»
И тут я получил невразумительный ответ:
— Много всяких ездит. Республика пограничная.
С нас было довольно армянской бдительности. Мы с радостью сели в Тбилисский поезд, хотя мы знали по первой поездке, что нас там ждут новые тревоги. Грузины были совсем не бдительны, но зато нахальны чрезмерно.
Однако в Тбилиси всё обошлось без инцидентов. Парни бесцеремонно глазели на нас, особенно на Галю, нагло хохотали, очевидно обсуждая её достоинства, но волю рукам не давали. Но и я был бдителен в отношении их — Галю не оставлял одну ни на минуту. Мы гуляли по проспекту Руставели, дивясь на громадные по тем временам роскошные дома, каких не было и в Москве, на крикливо накрашенных женщин, что также в России было не модно, на горластых разносчиков. Вообще центр города показался нам каким-то весьма буржуазным. А мы в своих уже рваных тапочках с видевшими виды рюкзаками, были шокированы этой толпой, также как она нами.
Мы отправились на гору Давида (Мтацминда). Как хорошо было ехать на фуникулёре! Я не ездил на нём с тех пор, как был в Альпах, и даже не подозревал, что такие вещи есть в Советском Союзе. Очень красива оказалась колоннада верхней станции. А какой красивый вид с неё открывался! Скоро, однако, небо затянулось тучами. Пошёл дождь. Холмы, разбегавшиеся во все стороны от столицы, покрытые то кудрявыми лесами, то рядами цитрусовых деревьев, как-то сразу приобрели печальный вид. Не иначе, в такую погоду А. С. Пушкин написал:
Не пой, красавица при мне, Ты песен Грузии печальной…Насмотревшись на пейзаж и основательно промокнув, мы спустились и пошли в район Армянского бульвара, где улицы поднимались ступеньками и дома лезли друг на друга. Меня почему-то всегда волновала и трогала такая архитектура. Под конец мы вышли в район горячих источников. Их русло представляло подобие каньона, рассекавшего город. Стены домов, спускавшихся к воде, обросли натёками серы и стали неотличимы от скал. В русле кишели женщины, полоскавшие бельё. С ними были и ребятишки. Местами каньон был наполнен парами, как долина гейзеров.
Дойдя до знаменитых серных бань, мы решили, что сейчас самый подходящий случай, чтобы испытать это эстетическое удовольствие.
Когда я вошёл в мужское отделение, там было полно народу. Но не было заметно, чтобы люди мылись. В облаках пара одни сидели и потели, другие тёрли себя и других сухими мочалками. Страшно костлявый старик-массажист, совершенно голый, взобравшись на спину распростёртому на лавке толстяку, отчаянно колотил его кулаками по шее и по плечам. Потом, стоя на коленях, перебирал ногами, стараясь побольней ткнуть несчастную жертву под микитки своими острыми коленями. Но жертва при этом только удовлетворённо пыхтела.
Я с трудом отыскал мятую и ржавую шайку, но никак не мог найти кран. Зато я нашёл у стены малюсенький полукруглый бассейн, над которым из трубы извивалась струйка воды. Тошнотворный запах сероводорода, исходящий из бассейна, свидетельствовал, что это и есть серный источник — гвоздь всего заведения. Бассейн был без малого полон людей, которые стояли там по шейку в воде, как грешники в котле. Многие из них были с намыленными головами. Они отчаянно толкались, стараясь попасть под струю и смыть мыло с головы.
Я тоже намылил голову и с великим отвращением влез в людскую кашу, размышляя о том, какой процент серы, мыла и сифилиса содержит вода в бассейне. Моё желание пробиться под струю было детской наивной мечтой. Здоровенные кацо, соперничавшие за воду, отнюдь не были настроены пропускать русского. Потолкавшись минут пять, я решил вылезать. В этот момент погас в бане свет. Какой-то тип зажёг урну с грязной бумагой и окурками, чтобы хоть немного осветить помещение. В результате баня наполнилась вонючим дымом. Я выскочил в предбанник, стёр мыло полотенцем, кое-как оделся и выскочил на свежий воздух.
Вскоре я увидел испуганную Галю. Она рассказала, что в женском отделении вышло ещё хуже. Когда погас свет, женщины принялись вопить, метаться, колотить друг друга. Она спаслась бегством полунамыленная, получив несколько тумаков.
На следующий день пришла телеграмма, что Алёк болен. Я не мог ехать, так как у меня было ещё служебное поручение на Сурамский перевал. Но Галя тут же взяла билет на ближайший автобус и выехала по Военно-Грузинской дороге во Владикавказ.
Я поехал на Сурам. Наркомвнешторг, заключив договор с Савильяно на поставку электровозов, одновременно заказал несколько штук Дженераль Электрику. Хотели сравнить. Американские электровозы испытывались в горных условиях на закавказской железной дороге, и мне поручили ознакомиться с результатами испытаний.
Приведя себя, сколько можно, в приличный вид, я явился на испытательную станцию как представитель завода «Динамо». Электровозы имели весьма эффектный вид, но, когда я по ним полазил, мне показалось, что кое-что сделано недоброкачественно. Я познакомился с приёмочными актами и обнаружил там более ста рекламаций на разные недоделки. Познакомился с представителями поставщиков. Одного из них спросил:
— Скажите, сэр, зачем вы нам поставляете некачественные изделия? Неужели вы думаете, что мы не заметим недостатки?
— О, да, ведь это первая поставка. Фирме дешевле, выгодней изготовить изделие не очень хорошо. Обычно наши контрагенты этого не замечают. Но мы ошиблись в русских инженерах, они оказались очень придирчивыми. Мы, конечно, все недостатки устраним и в дальнейшем их не допустим.
Меня удивила откровенность этого коммерсанта. Он ошибся больше, чем думал. Наши производственники решили, что такие электровозы нет расчёта приобретать на валюту, и дальнейших заказов на них не давали.
Выполнив задание, я сел на Тбилисский поезд и вышел не доезжая до Тбилиси, в Ксанке. Мой план состоял в том, чтобы пройти Военно-Грузинскую дорогу, но по возможности по глухим местам, то есть обходными тропами.
В Ксанке были руины прекрасного старинного замка, который я приглядел в окно вагона ещё по дороге в Сурам. Теперь я их полностью освоил. Лазил по растрескавшейся башне и обломкам зубчатых стен, обследовал огромные проломы, оставленные бог весть чьей артиллерией, то ли турецкой, то ли нашей во время дружественного присоединения Грузии. Довольно рискованное дело было тут лазить. Всюду из-под ног сыпались камни, всё было изъедено временем и грозило рухнуть. Но уж больно объект был в моём духе!
В этот день я ещё прошёл около 45 километров. Мой путь лежал мимо озера Базалеты, которое я заранее представлял как бездонную бирюзовую чашу, окружённую неприступными скалами. На деле оно оказалось мелким озерком, лежащим на плоском водоразделе Ксанки и Арагвы, по берегам заросшим тростником.
Что было интересно, так это грузинская пахота, которую я наблюдал глазами специалиста. Учитывая подъёмы и каменистую почву, грузины запрягали в сабан десять волов — пять пар цугом. Пахал один человек, но за каждой парой быков шёл погонщик. Погонщики непрерывно издавали гортанные звуки и размахивали кнутами. Казалось, что по полю движется национальный танцевально-вокальный ансамбль.
Я вышел на Военно-Грузинскую дорогу в Ананури и там заночевал. Наутро осмотрел Ананурский монастырь-крепость XVI века. Она представляла собой подобие вытянутого кремля, поднимавшегося на гору и украшенного высокими башнями. Поразительно тонкое каменное украшение-кружево на наружной отделке большого храма вызвало чувство удивления и уважения к старинным мастерам.
Самое интересное было внутри. Там скрывалась под куполом ещё одна церквушка, такая маленькая и корявенькая, что можно было поверить сторожу, который говорил с гордостью:
— Это церковь пятого века. Мы были уже христианами, когда вы, русские, ещё в пещерах жили и нагишом ходили.
От Ананури я пошёл по шоссе, а в Пассанаури, который стоит на слиянии рек Белой и Черной Арагвы, свернул в замечательно живописное ущелье последней, по которой вилась лишь просёлочная дорога, проложенная арбами. Километров через десять близ селения Китохи стояла, прислонившись к обрыву, одинокая церковка, полузакрытая ветвями деревьев. Сложена она была грубой бутовой кладкой, с кровлей из сланцевых плит. Низенькая, так что едва можно было в неё войти, она ничем не отличалась от горских саклей. Но у неё были и особенности: каменный крест на крыше, турьи рога на низкой ограде и, главное, перед фронтоном жердь на шестах, положенная горизонтально на высоте человеческого роста, и на ней — 14 медных колоколов, от самого большого, с арбуз, до самого маленького, с кулак.
От церкви шла только тропка, поднимавшаяся очень круто. К вечеру я уже думал, что выше меня нет ни души, когда неожиданно мне стали попадаться полоски пашни и бабки сжатого ячменя. Крутизна была более 300, так что вскапывали их, конечно, мотыгой. Вот показались человек 20 людей, мужчин и женщин, которые жали хлеб серпами. Ячмень был очень низкий и редкий и люди, чтобы захватывать больше колосьев, удлиняли себе пальцы с помощью привязанных прутьев. Все они сгрудились на пятачке. «Вероятно, уже и здесь прошла коллективизация», — подумал я и, подойдя, сказал:
— Бог помочь!
Они остановили работу и окружили меня. Никто не понял моих слов. Все быстро лопотали на непонятном мне языке, до меня дошло только единственное слово «солдат», многократно повторяемое. Куда-то наверх послали мальчишку. А я стоял, окружённый толпой, в центре всеобщего внимания и любопытства. Я никак не мог им объяснить, что хочу попроситься на ночлег. Наконец, вернулся мальчишка с мужчиной, который на очень скверном русском языке сказал мне, что ещё гораздо выше, на границе Хевсуретии, есть селение Бусорчиль, что эти поля принадлежат ему. Все поля узкой лентой поднимаются в горы. Здесь никто не понимает русского языка, только он один. Так как он служил в Тбилиси в Красной Армии. Вопрос о ночлеге, сказал он, подлежит совету старейшин.
Из толпы отделилось несколько стариков, отошли в сторону и вместе с солдатом стали решать мою судьбу. Остальные вернулись к жатве. Я собрался их сфотографировать в последних лучах солнца, но тут поднялся страшный переполох: женщины бросились бежать, а мужчины выражали явное желание набить мне морду. Прибежал испуганный солдат:
— Нельзя, нельзя, убери скорей! Люди знают, что ты карточку сделаешь, а потом над ней колдовать будешь.
Я убрал аппарат, и все успокоились. Решение совета было мудрым: — Ты сперва скажи, ты за колхоз или против? Если хорошо ответишь, пустим ночевать.
Вот задали задачу! Сказать, что я «за», пожалуй, убьют. Как тех комсомольцев. Сказать, что против… Но они, по-видимому, уже в колхозе, чего доброго ещё донесут…
— Смотря какой колхоз. Если хороший, так я за него, а если плохой, то лучше совсем не надо, — ответил я уклончиво.
Солдат перевёл, старики зашумели:
— Ты очень хорошо ответил, умный человек. Они говорят, гостем будешь.
Стемнело. Мы полезли опять в гору… Через километр или два я увидел сакли, почти землянки, ютившиеся там и здесь на склонах гор. По дороге солдат рассказывал мне про их социальное устройство:
— Мы уже 500 лет в колхозе. Наши поля на разной высоте. Когда на нижнем поле поспевает урожай, на верхнем хлеб только колосится. Верхним людям делать нечего. Они идут помогать нижнему хозяину. В два дня всё кончают, хозяин благодарит — режет барана, варит ведро араки. Все вместе пьют, танцуют, веселятся. Потом переходят на поспевшее поле повыше, там опять всё сначала. Так убирают все поля, быстро и в лучшие сроки. И каждые два дня праздник и все пьяные. Хорошо!
Меня привели в дом, где готовилось очередное пиршество. Дверь выходила на маленькую площадку, залитую светом луны. На площадке стоял длинный-предлинный стол, по высоте — карлик, всего сантиметров 30. В пяти шагах за столом был отвесный обрыв, на дне которого ревел Бусарчил — приток Чёрной Арагвы.
Все мужчины уселись на землю, скрестив ноги по-турецки, по обеим сторонам стола, а меня, как почётного гостя, усадили в торце на большой сундук, хоть и низенький, но ноги всё же находились как раз на уровне стола. Солдат сел со мной рядом, чтобы быть переводчиком.
Народ стал галдеть, требовать, чтобы хозяин зарезал в честь почётного гостя не барашка, а телёнка. Тот отнекивался, говорил, что хватит с меня и барашка. Я понял, о чём спор, заявил, что моя вера запрещает вообще есть мясо.
— Разве ты не русский? Русский все едят!
— Я сторонник особой секты, мне нельзя мяса.
Телёнок был спасён, но баран всё же погиб. Его притащили и зарезали тут же. Освежевали и женщины принялись жарить его целиком на костре, надев на вертел.
Молодой хозяин ходил вокруг стола с оплетённой четвертной бутылью и наливал араку в коровий рог, оправленный серебром. Арака была отвратительна, но пить её надо было не задерживаясь, так как рог был один на всех и его ждал следующий. Через силу я выпил свою порцию и передал рог, но он быстро обошёл круг и опять вернулся ко мне.
— Отказываться нельзя, народ обидится, — шепнул мне солдат. Я с утра ничего не ел, и арака здорово ударила мне в голову.
— Расскажи, откуда ты? — спросил один из стариков.
— Из Москвы.
— Москва большой аул?
— Самый большой, самый большой.
— Ну, это ты врешь, самый большой аул Тбилиси. А сколько баранов у каждого хозяина?
— Баранов? Совсем нет баранов.
— Ха-ха-ха! Вот так большой аул! У нас самый бедный, да и то у каждого хозяина баранов 20–30 будет. Почему там нет баранов? Или пастбища плохи?
— Пастбища хороши. Но москвичи их все забили камнями.
— О-хо-хо! Ну и врёт наш гость. Видно, много араки выпил. Хорошие люди убирают камни с пастбища, а москвичи толкают камни на пастбища. Вот удружил! Ха-ха-ха! Спасибо, повеселил стариков!
А я страдал и с нетерпением ждал и гадал, когда же будут кормить? Барана разрезали. Хозяин встал у противоположного конца стола и, надевая куски мяса на кинжал, как пращей, бросал его гостям. Все ловили мясо руками, а один виртуоз даже прямо ртом. Кости бросали женщинам, которые толпились в дверях и эти кости обгладывали. Передо мной поставили деревянную громадную миску с топлёным маслом:
— Лепёшек нет, чурека нет, ячмень только сегодня убрали…
Нечего делать. С голоду будешь хлебать ложкой топлёное масло. Когда кончили есть, появились зурны и ещё какие-то неизвестные инструменты. Все громко запели, а два джигита вскочили на стол, схватили кинжалы в зубы и принялись лихо отплясывать лезгинку.
Как я ни был пьян, но не мог не оценить дикую красоту этой сцены. Свирепый танец, при двойном освещении луны и костра, рёв реки, доносящийся сквозь облака, заполнявшие ущелье под нами. Никогда ничего подобного не видел ни до, ни после.
Когда я спросил, как мне утром пройти в Казбеги, мне показали на одного старика:
— Вот, Ахмет на рассвете понесёт через перевал продавать барана. Иди за ним.
— Но Ахмет один выпил целую четверть (3 литра) араки. Дойдёт ли он?
— Дойдёт! Будь здоров. Ему ведь только 75 лет.
В заключение меня заставили петь. В любой другой обстановке я бы не сумел и не решился, но здесь… Я исполнил «Вниз по матушке, по Волге». Разумеется, в пении не было ни складу, ни ладу. Но публика отнесла все диссонансы за счёт специфических законов русской мелодии и осталась очень довольна.
Я не помню, как меня сволокли в сарай на солому. Впрочем, я скоро проснулся. В моих недрах происходило форменное сражение араки с топлёным маслом. Я промучился всю ночь и заснул только под утро. Вскочил я от того, что петух отчаянно кукарекал, усевшись у меня на голове.
Ахмет давно ушёл. Денег у меня было в обрез, и потому я подарил хозяину компас, который он повертел в руках в недоумении. Я пошёл по едва заметной тропе к перевалу, так и не поняв, к какой нации принадлежали мои хозяева, никогда не бывавшие в городах и как будто живущие на другой планете. Может быть хевсуры? Но я не заметил крестов на их платье. Имя Ахмет и приниженное положение женщин наводило на мысль о каком-то мусульманском племени.
Я вдребезги износил свои старые ботинки. Уже несколько дней они держались на верёвочках, которыми я пытался соединить стремившиеся к автономии части. Но в это утро остатки подмёток окончательно отделились от верхов. Я почувствовал облегчение, когда их бросил и пошёл босиком. Но меня ожидал сюрприз: на Квеналетском перевале выпал снег. Я со страхом вступил на него, но уже через десять минут вынужден был сесть и оттирать ноги руками. А тут промокло седалище. Я пустился бегом, сперва в гору, потом под гору. На северном склоне снег спускался значительно ниже. Я пробежал, буквально не чувствуя под собой ног, три километра и свалился в конце концов на землю.
Дальше пошёл очень крутой спуск, который вывел меня в долину Гудушаурской Арагвы. Более мрачный ландшафт трудно себе представить. По всей вероятности, это была долина трогового происхождения. Чёрные скалы и осыпи упираются прямо в плоское, очень широкое днище, устланное крупным щебнем, остатком паводков и селевых потоков. Нигде ни травинки.
Впереди показался всадник. Казалось, едет громадная бурка в папахе на тонких лошадиных ножках. Когда булка поравнялась со мной, я спросил:
— Далеко ли до Казбеги?
— Ходы себе тихонько, тихонько!
Хороший совет. Я уже прошёл около 30 километров, когда показалась первая деревня Сно. Я лично не ел уже два дня за исключением треклятого топлёного масла и араки, которые вывернули мне все внутренности, и потому я с вожделением мечтал, как я куплю молока и брынзы. Однако деревня была почти пуста — все люди были на полях. Вместо того навстречу мне вылетело штук двадцать разъярённых псов. Вероятно, они тоже два дня не ели и набросились на меня с яростью, вызванной их стремлением закончить пост и разговеться. Отчаянно отбиваясь палкой, я задом полез в Арагву. Камни были очень скользкие, вода ледяная, течение бешеное, собаки поскакали в воду за мной. С другого берега атаку вела другая свора. К счастью, когда я отошёл на глубину, где мне было выше колен, собак стало сносить течением. Они поспешили убраться на берег и там продолжали бесноваться и рычать.
Я понял, что при ходьбе по снегу холод был только цветочками. Тут мне ломило ноги так, что хоть кричи. Я действительно закричал, призывая кого-нибудь на помощь. На мой крик выбежало несколько черномазых мальчишек. Но они и не подумали отгонять собак, а видя мою полную беспомощность, набрали гальки и принялись бомбардировать меня. Чертенята были очень меткими и при каждом попадании заливались смехом. Они искренне резвились.
Под обстрелом, сопровождаемым собачьим рычанием, я двинулся вниз по течению. Вскоре я перестал чувствовать ноги и каждую минуту рисковал быть опрокинутым потоком. Меня спасала только опора на палку. Так я прошёл с полкилометра. Село кончилось и собаки отстали, а мальчишки обратились в бегство, как только я направился к берегу. Я сел на камни совершенно без сил. Вспомнив о ногах, я стал бить по ним кулаками — никакого впечатления. Я набрал горсть мелкого гравия и принялся им растирать ноги. Потекла обильно кровь, а минут через десять я почувствовал дикую боль и несказанно ей обрадовался. Всё ещё шатаясь, весь в синяках и крови от камней, я поплёлся по дороге. Постепенно разошёлся и через пять километров вышел к Казбеги. Турбаза была заколочена на зиму. Было 11 часов вечера. Во всех домах были потушены огни, и только рычание цепных псов за дувалами показывало, что жизнь в них продолжается. К тому же я знал, что на больших туристских дорогах за ночлег в частном доме надо много платить. Денег оставалось в притирку на билет до Москвы и на дешёвенькие чувяки. Я не решился просить ночлега. Встретившийся одинокий прохожий сказал мне, что переночевать бесплатно можно только в рабочей казарме в Ларсе:
— Здесь недалеко, за Дарьялом, километров двадцать.
О, боже! Было очень холодно, я знал, что на улице ночью не выдержу. И я пошёл по Военно-Грузинской дороге. Наверно, в крайних случаях нет предела силам человеческим. Давно уже собиралась гроза. Она разразилась как раз, когда я вошёл в Дарьяльское ущелье. Это знаменитое место, которое я всю жизнь мечтал посетить. Мне суждено было увидеть его при свете молний. Зрелище было грандиозное: скалы, тоннели, бушующий Терек. При одной вспышке я разглядел даже замок Тамары. Наверно, Лермонтов не видел всё это при таком волшебном освещении. До чего досадно было, что нельзя фотографировать!
Внезапно из тьмы прямо мне на грудь бросилась с рычанием огромная собака. Ох, как я ненавидел всё собачье племя! Я понял, что тут вопрос ставится по-ленински: «кто кого». Изловчившись, я ударил изо всех сил собаку по голове палкой. Она упала, захрипела и захлебнулась Я увидел, что она мертва. Послышалось цоканье копыт. «Хозяин, ингуш. С этим палкой не справишься», — мелькнуло у меня в голове. Я заметался. Скрыться некуда: отвесная стена с одной стороны, клокочущая река — с другой. Я метнулся через парапет, рассчитывая, что более мокрым, чем от грозы, я всё равно не буду, а у берега, надо думать, мелко. Но я не долетел до воды, повиснув на колючих кустах шиповника. Пришлось терпеть. Я затаился. Ингуш подъехал, нашёл мёртвую собаку. Я не понял ни одного слова, но по интонации не сомневался, что он изрыгал по адресу убийцы все проклятья, которые знал на ингушском языке. Потом он забегал в поисках следов, пытался зажечь спички, чтобы осветить парапет. К моему счастью, спички его быстро заливало дождём. Я вжимался в колючий куст сколько только мог, хотя это было нестерпимо мучительно. Наконец раздалось цоканье копыт, он уехал.
Залезть снова на шоссе было нелёгкой задачей. Но, как мы говорили в колонии: «Это всё детали, а важен самый факт», заключавшийся в том, что я не был прострелен и не утоплен.
Я пошёл дальше. На 17-м километре показался Ларс, но это был не тот Ларс, Верхний, а мне был нужен Нижний. Километра три я ещё плёлся к нему, не засыпая лишь из-за отчаянной боли в ногах.
В три часа ночи я нашёл казармы. Они были отперты. Я вошёл и, не спрашивая, нашёл пустую койку — это были две голые доски, лежащие на железной раме. Я был насквозь мокрый, лёг, не раздеваясь, и тотчас заснул.
Мне снилось, что собаки кусают меня за ноги, за руки, хватают за шею, выгрызают глаза. Когда я проснулся, я ужаснулся: сотни, сотни напившихся кровавых клопов сидели на мне, покрывали все доски и перекладины кровати. С каким же отвращением я принялся давить их. На меня с удивлением глядели русские рабочие, которые здесь ломали скалы. Я объяснил, кто я, рассказал о вчерашних приключениях.
— Счастлив твой бог, — сказали мне, — ингуш за собаку прирезал бы тебя и спасибо не сказал. — Самое замечательное, что они дали мне кусок хлеба. Погода была чудесная. Я вышел на шоссе. «Эх, пойду-ка я назад и сфотографирую Дарьял. Другого случая, возможно, больше в жизни не будет!»
Я отмахал пять километров вверх по Тереку, сделал несколько снимков и зашагал к равнине, к цивилизации.
В полдень я вошёл в лес и нашёл большой гриб. Через два часа показалось поле, это была Болта, русское селение. Ползком я пробрался на поле, выдрал куст картошки и, расположившись на пойме, выкупался, смыл кровь с ног, вытащил из рук и живота колючки, набрал плавника, разжёг костёр и сварил картошку с грибом. Гриба хватило на целое варево, так он был велик.
Радость жизни окончательно вернулась ко мне. Всё мне казалось хорошо. Вечером я пришёл во Владикавказ, пройдя за этот день 45 километров. Следующий день я потратил на осмотр города. Особенно мне понравился парк Трэк, расположенный на его окраине вдоль берега Терека, а ещё прекрасное здание мечети с двумя минаретами. Я купил билет до Москвы в общем вагоне, чувяки на базаре. У меня осталось 10 копеек и ещё на фунт чурека. Поезд уходил вечером.
В те времена проводилась кампания под лозунгом: «Опыт рабочих авторов должен стать достоянием масс». В частности это значило, что я должен выбрать в коллекторной двух рабочих, заставить их написать инструкции и сделать вместе с ними книжку «Производство коллекторов тяговых двигателей». Я выбрал новоиспечённого мастера Панфилова и самого опытного сборщика Торгунова и, применяя к ним грубое насилие, вымучил из них несколько листков записей. Старик Торгунов — прекрасный работник, был абсолютно бестолков, он никогда не держал пера в руках и не мог грамотно написать ни одного слова. Панфилов был грамотен, но как писатель — немного лучше. Книга шла с моей вступительной главой и под моей редакцией. Срок сдачи приближался, и потому я взял обе рукописи с собой в поход, всюду таскал их в рюкзаке и едва не утопил сперва в Арагве, потом в Тереке. Книжку я решил сделать в поезде. Первый день я посвятил составлению своей статьи. Это было сравнительно легко. Хоть мне досталась багажная полка, там было темно и душно. Я сидел на ней, согнувшись в три погибели. Ну, ничего, и не такое терпели. Лепёшку чурека я разделил на шесть частей и решил съедать по одной части утром, днём и вечером. Такого рациона хватит на два дня, а третий я надеялся пропитаться на «НЗ» — 10 копеек.
На второй день я принялся за Торкунова. Конечно, главу надо было написать совершено заново, но при этом ввернуть возможно больше выражений из оригинала, чтобы не обидеть старика, чтобы он чувствовал, что страдал не даром. Ведь есть у него самолюбие! Над этой неразрешимой задачей я мучился целый день. Какое слово из его рукописи я ни вставлял, получалось некстати и коряво. К тому же оказалось, что переносить голод, сидя на месте, гораздо труднее, чем на ходу. Напрасно я жевал чурек, сколько только мог, напрасно заливал его громадным количеством кипятка. На четвёртый день мои муки стали ужасны. Зато вечером повезло. Ехавший внизу толстый кацо целый день уплетал из своей бездонной корзины то цыплёнка табака, то яйца, то хлеб с маслом, то какие-то виноградные колбасы, то свежие фрукты. Вот он обнаружил у себя гнилую грушу, предложил её мне.
На третий день я строчил и чиркал, едва удерживая тошноту, до того мне опротивело это гнусное занятие. Хотя бы просто полежать! Но я закусывал губу и выжимал из себя строку за строкой. На станции вылезал и следил за базарными ценами. Цены на овощи всё дешевели и я берёг свои 10 копеек, чтобы истратить их наилучшим образом. Даже когда они после Орла полезли вверх, я решил, что это временно, и всё выжидал. Наконец, убедившись, что они дорожают безвозвратно, я купил на станции Черни за гривенник один огурец и это была моя единственная добыча в последний день.
С вокзала на Симонову слободу я шёл пешком. Но книга, полтора печатных листа и полтора же листа набросков, была сделана. Вскоре она вышла из печати.
Как я был счастлив, попав домой к моим дорогим. Ведь сыночку пошёл уже второй год. Он болтает вовсю. Называет все предметы, но всегда как-то по-своему. Так, например, пуговицу называет «капука», петлю — «дырл», по-видимому, от дырки. И так всё. Вечером он сидел на полу и складывал из колечек башню. Вдруг запел, приблизительно на мотив детской песенки, которую ему постоянно пела Галя — «Заинька, поскачи, миленький, поскачи», да как-то так складно: «Капука дырл, дырл, дырл, пука пука, дырл, дырл, дырл». Ну и смеялся же я.
Забавный он и уютный невероятно. К громадному моему сожалению я с ним мало бываю. Занят, занят, а особенно после отпуска на заводе накапливается столько дел, невпроворот.
Осенью 1932 года нам всё же пришлось приискать домработницу. Слишком много времени уходило у Гали на хозяйство, особенно на стояние в очередях за продуктами первой необходимости, так что ей почти не удавалось работать даже дома.
Первую девушку мы привезли из деревни с Валдая. Полагали, что деревенская простота нравов послужит гарантией от всяких городских соблазнов. К тому же в деревне она голодала и, казалось бы, должна была оценить сравнительно лёгкую работу и сытую жизнь.
Вначале она действительно была проста, трудолюбива и послушна. Но чрезвычайно скоро, на прогулках с Алёшей она усвоила полный курс «университета» морали московских домработниц. Через два месяца она заявила, что не может есть чёрный хлеб и потребовала покупать ей французские булки, выдавать спецодежду, а в 6 часов вечера бросала все дела в любой степени недоделания и шла гулять с подругами на бульвар или в кино, мотивируя тем, что:
— У нас пролетарская власть и рабочий день не может быть более восьми часов.
А дома у нас стали появляться какие-то совершенно незнакомые парни, нахальные и разудалые, зато её знакомые. Пришлось с ней расстаться.
Потом их за пять лет переменилось человек восемь. Две нас крупно обокрали, одна потихоньку поколачивала Алёньку, другая кормила его жёваным хлебом, следующая употребляла совершенно нецензурные выражения, а сынок их повторял. Это всё были молоденькие девчонки с периферии, которые мечтали сбежать из деревни и обосноваться в Москве, а в конце концов выйти здесь замуж. Работа в семье была для них скучна и не интересна, но зато был необходимый трамплин, чтобы прописаться в Москве и, сориентировавшись, пробиться на подходящую фабрику или, ещё лучше, в продуктовый магазин, выхлопотать себе общежитие и начать «весёлый» образ жизни в столице. Ни одна из них не оставалась у нас более месяца и не соглашалась поехать на дачу:
— Деревней мы и без вас сыты!
Но попалась нам и серьёзная девушка, Нюра. Она удовлетворяла всем кондициям и была в меру культурна, чтобы понимать и исполнять наши гигиенические и педагогические правила. При ней случилось чрезвычайное происшествие, для описания которого придётся мне сделать отступление.
В то время начальником ГПУ был Ягода. Человек холодный и жестокий, он был, очевидно, под стать Сталину, орудием для расправы с инакомыслящими и для укрепления его власти. Крупнейшими операциями, проводившимися в то время: ликвидацией кулачества и добиванием социалистов, он руководил образцово.
При нём была введена система повторных сроков, обрекавшая социалистов на пожизненную тюрьму и ссылку при начальном кратковременном приговоре 3–5 лет. При нём же, если не ошибаюсь, у политических заключённых были отняты те немногие преимущества перед уголовниками, которыми они пользовались при царском правительстве. Они были поставлены на ступеньку даже более низкую, чем воры, убийцы и насильники, как люди, якобы совершавшие тягчайшие преступления против Родины. Я мог «гордиться» тем обстоятельством, что женой Ягоды в то время стала моя одноклассница по школе Свентицкой, некогда угощавшая меня блинами во время голода, племянница Свердлова Ида Авербах.
На этом мрачном фоне была только одна светлая точка, словно игрушечный кораблик, пытающийся бороться с бурей — Политический красный крест, возглавляемый первой женой Горького — Екатериной Павловной Пешковой. Эта совершенно честная организация, не числившаяся в штатах никакого ведомства и не получавшая ни от кого субсидий, делала для заключённых бесконечно много: собирала пожертвования и отправляла их в виде тысяч посылок во все тюрьмы Союза, делала передачи, хлопотала о свиданиях и переписке для родных, искала мужественных адвокатов, соглашавшихся выступить на редких гласных процессах. Всё это делали четыре женщины — Пешкова, две её сотрудницы и курьерша. Больше сотрудников держать ГПУ не разрешало.
Конечно, штатные сотрудницы не могли бы справиться со своими задачами, если бы им не помогала широкая общественность. Все родственники заключённых, все вырвавшиеся из тюрем, многие интеллигенты, возмущавшиеся систематической травлей и истреблением наиболее бескорыстных, наиболее преданных людей России, помогали, чем можно, Екатерине Павловне: доставали деньги и продукты в фонд помощи заключённым, исполняли разные поручения, вплоть до заколачивания ящиков с посылками в места заключения.
Это была опасная работа. ГПУ, не решавшееся закрыть организацию, имевшую агреман, полученный в первые годы советской власти от Ленина и Дзержинского. Екатерина Павловна была лично дружна с Лениным ещё в эмиграции и выполняла его задания. Но спецорганы всячески старались свести на нет деятельность Екатерины Павловны, лишая её той общественной поддержки, при наличии которой она и могла существовать. Люди из её актива систематически арестовывались. Так попал на Соловки Винавер, принимавший горячее участие в организации Креста. Так попала в Суздальский монастырь моя тётушка Лена и многие другие.
Я часто бывал в Кресте на Кузнецком 24 в годы сидки мамы, знал всех его сотрудниц и некоторых помощников. Там я и познакомился с Ириной Алексеевной Сысоевой, заменившей Лену на добровольной работе в Кресте.
Это была маленькая женщина с привлекательным лицом и великолепной шевелюрой. Она вела мужественную жизнь. Разведясь с мужем, крупным партийцем, она самостоятельно воспитывала двух детей и заботилась о жившем с ней брате. Она зарабатывала и, сверх того, все силы отдавала общественной работе в Кресте.
В это время моя няня Груша вернулась в Москву. Мы не видели возможности предоставить ей удобное жильё и рекомендовали её Ирине Алексеевне. Няня жила в маленькой комнатке при кухне, вела у Ирины Алексеевны хозяйство и очень много помогала нам с нашими детьми. Дети её крепко любили и всю жизнь считали её родной бабушкой. Жили мы от няни близко: мы — в Колокольниковом переулке, а она — на Лубянском проезде (позже — проезде Серова). В этом самом доме жил и застрелился Маяковский, там теперь его музей. Гале не повезло. Будучи как-то у няни в гостях, она слышала последний его выстрел.
Няня и Ирина Алексеевна искренне полюбили друг друга. Да Ирину Алексеевну и нельзя было не полюбить, столько в ней было доброты, человечности, необыкновенного спокойствия и большого ума. В этот период мы с ней тоже близко познакомились и, навещая Грушу, постоянно к ней заходили.
Случилась у Алёши удачная няня, девушка Нюра. Заметим, не Анета или Дора или Софа, как называли себя предыдущие девицы, а просто Нюра. Я решил, воспользовавшись этим, уговорить Галю отдохнуть, первый раз в жизни. Пришлось затратить много сил, чтобы она согласилась. Купили на заводе путёвку на две недели в дом отдыха в Савва-Звенигородском монастыре. Гале там очень понравилось Она жила вдвоём с приятной женщиной, обедала в трапезной, много ходила на лыжах и сдавала нормы ГТО.
10 февраля я, поднатужившись, послал ей денег, чтобы продлить её отдых ещё на две недели и написал письмо, что к 12-му приеду навестить. Накануне ночью, склонившись над Алёшей, я почувствовал дикую боль в пояснице, едва-едва не упал на ребёнка. Кое-как подполз к своей кровати и, едва сдерживая крик, грохнулся на неё. Утром как будто боль прошла. «Ну, — думаю, — слава богу, значит это что-то случайное». Решил перед поездкой к Гале навестить няню Грушу. Я позвонил, как обычно, с чёрного хода, чтобы сначала посидеть с няней, а потом навестить Ирину Алексеевну. И услышал:
— Данюшка, не в добрый час ты ко мне пришёл! — Так встретила меня няня, указывая глазами на угол кухни.
В углу сидел пожилой красноармеец с винтовкой на коленях. Я сразу понял ситуацию. В кухне была масса народу: в квартире жили три семьи. К ним приходило множество знакомых. На кухню забегали домработницы из других квартир занять соли или спичек, наведывались разносчики, старьёвщики, молочницы, нищие… Все прилипали к липкой бумаге засады. ГПУ явно предполагало, что видный диверсант может принять облик простой молочницы. Знакомые хозяев толпились в комнатах. Я был удивлён, услышав оттуда смех. Это родственники Ирины Алексеевны затеяли какие-то игры, чтобы поднять настроение людей, попавших «как кур в ощип». Саму Ирину Алексеевну уже увезли. К моему приходу засада продолжалась уже вторые сутки.
Я заявил, что знаком только со старушкой няней, которая меня вырастила, и пришёл её навестить. Разумеется, это не произвело никакого впечатления. Всё же я не пошёл в комнаты и упрямо продолжал сидеть в кухне.
Застрявший народ надо было не только отвлекать от мрачных мыслей, но и кормить, поэтому все три семьи объединили все запасы своих продуктов и осуществили кое-какое пропитание. Но за сутки все запасы были уже начисто съедены. После долгих переговоров выпустили 13-летнюю дочь Ирины Алексеевны, Талочку, в лавку.
Я просидел в кухне часов пять. Народ всё прибывал. Естественно, что о каждом человеке, ушедшем на минутку или на час, и не вернувшемся, родные беспокоились, отправлялись искать и в свою очередь попадали на липкую бумажку.
Я рад был, что меня некому искать, хотя ужасно беспокоился за Алёшу, который остался с одной только домработницей.
К вечеру квартира была переполнена до невозможности. Наконец, приехал какой-то тип, который начал сортировать дневной «улов». Он отпустил домработниц и молочниц, оставил под домашним арестом знакомых соседей, а всех пришедших к Сысоевым начал вывозить. Среди них я обнаружил свою тётку Магу с дочкой Марьяной и мачеху — Тамару Аркадьевну. Меня тоже присоединили к этой группе, не поверив моим показаниям, что я знаком только с няней.
Вывозили нас по одному в легковой машине, которая то и дело возвращалась. Ясно было, что возят рядом — на Лубянку. Действительно, меня с помощью ударов прикладами, так как у меня возобновились дикие боли, впихнули в машину и только перевезли через Мясницкую (позже — улицу Кирова) и, даже не заезжая во двор, остановились у парадного. «И как бензина им не жалко, ведь рядом пешком довести», — подумал я. Однако «нет худа без добра»: едва ли я смог бы дойти сам даже такое расстояние, так страшно ломило поясницу. Буквально каждый шаг был испытанием воли, и так трудно было не кричать или хотя бы не стонать. Я все мысли свои напрягал, твердил себе: «Покажи свою силу воли». Вот, наконец, пятый этаж, конец коридора у окна. С меня сняли подтяжки, шнурки от ботинок, английскую булавку, заменявшую оторванную пуговицу, кошелёк с мелочью. Велели обождать. Стою, разглядываю ковровые дорожки, панели, выкрашенные в салатный цвет, ряд матовых светильников, уходящих в даль коридора. Электропроводка скрытая — это новинка, но как же они поступают, если в линии замыкание или блуждающий контакт? Неужели ломают штукатурку? Или у них в стенах потайные ходы? А в общем приличный коридор.
Думал я и о том, что мне придётся говорить. Скрывать своё знакомство с Ириной Алексеевной не имело смысла, поскольку дела моих родных пришли непосредственно к ней. Лучше признать у неё наличие критического подхода к советской действительности, но в каких-то мелочах. Так мне будет больше веры. О себе не набиваться, но на прямые вопросы ничего не скрывать. Я чувствовал себя довольно спокойно: о пытках в ту пору ещё не говорили, а сидеть в тюрьме — по собственному опыту и рассказам родных — было терпимо.
Сколько мне могут дать? Никакой вины за мной нету, а за знакомство с добровольной помощницей Креста, я считал это естественным, ну, максимум, три года.
Через полчаса меня вызвал следователь. Мне посчастливилось попасть не к простому, а к главному следователю по делу Сысоевой. Не помню, как тогда это называлось, но следователь имел чин, равный теперешнему майору. Это был еврей, плотный, с квадратным лицом, тяжёлыми чертами, лет пятидесяти. На его письменном столе, покрытом зеркальным стеклом, лежал с правой стороны наган, с левой — стопка книг и самая верхняя из них — Горький: «Когда враг не сдаётся, его уничтожают». «Эта выложена специально для меня, — подумал я. Интересно, что сказал бы Алексей Максимович, если б знал, что того карапуза, которому он показывал свои розы на Капри, через четверть века будут пугать в охранке его брошюрой».
После ряда формальных вопросов — кто, где, откуда, Шульман перешёл к делу:
— Расскажите, о каких контрреволюционных действиях вы сговаривались с Сысоевой.
— Ни о каких. Я с ней вообще не говорил на политические темы.
— Напрасно скрываете. Сысоева уже во всём призналась и назвала вас в числе своих сообщников.
Это был большой промах с его стороны. «Э-э, думаю, это ты врёшь. Никак не могла она признаться в том, чего не было. Значит, и всё дальнейшее будет сплошное враньё».
— Не могли же вы, интеллигентные люди, не касаться в разговорах общественных тем. Что же, вас совсем не интересуют происходящие в нашей стране перемены?
— Нет, почему же, касались.
— Ну, и как же Сысоева оценивала эти перемены?
— Она же вам во всём созналась. Что же вам ещё надо?
— Я хочу слышать от вас.
— В общем отзывалась положительно.
— А в частности? С чем она не согласна?
— Почему она обязательно должна быть с чем-нибудь не согласна?
— Не будете же вы утверждать, что она, старая эсерка, одобряет все действия советской власти?
Вот это ново! Никогда не слышал, что Ирина Алексеевна имела какое-либо отношение к эсерам! Ну что бы ему сказать?
— Припоминаю, что как-то она в разговоре высказывала сомнение в правильности взятых темпов индустриализации. Насчёт преимуществ группы А перед группой Б.
Тогда все об этом говорили, все сомневались, поэтому я счёл это наименьшим из возможных грехов. Ну и хватит с него для правдоподобия.
— Хорошо. Ну, а как насчёт темпов коллективизации?
— Об этом мы не говорили.
— А об отношении советской власти к контрреволюционным партиям меньшевиков и эсеров?
— Нет, тоже не говорили.
Шульман начал повышать голос:
— Я вам советую не валять дурака! Помните, что от этого зависит ваша судьба. Запирательство служит доказательством соучастия.
— Если вам не нравятся мои ответы, я могу помолчать.
Но моё молчание устраивало его ещё меньше. Он принялся грозить и пугать меня пуще прежнего, стал выражаться нецензурно. Было как-то неловко, всё-таки он производил впечатление интеллигентного человека. Что касается выражений, то я их наслушался в исправдоме и на заводах предостаточно и потому они не производили на меня должного впечатления. Эта сцена продолжалась часа два. Наконец Шульман взорвался:
— Нет, это чёрт знает что! Я не могу больше разговаривать с этим негодяем!
Он схватил наган и изо всей силы трахнул им по столу. Зеркальное стекло разлетелось на куски, от центра удара по радиусам разошлись трещины. Он заметался по кабинету и выскочил в дверь, оставив револьвер на столе. Всё это напоминало мелодраму из любительского спектакля. «Карл Иваныч блины пёк, пёк, недопёк, рассердился и убёг» — вспомнилась мне детская песенка. «А наган-то, безусловно не заряжен, иначе он бы его не бросил».
— Как это тяжело, что в нашей системе есть отдельные несдержанные товарищи, которые позволяют себе так обращаться с арестованными. Ведь вы даже не обвиняемый, вы только подозреваемый, и я надеюсь, что искренними показаниями вы полностью снимете с себя подозрения. А между тем, они… Мне просто хочется извиниться перед вами за Шульмана. Он перерабатывает, утомлён, конечно, нервы, но всё же можно бы сдерживать себя! — Я забыл вам представиться. Следователь… (не упомнил его фамилию, ну скажем, Крутов). Ведь вы не будете, конечно, отрицать, что Сысоева осуждала партию за аресты меньшевиков и эсеров?
Но так как я продолжал настаивать, что не слышал от неё ничего подобного, Крутов перешёл к деловому тону допроса. Он интересовался мной лично, моими взглядами, моим мировоззрением и только по временам спрашивал, как бы невзначай:
— В этом вы согласны с Сысоевой?
Он прошёлся по моим знакомым и, видимо, остался недоволен моим явным нежеланием посадить кого-нибудь из них. Около часа продолжался допрос в кабинете Шульмана, после чего мы перешли в собственный кабинет Крутова. Он был куда поменьше и поплоше. Там мы беседовали ещё часа два. Льщу себя надеждой, что мне удалось никого не подвести под монастырь. В ходе допроса я убедился, что в ГПУ ничего не знали о моём отказе от военной службы. Иначе непременно разыграли бы этот сюжетец. Я вывел утешительное заключение, что не так уж они чётко работают и не так уж всё знают.
Крутов был суров, грозил, но не хамил. К трём часам ночи он явно выдохся, передал меня другому следователю, Качкину, и пошёл спать. Качкин, бесцветный худой блондин, принялся мне задавать те же самые вопросы, которые задавали и Шульман и Крутов, но как-то лениво, словно не надеясь получить на них новые ответы. Постепенно он иссякал и начинал ходить по кругу. Он или не помнил или не мог ничего изобрести. Вопросы всё меньше относились к делу: как я сдавал политграмоту, чему меня учили обществоведы и т. п. Мы наткнулись на Энгельса и на нём застряли:
— Читали вы его произведение «О браке, семье и школе»?
— Читал.
— А ваша жена читала?
— Кажется, нет.
— И вы допустили, чтобы молодая женщина вступила в брак, не будучи знакома с этим основополагающим сочинением классика марксизма? Как же вы исполняете свой долг по отношению к своей жене, судьбу которой вам вручило государство?
И он принялся читать мне нотацию.
— Гражданин следователь, у меня предложение: если вам не о чем меня спрашивать, то давайте подремлем немного. Никто не узнает.
Качкин покраснел, надулся и принялся строчить. Он строчил около часа, и я-таки малость вздремнул.
— Подпишите протокол.
— Дайте прочитать.
— Вы что, мне не верите? — Конечно, не верю. А разве вы мне верите? — Ну читайте, только поскорее.
Ему уже было невмоготу. Брезжил зимний рассвет. Допрос продолжался 10 часов. Я прочитал протокол. Чего там только не было! Сысоева изображалась как глава контрреволюционного заговора, она вела широкую агитацию, вовлекла меня в какую-то группу, чернила все мероприятия советской власти и т. д. — Вы имеете право исправить отдельные неточности.
— Здесь нечего исправлять, надо всё написать заново. Дайте мне бумагу, я напишу сам.
— Это совершенно лишнее. Насидитесь, подпишете.
Он вызвал конвойного, сказал:
— В карантин!
Конвойный повёл меня по бесконечным коридорам и лестницам. Больше вниз, чем вверх. Мне казалось, что мы должны бы давно выйти за пределы здания. Постепенно мы спустились в подвальный этаж. В полутёмном коридоре конвойный передал меня надзирателю. Последний отпер тяжёлую железную дверь, на которой стоял номер 3, впустил меня и опять запер. Я оказался в комнатушке размером 1,5 ×1,5 метра. Две трети её занимали дощатые нары. Никакого признака окна или хотя бы вентиляционной отдушины. Зато во всю стену, противоположную двери, занимал громадный радиатор. Кроме лампочки на высоком потолке в камере не было ни одного предмета. В общем она произвела на меня сносное впечатление.
Я с опаской лёг на нары, хотя было душно и вытянуться было нельзя, и постарался заснуть. К удивлению, мне это не удалось. На десятичасовом допросе зверски хотелось спать, а здесь лезли в голову всякие мысли: «Найдёт ли Нюра — наша домработница — Галин адрес? Что она будет делать, оставшись одна с ребёнком и без денег? Догадается ли Галя, что раз я не приеду к ней завтра, значит что-то случилось и надо ехать в Москву, или решит, что опять на заводе очередной аврал и можно подождать с недельку?»
Так прошло два часа. Ничто, кроме температуры, не изменилось. Радиатор накалился и становилось нестерпимо жарко. Я разделся до белья. Загремел замок, и в камеру ввели второго заключённого. Это было неожиданностью, я думал, что карантин, это обязательно одиночка. Пришелец был подавлен, мрачен и неразговорчив.
Я подвинулся и он лёг рядом на нары, точно так же раздевшись. Через час явился третий. «Ну, уж это слишком!» подумал я. Пришлось сесть. Ещё через полчаса впихнули сразу двоих.
Я начинал догадываться, что попал не в карантин, а в камеру пыток. Мы, сидевшие на нарах, подобрали под себя ноги, а двое последних — встали в проходе. У меня опять схватило спину, да так! А я не мог даже принять более удобное положение.
Радиатор жарил немилосердно, и всё больше. К нему нельзя было прикоснуться.
По опыту работы в оранжерее и сушилки на заводе я хорошо умел отличать высокие температуры. В нашей камере было около 50°. Кроме того было страшно душно. Невыносимо пахло потом и горелой краской.
Выражаясь современным научным языком, НПК (наивысшие предельные концентрации) двуокиси углерода давно оставались позади и приближались к летальной (смертельной). Ясно. Над нами повторялся опыт Лавуазье с мышами: их сажали под стеклянный колпачок и наблюдали, как они задохнутся. Только это был усложнённый вариант с немыслимо высокой температурой.
Все дышали шумно и хрипло, в висках стучало, в глазах плавали красные кольца. Пробовали стучать в дверь — бесполезно. По стукам, доносившимся снаружи, мы поняли, что не мы одни находимся в таком положении.
Внезапно мне пришла в голову прогрессивная дебютная идея. Я поменялся местом со стоявшим в проходе товарищем и, согнувшись в три погибели, попытался всасывать воздух из-под дверной щели. Опыт оказался удачным. Струйки затхлого воздуха тюремного коридора показались живительными, прямо-таки ароматными. Минуты три я вдыхал полной грудью, потом, решив дать возможность подышать другим, с трудом оторвавшись, уступил место товарищу. Так, меняясь по три минуты, мы производили взаимную реанимацию. Но нас было пятеро, и в ожидании своей очереди мы почти теряли сознание. При смене «счастливца» к щели приходилось передвигаться всем, как бы кольцом, и двое из нас оказывались прижатыми плотно к чуть не раскалённому радиатору. Вот это уже было похоже на сожжение на средневековом костре. Тут уж никто не выдерживал и откровенно стонал, а некоторые изливали свои мучения в непристойной ругани. Множество раз доходила и до меня очередь в этой истинной пытке. Однако, когда в очередной раз я охотно уступал следующему товарищу эту своеобразную грелку, я почувствовал, что боль в спине уменьшается и ещё через несколько «оборотов» по камере она оставила меня вовсе. Насколько же мне стало легче существовать! То тут я вспомнил анекдот про старого еврея и козла.
Несмотря на богатые возможности, открывшиеся нам с помощью щели под дверью, всем становилось «скучновато», и «здорово». Поэтому нам показалось совершенно своевременным, когда вновь загремел замок и явившийся надзиратель провозгласил:
— Выходи в баню.
Мы буквально выползли, шатаясь. Я пробыл в «теплушке» шесть часов. Нам чертовски повезло. Как я потом узнал, накануне из соседнего карантина вынесли компанию кубанских казаков, которые пробыли там три дня. Их выносили конвойные на носилках. Все они были совершенно лиловые, как задохнувшиеся на пожаре или висельники, может быть, они уже были мёртвые.
Баня мне показалась довольно приличной. Выложена изразцами, с рядом душей. Вещи наши забрали в вошебойку. Было холодно, особенно после карантина. Одежду ждали на холоде, долго.
Потом нас развели по камерам. Меня — в такую, где плечом к плечу, как на переполненной площадке трамвая, стояла толпа народа. Большинство было в пальто или в ватниках. Толпа гудела, как улей. Все разговаривали по парам или группами. У дверей стояла параша. Прочая мебель состояла из асфальтового пола, очень низкого потолка, четырёх засаленных стен и проходящей вдоль них вместо плинтуса прямой трубы центрального отопления. Два окна наполовину уходили в землю, наполовину были забиты щитами. Форточки при этом были настежь открыты. На улице был сильный декабрьский мороз, разумеется, и «наша горница с богом не спорилась». Особенно по полу гуляли ледяные струи. Заключённые объяснили мне, что они сами открывают форточки днём на четверть часа, так как спираль образуется невозможная.
Камера была рассчитана на 12 человек, но, ввиду переполненности тюрем, заключённых в ней оказалось около 30. Негде было не то, чтобы сесть, но все норовили захватить места около стен, чтобы хоть стоять-то, опираясь.
Почка моя от перемен климата снова отчаянно разболелась. Это было добавочное испытание, почти нестерпимое, но я понимал, что жаловаться, просить медицинской помощи, бесполезно. Оставалось терпеть.
Чтобы отвлечься от болей, я постарался побыстрей познакомиться. В камере была удивительная смесь профессий, сословий, уровней развития. Народ сам рассортировался по интересам: у левой стены собрались интеллигенты, рассуждающие о судьбах России, у правой — какая-то публика, толковавшая о том, как хорошо бы сейчас выпить, а потом девочек употребить…
Оказался в камере знакомый Ирины Алексеевны, взятый вместе со мной, — Сила Данилыч Заскальный. Он и на воле-то вызывал у меня чувство недоверия. Всё в нём, начиная от имени и кончая русой бородой лопатой, казалось мне неестественным, наигранным, напоминавшим не то «ухаря-купца», не то провинциального артиста. Насторожило меня и то, что когда я вошёл, он был уже со многими запанибрата, громко разговаривал, преувеличенно откровенно высказывался и вёл себя, как говорили до революции, что, мол «тащи меня в Петропавловку». Он встретил меня как своего единомышленника, но я постарался отстраниться от его братских объятий. Позже я узнал, что был глубоко прав. Заскальный вёл себя во время следствия по меньшей мере глупо, если не провокационно.
В камере имелся сифилитик в последней стадии разложения. Это был поляк, уже впавший в идиотизм. Он что-то бормотал или невнятно мычал, изо рта его текли слюни, от него воняло хуже, чем от параши. Воображаю состояние людей, которые должны были стоять вплотную к нему. Меня предупредили, что он «наседка». Что он только притворяется круглым идиотом, а на самом деле всё понимает и обо всём доносит.
Языки в тюрьме невольно развязываются. Люди рассуждают так: «Хуже быть не может, так по крайней мере душу отвести!». И потому ругают советскую власть почём зря. Поэтому «наседка» в каждой камере должна быть, а если она при этом ещё и больна сифилисом, то это вдвойне ценно. «За ту же цену» она отравляет людям существование и заставляет их поскорей выбраться из камеры, хотя бы ценой предательства. Впрочем, применялись и более гуманные способы, из них главный — пытка бессонницей. В камере был главный бухгалтер Красного креста, официального, не Пешковского. Старик был худ и невероятно измождён, с красными воспалёнными глазами. Его, когда я пришёл, допрашивали четвёртые сутки. Каждые 8 часов его отпускали в камеру. Он валился как сноп на пол. Люди теснились. Освобождая ему место, прекращали разговоры. В камере устанавливалась тишина. Но сейчас же за этим щёлкал волчок, и надзиратель, убедившись, что несчастный заснул, входил в камеру:
— Нечаев (фамилию я называю условно, не помню настоящей), на выход, без вещей!
Его дело заключалось в том, что когда он в последний раз ездил в дом отдыха, из провинции к нему приезжал брат и попросил разрешения пожить в его квартире. Кто-то из соседей донёс, что к брату приходили неизвестные люди, по соображениям доносчиков — шпионы. Поэтому, когда Нечаев вернулся, брат уже сидел, а его взяли как «содержателя явочной квартиры по заданию иностранной разведки». От него требовали чистосердечного признания и, в качестве доказательства искренности, подписания протокола, в котором обвинялись в соучастии ещё человек 80–100.
Старика было невообразимо жаль. Он уже заговаривался и стал трястись, как при болезни Паркинсона. На третий день моего пребывания в камере он ввалился к нам и, глядя на нас безумными глазами, прошептал:
— Я подписал.
Кто-то из новичков его упрекнул:
— Что же вы наделали! Подумайте об…
— Я больше не могу. Мне 60 лет, и я неделю не спал.
В нашем углу подобралась очень хорошая группа культурных людей, которые много знали, с которыми было интересно поговорить на любые темы. Общая беда быстро сближает людей. Душой нашего кружка скоро оказался один эсер, привезённый из Симферополя. Это был невысокий круглолицый человек с мягкими чертами лица и скорбными складками у рта, словно он привык страдать, что не мешало ему, однако, улыбаться. Он был жестоко болен туберкулёзом позвоночника и согнут так, что не мог ни стоять, ни лежать. Он всегда сидел на маленьком ящичке со своими вещами (нам разрешалось иметь смену белья, зубную щётку, мыло). Страдал он ужасно, но никогда не жаловался. Ночью он сидел, привалившись к стене, и так спал. А днём он рассказывал нам бесконечные случаи из своей богатой жизни и работы, из истории Крыма, из жизни народов его края. Он давно уже со своим ящичком скитался по тюрьмам, обо всём говорил энергетически-спокойно, о людях, даже о врагах, отзывался без злобы. Во всех его рассказах сквозила цель — развлечь нас, оторвать от тяжёлых дум о родных, о будущем, побудить нас смотреть на жизнь оптимистически. Казалось, что он считает это частью своей общественной работы, которой он себя посвятил. Светлый образ его, этого мужественного человека, остался, как самое яркое воспоминание от моего пребывания в ГПУ.
На ночь форточку закрывали, и все ложились на пол. Лежать на спине или животе общественностью камеры не разрешалось. С вечера все ложились на правый бок, чтобы не дышать друг другу в лицо. Упаковка была плотная, как сельди в бочке. Лежали в два ряда вдоль продольных стен, причём для ног уже места не хватало, их клали друг на друга. В два часа ночи староста командовал:
— Повернись на левый бок!
Все дружно переворачивались. Через два часа опять:
— Повернись на правый бок!
И так далее. Что староста проспит, опасности не было: спали мы все очень плохо. Ночью проводились «операции», непрерывно скрипели засовы и надзиратель громко вызывал заключённых поодиночке или группами. При этом никто не знал, куда его ведут: на допрос, на расстрел, в другую тюрьму или на волю. По слухам, расстреливали тут же, в ещё более глубоких подвалах. Вели как будто на допрос, и внезапно конвойный стрелял в затылок Может, это было совсем не так, кто мог об этом рассказать?
Мне опять повезло. Первую ночь на полу не хватило места и я, как водится, просидел на параше. Это было удобно, но не для сна, поминутно приходилось вскакивать и уступать место. Впрочем, камера установила железный закон: пользоваться парашей только для малых дел, иначе нельзя было бы жить. В уборную выпускали только два раза в сутки: в 6 часов утра и в 6 вечера. Это всегда был праздник. Кроме естественных чувств облегчения, это заменяло нам прогулку. Не шутка — 15 шагов туда и 15 назад, что может быть лучше!? И опять же свежие впечатления: можно посмотреть на старшего «мента», сидящего за столиком у двери, можно встретить кого-либо из заключённых, кого ведёт конвойный…
Во вторую ночь я уже лежал на полу, притиснутый к стене коридора. Ходившие на парашу наступали мне на ноги, но опять же «это детали, а важен самый факт». Мне чертовски повезло вторично. Факт состоял в том, что спиной я был прижат к трубе центрального отопления, которая так накалилась, что я вертелся бы как грешник на вертеле, если б мог пошевелиться хоть одной частью тела. Я обжёг себе спину, так что кожа сходила, но это было то, чего жаждала моя почка. Это была горячая бутылка, которую прописывал мне врач, но мне было лень прикладывать её. За неделю я исцелился полностью, и за это вспоминаю Лубянку с благодарностью.
Кормили хорошо. Пайка была большая: утром и вечером кипяток, а в обед миска каши, по большей части — шрапнели. Для вегетарианца — прямо-таки лафа. Но народ никогда не бывает доволен.
Все заключённые не надеялись выйти на волю, такого в те времена абсолютно не бывало. Но мечтали получить приговора несколько лет тюрьмы, чтобы сидеть здесь же, на Лубянке, на верхних этажах. Про эти этажи рассказывают байки, будто бы там сидят по четыре человека и спят на койках, так же как в Бутырках.
Про меня как-будто забыли. Наконец, на седьмой день:
— Арманд, без вещей!
Привели на допрос. Опять Качкин, на этот раз подтянутый и злой.
— Ну, надумали подписать?
— Подписать? Нет, не надумал.
— Последнее слово?
— Последнее.
— Ну, как хотите. Мы вас считали случайным человеком, а теперь мы видим, что вы с ними заодно, что вы такой же член шайки. Что ж, пеняйте на себя! Но вы отсюда не выйдете. Вы здесь сгниёте!
Ничего не скажешь, окончил он эффектно. Когда я вернулся в камеру и рассказал товарищам о том, что обещал мне следователь, они только рассмеялись:
— Э, ничего не значит. Собака лает, ветер носит. Могут, конечно, всыпать пятёрку, но и это не смерть.
Мы ещё обсуждали это происшествие, когда раздалось снова:
— Арманд, с вещами.
Значит, доживать мне придётся где-то в другом месте. Вещей у меня не было никаких. Я быстро попрощался с товарищами и вышел. После долгого путешествия по коридорам я оказался в комендатуре:
— Распишитесь.
— В чём?
— В получении личного имущества.
Я расписался.
— А имущество?
— Сегодня выходной. Каптерка закрыта. Придешь завтра, а теперь выходи!
— Куда?
— Вот бестолочь! Да на волю!
И дежурный вытолкал меня прямо на Лубянскую площадь.
Ну уж! Я ожидал чего угодно, только не этого! Я постоял с минуту, переживая, потом, подхватив спадавшие брюки, пустился наутёк. Шёл густой снег. Ноги вязли и ботинки полностью сваливались. Эх кабы шнурки! Но даже верёвочки нигде не валялось. Я проковылял до Варварской площади (позже — площади Ногина). До дома — километров семь, а я уже совсем измучился и ноги промочил. Собрался с духом, подошёл к какому-то солидному мужчине в бобровой шапке и подумал: «Ведь не даст, сволочь», а вслух сказал:
— Выручите, гражданин, дайте на трамвай 20 копеек. Кошелёк дома забыл.
Он поглядел саркастически на мои ботинки, на брюки, на небритую физиономию:
— С Лубянки?
— Да.
— Сам там побывал, вот так брюки поддерживал.
И дал мне рубль.
Домашние при моём появлении изобразили живую картину Репина «Не ждали». Разговоров было!
У них сравнительно всё не плохо. Нюра сумела справиться с Алёшей, нашла Нинин адрес. Нина съездила за Галей, которая тотчас вернулась к сыночку. Но Нюра, дико испугавшись событий, попросила расчёт, хоть с Алёшей прощалась со слезами.
Мы взяли к себе четырёхлетнюю Марьяну, которая после ареста Маги осталась у чужих людей.
Единственное, что меня беспокоило, это завод. Но в цеху меня встретили просто даже хорошо и сочувственно, внимательно. Оказывается, я обязан был своему быстрому освобождению именно заводу. ГПУ запросило мою характеристику, и мой на редкость осторожный заместитель Болховитинов, дрожа, как заячий хвост, всё-таки написал мне самый лестный отзыв, из которого можно было понять, что цех остановится, если меня не выпустят.
Через две недели выпустили Тамару Аркадьевну, через месяц — Магу.
Забегая вперёд, скажу, что добрая, самоотверженная, прекрасная Ирина Алексеевна из-за своей твёрдости и порядочности, а главное — прямоте, получила пожизненный срок концлагеря. Она досидела до Ежова, это была беда. Здесь уже не было спасения. Она пересидела всю войну и там умерла, не дождавшись смерти Сталина.
Всё это нас всех, уважающих и любящих её, невероятно огорчало.
Дома у нас всё было хорошо.
Но бедная Галочка, как она за эту неделю осунулась, побледнела. Глаза стали какими-то грустно-вопросительными.
Зато Алёнька по-прежнему радовался жизни. Его радовало всё, он мог часами заниматься даже клочком бумаги, сминая её и расправляя. За эту одну неделю он сильно изменился, вырос и даже стал проявлять свой характер. Иногда упрямился, и его ничем нельзя было убедить. В таких случаях Галя ему говорила, как когда-то в моём детстве няня говорила мне: «Уйду от тебя!» Впрочем, она никогда не добавляла, как няня Груша: «…и больше не приду!» Тут уж Алёнька быстро сдавался. Любопытно, что он этот разговор хорошо запомнил, и через год-два сам говорил, когда был чем-либо недоволен:
— Уйду далеко, Аля, я. Так он называл себя.
Он нас постоянно забавлял и смешил своими репликами. Как-то, сидя на окне и глядя на улицу, он впервые увидел снег и сказал:
— Как много соли рассыпали!
Его высказывания были оригинальны, и мы стали их записывать. У нас накопилось несколько толстых тетрадей, заполненных его изречениями, которые мы слышали лет до пяти. Например, после посещения зоопарка он спросил:
— Мам-Галь, аблизян это людь?
— Мне жжалко рыбку. У неё только голова и хвостик. Как же ей бегать и в игрушки играть?
— Я не понял, что такое небо.
— А транвай кто везёт? Мотор? А меня тоже мотор? А я не вижу, где… А корову кто движет?
— Мам-Галь, сделай одно глазо… (то есть встань в профиль). Я посмотрю.
— А в какой стране Африка живёт?
Тут папа подаёт реплику:
— Да он обогнал меня, отца. Он родился географом. А я-то только мечтаю им стать!
— А что это «куртура?» — Подумав: — Ну, я и сам знаю. Это зоопарк!
В трамвае кондуктор объявила:
— Следующая остановка Таганка!
Алёша громким голосом ей возразил:
— Паганки только в лесу бувают!
Мой кратковременный арест всё же имел последствия. Меня сняли с заведования цехом, чему я был чрезвычайно рад.
Правда, рабочие цеха высказывали недовольство. Но сделано это было довольно деликатно. Мне сказали, что было бы хорошо, чтобы я сосредоточил свои усилия на проектировании и постройке новой гальванической мастерской, что, кроме меня, этого никто не сделает. Кроме того, якобы Китаенко выразил желание вернуться на пост заведующего цехом. Мы-то все, впрочем, знали, что Китаенко перевели на его прежнюю должность без его согласия.
Меня назначили на должность старшего мастера гальванической мастерской. Как же бесконечно рад я был освобождению! Цех меня подавлял, а работать под начальством Китаенко для меня было одно удовольствие. Конечно, снижение в должности означало уменьшение зарплаты, но это можно было пережить.
Я с головой, как говорится, ушёл в постройку мастерской. Это же был рецидив настоящей инженерной работы. Это значило, что «щуку бросили в реку».
Завод отвёл мне большое светлое помещение на первом этаже, где-то в конце нового корпуса. С большим трудом я раздобыл большое количество литых базальтовых кирпичей, из которых выложил гальванические ванны. Для постройки этих ванн я вместо цемента удачно применил кремнефтористый натр, разведённый на жидком стекле. Химикат этот я украл; достать иным путём было невозможно, а заводоуправление всегда приветствовало этот метод.
Получилась абсолютно прочная конструкция, не боявшаяся ни кислот, ни щелочей, ни высоких температур, ни особенно низких, а также механических ударов. Это вам были не старые деревянные ванны, покрытые свинцом, постоянно дававшие течь.
Расположены были мои ванны в порядке технологического процесса: отмывка в каустике, промывка в воде, травление, опять промывка в воде, затем далее разветвлено: оцинковка колокола, барабан, кадмирование, меднение, никелировка, серебрение. В особых комнатах помещалось особо вредное хромирование, мощный умформер и распределительные щиты, лаборатория, конторка и кладовка, где хранились боеприпасы для кухни ведьмы: соляная и серная кислоты, царская водка, каустик, цианистый калий и так далее.
В ванне я уложил перфорированные трубы со сжатым воздухом, на тяжёлых операциях установил кошки и, главное, все ванны обвёл коробами, соединёнными с вентиляционными трубами для отсасывания вредных испарений. Особенно заботливо эта операция производилась в хромировочном отделении, где поднимавшийся от ванны хромовый ангидрид вызывал у хромировщиков профессиональное заболевание — у них проваливалась носовая перегородка и ноздри соединялись. Предметом моего внимания была и никелировочная, работавшая на цианистом калии. Один запах от него вызывал дурноту и головную боль. Казалось, что от ванны исходила смердящая вонь смерти. И вот я уловил и направил в трубы весь этот «букет моей бабушки». Под крышей на железных переводах были установлены мощные всасывающие моторвентиляторы, которые могли обеспечить чистый воздух в самом пекле Вельзевула.
У входа я поставил пескоструйную камеру и пистолеты для шоонирования — покрытия деталей тонким слоем расплавленного металла.
Я очень гордился своей новой мастерской. В ней был применён ряд технических новинок. Скоро слух о ней распространился, и ко мне зачастили, чтобы посмотреть и поучиться, представители других заводов из Москвы и из провинции.
Когда мастерская начала работать, для рабочих началась новая эра. Вместо мрачных, тесных сводов церковных приделов они попали в светлые просторные помещения, где полы были выстланы метлахской плиткой, а стены — стеклянными изразцами.
Вздохнул легче и завод. Раньше антикоррозийные покрытия были вечно узким местом и тормозили все цеха. Теперь мы успешно справлялись с возросшими заданиями. Особенно много цинковали крепежа с помощью механизированных приспособлений.
Я снова засел за учебник электрохимии Н. А. Изгарышева и, хотя многое понял, всё же в химики не годился и, как исправить ванну, дающую отслаивающуюся никелировку, не знал. Поэтому я добился единицы заведующего лабораторией. Мне дали молодого способного инженера-химика Таланова. Он не кусался, когда ему докладывали, что та или иная ванна «не кроет», а, поколдовав над ней, в несколько минут приводил её в чувство.
Чего я не мог добиться, так это простых десятичных весов. Напрасно я писал служебные записки заведующему отделом снабжения, коммерческому директору и, наконец, самому директору завода, что снимаю с себя всякую ответственность за сохранность ядовитых (циан) и ценных (серебро) материалов. Получить весы было невозможно в течение целого года.
Была весна 1933 года. Все брали обязательства к Первому мая. В связи с этим на заводе произошёл забавный случай. Заместитель директора Бобров тоже включился в кампанию. Он обязался замостить обширный заводской двор, на котором всегда гуляли тучи песку. Но он не смог достать булыжника. «Сказал и не сделал. Что же это будет! Невыполнение обязательства таким большим начальником!» Бобров собрал свою «дикую дивизию» в ночь на Первое мая. Они напоили милиционера, дежурившего на городской площади перед заводом, и он проспал всю ночь где-то под забором. А 50 татар-такелажников разобрали уличную мостовую, перебросали булыжники через стену забора и к утру замостили весь двор, навалив сверху для верности отливки корпусов и крышек моторов.
Утром проходящие автомобили стали вязнуть в песке. Куда девалась за ночь мостовая площадь? Секрет, конечно, открыли, Боброва судили и приговорили к уплате штрафа. Мостовая осталась на заводе, а директор Жуков возместил Боброву штраф солидной премией «За отличное выполнение обязательств к Первомайскому празднику».
На лето надо было снова двухлетнего Алёньку вывезти на дачу. Со Стефановичами и хотелось, так мы к ним привыкли, но и боязно было. Решили пожить отдельно. И они молчали, возможно, тоже не хотели.
Я поехал искать дачу. Сняли скверную комнатёнку и с ещё более скверной хозяйкой: грязнухой, хапугой и скандалисткой. Но тогда мы всего этого не знали, а просто сняли самую дешёвую. Это было в Битце, в 30 километрах от Москвы по Курской дороге. При этом мы так израсходовались, буквально до конца, что на переезд денег уже не было. А ребёнку ведь много чего надо, всякие ванночки, кроватки, кастрюльки и многое другое. Выхода не было, и потому я решил, что перевезу все вещи на велосипеде за несколько рейсов. Велосипед моего отца был на ходу, работал прилично, хоть был старичком прошлого века.
Помню один из рейсов. На руле была привязана детская ванночка, громадная, Наташонкина, в метр длины. Она была набита барахлом: спальные и носильные принадлежности Алёши. На раме лежал рюкзак, тоже битком набитый, а на багажнике — бельевая корзина с кастрюльками и другой посудой. На спине у меня были привязаны высоко торчавшие части разобранной Алёшиной кроватки. Прохожие на Подольском шоссе шарахались в ужасе, завидя мой гарнитур на колёсах, а мальчишки, провожая меня, кричали:
— Гляди, робя, ероплан едит!
В Битце Алёша как-то сознательно смотрел на окружающий мир. Он явно испытывал большой подъём. Он как будто впервые увидел красоту и прелесть природы, бурно и ярко это проявляя. В то лето луга цвели особенно пышно и цветисто. Аромат был одуряющий. В первые дни, погуляв с мамой на лугу, он не хотел возвращаться в деревню, ходил по траве выше его головки в каком-то экстазе. Не срывая цветки, обнимал их, прижимал к себе и смешно повторял: «Халошие, халошие». Все шипящие звуки он забавно произносил сквозь зажатые зубки.
По-видимому, несколько насытившись красотой цветов, он стал проявлять любознательность, придумывая разным цветкам свои названия. Когда ему сказали, что все цветочки имеют свои имена, он постоянно спрашивал: «А как зовут жжолтинького?» Пока он слышал названия: колокольчик, лютик, одуванчик, василёк, всё было хорошо. Но как только он услыхал: фиалка, ромашка, незабудка, гвоздика, он как-то сник, глазки стали грустные и он тихо сказал:
— Питиму ты так плохо зовёшь эти цветочки? Они тоже холошие. Не надо говолить ламашка, надо ламаша и ламашенька. Ты не зовешь меня Алёшка?!
Постепенно Алёк как то «привык» к красоте и стал интересоваться ребятишками. По-видимому, за свой жизнерадостный характер он стал любимцем в нашей маленькой деревне. Окрестные ребята приходили с ним поиграть, тут были и шестилетние и двенадцатилетние. Играли они всегда в одну и ту же игру: все дети были стадом, а Алёша — пастухом. Он махал сделанным ему длинным прутом и гнал «стадо» вдоль деревни.
Ребята при этом блеяли, мычали, а кто лаял, назвав себя сторожевой собакой. Так они бегали по деревне из конца в конец, бодаясь, лягаясь и хохоча. Весело было всем, а сыночку — больше всех. Однажды они поспорили: к ним присоединилась маленькая девочка и сказала, что будет курочкой. Ребята постарше заявили, что курочек в стаде не бывает и стали гнать малышку. Игра расстроилась. Алёша побежал к маме за разъяснением. Пришлось маме вмешаться и сказать детям, что умная курочка может быть в стаде. Игра возобновилась с прежним энтузиазмом.
Взрослые жители деревни тоже симпатизировали Алёше. Но это было несколько хуже. Дело в том, что его приглашали в избы и угощали тем, что у них было. После этого у Алёши постоянно болел животик. Но Алёше нравилось ходить в гости. Нередко он, заложив ручки за спину и выпятив свой толстый животик, заявлял маме:
— Ну, я иду.
И при встрече со знакомой хозяйкой объявлял ей:
— Я к тебе кушшать иду.
И его неизменно угощали, и опять больной живот. Галя пробовала говорить с жителями, чтобы не кормили его, но они только обижались. Очень уж он был симпатичный, и им нравилось его угощать. А что это вовсе не во время или что не всё подряд ему надо давать, они вовсе не понимали. А Галя строго воспитывала ребёнка, всё по часам, по рецептам, и соски ему никогда не давала, хоть няньки, которые были у нас, говорили ей:
— Не любишь ты свово мальца. А он так быстренько смотрит.
Я оставил в Битце свой велосипед, решил учить Галю кататься на нём. Дело шло туго. Во-первых, велосипед был невероятно тяжёлым и малоподвижным, да ещё с восьмёркой. А я так редко выбирал время для этого обучения, завод меня поглощал полностью. В Москве, когда пробовали где-нибудь в тихом переулочке, велосипед вёл себя, мягко выражаясь, странно. Он просто безобразничал: вилял и ехал не туда, куда направляла его наездница, а куда ему вздумается. Но это ещё ничего. Он, паршивец, как только на пути попадался прохожий или телега, тут же с неудержимой силой устремлялся на него. И кончалось всегда конфликтом, так как пострадавшие, все как один, заявляли, что это намеренный хулиганский поступок. Отложили учёбу до дачи. Но, как я уже сказал, не преуспевали в этом.
В то лето к нам приехала погостить моя двоюродная сестрёнка, та самая Наташонка, чья ванночка досталась Алёше по наследству. Ей было 12 лет. Однажды, когда я задержался в Москве, Галя решила сама попрактиковаться на велосипеде. Пошла с ребятами и велосипедом на самую верхнюю точку шоссе, откуда оно спускалось к пруду и далее снова поднималось, посадила ребят под дерево и, так как сесть с земли на велосипед ещё не умела, вскочила на него с заборчика и пустилась вниз по шоссе. Велосипед помчался вниз, всё ускоряя и ускоряя ход. Галя держалась мужественно, но когда она увидела внизу грузовик, быстро мчавшийся навстречу, и слишком хорошо помня дрянной характер своего велосипеда, во избежание катастрофы, решила соскочить с велосипеда в кювет, так как остановить или свернуть она не могла. До канавки она не допрыгнула, а проехалась несколько метров по расплавившемуся от июльской жары асфальту, содрала большие клочья кожи на ноге, боку и на руке и сильно ударилась. При этом Галя не потеряла соображения, что она может всё же попасть под грузовик. Она поползла в кювет и ниже, к воде пруда. Потом она не могла объяснить, почему она это сделала. И, таки доползши до воды, упала в неё головой и… потеряла сознание. Дальше мы узнали по рассказу Наташонки, что с Галей это случилось рядом с сидящей парочкой. Это было счастье. Они не растерялись, оказали ей помощь и, когда прибежала Наташонка, отнесли Галю домой.
По приезде я сразу же отвёз Галочку в больницу. Поправилась она весьма не скоро. Наташонка уехала к родителям.
Осенью Галя решила подсобрать грибов и ходила по утрам, когда Алёнька ещё спал. Однажды она пошла в лес за железную дорогу мимо станции. Вскоре заметила двух мужчин, ползших по просеке, а потом вскочивших и быстро убежавших в лес. Она не придала этому никакого значения. Через час её догнали милиционеры и стали спрашивать. Не видела ли она в лесу каких-нибудь людей. Оказалось, что эти два мужчины ограбили станционную кассу, при этом убив кассиршу. После этого я просил Галю не ходить по лесу одной.
Вскоре мы уехали в Москву.
В это время на заводе пошли сплошные неприятности..
На оцинковке работал бригадиром молодой парень — Терентьев. Очень хороший человек, весёлый, сознательный, трудолюбивый. Он работал и одновременно учился. Однажды он заметил, что в цинковальном барабане ослаб какой-то болт. Производить ремонт на ходу строго воспрещалось. Однако, ему не хотелось прерывать процесс. Он не придал значения, что тесёмки на рукавах его спецовки болтались свободно. Шестерни втянули тесёмки, а за ними руку Терентьева в электролит. Сменный мастер растерялся, меня не было в цеху. Сам Терентьев нашёл в себе силы с раздавленной рукой, зажатой шестернями, давать распоряжения, как разобрать барабан, чтобы вынуть руку. Это была длинная история. Я пришёл, когда его уже освободили. Носилок не было, он обнял меня здоровой рукой за шею, и мы быстро пошли в околодок. По дороге он мне ещё рассказывал, как всё произошло, а у врача потерял сознание. Руку ему ампутировали по локоть. На следствии он взял всю вину на себя и тем самым, можно сказать, выручил меня от тюрьмы.
Когда он вышел из больницы, я его взял назад в цех. Работать он не мог, и я его назначил приёмщиком. Но с этого времени вся его жизнь пошла кувырком. Бабы из его бригады, жалеючи, предоставляли себя ему. Он начал пить, бросил учёбу. Пропал вовсе.
Освоившись с новым цехом, рабочие начали воровать. Старшие из них происходили из кустарей. Они и теперь имели на дому маленькие ванночки и брали потихоньку заказы — серебрили ложки и разную мелочь. Я заметил, что уж очень быстро стали расходиться у меня серебряные и кадменные аноды. Раз я поймал за руку своего хромовщика. Выдавив стекло в окне, он передавал аноды своему товарищу. Хромовщика пришлось уволить, хромирование встало, ко мне зачастили агенты МУРа.
Цианистый калий мы получали из Германии. Отличный продукт — белоснежные шарики, ни дать ни взять клюква в сахаре, так и хотелось положить их в рот. Ванны на них работали отлично. Но вот наши химические заводы освоили производство его, и нам предписали перейти на отечественный продукт — липкую бурую массу, подобие глины, если не хуже. Началось мучение — никель лупился, отдел контроля браковал все изделия.
В это время пошли аресты троцкистов, и у одного из них нашли кусочек цианистого калия. Ясно, припасён для отравления Сталина. Но откуда же троцкист мог взять цианистый калий? Ясно — из гальванических цехов… Обыскать все цеха в городе! Сверить наличие!
В Москве было 11 цехов. И во всех обнаружилась маленькая недостача. Говорили, что десятерых заведующих посадили. Я думаю, что это преувеличение. Когда ко мне нагрянули агенты ГПУ, проверили книги, списали остатки, то не хватило 16 килограмм. Этим количеством можно было отравить всю Москву. Я оправдывался сломанными весами, предъявил копии всех служебных записок. Вот когда я вспомнил завет Ивана Евграфовича: «В случае коснись»! Коснулось! Посадили заведующего отделом снабжения за то. Что не дал мне вовремя весы.
Про себя я ломал голову: куда делся цианистый калий? Испорченными весами это нельзя было объяснить. Потом я узнал. У меня был дурашливый сменный мастер Мельников. Раз он дежурил в ночной смене. Мучился, мучился с «отечественным продуктом», да и швырнул его в водосточный трап целый пуд: «Зачем такое говно нужно!» А наутро забыл мне об этом сказать. Сколько он, мерзавец, рыбы потравил, подумать страшно! Ведь завод на самом берегу стоит, и производственная канализация выливалась прямо в Москва-реку.
В конце 1933 года начались повальные аресты инженерно-технических работников. После шахтинского процесса, процесса промпартии и других, органы безопасности, очевидно, остались без работы и тщились создать новые дела, чтобы не подвергнуться сокращению штатов. На нашем заводе не было никаких поводов для арестов. Завод освоил новое производство, более или менее выполнял план, в эксплуатации не было серьёзных аварий с нашей продукцией, никто не сыпал песок в подшипники, штурмовщина и бестолочь были в пределах средней нормы.
Поэтому громом среди ясного неба прозвучал арест и последовавший расстрел Генко. Все жалели (шёпотом) доброго старика эстонца, такого хлопотливого и работавшего с полной отдачей сил. Вслед за ним погиб величественный, респектабельный Долкарт. Последний удар по машинному отделу тех-бюро нанёс арест обоих наших конструкторов — Старуха и Чернова. Жена последнего, простая женщина из рабочей семьи, и двое детей-подростков совсем растерялись. Они остались вовсе без средств. И так как никогда не имели дело с арестами, то считали их концом жизни. Эта семья дружила с нами, жили мы на одной лестнице, и потому они обратились к нам за помощью. Мы советовали им, куда ходить за справками, писали какие-то заявления.
Все арестованные были в своё время работниками у Вестингауза. Мы надеялись, что ими дело и ограничится. Но когда взяли Китаенко, все испугались. Если берут молодых специалистов, и притом самых талантливых, энергичных и честных, то значит могут арестовать каждого из нас. Разумеется, никто из людей, знавших арестованных, не верил в то, что они шпионы или вредители. На заводе воцарилось подавленное настроение. Более предусмотрительные инженеры держали в столе смену белья, подушку и сухари, так как брали чаще во время работы. Жёны плакали, провожая мужей на службу. И мы с Галочкой ежедневно прощались «навсегда» в течение этого длительного периода. Галя при этом держалась удивительно мужественно и этим очень меня поддерживала. А ведь переживала она этот кошмар не меньше других.
А Змей-Горыныч всё летал и летал и уносил всё новые жертвы. За год перетаскал 16 ведущих инженеров, конструкторов и старших мастеров. Мы были уверены, что на заводе есть «стукачи», которые доносят из соображения своей выгоды или для сведения личных счётов. А органам было всё равно, кого брать. Любой наговор годится. Насчёт техбюро не было сомнений — доносил болгарин Додев. Он сразу же занял место Долкарта. На производстве подозревали инженера отдела нормирования Аваткова. Молчаливый молодой человек с бледным лицом удивительно был похож на лемура, всюду скользил как тень, всё высматривал, никогда не улыбался. Его ненавидели и боялись, но всё же здоровались за руку и даже заискивали. Много позже я узнал, что доносил также старый сменный мастер бывшей моей катушечной мастерской, хитрый согбенный поляк Якубовский.
Место Генко занял молодой инженер Александров, техническим директором был назначен также молодой инженер Толчинский. Хотя незаменимых людей нет, но заменившим нужно немалое время, чтобы освоиться и приобрести опыт прежних. Поэтому изъятие такого количества руководителей не могло не сказаться на производстве. Завод вошёл в глубокий прорыв, что было поводом для новых арестов. Много позднее я узнал от товарищей, что после моего ухода с завода был арестован заменивший меня в гальванической мастерской мой химик Таланов. Был арестован даже «сам» Аватков. Говорили, что стараниями Толмачевского. Затем Толмачевский — стараниями Жукова. Наконец, в 1937 году, когда пошла мода на крупных партийцев — взяли и Жукова.
Аресты отвратительно сказывались на моральном состоянии общества. Не только на нашем заводе, но и везде люди стали бояться друг друга, своих начальников, своих подчинённых. Доносы, клевета преуспевали. Инженер, отказавший рабочему в какой-либо претензии, просьбе, рисковал погибнуть ни за грош. В этой атмосфере пышным цветом расцветали подхалимаж, подсиживание, блат. Все другие, самые отрицательные черты русского характера, получили мощную подкормку. Да уж, действительно, «спасибо великому Сталину». Много поколений понадобится, чтобы извести из народной души эти плевелы.
Весной Галя поехала с Алёшей погостить к Гельфготам в Вологду. Мы как раз собирались поменять комнату. Старая комната была нам тесна, но главное, нам очень досаждали соседи. Это были две семьи двух сестёр. Нравы были!! Двое из трёх взрослых, всегда пьяные, постоянно жестоко дрались между собой. А уж ругались! Куда там наш завод! Они работали на обувной фабрике «Парижская коммуна» и не столько работали там, сколько промышляли тем, что воровали и продавали на рынке казённую обувь и кожу. Нравы соответствовали воровской профессии. Нередко они прятали ворованное в общих местах, когда ждали обыска, или даже просили нас спрятать у себя. Мы, конечно, отказывались, после чего они сделали нам такую жизнь! Словом, совершенно немыслимую.
Новая комната находилась в полукилометре от нашей, была на четыре метра больше и находилась на втором этаже. Что очень важно было для Гали. Таскать сына с коляской легче на второй, чем на четвёртый или пятый.
Я нарочно подгадал переезд к моменту, когда останусь один. Делать это при Алёше было бы много сложнее. Да и Галю мне хотелось освободить от лишней нагрузки.
Вещей, мне казалось, у нас было не так уж много. Но, когда накануне я стал укладывать, их оказалось «вагон и маленькая тележка». У меня, к тому же, снова расходилась почка. Я обвязывался горячими грелками с мохнатым полотенцем. Помогало мало, и я продолжал подготовку. Наутро пошёл просить напрокат сани. Никто мне их не дал, и я стащил в общественной столовой брошенные на дворе большие неуклюжие дровни. Грузил их своими вещами, а назад вёз вещи работника завода, с которым поменялся, и поднимал их на пятый этаж. Немного мне помогал сын Чернова Коля, потом его сменил Нинин приятель Ваня. Таким образом я возил дровни с 9 часов утра до 10 вечера и подсчитал, что в сумме я поднялся на 160 этажей с вещами.
После этого я писал Гельфготам: «Дети мои, бойтесь рабства вещей! Не считайте, что иго их есть благо; это величайшее заблуждение. Я предлагаю дать зарок: при приобретении новой вещи уничтожать три старых».
На другой день я принялся оформлять отпуск. Я планировал совершить новый бросок в Хибины, а на обратном пути заехать в Вологду. Препятствий было масса. Надо было уговорить нового завцехом Машкина, пришедшего на место Китаенко, человека сугубо партийного, сухого, незнакомого с производством, а потому нажимавшего на администрирование, меня отпустить. Потом надо было подобрать подходящего заместителя. Сдать мастерскую. Найти минимум одного спутника. Получить путёвку в ОПТЭ и поменять продуктовые карточки на туристические. Занять денег на дорогу. И тысяча других дел.
Ехать со мной согласился Голубев, в доску свой парень, шабшаевец, инженер из отдела механика завода. Но накануне он сдрейфил, в последний день отказался. А намеченный мною заместитель на моё место, когда ехал на завод, вися на подножке с левой стороны трамвая, приложился лбом о столб и попал к Склифософскому. Тогда, в наказание, я Голубева назначил своим заместителем.
Всю ночь я чинил снаряжение, многие дела оставив на день отъезда. Получилось так, что второпях, приехав на вокзал «в мыле и в пене», я оставил в трамвае свои лыжи. К счастью кондукторша, заметив мою оплошность, сообразила и выкинула их на ходу. Я подобрал лыжи и сел в поезд. Только проехав Клин, я сообразил, что забыл обменять карточки.
День я провёл в Ленинграде. Пошёл в ОПТЭ, спросил дежурного:
— Нет ли попутчиков в Хибиногорск?
— Не слыхал. Наши туда не ездят. Наши ездят в Парголово.
Зашёл к Галкиному брату Игорю, архитектору. Посмотрел, как он раздраконивает проект дворца культуры для Башкирии, на ходу придумывая башкирский стиль.
Побывал у Каплянских. Боря уже был молодым многообещающим скульптором и только что получил собственную студию. Он преклонялся перед своим учителем Матвеевым и здорово высмеивал Манизера, слепившего декоративные часы. Среди скульпторов эти часы были известны под названием «автоматический блудильник Манизера».
Следующую остановку я сделал в Кеми. Там километрах в десяти от станции в глухой тайге находился концлагерь, где содержался Чернов. Его жена просила меня отвезти ему передачу и, если удастся, повидать мужа. Спросив направление, я пошёл в лес и скоро потерял дорогу. Она ветвилась, и казавшиеся надёжными ответвления заканчивались в километре-двух на какой-нибудь вырубке. В конце концов, я пошёл просто целиной по компасу, благо на ногах были лыжи.
— Стой, стрелять буду! — услышал я грозный окрик откуда-то сверху и, взглянув туда, понял, что не ошибся направлением.
Мосол, держа меня на мушке, в то же время звонил по телефону, видно, в караулку. Я стоял как столб с четверть часа. Наконец пришёл разводящий с двумя красноармейцами и, расспросив, кто я и зачем, отвёл к коменданту. Я подал заявление о свидании, тут же получил отказ, а на просьбу сделать передачу он предложил подождать часа два, пока заключённые придут с работы.
— Как вы используете Чернова? — спросил я у коменданта.
— Как всех, на лесозаготовках.
— Он на заводе был главным конструктором, у него светлая голова. Неужели в ваших же интересах не выгодней было бы использовать его хоть на канале Москва-Волга для разработки конструкций шлюзов?
— Да нешто я не понимаю, с каким человеком дело имею? За то и назначил его на ответственную должность — старшим конюхом. Он у меня целым десятком лошадей командует. Вот так-то.
Через два часа комендант сказал: «Смотрите в окно. Ваш Чернов мимо пройдёт». Действительно, скоро в толпе зеков, шедших на обед, показался Иван Евграфович. Он осунулся, потемнел, был одет в «куфайку» и ватные штаны. Прошёл быстро. Ему отнесли передачу, и он вернул тару и записку для жены.
Хотя впоследствии Чернов был переведён на какой-то завод в Ленинграде, но так и умер в заключении. Китаенко больше повезло: он отбывал срок в ОКБ на Ковровском заводе экскаваторов. Там же содержалась головка промпартии, «великолепные инженеры», по его словам. Под их руководством он овладел второй специальностью — инженера-механика, был переведён на Северную верфь, где и дожил до освобождения.
По прибытии в Хибиногорск 15 марта я был совершенно очарован видом залитой солнцем котловины Вудъявра. Ничего подобного в первую поездку, попавшую на полярную ночь, я не видел. Турбаза была недавно отстроена. Она помещалась на марше километрах в пяти от города, и я пошёл к ней прямо по озеру. Она показалась мне очень эффектной: из свежих сосновых срубов, возвышающаяся на морене, как корабль на большой волне. Но самое эффектное оказалось внутри. На базе было 10 сотрудников, а туристов — я один. Сотрудники умирали от скуки и рады были за мной поухаживать. Меня просили заказать обед.
— Что-нибудь вегетарианское, — сказал я.
И получил прямо-таки королевское пиршество: гречневая каша, жареная картошка, сочни, 200 грамм сливочного масла и кисель. В жизни так не объедался!
Захарова не было. Он растратил деньги в ОПТЭ и сменил профессию прокурора на профессию заключённого.
На другой день я пошёл в Тиетту. Володя и другие сотрудники встретили меня как старого друга. Мне выдали последние, лучшие карты Хибин, и я потратил целый день на их копирование. Это был золотой век — никаких секретных карт, никаких искажённых проекций! Точные карты, даже одновёрстки Генерального штаба продавались всем желающим в картографическом магазине на Кузнецком мосту. Но на Хибины ещё хороших карт не было, последнюю съёмку можно было достать только в Академии наук. Её-то я и получил.
На второй день я поднялся в ущелье Географов, откуда открывался роскошный вид на Имандру. Возвращаясь оттуда, я встретил апатитского инженера, который лез на гору. А спустившись метров на 200, я увидел одинокую лыжу, нёсшуюся прямо на меня. Она воткнулась неподалёку в сугроб. Нечего делать, полез я опять в гору, таща лыжу на верёвочке. Там я застал инженера, беспомощно барахтающегося в снегу с одной лыжей. В благодарность за услугу он обещал мне проявить мои снимки.
Вечером на турбазу пришли семь лыжников. Это были ленинградские инструктора спорта, которым было поручено разведать туристские тропы в Хибинах. Ленинград-таки не удовлетворился Парголовым.
Часть из них собиралась идти на Умбозеро, и я приложил все усилия, чтобы к ним примазаться. Они были гораздо лучше меня оборудованы, лучше крутили повороты, но уступали мне по туристическим навыкам. В частности, я знал немного условия Хибин, они же были в первый раз. Они взяли меня на роль вроде проводника[42].
Мы вышли с вечера, намереваясь переночевать в доме отдыха ИТР (инженерно-технических работников) в долине Юкспориока, в последнем населённом пункте на нашем пути. До чего же было красиво! Словно часовые, стоят вокруг озера горы Вудъяврчорр, Кукисвумчорр, Юкспор и Айкуайвенчорр. Заря заливает багрянцем небо, и отблески от неё ложатся на снежные склоны, стекая языками в лиловые долины. Когда стемнеет, над вершинами зеленоватыми конусами встаёт северное сияние, будто прожекторы из-за гор. А у выхода из горного цирка сотнями огней горит город. Шеренги электрических огней вдоль улиц круто поднимаются в гору, как гирлянды на невидимой гигантской ёлке.
На рассвете мы поднялись по Юкспориоку и повернули в первое ущелье направо. Оно носили поэтическое название «Ущелье дразнящего эхо». Только Ферсман впервые проходил здесь летом и дал ему это название. Наша цель была разведать его проходимость зимой и по возможности сократить путь к Умбозеру, минуя перевал Юкспорлак.
Нас было четверо: начальник отряда Коровин, молодой учёный Регель, до этого бороздивший только пустыни, и немец Эккельман. Немец был вооружён чрезвычайно: фотоаппарат со многими сменными объективами и светофильтрами, бинокль, хромированный несессер, складная походная посуда и т. д., и т. п. Всего он нёс 22 килограмма. Он совсем погибал на подъёмах, но лихо катил вниз, ловко увёртываясь от набегавших скал и камней. Можно было любоваться его альпинистской выучкой. Мой рюкзак весил всего 13 килограмм и потому меня пустили вперёд — топтать лыжню.
Ущелье замыкалось цирком. Сразу начался дьявольски крутой подъём — градусов 55. А склон был покрыт на редкость рыхлым и глубоким снегом, но он всё же позволял идти. Сразу вошли в облака. Видимость — 10 метров. Я не видел своих товарищей, только голоса слышал. Шли зигзагом. Поднимались часа два, казалось, конца не будет. Но вот лыжи вступили на горизонтальную поверхность. Урра! Плато Расвумчорр! Я бодро сделал вперёд шага четыре и с ужасом почувствовал, что лечу в бездну. Вокруг мня рушились снежные глыбы. «Кареиз обвалился» — мелькнуло в голове. Я пролетел метров десять по воздуху. Потом почувствовал, что черчу склон градусов 70. И сейчас же сунул палки под правую мышку и, удерживая их левой рукой, изо всех сил навалился на них правым боком.
Я ещё на заводе выдрал «зубы» из палок и поставил свои, выполненные из стали, огромные, как у бороны, острия, приваренные к трубам, в которые и загнал бамбуковые палки. Все смеялись:
— Палки-то поднимешь ли? Ты на медведя собрался, что ли?
Признаться, я больше думал о росомахах. Но вот эти-то острия и спасли мне жизнь на этот раз.
Склон был покрыт плотной доской ветрового наста. Лыжи, поставленные поперёк, свободно по нему скользили, а палки, прочертив борозду, врезались в наст и удержали мой вес. Сорванная мной лавина прошла мимо вниз, а я остался висеть, беспомощно суча ногами.
Первое, что я подумал: сейчас мои товарищи посыплются мне на голову. Я стал кричать:
— Стойте, стойте, осторожно! Обвал!
Я висел уже минут десять. Мороз был градусов двадцать. Ноги начали замерзать. Руки, поддерживавшие палки, дрожали от усталости. На этом склоне была вьюга, видимость то расширялась, то снова заволакивало. Я подумал: «Отпущу палки, может быть, склон внизу выполаживается». К моему счастью, в этот момент ветер разогнал облака, и я увидел, что такой же крутой склон идёт вниз не менее чем на 200 метров и заканчивается отвесной голой скалой, а внизу лежит голая морена. «Ну нет, невыгодно!» — констатировал я. «Но ведь я могу так продержаться ещё минуты три, пока руки сами не сорвутся». Вдруг в пробитом мной карнизе показалась голова Регеля. Он, видимо, лежал на животе, стараясь меня разглядеть, а товарищи держали его за ноги.
— Кидай верёвку! — закричал я.
— У нас нет верёвки, — был ответ.
Сволочи, а ещё инструктора-альпинисты и горнолыжники, ходят без верёвки. Придётся сделать попытку спастись самому. Я осторожно освободил руку. Вынув финку, которую я всегда носил в кармане, я изо всех сил ударил ею по насту. Финка вошла по самый черешок. Ага, значит наст лежал не прямо на скале, а на прилипшем к ней слое более рыхлого снега. Повернув финку несколько раз, я прорезал в насте окошко, поднял одну ногу, отстегнул крепление и с размаху вогнал лыжу в окошко. Она крепко засела, но от резкого движения палки сорвались и остались у меня в руке. Я повис на другой вытянутой руке, держась за лыжу. Затем подтянулся на мускулах и лёг на лыжу поперёк живота. Переведя дыхание, сел на неё верхом и подумал: «Ну, теперь-то мы ещё повоюем!»
Я вырезал второе окошко на полметра выше, снял и вбил в него вторую лыжу, перебрался на неё. И так, перебираясь с лыжи на лыжу, начал подниматься, как скалолаз на крючьях. Через полчаса я уже был в восьми метрах от вершины и товарищи, с волнением следившие за моими эволюциями, но бессильные мне помочь, тут уж связали свои шесть палок, спустили эту «цепь» и вытянули меня наверх.
Я лёг на снег и долго лежал. Не от усталости, а от страха смерти, который только теперь обуял меня. Никогда ещё я не был так близок к ней, как в этот раз. Потом я вспомнил слова какого-то писателя: «Вся жизнь пронеслась перед ним в это мгновенье». Какая чепуха! Ничего не пронеслось! Почему-то меня это рассмешило и привело в чувство. Я встал и стал с товарищами обсуждать, куда идти дальше.
Мы, очевидно, были на узком гребне отрога Расвумчорра. Назад идти не имело смысла, вперёд дороги не было. Мы решили идти по «лезвию ножа», оно имело ширину 4–6 метров. Да и то был обман, так как добрая половина этой ширины составляла карниз, надутый ветром, который и подвёл меня. Всё же мы пошли, но медленно и осторожно, ощупывая каждый шаг. Гребень шёл, постепенно спускаясь и в конце концов вывел нас к перевалу Юкспорлак, который мы хотели миновать. Но прямого прохода мы не нашли.
За Юкспорлаком начинается пологий спуск в долину Вуоннеймок — речки, текущей в Умбозеро. Природа преобразилась. Погода — прекрасная, лёгкий морозец. Весь обледеневший низкорослый лесок из карликовой берёзки. Лучи солнца искрились в ледяных сосульках на веточках берёзки, играя всеми цветами радуги. Ветер качал веточки, и сосульки издавали мелодический звон, как серебряные бубенцы. Лесок уходил далеко вниз, а на другом берегу долины вдали голубел громадный хребет Эвеслогчорра.
Мы наметили ориентир: квадратное озерко к югу от Умбозера. Азимут 150°. Мы полагали, что там находятся истоки Умбы и стоит избушка гидрометриста. Однако, ориентир исчез, как только мы вошли в лес. Начался крутой спуск с горы Китчепахк. Лес изобиловал огромными валунами, лыжи застревали в густом подлеске, то и дело попадались глубокие ямы, по большей части засыпанные снегом. Однажды, когда шедший впереди меня Регель кувырнулся в такую яму, я даже не мог сообразить, как его откопать, настолько глубоко он утонул в снегу.
Вышли на озерко, но оно было не квадратным, потом потянулось болото, потом перелесок, опять болото, опять озерко, болото, опять перелесок и так без конца. Стемнело, мы чиркали спички, чтобы взглянуть на компас. Совсем выбились из сил и решили ночевать в тайге. Нашли ёлки, стоящие полукругом, утоптали снег с подветренной стороны. Построили добавочную защиту из лыж и рюкзаков, заплели их ветками ели. Несколько лап подстелили под себя. Ночёвок в снегу не предполагалось, поэтому у нас не было ни палатки, ни спальных мешков. Тёплое пальто — только у Эккельмана. Но, к счастью, было относительно тепло, не ниже 5° мороза.
Легли вокруг костра. Ночью случилось происшествие. Снег под костром таял и постепенно опускался, костёр оказался в воронке. В эту воронку скатился Коровин вместе с еловыми лапами, которые тотчас же вспыхнули. Он выскочил оттуда как чёрт, среди дыма и пламени.
Утром опять потащились по проклятым буеракам. Погода потеплела, начался подлип, идти становилось всё труднее. Каждый час мы натирали лыжи мазью. Старались проходить по нижним ветвям елей — меньше прилипал снег. Сбивали снег палками, так что половину их переломали. Мы знали, что Ум-бозеро имеет площадь 60×25 километров, пройти мимо него невозможно. Несомненно, оно находилось где-то рядом, однако оно бесследно исчезло. Напрасно Коровин и я по очереди влезали на высокие ели: кругом простиралась одна тайга. Ни Умбозера, ни истока Умбы, ни избушки гидрометриста! Только на пятый раз я разглядел за деревьями белую полоску. Идти по озеру было немного легче. Но куда идти? Было ясно, что избушку нам не найти. Населённые пункты были: Хибиногорск в 35 километрах (считая со всеми поворотами и подъёмами), на севере — рыбачий посёлок Тульилухт в 25 километрах по льду и на востоке — Умбозёрский погост (всего 6 семей) в 15 километрах. Последний пункт находился на траверзе горы Эккечепахк и елового острова, но сколько мы ни глядели, острова нигде не было видно. Собрали совет. Три человека — три разных мнения. Начальник молчал, потом решительно махнул рукой:
— Идем в погост.
Это было рискованное решение: пролети мы погост, дальше на 300 километров простиралась снежная пустыня. До самого Терского берега не встретишь ни одного человека. Тем не менее, памятуя печальную судьбу рассорившихся туристов, мы беспрекословно послушались и пошли на восток.
Было уже четыре часа пополудни, мы шли, таща на лыжах комья снега, со скоростью два километра в час. Значит могли дойти до места к 12 часам ночи, когда никакого погоста и видно-то не будет. К тому же мы почти не спали и почти ничего не ели, так как провизия, за исключением неприкосновенного запаса, кончилась.
Пройдя три часа, я остановился почистить лыжи. Товарищи прошли вперёд. С трудом разгибая спину, я взглянул на юг. Километрах в трёх от нас тянулась опушка тайги. Посередине был узкий пролив и в глубине его виднелась избушка. Я бросился догонять товарищей, но в двадцати шагах избушка уже исчезла за елями. Я стал отчаянно кричать и махать руками. Товарищи нехотя повернули назад:
— Ну, что там ещё у тебя?
— Изба гидрометриста!
А если б я остановился несколькими шагами дальше? Если бы взглянул не на юг, а в другую сторону? Эти праздные вопросы я задавал себе уже на пути к берегу. Откуда только силы взялись! Навстречу вылетели лайки, готовые нас разорвать. А мы готовы были их расцеловать. В избе были гости: несколько оленьих упряжек стояли во дворе. Гидрометрист — ижемец (коми) в порядке освоения нескольких профессий гнал самогон и снабжал им окрестных лопарей. По двору, словно куры, ходили куропатки. Кругом было несметное количество дичи.
Хозяин нас встретил радушно, накормил и налил по рюмочке. Мы как мёртвые заснули в тёплой избе. Утром лопари показали нам дорогу, которая проходит к югу от Хибинских гор, мимо «прокурорской» избы — приюта туристов, названного так в память Захарова и посёлка Тиетта. Мы рванули с устатку полсотни километров и к вечеру добрались до турбазы.
Дальше наши пути расходились. Ленинградцы продолжали поиски мест для туристских приютов, а мне пора было уезжать. Я выбрал самый дальний и трудный путь к Мурманской дороге — через перевал Чоргорр на станцию Имандра. Собственно, это было глупо, меня столько предостерегали и отговаривали, предупреждали, что никто ещё не проходил этот путь зимой. А мне «попала вожжа под хвост». Неужели струшу? И я решил идти.
Тепло распрощавшись со спутниками, я к вечеру ушёл в Тиетту, чтобы, насколько можно, сократить завтрашний переход[43].
Я решил быть благоразумным: каждый час делать привал на пять минут, ориентироваться и ставить на карте крестик, чтобы знать, сколько прошёл.
Густо валил снег. Кроме того, уже через час, на первой остановке, я вошёл в облака, как в молоко. Узкая долина Кукисёока уводила меня на север. Ни малейшей тени или пятна вверху. Вперёди был тоннель, сотканный из тумана. Разрез ущелья имел форму параболы; стоило отклониться на пару шагов в сторону, как начинался подъём. Сама долина повышалась настолько медленно, что я не чувствовал, что поднимаюсь. Через час я стал сомневаться: иду ли я по земле или вишу в пространстве, настолько нереальным казался этот беспредметный и беззвучный мир. Я чуть не заснул на ходу, убаюканный плавностью движения. Я ориентировался только по углу между лыжнёй и стрелкой компаса, так как долина загибалась дугой. Но вот и перевальные озёра. Их три. Из последнего вода ушла, образовав пещеру с потолком из льда. Хлестнул ветер, разорвав облака. Впереди ущелье Кунийока расширяется. Стены его голы и обрывисты, дно завалено разноцветными камнями, поросшими мхом, брусникой, полярной берёзкой. Всё внезапно стало красочно, ярко, залито солнцем.
В марте солнце — значит подлип. Подлый, ползучий враг лыжника, хватающий его за ноги, выматывающий силы. Второй раз за это путешествие мне пришлось вступить с ним в борьбу. Я решил перелезть через хребёт Поачвумчорр и идти по теневому склону. На это пошло часа два, но манёвр удался. Я благополучно достиг реки Петрелиуса и вдоль неё вышел к узлу долин. На северо-восток простирались еловые леса, за ними виднелась широкая плешь озера Пайкуньявр, а дальше — равнинная тайга. На западе между километровыми громадами Час-начорра и Индичвумчорра маячила еле заметная впадина — перевал Чоргорр, из которого с невероятной силой прорывался западный ветер, поднимавший с гребней и вершин клубы серебряной пыли.
Подъём на перевал казался столь трудным, а в долине было так уютно и тепло, что я подумал: «Не переночевать ли?» Но, поглядев вокруг, сразу отказался от этого намерения: весь снег был испещрён следами рысей и росомах, приходивших на водопой к горной речке. Переправляясь через неё, я подмочил лыжи и ноги, проломив ледяной мостик, чем отнюдь не облегчил восхождение.
Встречный ветер разрушал наст и гнал мне навстречу острые ледяные кристаллики. Склон, доходивший до 50° крутизны, как бы убегал со страшной скоростью из-под ног тысячью снежных змеек. На Кукисйоке не было ни одной движущейся точки, здесь же — ни одной неподвижной. Спустив наушники, я настойчиво поднимался по кулуару. Временами приходилось ложиться, чтобы переждать порыв ветра. Раза два ветер опрокидывал меня, и я скатывался метров на десять вниз. На самом верху мне пришлось палкой прорубить двухметровый карниз, чтобы взобраться на перевал.
Впереди открывался спуск в долину реки Часнайок. Ради такого спуска стоило пережить невзгоды. Катишься не десятки, не сотни метров, а километры. А снег — то рассыпчатый и рыхлый, как крупчатка, то упругий и скрипучий, как крахмал. На переходах резко менялась скорость. Только держись!
Я не видел более весёлого ручья, чем Чесманйок. Он прыгал по камням, подлезал под снег, образуя острова, звенел на порогах. Берега изобиловали следами птиц и зверей. Склоны Индичвумчорра спускались к ручью сланцевыми террасами, с которых местами ниспадали в лучах заката ледопады. Террасы были покрыты редким в Хибинах сосновым лесом, в ветвях которого резвились белки, прыгали снегири. Стволы сосен были туго завиты, как канаты. Думаю, дело в том, что ветви упрямо тянутся к югу, а западные ветры постоянно давят на них и поворачивают ствол против стрелки.
Сколько раз и как резко за этот день сменялась декорация ландшафта и климата! Но вот они сменились в последний раз — пошла вырубка. На берегах реки бесконечными штабелями лежали брёвна. Попался брошенный барак лесорубов. Пошёл корытообразный зимник, полный талой воды. Оказалось, что мои горные лыжи могут прекрасно выполнять службу водяных. Они отлично скользили по воде, поднимая фонтаны брызг.
Через 12 часов после выхода из Тиетты я поставил последний крестик на карте при свете станционного фонаря.
Дальше мой путь лежал в Вологду. Гельфготы жили на берегу реки в одноэтажном рубленом домике, как изба. Дом был довольно просторный. Они снимали у хозяев две комнаты, в одной жили родители с Наташей, в другой Миша с женой Ирой. Поколения не ладили между собой, и Миша перед самым моим приездом уехал в Москву устраиваться на работу. Они с женой считали, что ссыльные родители являются для них помехой. Ира покуда уехала к своим родителям в Пятигорск.
Когда Галочка приехала, Гельфготы приняли её как родную. Особенный фурор произвёл трёхлетний Алёнька. Старики баловали его как только могли. Галя писала мне, что «добрые деды потакают даже таким наклонностям, которые являются пережитками феодальной психологии и сползанием в мелкобуржуазное болото». Я отвечал: «Уполномочиваю Сашу сынишку пороть — метод, который мне горячо рекомендовали соседи по квартире». Но мои просьбы были тщетны. Стоило Саше утром открыть глаза, как он восклицал:
— Алёнька, ко мне!
Алёша с восторгом карабкался в кровать к деду, и тут начиналось бодание языками и носами, подкидывание Алёши на пятках, поднимание его вверх ногами и т. д. Галя обмирала от страха, а Алёша хохотал до упада. И после Саша целый день забавлял внука, пока Лена хлопотала по кухне. Галю они не раз отпускали кататься на лыжах по склонам реки Вологды, а Алёше купили санки — маленькие художественные дровенки, которые изготовлялись умелыми вологжанами и были в ходу у местных мальчишек.
Между тем, материальные дела были у Гельфготов отчаянные. Денег не хватало ни на молоко, ни даже на починку обуви, которая у них износилась. Приходилось ходить в худых, это в суровые-то вологодские зимы! Так и ходили в драных ботинках. Я писал уже, что они пытались зарабатывать на постановках кукольного театра. Спектакли ставили в школах. Саша легко писал стихи, преимущественно, сатирические. Одно время большой популярностью пользовалась его поэма, написанная на Соловках, где он в комичном свете изображал все злоключения заключённых. Я не знал, чему больше удивляться: его таланту или его удивительному неувядающему оптимизму. В Вологде он попытался применить свой талант к кукольным пьесам для детей младшего возраста. У нас сохранились две его инсценировки, написанные частью прозой, частью стихами: «Гулливер у лилипутов» и «Звери дедушки Крылова». Последнюю вещь он смонтировал из басен «Любопытный», «Мартышка и очки», «Зеркало и обезьяна», «Квартет», «Осёл и соловей», «Кукушка и петух», «Две собаки», «Демьянова уха», «Кот и повар», «Мышь и крыса» и «Волк и кот». Тексты И. А. Крылова соединялись весёлыми интермедиями его сочинения. На большую дозу творчества он не решался, справедливо полагая, что постановки запретят, если он будет выступать как автор.
Лена, помимо хозяйства, шитья кукол и работы в качестве режиссёра и актёра, ухитрялась также заниматься литературным трудом: переводила норвежские народные легенды про троллей и нисов (гномов) на русский язык. Легенды были очень поэтичны, Лена отлично владела литературным стилем, но напечатать так ничего ей и не удалось.
Таланты Саши были очень разнообразны. Однажды он подшутил над Галей, сказав, что к нему сейчас придёт знакомая певица. Только она очень застенчива и при чужих не поёт, Галя может её слушать только из соседней комнаты. Галя ушла к хозяевам и скоро за стеной раздалось пение этой певицы — хорошо поставленного колоратурного сопрано. После нескольких романсов Галю позвали в комнату, чтобы поблагодарить певицу, но она застала там одного Сашу, который заливался смехом при виде удивлённого лица Гали. Это пел он сам. Он обладал большим диапазоном голоса и мог свободно изображать женское пение, в том числе в самой высокой тесситуре.
Я прожил у Гельфготов с недельку. Меня охватила атмосфера семейного уюта, который создаётся только там, где живёт не менее трёх поколений. Там и мебель была жалкая и хозяйство несколько безалаберное, но громадное обоюдное уважение, любовь и много прекрасных книг, которые они сохранили при всех скитаниях по ссылкам. Впоследствии Гельфготы всё потеряли — на книги позарились власть имущие.
Вологду я плохо разглядел, хотелось побыть побольше с дорогими людьми. Очень мне было с ними хорошо, и они уж так были рады нашему приезду.
Город произвёл на меня впечатление разбросанными одно- и двухэтажными домами среди полуразрушенных церквей, и особенно остался в памяти полуразрушенный Софийский собор.
Но окончилось наше пребывание у родных сердечных людей, и это было последнее свидание со всей семьёй вместе.
В Москве, по приезде, я в последний раз выехал на Бархашину горку, где, конечно, встретил Колю Эльбе, который к тому времени поменял свою фамилию на Солнцева, из идеологических соображений. Тут, конечно, произошёл неизменный разговор:
— Ну как, старик, ты всё ещё в холостяках ходишь? — пошутил я по привычке.
— Куда там! У меня, брат, уже двойня родилась!
— Так тебе и надо! Не задавайся!
— А ты-то всё на заводе вкалываешь?
— Ох, и не говори!
— Брось, грязное дело. Иди в географы. Ты же давно мечтал. Гляди, я круглый год в природе: воздух, наука, красота! А у тебя — болты да гайки!
— Да ведь это снова пять лет учиться, а у меня семья.
— Учись, мой сын, наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни.
Он помахал мне на прощанье рукой и покатил с горки. А я задумался: «А что, в самом деле? Что я вижу на заводе: каустик, царская водка, цианистый калий, уголовный розыск, ругаюсь со снабженцами, нормировщиками, с приёмщиками и рано или поздно угожу в тюрьму. Ведь пять лет — не вся жизнь. А потом-то какая благодать!.. Экспедиции, Тиетта, водомерный пост на Ардоне…»
Я всерьёз размечтался и решил, что это дело надо обдумать. Всё чаще и чаще возвращался я к этой мысли и незаметно для себя стал думать о перемене профессии как о чём-то необходимом и неизбежном. В голову приходили уже практические шаги, как организовать жизнь. Я видел только один способ осуществления этого: поступить на заочный и, пока не кончу, совмещать учёбу с заводом.
Да, но прежде надо согласовать всё с Галей. На неё прежде всего ляжет трудность этого периода. Однако, «скоро сказка сказывается…», а дела не так скоро делаются. Ещё много событий произошло, пока дошли и до этого.
Сыну нашему не было ещё трёх лет, когда мы дважды чуть не потеряли его. Это были годы, когда весьма нередко крали детей, особенно на окраинах, подальше от милиции. Причины этого явления были разные, но все страшные.
Алёша был миловидным и привлекательным. Галка выворачивалась наизнанку, чтобы получше его приодеть, себе во всём отказывала, а уж для Алёши всё. Я-то не был сторонником этого, но что поделаешь!
К зиме Галя сообразила ему шубку из белой ангорской козы. Да, он был очень мил в ней со своими ярко-красными щёчками.
Однажды Галя, отоваривая карточки в нашем магазине, оставила Алёньку тут же в магазине. Он по привычке расхаживал по всему магазину, заходил даже за прилавок, против чего продавец никогда не возражал. Галя, окончив своё дело, спохватилась, где же Алёша: в магазине его нигде не было. Она выбежала на площадь и увидела женщину, быстро перебегавшую трамвайные пути. Алёша был у неё на руках. Бросив все сумки с продуктами, Галя помчалась за женщиной, но та ещё спорила и не отдавала Алёшу, говоря: «Папочка велел принести его». Когда Галя силой вырвала сыночка из рук женщины, она увидела, что их стычка происходила на трамвайных путях и что они остановили движение. Женщина молниеносно исчезла в толпе, а какой-то мужчина громко сказал:
— Нигде-то две женщины не могут сговориться.
Никто даже не подозревал, что та женщина намеревалась украсть ребёнка.
В другой раз дело было весной. Алёша был одет в красивое ярко-красное пальтишко. И опять это произошло в магазине при отоваривании карточек. На две минуты она отпустила из своей руки Алёшину ручку, и он исчез. На этот раз Галя обежала, казалось, все окрестности вокруг магазина — нигде Алёши нет. К счастью, уже в полном отчаянии, Галя увидела на длинной Велозаводской улице, как мелькнуло красное пальтишко, которое тут же и скрылось за далёким поворотом. Догнав Алёшу, она увидела, что его ведёт за руку девочка лет шести. Галя схватила сына и что-то очень резко сказала девчонке. Но тут подскочил к ним незамеченный ранее мужчина и грубо стал угрожать Гале. Она помчалась с мальчиком к дому, а Алёша плакал и твердил, что девочка вела его к живой лошадке, которую обещала подарить. Как досадно, что Галка, растерявшись, не сумела задержать этих негодяев. В обоих случаях прозевала.
В середине лета Гале пришлось лечь в больницу для операции кисты. Операцию делал лучший врач Казанский, но после операции передал её вместе с другими больными своему ассистенту, настоящему садисту. Все больные, страдая, жаловались на него и очень боялись, когда он приходил на дежурство.
После общего наркоза Галка очень мучилась первые дни, и я нанял, по совету врача, тамошнюю няньку подежурить ночью около Гали. Но эта нянька пришла дежурить в пьяном виде, заснула и со всего маху ударила Галочке прямо по шву головой, причинила страшную боль, и состояние Гали ухудшилось. Пришлось ей, бедненькой, пробыть в больнице лишнюю неделю. Хорошо уж, что внутренние швы не разошлись и не понадобилась новая операция. В это время все свободные часы я бегал по Москве, искал Гале икру и фруктовые соки, прописанные доктором. Но какой это был труд!
Спасла нас Леночка из Вологды. Это был замечательный выход из трудного положения, так как отпуска мне не давали, а работы навалилось на заводе больше, чем когда-либо.
Леночка к тому времени окончила свой срок и могла ездить куда угодно. Она очень подружилась с Синайским и также с его мальчуганом. Она прекрасно справлялась с двумя пацанами и хозяйством, и я спокойно оставался на заводе, сколько было необходимо. Всё у Лены получалось складно и хорошо. И гуляла она с детьми много, и ходили они далеко. Во время прогулок Леночка рассказывала детям норвежские сказки, которые перевела на русский. Как только они, взявшись за руки, шли гулять, начиналась сказка. Мальчики уже с утра начинали её спрашивать:
— Бабушка, когда ты ещё нам расскажешь про тролливуй? — Она смеялась и отвечала:
— Скоро, вот обед сварю, пойдём гулять и расскажу. Только не про тролливуй, а про троллей. А вы идите пока без меня на свою полянку и ждите меня.
И они, довольные, бежали на полянку, где совершенно самостоятельно проводили большую часть дня.
На этой полянке Алёша завёл роман с соседней девочкой Ирусей. По этому поводу Леночка писала Галке в больницу: «Хоть характер у неё неважный, но так как у Алёши исключительно покладистый, то играют они хорошо. А Майка (Синайский) для Алёши не так интересен, хотя моложе совсем немного. Слишком флегматичен и мало проявляет к чему бы то ни было интерес. С Ирочкой ему интереснее». И добавила, вспоминая свою невестку: «Ох, и боюсь я этих Ирусей». Да, у Мишиной Иры был «тот» характер.
Алёша писал маме свои письма, с иллюстрациями. Зажмёт в кулачок карандаш и зачерчивает всю бумагу, после чего просит бабушку надписать его рисунок: «Это очень, очень много воды».
У меня оставалось ещё две недели отпуска, когда Галочка приехала из больницы. Но в серьёзное путешествие ей ехать было рано. Алёшина страсть рисовать маме море навела нас на мысль показать нашему отпрыску настоящее море.
Кирпичниковы были знакомы с одним жителем Лазаревки, Александром Александровичем Усовым, знаменитым путешественником, натуралистом и популяризатором, известным под псевдонимом «Чеглок». Он написал о своих путешествиях и наблюдениях уже множество книг, некоторые были нам знакомы. Кирпичниковы рекомендовали нам поехать к Усовым, и мы с радостью согласились.
Мы с Галей уже в четвёртый раз ехали на Кавказ, а Алёнька даже на дальнем поезде ехал впервые. Он всё хотел рассмотреть и обо всём разузнать. Пассажиров было мало, и Алёнька прежде всего облазил все полки в купе и удивился:
— Питиму так много этажерки, а книги нету?
У него была привычка до всего докапываться, всё понять. Глядит в окно, спрашивает:
— Питиму все деревья и домики убегают от нас? Испугались? А луна тоже на морья захотела и не боится нас?
Через несколько минут снова вопрос:
— А морья какая?
Мы ему объяснили, что море, это когда много-много воды и берегов не видно. А когда, наконец, сам увидел море, убеждённо сказал:
— Морья, это большая-большая речка!
В Лазаревке есть Гора, это целый район посёлка. Усовы жили на Горе. Оставив багаж на станции, мы пошли к ним. Улица изгибалась горбом, мы полезли вверх. Составлявшие улицу домики все были окружены садами, полными персиков, абрикосов, груш и винограда. Усовы жили на самом верху, из их прекрасного сада открывался незабываемый вид на море.
Семья Усовых состояла из главы дома — Александра Александровича — седого, с белой бородкой, красивого, очень румяного высокого человека с голубыми глазами, удивительно светившимися благожелательностью и добротой, и его жены — Надежды Артемьевны — пожилой, трудолюбивой и хозяйственной женщины. Она была хорошая художница.
Когда мы к ним вошли, Надежда Артемьевна писала натюрморт из цветов и фруктов. Как раз в это время у них гостил сын, студент, с женой — оба медика. В нём Галя узнала парнишку, пускающего себе за шиворот желтопузика, которого мы встретили лет пять назад.
Эти «дети» произвели на нас не особенно хорошее впечатление. Они целыми днями лежали в саду отца, весьма оголённые, загорая и совершенно равнодушные к тому, что старый отец и больная мать десятками вёдер таскали на гору воду для поливки и для хозяйства. На просьбы родителей о помощи отвечали грубостями. Когда мы стали помогать Усовым, тут даже Алёнька включился со своим маленьким вёдрышком. Мы услышали:
— Вы-то, верно, приехали поработать, а мы так отдыхать. Ну-ну, работа кое-кого любит!
При этом они зевали, лениво потягивались, лёжа среди груды косточек от съеденных персиков и абрикосов, среди чудесных хризантем. В этом исключительно ухоженном и вычищенном саду это было единственное место, так замусоренное. Возмутительнее всего, что на каждый следующий день они выбирали новое, чистое место в саду — им не хотелось прохлаждаться среди грязи и поломанных чудесных хризантем. Хочется добавить, что хризантемы были любимым цветком Надежды Артемьевны, она их выращивала с особым вниманием и терпением.
Хозяева встретили нас с исключительным радушием и до всяких разговоров угостили виноградом и персиками, такими спелыми, что при каждом откусывании сок прыскал вокруг фонтаном.
Пока мы отдыхали, Александр Александрович побежал — «дед-шустрик» всё делал бегом — на улицу в домик наискосок к своему знакомому, башибузуку Хаджирову, и договорился о комнате для нас. Комнатка была уютная, хозяйка приветливая. Сняли мы комнату «с фруктами», и поэтому хозяйка каждое утро ставила на стол громадное блюдо самых лучших, спелых, разнообразных фруктов и всегда проговаривала «да вы идите, ещё в саду пособирайте, что понравится». Это уж нам перевёл Усов, так как хозяйка не говорила по-русски. Такого мы никогда и не видывали! Сказка!
Александр Александрович в молодости очень много путешествовал и по Австралии, и по Новой Зеландии, и по островам Полинезии, да в каких только экзотических странах он не был! Он был крупный учёный-натуралист вроде Гумбольдта или Федченко и описывал свои путешествия в серии популярных рассказов, которыми я зачитывался мальчиком.
Дом его был настоящим музеем диковинок: чучела невиданных зверей и птиц, идолы, первобытное оружие, художественные изделия, оригинальные одежды народов тех стран, где он побывал. Но больше всего он увлекался музыкальными инструментами разных народов. Он собрал уникальную коллекцию инструментов и на многих из них умел играть. Так, например, в первый же вечер он исполнил для нас концерт папуасской музыки. Позже мы услышали музыку многих других экзотических стран. Это был исключительно талантливый во многих областях человек.
Мы узнали, что Александр Александрович был не только писателем-натуралистом, но и крупным архитектором, и изобретателем, и хорошим, талантливым педагогом.
Уже довольно давно они приобрели в Лазаревке участок никому не нужной — из-за трудностей обработки — земли. Он был заброшен и превращён в общественную свалку, заросшую гигантским бурьяном. Это был склон горы, расположенный далеко от всякой воды. Энтузиастов Усовых это не испугало. Они вдвоём взялись за него и после невероятного труда за пятнадцать лет не только расчистили участок, но и построили домик, сконструированный самим Александром Александровичем и названный «Домом солнца». Действительно, солнце «жило» в нём целые дни, проникая то в одно, то в другое окно, и так во все комнаты. Внутри всё было устроено максимально удобно, красиво и потому всегда радостно. Много они вложили мастерства, умения и вкуса и в этот дом и в участок. А на участке получился просто райский уголок.
Путешествуя по всему земному шару, Александр Александрович отовсюду привозил семена и черешки различных плодовых пород. Частично он сам вывел новые породы. Он был, кроме всего прочего, селекционером. Нас поражали сотни сортов его винограда с плодами разных размеров, цвета и вкуса. Усов обычно угощал виноградом так:
— Вы какой предпочитаете — сладкий, сахарный, с кислинкой, какого аромата, с косточкой или без? А вот попробуйте испанский винный, а вот конголезский сочный — им можно утолить жажду двумя-тремя ягодами. Вот ещё хорош лимонный, а вот китайский с совершенно особым ароматом. Вы заметили, какой у него густо-бордовый, почти чёрный, цвет?
О каждом сорте он рассказывал его происхождение, историю, как он его нашёл, где, откуда вывез, каким способом добился акклиматизации, какие прививки делал и какие при этом получились новые качества. Да, это был настоящий университет.
К моменту нашего приезда сад сильно разросся и плодоносил так обильно, что обеспечивал не только семью Усовых, но также друзей и соседей. Александр Александрович раздавал всем желающим семена, черенки и пропагандировал свои приёмы садоводства. Они были разработаны им самим или заимствованы в странах, из которых был привезён образец.
Александр Александрович был оригинален во всём, что бы он ни делал. Изобретательность проявлялась, например, в вопросах режима и гигиены. Он вставал с солнцем и ложился спать рано, утром обливался холодной водой, растирался своим способом, делал гимнастику, тоже собственного изобретения, дышал особенно. Всё базировалось на строгих медицинских принципах и приёмах. Применял он это ещё в прошлом (XIX) веке, когда вообще-то никто ничего подобного и не слыхал. Он и в питании был самобытным. Вегетарианец, овощи и фрукты употреблял только сырыми, чистую воду не пил, считая, что жидкости для организма достаточно во фруктах, соль вовсе не употреблял, питался преимущественно мамалыгой. Конечно, всё это было возможно при жизни на юге, в сельских условиях.
Мы убедились, что его образ жизни вполне оправдывал себя. Его жизнерадостное лицо светилось ярким румянцем, он был силён, никогда не болел, легко ходил по горам, выработав свой шаге максимальным коэффициентом полезного действия и наименьшей утомляемостью. Он пытался обучить нас своему способу ходьбы, объясняя, что главную нагрузку делает на большие пальцы ног, как ходят индейцы. На лыжах он передвигался, как-то несколько приседая, будь это на равнине или в горах. Когда приезжал к нам в Лосинку, ходил быстро и без устали. После 20–30-километрового пробега был «свеж как огурчик», тогда как мы уже «вешали язык на плечо». По скорости мы не могли его догнать, хотя ему уже было более восьмидесяти лет, а нам ещё не было тридцати! И плавал он своим особенным стиле, выигрывая при этом силу и время. Мы никогда не переставали удивляться на этого «молодого старичка».
Думаете, он ничего не изобрёл в хозяйственных делах? Скажем, хлеб им приходилось печь самим, но ни закваски, ни дрожжей в продаже не было. Так Александр Александрович ставил замешенное тесто на определенное время на солнышко, и оно буйно поднималось. Варил он всё только на пару, причём в минимальные минуты. Среди его изобретений — очень действенный способ мыть окна. Для осени у крыльца было сделано остроумное приспособление, очищающее ноги от грязи, обойти которое при входе было нельзя. Мыть полы Усов умел способом, экономящим силы, и т. д., и т. п.
Алёша привязался к Усовым с первого знакомства, и они его полюбили. Утром, только что вставши, он заявлял:
— Ну, я пошёл к дедушке.
Часа через два он возвращался с физиономией, выпачканной персиками, и волочил по земле в самой пыли гроздь винограда, которую он и поднять-то не мог, и неизменно говорил:
— Мам-Галь, сегодня это твой любимый виноград. А есть я не хочу, я уже поел у дедушки.
Море Алёша осваивал постепенно, как-то осторожно. Сначала, стоя в сторонке, внимательно всматривался в него, и неожиданно спросил:
— А морья завянет?
Мы поняли, что он хочет узнать, успокоится ли когда-нибудь прибой. Узнав, что оно никогда не успокоится, он стал осторожно ходить по воде вдоль берега, где вода была по щиколотку, при этом внимательно следил за волной, что-то думая. Попривыкнув, Алёша стал заходить поглубже и громко смеялся, когда волна обрызгивала его. Когда это надоело, он на четвереньках, тихо, с оглядкой, отполз вверх по пляжу. Сел в стороне от уреза и, притаившись, внимательно смотрел на прибой. И вдруг, громко расхохотавшись, закричал:
— Я ушёл, а морья не увидел, что я ушёл, и всё толкается!
Это продолжалось много раз и в последующие дни, как будто Алёк всё надеялся, что «морья» когда-нибудь заметит его уход.
Скоро Алёша привык к морю, стал купаться сам и заходил всё дальше, а когда волна накрывала его с головой, он только чихал и смеялся:
— Морья всё балуваит, как Юра (его товарищ в Москве).
Иногда мы на целый день уходили в горы. Александр Александрович, хорошо знавший этот край, рассказал нам про все интересные места и тропы к ним. Близкие походы мы делали с Алёшей. Он бодро шагал впереди. Но к полудню скисал, а возвращался неизменно сонный на плечах родителей.
Но в дальние прогулки мы ходили без него, тогда он оставался в домике Усовых к обоюдному удовольствию их и его.
Нас особенно привлекали дольмены в горах близ села Алексеевки, километрах в десяти от Лазаревки. Эти мегалитические сооружения поразили наше воображение. Как могли люди бронзового века совладать с этими громадными камнями, прекрасно обработать их и соорудить такие постройки?
Каждый дольмен был составлен из четырёх каменных плит весом по несколько тонн каждая — это были стены — и пятой, накрывавшей их в качестве нависающей крыши. Толщина плит достигала 40 сантиметров. В передней стене была вырезана правильная круглая дыра диаметром сантиметров 30. Я не смог пролезть в неё — плечи не пускали, но Галка так стройна и гибка, что влезла в это отверстие внутрь. Я боялся, что она так там и останется. Ведь отверстие было предназначено только для ночных прогулок душ умерших. Нет, всё благополучно.
Однажды, спускаясь с дольменовой поляны, мы набрели на заброшенный черкесский сад. Черкесы были искусными садоводами, но они ещё в прошлом веке эмигрировали в Турцию. Постройки их разрушились, но опустевшие сады продолжали плодоносить. Сады были разбросаны высоко в горах, среди дремучих лесов, и никакая организация не бралась собирать в них урожай, не говоря уже о том, чтобы за ними ухаживать.
Мы увидели старые яблони, под которыми грудами валялись гнилые и расклёванные птицами яблоки. Был конец сентября. Яблоки были крупные, прекрасного сорта. И мы выбрали несколько штук получше для Алёши. Кроме того, набрали в носовой платок фундука.
Пройдя километра два, мы вышли на дорогу. Там встретили женщин, собиравших хворост, которые, увидев наши трофеи, набросились на нас как фурии:
— Вот они, воры, грабители! Сады обирают, а нас за это на 8 лет сажают! Своему дитю нельзя яблоко принести. А эти городские здесь шастают, да яблоки уносят! Тащи их, бабы, к бригадиру! Не пущай их!
— Да позвольте, мы взяли три яблока в заброшенном саду, выбрали из падалицы. Они всё равно гниют!
— Ну и пусть гниют! Вам-то какое дело! Почему это вам можно, а нам нельзя?
Мы ничего не понимали. Явился бригадир и спокойно объяснил нам, что черкесские сады считаются государственными. Но так как их никто не эксплуатирует, то урожай каждый год погибает. Однако всем строго запрещено брать, хотя бы поднимать с земли, пускай одно яблоко, один орех. Это так же, как сбор колосков на сжатом поле, подводится под закон о хищении государственной собственности. У них в деревне за эти орехи или яблоки был ряд случаев ареста с осуждением людей на 8 лет. Понятно, что колхозницы так возбуждены и злы на нас. А он, идя навстречу трудящимся, обязан доставить нас в милицию.
Пошли гурьбой. По дороге разговорились. Узнав, что мы из Москвы, колхозники переменили тон:
— Так вы, поди, там самого Сталина видели?
— А как же! Первого мая встречались на Красной площади.
— Слушайте, так вы, может быть, замолвите ему словечко за наш колхоз? Скажите ему, что мы голодаем, всё отдаём государству. На трудодень почти ничего не получаем, личные сады в колхоз отошли. Собирать в лесу нельзя. Попросите, чтоб он закон отменил. Он ведь не знает…
— Мы бы и рады. Да ведь со Сталиным так просто не поговоришь. Особенно, если вы нас сейчас в милицию сдадите и нас на 8 лет посадят.
— Ну, хоть ненароком. Ведь его когда-никогда встречаете на улице? А насчёт милиции… Может, для такого случая отпустим их? Как, бабы?
И бабы, посоветовавшись, решили, что для такого дела и правда стоит отпустить. Мы расстались дружески. Но случай замолвить за них словечко Сталину нам не представился. Не наша уж это вина.
В Лазаревке через овраг от Усовых был уголок, который назывался «Гуарек». Там размещалась толстовская колония вегетарианцев. Но у всех понимание этого принципа было собственное и отличное от всех других. Это была колония чудаков всякого рода: одни были зерноеды, другие сыроеды, третьи не ели молока и яиц. Четвёртые изобретали вегетарианскую обувь, пятые не носили шерстяных тканей, шестые вели мотыжное, безлошадное хозяйство и так далее. Все они обрабатывали свои участки земли, притом прекрасно обрабатывали. Все были великие труженики и смотрели на Александра Александровича как на своего наставника и консультанта в отношении посадок и ухода за плодовыми, а Надежду Артемьевну считали пунктом проката земледельческого и домашнего инвентаря.
Усовы с большой охотой снабжали их, так же как и окрестных жителей, всем, чем могли, и, главное, черенками и отростками, рассадой и семенами заморских растений.
Как-то, идя на море, мы встретили согбенного человека, нёсшего такой огромный рюкзак, что сам он под ним совершенно терялся. Казалось, что рюкзак сам передвигается на ножках.
— Мама, папа, дядя дом несёт! — закричал Алёша и сейчас же побежал знакомиться с необыкновенным дядей. Дядя оказался молодым и приветливым. Выяснилось, что он приехал к Усовым. Он тоже был студент-медик и учился вместе с сыном Усовых, Женей. Себя он назвал Котом Малиновским и просил называть его просто Котом. Мы были несколько смущены, но расспросить относительно необычного имени постеснялись. Он сказал, что так его зовут все знакомые и только под этим именем знают в университете.
Мой отпуск кончался, и я уехал в Москву. Очень рад, что Галя согласилась пожить там с сыночком.
Как-то Галя мне написала, что они с Котом ездили в Адлер и сумели там покататься на маленьком самолёте. Полёт продолжался один час, над горами и над морем. Сверху море было видно на большую глубину. Галя летала на самолёте впервые и получила огромное удовольствие, хотя были страшные минуты, когда лётчик просто ради удовольствия пугал своих пассажиров, несколько раз ставя самолёт на крыло.
В Адлере Галя подцепила малярию и всё остальное время в Лазаревке лежала через день с высокой температурой, а через день бродила, как тень, от слабости. Когда же было пора эвакуироваться, она не могла дойти до станции. Кот вместе с приехавшими к нему товарищами, достав носилки, организовал транспортировку больной к поезду. Среди «носильщиков» был будущий академик Дубинин.
Кот сопровождал Галю в Москву. На станции он помчался за билетами. Товарищи отнесли Галю в вагон и быстро вышли, так как поезд стоял всего две минуты. Галя легла на скамью и на несколько минут забылась от слабости. Когда же пришла в себя, то, к своему ужасу, не увидела ни Алёшу, ни Кота. Можно себе представить её испуг. Она решила, что они не успели на поезд. Но если бы она знала, что произошло на самом деле, её бы свалил инфаркт.
А дело было так. Кот получил билеты, когда поезд уже тронулся. Он подбежал к Алёше, схватил его подмышку и бросился догонять удаляющийся последний вагон. Таки догнал, вскочил, но какой это был риск! Их так при этом дёрнуло, что Кот с трудом удержался на ступеньке.
Когда мои детки приехали из Лазаревки, Галочка немного поправилась, хотя скрытая форма малярии в ней сидела ещё более года.
Между тем, на заводе для меня сложилась нелёгкая обстановка. Жуков решил передать гальванический цех из электрического в крепёжный. Это грозило тем, что мне надо было в месячный срок закончить ряд переделок в новой мастерской, освоить два новых производства и передать дело назначенному заместителю. Самому же после этого перейти в распоряжение заведующего электрическим цехом Машкина. Я вовсе не хотел идти в новую мастерскую и стал вести переговоры о переводе меня снова в техбюро, в группу механика завода. Однако, тут нужно было быть осторожным. Нельзя быть строптивым, так как таких отправляли в принудительном порядке строить Магнитку, куда уже угодил мой друг Аркаша Красовицкий.
А мне так сильно захотелось учиться дальше, именно на географа. Но я пришёл к убеждению, что совмещать учёбу с работой старшего мастера — «детская наивная мечта». Дело в том, что завод не выходил из авралов и в эти периоды я не выходил с завода, постоянно ночевал в цеху. Даже когда этого не было, меня постоянно по ночам будили телефонные звонки: то вентилятор сломался, то хромировщик заболел, то почему-то в цеху нет тока, то кадмий не ложится на детали. Я мчался на завод, чинил, налаживал всё до утра и не заходя домой продолжал работу. До науки ли тут было!
Однако, как же мне хотелось перейти на географию! А может, попробовать? Но прежде всего надо посоветоваться с Галкой, ведь большая часть трудности ляжет на неё, и не менее пяти лет. Как она будет управляться, да ещё с малышом?
Она меня очень горячо поддержала, даже обрадовалась, говоря:
— Ты ведь привязан к географии с детства и должен когда-нибудь стать географом.
Я был счастлив и благодарен ей, что она меня понимает. Я ей объяснил, какие трудности ждут её. Она только засмеялась:
— Вместе будем преодолевать!
Так я приступил к осуществлению своей давнишней мечты и стал наводить справки.
Я стал выяснять, как уйти с завода, и, увы, узнал, что тогда существовало «крепостное право» — дирекция имела власть не отпускать никого с завода. А заводская квартира, в которой мы жили? Это уже вовсе кабала. Почему-то мы понадеялись на вполне нереальную возможность обменять заводскую квартиру на государственную. Дело опять упиралось в дирекцию завода, и чтобы Жуков разрешил обмен, даже с работником завода, трудно себе представить. Да и где найти такого, кто хотел бы обменяться?
Но я приложил невероятные усилия и… нашёл желающего динамовца, который не собирался бросать завод, а жил очень далеко. При обмене с нами он очень много выиграл: получил рядом с заводом отличную большую комнату за свою тёмную полуподвальную, где в квартире жило 16 человек. Но мы были довольны. Как теперь оформить это дело с директором? Стали ждать.
А пока я стал выяснять возможности своего поступления в университет. Я мог поступить только на заочное отделение, чтобы иметь возможность зарабатывать для семьи. Но в Москве на геофаке заочного отделения тогда не было. Из родственных организаций заочное отделение было только в метеорологическом и картографическом техникумах. Я решил податься на первый. Но… потерпел фиаско. По незнанию правил решил козырнуть своим высшим образованием, считая это своим козырем. Ответ меня ошарашил:
— Лиц с высшим образованием не принимаем. Так и повсюду. Таков закон. Вы получали от государства стипендию, на вас тратили деньги. А теперь хотите снова сесть на шею государству?
Сколько я ни божился, что не получал от государства ни копейки, наоборот, отчисление от моей зарплаты на заводах поступало на содержание института, всё было напрасно. Оказывается, времена изменились, и никто не помнил о порядках в Институте Каган-Шабшая. Администратор посмотрел на меня как на завравшегося мальчишку и не захотел более разговаривать со мной. Не помогли мои доводы, что я уже более пяти лет отработал на заводе, что на заочном я не буду получать стипендии. С таким же «успехом» я атаковал картографический техникум.
Выручил случай. Жуков вёл сидячий образ жизни и потому страдал геморроем. Наконец ему стало невтерпёж, и он лёг на операцию, назначив своим заместителем Боброва. Бобров до этого командовал своими татарами и был в курсе дел и намерений инженерно-технического персонала. В первый же день его правления я подкатился к нему:
— Разреши обменять казённую квартиру.
— Только с нашими.
— Само собой. Со старшим мастером Афониным.
— Зачем меняться надумал?
— Жена на службу поступает. Не с кем малыша оставить. А там бабушка рядом живёт.
— Смотри у меня! Если на работу будешь опаздывать…
— Будь я гад!
И он подписал заявление. Мы быстренько собрались и переехали на Сретенку, в Колокольный переулок. Тошно, темно и сыро было в подвале, но впереди маячила новая жизнь, и это всё окупало.
Я не соврал Боброву, объяснив ему причину обмена: поблизости в опустевшей квартире жила бабушка-няня, а Галя действительно поступила на службу.
Служба у неё была вольготная. После нашего возвращения из Лазаревки наши заочные друзья Липины пригласили Галю работать у них на дому лаборантом. Они приняли её как своего человека, и так велико было их радушие, что Галя сразу почувствовала дружную творческую атмосферу их семейства и теплоту человеческих сердец, в ней царившую.
Ещё в Тюфелевой роще моя тётушка Наталья Эмильевна, заменившая в Алёшиной группе Валентину Яковлевну, освобождала Галю для работы. Но нередко Галя брала Алёньку с собой на работу.
Обязанности Гали состояли в разборе проб планктона с помощью бинокуляра под руководством Александра Николаевича. Пробы были взяты в Телецком озере. А ещё она писала латынь под диктовку в рукописи Нины Николаевны. Так в нашу семью впервые проникли естественные науки.
Весной я узнал, что в Ленинграде на геофаке есть заочное отделение, и решил снова попытать счастья, написал заявление в завком.
Освоение новых операций на заводе затянулось на всю зиму, и ему не видно было конца. Для одной из них — анодной оксидации разрядников для электропоездов по расчету Додева — нужен был специальный конвертор. Его не могли сделать у нас и заказали на стороне. Завод-изготовитель поставил срок год, но по тому, как у них подвигалось дело, было ясно, что они в год не сделают.
Второе задание — антикоррозийное покрытие велодинамок — для Турции казалось сравнительно лёгким. Турки заказали их десятки тысяч, и весь цех ширпотреба переключился на эту работу. Обычные приёмы гальванотехники пасуют перед алюминиевыми сплавами. На них ничего не ложится, ни никель, ни цинк, ни кадмий. Я надеялся на шоскирование, но и с ним не удалось добиться надёжного покрытия: металл отслаивался, лупился. Я пошёл к заведующему производством Александрову и подал ему заявление об увольнении. Он слыл либералом и потому сказал:
— Я не хочу никого заставлять работать насильно.
И написал: «Не возражаю, после окончания освоения импортного заказа на велодинамки и оксидации электровозных разрядников». И с улыбкой добавил:
— Этого вам на два года хватит, а там посмотрим.
Для проветривания мозгов я записался на майские праздники в велопробег Ленинград-Москва. Туда на поезде, а назад на велосипедах. Здесь учли направление господствующих ветров с северо-запада на юго-восток. Вдобавок к двум дням праздника директор дал ещё три с условием, что участники пробега повесят на себя плакаты, прославляющие наш завод.
Приехали в Ленинград 30 апреля. Я тотчас же наведался в университет. Мне сказали, что решение ещё не принято. Но никаких возражений не предвидится. Уже хорошо.
Первого мая мы собрались у Московского вокзала и по лёгкому морозцу отправились в Москву. Нас было 8 человек, в большинстве молодые рабочие. Поехали без предварительной тренировки, первым весенним поездом, вовсе не зная друг друга.
Политрук пробега Зайдман, наш шабшаевец, работавший в отделе технологии, большой болтун и хвастун, сразу задал быстрый темп. Он говорил, что будет большим позором, если мы пройдём трассу в предварительно рассчитанный срок — пять дней. Необходимо закончить пробег в четыре дня. Исходя из этого он погнал как на спринтерской дистанции, за ним ещё двое.
Я, впервые участвуя в длительном пробеге, чувствовал себя не в силах принять предложенный темп и отстал. Со мной ещё четыре человека. К полудню разрыв достигал двадцати километров. Позади всех ехал замыкающий с велоаптечкой. Он был обязан всем помогать в ликвидации аварий и оставаться со всеми отстающими. Замыкающим назначали всех по очереди.
К четырём часам я начал ощущать некую неудовлетворённость в чреслах, живо напоминающую ощущения, испытанные мной при верховой езде в районе Они. Через два часа боль стала невыносимой, и я ехал, стоя на педалях. Впереди показался Зайдман и товарищи, ехавшие с ним. Он явно выдохся и жаловался на плохую конструкцию своего седла. В общем, плохая конструкция оказалась решительно у всех. Подъезжая к Ильменю, мы увидали речку, схваченную заберегами. Проломав ледок, мы спустили штаны и с наслаждением погрузили в ледяную воду нашу горящую плоть. Проезжавший мужичок, увидев 8 парней, которые подобно волку в сказке вмораживают свои хвосты в лёд, очевидно, решил, что это проделки нечистой силы. Воскликнув: «С нами крестная сила!», он хлестнул лошадь и умчался галопом.
Мы переночевали в Новгороде. Утром подивились на Кремль, к тому времени сильно разрушенный, поглазели минут пять на памятник тысячелетия России, покатили дальше.
Подъём к городу Валдаю был очень тяжёл. Зато спуск — великолепен. Целые километры велосипеды мчались как птицы безо всяких усилий с нашей стороны. И природа способствовала подъёму нашего настроения. В еловых лесах прыгали белки, радуясь богатому урожаю шишек. Снег сходил, вокруг стволов деревьев образовались земляные кольца, и зазеленела первая травка. Ельники сменялись борами, боры — березняками, уже покрывавшимися зелёным пушком. А уж птицы старались!
Движения машин по неасфальтированному шоссе почти не было. Досаждали только мотоциклы, которые с весьма гордым видом обгоняли нас, обдавая пылью, волной вонючего газа и нестерпимым треском. Но мы знали, что через час-другой мы еще увидим их чинящими на обочине свои машины или в поте лица волочащими их до ближайшей деревни. Тогда наступал наш час и, в свою очередь обгоняя их, мы громко пели весёлую песенку:
Цыкал, цыкал мотоцикл, Цыкал, цыкал не доцыкал, Не доцыкал до конца, Ламца, дрица, им-ца-ца!Вдогонку они грозили нам кулаками.
Зайдмана с нами уже не было. Сказавшись больным, он в Новгороде сел на поезд. Мы остались без политического руководства.
Как ни странно, по мере того как мы ехали, боль в натёртых местах становилась менее мучительной. Или мы просто притерпелись? Зато всё сильнее болели мускулы в ляжках и икрах. Дошло до того, что на остановках, где чайная была на втором этаже, мы вынуждены были, на потеху честных граждан-христиан, подниматься по лестнице на четвереньках. Только в Торжке над нами никто не смеялся. Там был какой-то престольный праздник, и по этому случаю полгорода ходили на четвереньках, и не только по лестницам, но и по всем улицам.
Перед Тверью у меня отказала динамка. В темноте, разогнавшись с горы, я налетел на бревно, брошенное поперёк дороги, вылетел из седла и спланировал, метра четыре проехался раком по гравию. Я вырвал себе кусок правой ладони и забил рану грязью. Никакой воды поблизости не было. Я замотал руку грязной тряпкой, которой обтирал велосипед, и поехал, управляя одной рукой, догонять товарищей. В Твери повязку усовершенствовали.
За день мы проехали ещё 180 километров. А я всё держал руль одной рукой — левой. В результате такого напряжения у меня омертвел безымянный палец, и впоследствии пять лет он оставался бесчувственным. Его можно было колоть булавкой — он боли не чувствовал.
Зайдман встретил нас в Клину и, победно возглавляя всю колонну, завершил пробег, как победитель.
Промывание мозгов ветром очень помогло. Ещё в дороге я подумал, а зачем велодинамкам металлическое покрытие? Не лучше ли добротно покрасить, да притом в разные цвета. Это ж будет шик, блеск! И затем, почему красить мне? Гальваническая мастерская не приспособлена для малярных работ! Но, боюсь, что передать дело в наш малярный цех заводоуправление не согласится, слишком паршиво там красят. А где хорошо? Надо поискать. И по приезде я занялся поисками. Вскоре я остановился на заводе малых моторов, окраска которых выглядела весьма нарядно.
Я нашёл своего бывшего «врага», изобретателя Смирнова:
— Послушайте, есть продуктивная идея. Турецкие динамки, которые предполагается шоопировать у меня в мастерской, если это удастся освоить, встанут в копеечку. Завод малых моторов может красить их в два раза дешевле и красивее. Это даст большую экономию и, следовательно, премию тому, кто внесёт это предложение. Я советую вам заняться этим делом.
— А почему ж вы сами не возьмётесь?
— Мне, мастеру, которому поручено это дело, неудобно вносить предложение, освобождающее меня от него. Двиньте это через БРИЗ, вам это с руки.
Смирнов ушёл от меня в сомнении, боясь подвоха, но я знал, что забил крепкий гвоздь в его голову. Через неделю он привёз с завода малых моторов образцы окрашенных динамок, которые действительно выглядели прекрасно, и после небольшой войны мы добились принятия его предложения. Все были в выигрыше: завод получил экономию, Смирнов — премию, я — половину свободы. Не знаю, получили ли турки снижение цены на динамки. Навряд ли.
Оставалась мне вторая задача. Я просидел несколько суток над проектом, расчётом и сконструировал простую установку. Заменил мудрёный специальный конвертор умформером, последний предполагал собрать из мотора и динамо. Потом переселился на завод и две недели не выходил из него, позволяя себе поспать на столе четыре-пять часов в сутки. За это время я нашёл подходящие, но неисправные машины, добился их ремонта, отвоевал испытательный стенд, собрал на нём несложный распределительный щит. Испытал разрядники и добился отличного качества оксидации. Затем я собрал комиссию из представителей Отдела контроля, Отдела техники безопасности и Отдела главного электрика завода и торжественно сдал установку по акту.
Мне оставались семечки: произвести инвентаризацию мастерской перед сдачей, вернуть личный инструмент и ещё кое-какие мелочи.
Я пришёл к Жукову и положил на стол заявление.
— Врёшь, не уйдёшь! Окажешься на улице со своей семьёй.
— У меня своя комната.
— Как своя!? Где ты её взял!?
— Обменял.
— Кто разрешил?
— Бобров. Когда ты лежал на операции.
— Какой дурак! Уж и заболеть нельзя! А производство?
— Александров не возражает. Видишь, подписал.
— Да, но он не возражает отпустить тебя только после того, как ты выполнишь установку… Конвертер-то ещё не готов!
— Я и выполнил. Никакого конвертера не надо. Вот акт приёмки установки и технологического процесса.
Он вызвал Александрова:
— Как же ты такого маху дал?
— Признаюсь, не рассчитал. Не предвидел ход талантливого противника.
— Как же нам быть с ним?
Тут я вмешался:
— Михаил Евдокимыч, казак назад не пятится. Подмахни. Ну что тебе стоит?!
— Ну, будь по-твоему. Только я тебе такое устрою! Пожалеешь!
И он устроил-таки. Завком меня исключил из профсоюза, а в заводской многотиражке меня прославили дезертиром производства. Но это было бы страшно, если б я собирался дальше работать по той же линии и специальности. Но я простился с ней навсегда.
Воспоминания писались в 1971–1975 годах. На этом записки обрываются. Впереди оставалась ещё половина жизни, не менее бурной и полной борьбы. Но уже совсем в другом спектакле. Это можно в целом назвать борьбой за родную природу. Давид Львович круто сменил профессию, стал доктором географических наук, инициатором закона об охране природы. По его мысли в России был организован ряд стационаров для постоянного изучения тонких процессов, происходящих без участия человека в каждом лесном, степном, луговом растительном сообществе. Он возглавил трёхлетнюю экспедицию в Китай, поставив задачу как можно более разумно использовать возможности природы в народном хозяйстве. Его книгу «Нам и внукам» считают первым сигналом массового движения за сохранение родной природы. Десятки статей, лекций, докладов, выступлений, поездок были посвящены сохранению лесов, рек, лугов, памятников культуры от уничтожения равнодушными дельцами и жадными чиновниками. Служилая братия, партийная элита стеной стояла за свое право бесконтрольно распоряжаться всенародным богатством. Были на этом пути успехи и огорчения, угрозы беспартийному интеллигенту, но дело сдвинулось с мертвой точки, необратимо. Одновременно Давид Львович работал над вопросами теории. Его обоснованно считают основателем нового научного направления, геофизики ландшафта. Признанием его заслуг явились награждения большой золотой медалью Географического общества СССР и медалью «Китайско-советская дружба». На книги и научные статьи Арманда до сих пор ссылаются ученые, последователи, ученики. Среди последователей его внуки и правнуки.
До последних дней время Арманда сжималось как пружина. Все, чего требовала жизнь, успеть было невозможно. Каких-то нескольких месяцев не хватило ему и для завершения автобиографии. Но разве не достаточно и того, что удалось написать, для характеристики героя не нашего времени?
Он ушёл от нас 27 ноября 1976 года[44].
Примечания
1
Если имеется вино, то его надо пить (фр.).
(обратно)2
Интересный биографический очерк о няне Груше написан моей женой.
(обратно)3
Мама потом мне рассказывала, что, услышав о моей болезни (дизентерии) и безнадёжном состоянии, очень страдала, подъезжая к Ельдигинскому дому, но боялась спросить извозчика обо мне. А он, рассказывая обо всех, ни разу не упомянул обо мне. Какова же была её радость увидеть меня живым и здоровым.
(обратно)4
На тему этого побега сама Лена написала повесть «Побег», где конец события несколько изменён.
(обратно)5
Рукопись «Детство Дани», написанная мамой, грешит материнским пристрастием. Воспоминания Лены на ту же тему содержатся в рукописи: «Как Даня был маленький».
(обратно)6
Пребывание М. И. в крепости и первые годы жизни за границей описаны Леной в повести «Тропинки». Рукопись.
(обратно)7
Эта поездка описана мной в очерке «Пещеры». Напечатан на белорусском языке в журнале «Бярозка», 1946, № 7.
(обратно)8
Сладкое ничегонеделание (фр.).
(обратно)9
Что он кричит? Мама! — Нет. Папа? — Нет. Что значит «няня»? (фр.).
(обратно)10
Какой болтун, какая глупость! (фр.).
(обратно)11
Сиди спокойно! (фр.).
(обратно)12
Молчать (фр.).
(обратно)13
Изящное и благовоспитанное (нем.).
(обратно)14
В воспоминаниях И. И. Скворцова-Степанова, в книге «Избранное» (М., 1970) автор посвящает две страницы истории этого сотрудничества (стр.230–231), где упоминаются также А. П. Гельфгот и А. М. Беркенгейм.
(обратно)15
«Стакан воды» (нем.).
(обратно)16
Л. Арманд. Рочдэльские пионеры. М.,1920.
(обратно)17
Пятилеткой качества назвали 10-ю пятилетку 1976–80 гг.
(обратно)18
На милость победителя (англ.).
(обратно)19
Подготовка, так же как и последующая жизнь колонии до последнего дня записана мамой в дневнике, который она вела под названием «Дневник школы». Только через 50 лет нам с женой удалось расшифровать и перепечатать дневник, к тому времени сильно пострадавший от сырости и плесени. Он составил 4 тома на машинке (рукопись).
(обратно)20
Из «Дневника школы».
(обратно)21
Там же.
(обратно)22
Из «Дневника школы».
(обратно)23
Добавление Г.В.А. К этому времени Серёжа, по словам его матери Настасьи Николаевны, никогда не знал голода, а Даня сильно голодал уже около двух лет.
(обратно)24
Из «Дневника школы», стр. 149.
(обратно)25
Даня, поддержанный Верой и Всеволодом, был твёрд в решении сохранить колонию, хотя и понимал, какие невероятные трудности их ожидают. Этим шагом он спас колонию, фактически взяв на себя руководство ею. В это время ему едва пошёл 15-й год. — Прим. Г.В.А.
(обратно)26
Образцовые читатели Блэки.
(обратно)27
Во времена столь далёкие, что никто не помнит, когда это было…
(обратно)28
Девочки сделаны из сахара, пряностей и всего сладкого. Мальчики сделаны из лягушек, улиток и щенячьих хвостов.
(обратно)29
Очерк об А. Н. Шараповой, написанный моей женой Г. В. Арманд, напечатан в журнале «Amikeco» (ротапринт) и «Расо» (типогр.).
(обратно)30
«На море» (фр.).
(обратно)31
Жизнь и творчество Василия Ерошенко освещены в советской печати. См, например, сборник его сочинений «Сердце орла», Белгород. 1962 с биографией автора, написанной Р. Белоусовым; «Квітка справедливости», Киів, 1969 р. с биографией, написанной Н. Андріановой-Гордіенко.
(обратно)32
Краткая биография М. В. Муратова, написанная моей женой, к сожалению, до сих пор не опубликована.
(обратно)33
Что и требовалось доказать (лат.).
(обратно)34
Старческое слабоумие (лат.).
(обратно)35
Анна Николаевна Шарапова, гражданин мира, член U.E.A. (Всемирного общества эсперантистов) (эсперанто).
(обратно)36
Описана в книге: Н. А. Смирнова «Воспоминания».
(обратно)37
Партия из трёх, союз трёх (фр.).
(обратно)38
Про умерших можно говорить только хорошо или вовсе не говорить (лат.).
(обратно)39
Студент четвёртого курса.
(обратно)40
Буддийское изречение. Дхарма — возвышенные дела, возвышенная речь и мысли, защищающие человека от всех видов несчастий.
(обратно)41
Мысленная оговорка (лат.).
(обратно)42
Поход на Умбозеро описан мной в очерке «В Хибинских горах», журн. «На суше и на море», 1934, № 23. Также см. А. Новиков и Д. Арманд «На лыжах по Хибинским тундрам» в сб. «Снежной тропой», изд-во «Физкультура и туризм», М., 1936.
(обратно)43
Переход через Чоргорр мною описан в очерке «На лыжах через Хибинские горы», журнал «На суше и на море», 1935, № 5.
(обратно)44
Этот текст написан публикатором данных воспоминаний сыном Д. Л. Арманда А. Д. Армандом в 2008 году.
(обратно)

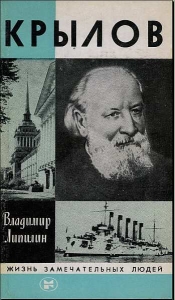


Комментарии к книге «Путь теософа в стране Советов: воспоминания », Давид Львович Арманд
Всего 0 комментариев