«Молодая гвардия», 2011
ПРЕДИСЛОВИЕ
…сам про себя рассуждал и говаривал, что не знает, к чему ево Бог ведет, либо де ему быть велику, или уже вовсе пропасть.
Объявление о казни А.П. Волынского
Двадцать седьмого июня 1740 года, в день годовщины Полтавской победы, ее участнику, бывшему обер-егермейстеру двора и кабинет-министру императрицы Анны Иоанновны Артемию Петровичу Волынскому предстояла мучительная казнь. В восемь часов утра, после причащения, ему в тюрьме Петропавловской крепости вырезали язык, после чего, завязав кровоточащий рот тряпкой, повели вместе с другими осужденными на расположенную рядом Обжорку, или Сытный рынок — место «торговых казней» в Петербурге.
На эшафоте «при обыкновенной публике» секретарь Тайной канцелярии Хрущов прочел приговор. Главное обвинение, инкриминируемое преступнику, звучало неопределенно, но страшно: его планы клонились «до явного нарушения и укоризны издревле от предков наших блаженные памяти великих государей… установленных государственных законов и порядков к явному вреду государства нашего и отягощению подданных и с явным при том оскорблением дарованного нам от всемогущего Бога высочайшего самодержавия и славы и чести нашей империи». Он же «облыгал» верных подданных, самовольно собирал «многие тысячи рублев с оных себе в похищение», произносил «непристойные и злодейские слова и рассуждении, касающиеся по первым важным двум пунктам[1]», «важные секретные дела другим кому не надлежало сообщал и списывать давал», обвинял неповинных «ложными доношениями», несправедливо производил в чины и наказывал служащих, брал взятки деньгами и вещами и «множественное число наших казенных денег и вещей подложно себе похитил». По иронии судьбы в завершение объявления о казни прозвучали слова самого Волынского, вынесенные нами в эпиграф.
От кладбища на Выборгской стороне при церкви преподобного Сампсона Странноприимца сохранилась только могила Волынского и его друзей с водруженным над ней в 1885 году памятником. Надпись на нем гласит: «Здесь погребены 27 июня 1740 года кабинет-министр, генерал-аншеф и обер-егермейстер Артемий Петрович Волынский, советник Андрей Федорович Хрущов и архитектор Петр Михайлович Еропкин, гоф-интендант. Сооружен в 1885 году по почину редакции журнала “Русская старина” многими почитателями памяти этих исторических русских людей».
Так закончил свою жизнь и одновременно вошел в историю один из ярких людей российского XVIII столетия, по отзыву выдающегося русского историка В.О. Ключевского, «младший современник и птенец Петра Великого». Отныне личность и дела Волынского будут оцениваться наравне — но по принципу «от противного» — с главным противником опального министра, знаменитым фаворитом императрицы Анны Эрнстом Иоганном Бироном. О последнем автору этой книги писать уже довелось, теперь настал черед и его оппонента.
Герцог Бирон уже к концу XVIII века приобрел репутацию жестокого «временщика»-тирана, против которого просто необходимо было восстать, как, по мнению поэта-декабриста Кондратия Рылеева, это сделал Артемий Волынский:
Презрев и казнью и Бироном, Дерзнул на пришлеца один Всю правду высказать пред троном. Открыл царице корень зла, Любимца гордого пороки, Его ужасные дела, Коварный ум и нрав жестокий.Исторический роман благонамеренного Ивана Ивановича Лажечникова «Ледяной дом» также представлял Артемия Петровича носителем гражданских добродетелей, сложившим голову в борьбе с корыстным и бездушным иностранцем. Оглушительный успех этого произведения (оно выдержало 50 изданий только в XIX веке и благополучно переиздается и сейчас) привел к настоящему паломничеству петербуржцев к могиле Волынского, что предсказал казненный в 1826 году Рылеев:
Отец семейства! приведи К могиле мученика сына; Да закипит в его груди Святая ревность гражданина!Созданный романистом образ павшего жертвой низких интриг патриота и одновременно романтического героя-любовника соответствовал как официозным представлениям о прошлом, так и оппозиционным либеральным взглядам. Многие просвещенные люди поколения, к которому принадлежал Лажечников, по меткому выражению Н.Я. Эйдельмана, «несколько стесняются XVIII века; хотя весьма им интересуются, но многого не знают, а кое-чего и знать не хотят», поскольку это знание не украшает отцов и дедов просвещенных дворян пушкинской поры. Обличение презренного и безродного иноземца давало возможность возложить на него вину за всё грязное и неудобовоспоминаемое из славного прошлого великой державы. Волынский представал настоящим русским молодцем с разгульной песней на устах, что привело в восторг Белинского: «Это природа чисто русская, это русский барин, русский вельможа старых времен». От Лажечникова пошел и сам термин «бироновщина», который стал символом царствования Анны и обозначением террористического режима, введенного управлявшими Россией иностранцами.
Нашлись, однако, и скептики. По мнению министра и историографа Екатерины II князя М.М. Щербатова, Волынский хотя и стал жертвой «неправосудного бесчеловечия», но идейным борцом не был, а пострадал «по единой его ссоре и неприязни бироновой» — «на пышные верхи гром чаще ударяет». Пушкин в письме Лажечникову сожалел, что «истина историческая в нем (романе. — И. К.) не соблюдена, и это со временем, когда дело Волынского будет обнародовано, конечно, повредит вашему созданию». Поэт и историк не соглашался с оценкой Бирона, «имевшего несчатие быть немцем»: «…на него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в нравах народа». Волынский же, с точки зрения Пушкина, предстает в источниках в далеко не героическом виде: взяточник, властолюбец, ни в грош не ставивший человеческое достоинство избитого им поэта Василия Тредиаковского{1}.
Обоим участникам спора не хватало знаний о не столь уж и далеком от них прошлом. Документы политического сыска были труднодоступными. В последний год жизни Пушкин получил от Жуковского «Записку об Артемии Волынском», составленную в 1831 году министром внутренних дел Д.Н. Блудовым по указанию Николая I на основании следственного дела — но воспользоваться ею уже не успел; полностью же она была напечатана лишь в 1858 году{2}. Со временем некоторые документы из дела стали публиковаться и появилась более основательная база для создания реальной биографии этой замечательной фигуры{3}.
Маститый С.М. Соловьев в числе первых показал Артемия Петровича в качестве одного из выразителей интересов российского дворянства; в то же время он считал, что печальный конец карьеры Волынского был вызван не столько недовольством политическим режимом, сколько борьбой за власть в правящем кругу: «У Волынского закружилась голова, властолюбие было страшно возбуждено, является стремление играть главную роль, затмить всех»{4}. В.О. Ключевский высказался еще более резко: хотя и считал Волынского «выдающимся дельцом», но относил его к той когорте петровских слуг, которые являлись «чистыми детьми воспитавшего их фискально-полицейского государства с его произволом, его презрением к законности и человеческой личности, с притуплением нравственного чувства»{5}.
Выходили биографические труды об удалом, трагически погибшем государственном деятеле{6}, хотя иные из их авторов подлинных архивных материалов не видели и писали по публикациям. Появляются такие работы и сейчас{7}, что свидетельствует о непреходящем интересе к бурному российскому XVIII столетию и его колоритным персонажам. Артемий Петрович по праву занял достойное место в списках выдающихся администраторов Российской империи петровского и послепетровского времени{8}.
Усилия историков как будто размыли старый «романтический» образ вельможи былых времен, но, похоже, породили причудливую пестроту мнений даже на уровне современных и официально одобренных учебников. В некоторых из них Артемий Петрович предстает героем-борцом, чья попытка «организовать заговор против Анны Иоанновны и немецкого засилья закончилась неудачно». В других говорится, что при своих «отвратительных личных качествах» он имел достоинства государственного мужа, строившего планы через «близость к Анне» осуществить «полезные государственные начинания» и «ограничить самодержавие совещательным дворянским органом». В третьих Волынский выставлен жестоким казнокрадом, достигшим вершин власти, чего «ему показалось недостаточно, и он, не рассчитав силы, вступил в открытую схватку с немцами» да еще и государыню «дурой» считал. Наконец, авторы иных учебников собрали, не мудрствуя, все черты нашего героя: «Дальний потомок героя Куликова поля Боброка Волынца, он начал карьеру при Петре I. Он был женат на двоюродной сестре царя (по матери) Л.К. Нарышкиной. Волынский проявил себя как дипломат (посольство в Иран), губернатор в Астрахани и Казани. В 1738 г. волей Анны Ивановны он стал кабинет-министром. Человек весьма образованный, незаурядный государственный деятель, он задумывал проекты разных реформ. В то же время не чуждался взяток и казнокрадства, был ловким интриганом при дворе, деспотом в губерниях, которыми управлял, и в своих вотчинах»{9}. Словом, разбирайтесь сами, как хотите.
Но на уровне популярно-художественном судьба казненного в 1740 году Волынского во многом осталась сложившимся в первой половине XIX века мифом, где герой выступает главой патриотической оппозиции «иноземному засилью» и готов возглавить переворот, чтобы отстранить от власти «узурпатора» Бирона{10}.
Эта книга, как представляется автору, назрела уже давно. Она является попыткой описать служебный и жизненный путь Артемия Петровича Волынского на основании подлинных документов. К счастью для историков, опала вельмож и конфискация их имущества в те времена худо-бедно обеспечивала передачу на государственное хранение фамильных архивов, которые в ином случае могли и не уцелеть в бурях отечественной истории последнего столетия. Находящееся в Российском государственном архиве древних актов многотомное «дело Волынского»{11} — комплекс документов, сформированный в результате работы трех комиссий по делу кабинет-министра (двух следственных — «генералитетской» и для разбора финансовых злоупотреблений — и «комиссии описи пожитков») — сохранило многие служебные и личные бумаги главного подсудимого. До нас дошло не всё: текст многих документов утрачен (они объединены в подборку «подмокших и слипшихся бумаг»{12}). Кроме того, уже в процессе следствия Волынский и его «конфиденты» имели время и возможность уничтожить компрометирующие их сочинения; так, кабинет-секретарь Анны Иоанновны Иван Эйхлер сжег письма министра. Однако «опала» не коснулась других рапортов и донесений нашего героя, отложившихся в делах Императорского кабинета и Сената; дошло до нас делопроизводство возглавлявшейся им «егермейстерской части», Конюшенной канцелярии и Кабинета министров.
Сохранившийся, пусть и с некоторыми утратами, комплекс источников позволяет очертить служебную и личную биографию Артемия Петровича Волынского. Можно спорить о личных достоинствах и величине дарований этого человека, но в любом случае он жил и действовал — в качестве военного, губернатора, дипломата, министра, вельможи и «прожектера» — в переломное для страны время, сам творил свою «эпоху дворцовых переворотов», которую без него невозможно понять.
Глава первая. «СТРАН СЕВЕРНЫХ ОТВАЖНЫЙ СЫН»
Служу без всякого порока.
Артемий Волынский«В века старинной нашей славы»
Артемий Петрович Волынский всегда помнил о своем знатном происхождении — кажется, даже больше, чем полагалось в то время, когда, несмотря на Петровские реформы и Табель о рангах, настоящие «фамильные» люди знали и чтили заслуги предков. По указанию кабинет-министра его «конфидент» архитектор Петр Еропкин нарисовал чертеж родословного древа с изображением внизу князя Дмитрия Волынского и сестры Дмитрия Донского великой княжны Анны, с императорским гербом и гербом Волынских «для того, что он по московской великой княжне Анне причитался свойством к высочайшей ее императорского величества фамилии…». По показанию другого «конфидента», Андрея Хрущова, «оную картину хотел он Волынский в чужих краях напечатать и разослать в России и в другие государства, дабы знали в народе, что он близок свойством к императорской фамилии и что у него ума столько есть, чтоб самому государством править».
Незнатные и несведущие по этой части следователи Андрей Иванович Ушаков и Иван Иванович Неплюев насторожились и приказали доставить из Герольдмейстерской конторы в Тайную канцелярию родословную книгу и гербовник и «справитца, не имеетца ль во оных о роде Волынских какова описания и доложить». Требуемые книги были доставлены, но в них так и было написано: «Лета 6888 году прииде к Москве к великому князю Димитрию Ивановичю Донскому из Волынские земли князь Дмитрей Михайлович Волынской. И великий князь Димитрей Иванович всеа Росии дал за него сестру свою княжну Анну…» Так одинаково—с имени славного основателя — начинались родословные росписи, которые в 1686 году подали в Разрядный приказ члены разных ветвей рода Волынских{13}.
Сомнения в правоте обвиняемого отпали, но едва ли это пошло ему на пользу. В объявленном во всенародное известие печатном манифесте от 7 июля 1740 года о казни Волынского и его сообщников бывший министр был признан выходцем «из самого простого и убогово дворянства», который «токмо единою нашею высочайшею императорскою милостию обогащен и произведен был; однако ж от наглой своей высокомерности в такое уже злоумие впал, что дерзнул бессовестно наши государственные гербы к себе присвоять и беззаконно к высокой нашей императорской фамилии свойством себя причитать».
Это был монарший ответ на притязания «раба». Однако, как ни странно, и Волынский, и обличавший его манифест были по-своему правы: знатный род министра претерпел за почти четыре столетия немало превращений. Его основатель, князь Дмитрий Боброк-Волынский прибыл в Москву, правда, не в 1380 году, а где-то между 1366 и 1368-м, когда его тезка, молодой московский князь, уже утвердился на великом княжении Владимирском. Факт выезда Дмитрия Михайловича представляется несомненным, но вопрос, чьим потомком он был и к какой династии, русской или литовской, принадлежал, остается без однозначного ответа.
Родословные Волынских и летописи не называют ни его предков, ни владений. Некоторые ученые полагают, что славный воевода был сыном князя на Волыни Кориата Михаила Гедиминовича. Однако источники упоминают и других волынских владельцев — в том числе потомков «короля» Даниила Романовича Галицкого князей Острожских. Сына одного из них, Михаила Даниловича, также называли князем Волынским. Еще одного князя Михаила (возможно, Михаила Наримантовича Пинского) великий князь Литовский Ольгерд в 1349 году отправил вместе со своим братом Кориатом в Орду «просити себе помощи» против великого князя Московского и Владимирского Семена Гордого{14}. Наконец, сам Артемий Петрович вроде бы считал себя потомком князя Дмитрия Алибуртовича, племянника Ольгерда Литовского. Но это имя содержится только в поздней копии 1721 года с недатированной грамоты, содержание которой вызывает сомнение{15}.
Однако кем бы ни был предок Артемия Петровича, он занял видное положение в окружении московского великого князя, женившись на его сестре Анне, сражался с ратями Ольгерда и в 1372 году первым целовал крест при заключении перемирия с Литвой{16}. Зимой 1379/80 года он водил московские полки «Литовьскыя городы и волости воевати»{17}.
«Нарочитый полководец» Боброк-Волынский стал организатором победы на Куликовом поле. Одна из самых блестящих страниц «Сказания о Мамаевом побоище» повествует о том, как в ночь перед сражением вещий воевода «Дмитрей Боброков Волынец всед на конь, и поим с собою великого князя, и выехаша на поле Куликово, и сташа среди обоих полков». Дмитрий Московский выслушал пророчество Боброка о предстоящей победе и о тяжелой цене, которую придется за нее заплатить: «Слышах землю плачющу… горко зело и страшно… и знаеми мне суть и явни; и уповай на милость Божию, яко одолети имаши над татары, а воиньства твоего христианьскаго падет острием меча многое множество». В начавшемся наутро сражении Волынский, командовавший засадным полком, сумел удержать рвущихся в бой воинов до того момента, когда татарский натиск на правом фланге опрокинул русские силы и воины Мамая уже торжествовали победу. Тогда Боброк принял решение: «Наше время приспе, и час подобный прииде!» — и ударом своего полка переломил ход битвы.
В последний раз Дмитрий Боброк упомянут в летописи под 1389 годом, когда его призвал к своему смертному одру Дмитрий Донской. В завещании князя Дмитрий Михайлович назван первым свидетелем из десяти знатнейших московских бояр{18}. О том, что случилось с ним после, источники молчат; не исключено, что он погиб в 1399 году на реке Вор-скле, сражаясь под знаменами великого литовского князя Витовта. Есть также предположение, что боярин Боброк и его жена Анна приняли монашество — возможно, после смерти сына Василия, разбившегося при падении с лошади{19}. Так или иначе, судьба удалого воеводы по-прежнему остается загадкой.
Возможно, в роду Волынских был даже святой. В 1456 году в Троицком Клопском монастыре под Новгородом умер игумен Михаил, а в 1547 году он был канонизирован. В его житии имеется рассказ о том, как прибывший в обитель сын Дмитрия Донского князь Константин Дмитриевич узнал читавшего книгу инока: «…молвить игумену и старцам: “Поберегите его — нам человек той своитин”»{20}. В синодике Клопского монастыря в роду Михаила записаны великий князь Семен Гордый (в монашестве Созонт), его сестра Фетиния, мать Дмитрия Донского Александра, князь Константин Дмитриевич, «во иноцех Кассиан». В этом ряду перед именем Михаила стоят «схимонахиня инока Анна» и «схимонах Максим», по мнению В.Л. Янина, сестра Дмитрия Донского и ее супруг. Если это предположение верно, то «своитин» князя Константина Дмитриевича святой Михаил Клопский — неизвестный сын Дмитрия Боброка{21}. Судя по житийному повествованию, он поддерживал великого князя Василия II и в ответ на просьбу его соперника удельного князя Дмитрия Шемяки «Михайлушко, моли Бога, чтобы мне досягнути… великого княжения» предрек: «Княже, досягнеши трилакотного гроба!» Предсказал Михаил и будущее падение Новгорода в борьбе с Москвой.
В родословной книге, хранившейся в Посольском приказе, указывается, что «у Дмитрея Михаиловича были два сына: Борис, Давыд, а были оба в боярех. И от Бориса пошли Волынские. И от Давыда пошли Вороные…»{22}. Но другие родословия Волынских о боярстве детей воеводы молчат. Очевидно, занять место в кругу советников нового великого князя Василия I им не удалось, был утрачен и княжеский титул: их отец отъехал в Москву без наследственной «отчины»; его московские владения были получены из рук Дмитрия Донского и находились в разных частях великого княжества.
Вскоре род разросся: «А у Бориса Дмитреевича было 6 сынов». По данным XVI века, Волынские имели вотчины и поместья в Угличском уезде, а также по Звенигороду, Дмитрову, Калуге, Ржеву, Рузе — бывшим удельным владениям. Сами они почти всем родом в 1430-х годах находились на службе у брата Василия I Юрия Дмитриевича и его детей{23}. Волынские приняли участие в войне между князьями Московского дома на стороне Юрьевичей. Три сына Бориса Дмитриевича пали в бою с татарами хана Улу-Мухаммеда под стенами города Белёва в декабре 1437 года. Через несколько лет их сюзерены, проигравшие в конфликте с Василием II, сошли с политической сцены, а Волынские оказались надолго оттесненными с первых мест в рядах московской знати. Им предстояло пробивать себе дорогу службой.
Во времена великого князя Ивана III многие Волынские стали новгородскими помещиками — в их числе был праправнук Боброка и предок Артемия Петровича в шестом колене Савва Игнатьевич{24}. Однако они оставались на вторых-третьих ролях, хотя порой выполняли ответственные поручения: ловили разбойников, служили полковыми воеводами, приставами, городовыми приказчиками и даже наместниками{25}. В Дворовой тетради (списке членов государева двора, составленном в 1550-х годах) записаны 11 Волынских, большинство из них служили по Ржеву, Рузе, Вязьме и Угличу; их земельное и денежное обеспечение было в два раза меньше по сравнению с «московскими» дворянами. Но всё же они приглашались на службу в столицу, где имели возможность отличиться и быть замеченными государем, а у себя в уезде как наиболее авторитетные, боеспособные и зажиточные фигуры возглавляли местное дворянское ополчение и избирались в губные старосты.
В бурное царствование Ивана Грозного самый большой взлет совершил отпрыск младшей ветви рода, воевода Михаил Вороной, участвовавший во взятии Казани в 1552 году, впоследствии поставленный начальником приказа Казанского дворца. Он единственный из Волынских в XVI веке стал боярином, полюбился царю и в 1567 году, не будучи опричником, вошел в число его советников — членов Ближней думы, однако погиб в 1571 году в подожженной татарами Москве, не оставив потомства{26}. Другие родственники служили головами в полках, сражались с татарами, отстаивали российские владения в Прибалтике{27}. Прапрадед Артемия Петровича Иван Григорьевич Меньшой в 1575 году впервые упоминается в разрядных записях как участник похода в Литву. С тех пор он не знал покоя — защищал крепость Скровную в Ливонии, подавлял восстание в бывшем Казанском ханстве, стоял на границе в ожидании набега ногайцев, воеводствовал в Казани, Чебоксарах и Астрахани. В 1590-м он участвовал в походе против шведов и был оставлен воеводой во взятом Ивангороде. Оттуда его вновь направили на южную границу — сначала в Пронск, потом в Орел, оттуда в Ряжск — «дозирать (инспектировать. — И. К.) украинных городов засеки», построенные для предотвращения татарских набегов. В 1596 году он опять назначается в Ивангород, в 1599-м — в Березов, а в 1603-м — в Псков.
Так же служили его братья и другие родственники. Одним выпадала честь, другим — позор. С родом Волынских загадочным образом оказался связан опричный погром Новгорода. Сохранилось новгородское предание, записанное в XVIII веке, о том, что поход был вызван каверзой, устроенной неким Петром Волынцем, наказанным новгородскими властями за какое-то преступление и затаившим злобу: «…ложно челобитную от всего Великого Новаграда тайно сложив о предании полскому королю, в которой всех новгородцев желание со всем уездом королю оному поддатся, написал» за подписями архиепископа «и всех первейших дворян и граждан» и спрятал за образ в Софийском соборе, а сам отправился с изветом в Москву. Челобитная была найдена, новгородцы оправдаться не смогли: «И с того времени царь Иван Васильевич своим подданным в верности к себе болше стал не доверивать, и жесточае и свирепее с ними поступать стал, а Волынца богатством великим наделил»{28}. Что было в действительности, мы уже не узнаем — следственные дела времен опричнины до нас не дошли. Однако известно, что Савва Игнатьевич, дед Ивана Григорьевича Меньшого, владел поместьями в Новгородской земле, а его потомки были дворянами последнего удельного старицкого князя Владимира Андреевича, которого царь считал своим главным соперником и отравил в 1569 году Возможно, в поздней легенде все-таки есть зерно истины{29}.
Другие члены рода отправились на восток, где началось освоение Сибири. Среди них был и прадед Артемия Петровича Степан Иванович, назначенный воеводой в Березов{30}.
К началу XVII века род Боброка подошел поредевшим, но его представители могли бы, как и Пушкин, сказать о своем предке: «Его потомство гнев венчанный, Иван IV пощадил». Фамилия не утратила места на службе в списках государева двора, сохранила родовые вотчины в Боровском, Звенигородском, Муромском, Рязанском и других уездах{31}, однако высоко подняться не смогла. В списках «дворовых» чинов числились в это время, помимо троих Григорьевичей, еще пять ее представителей этого поколения; вместе с ними на службе появились уже и их дети, в том числе сын Ивана Григорьевича Меньшого жилец Степан{32}.
При Борисе Годунове Степан Иванович стал «стряпчим с платьем», а затем стольником (носители этого чина участвовали в дворцовых церемониях, приемах послов, были рындами[2], прислуживали за царским столом, посылались в полки для раздачи денежного жалованья, во время «государевых походов» составляли в царском полку особые отряды).
В эпоху «московского разорения» Волынские из младшего поколения рода служили Василию Шуйскому; их имена стоят в одном ряду с еще неизвестным стольником князем Дмитрием Пожарским{33}. Дальше судьба разбросала родственников по разным лагерям. Кто-то, как Василий Иванович Волынский, «стоял крепко и мужественно и много дороцтво и храбрость и кровопролитие службы показал и голод и наготу и во всём оскудение и нужду всякую осадную терпел многое время, а на воровскую прелесть и смуту ни на которую не покусился, стоял в твердости разума своего крепко и непоколебимо безо всякие шатости» на стороне незадачливого царя Шуйского{34}. Иные же, как его брат Иван, перешли на сторону Лжедмитрия II. Иван Иванович стал одним из двух «тушинских бояр» Волынских{35}, однако вскоре разочаровался в самозванце и возглавил восстание горожан против тушинцев и поляков в апреле 1609 года. Будучи захваченным в плен бежавшим неприятелем, он обещал вновь привести непокорный город к присяге самозванцу, но в 1611-м оказался в Ярославле воеводой и призывал собирать «ратных людей» для борьбы с поляками{36}. Его бурная жизнь закончилась под Москвой в рядах первого ополчения (в октябре сторонник польского короля Иван Плещеев выпросил у Сигизмунда III вотчину И.И. Волынского, которого «ныне в воровских полкех не стало»{37}). Помимо него, в Смуту умерли или были убиты еще несколько членов рода. Пресеклась линия Вороных-Волынских: последняя его представительница Марфа Ивановна, постригшись в монахини в 1629 году, сначала заложила, а затем дала вкладом «вотчину своего деда и отца» — подмосковное село Вороново{38}.
В числе участников ополчения Минина и Пожарского и Земского собора, избравшего на царство Михаила Романова, находились два представителя рода Волынских — они в числе прочих встречали прибывшего в Москву из Костромы государя{39}. Входя в число столичной знати, члены этой семьи в то же время не принадлежали к родне или окружению Романовых и не могли рассчитывать на возвышение при новой династии. Род сохранил вотчины{40} и даже приобрел новые земли «за московское сидение» при Василии Шуйском и за «ярославскую и подмосковную службы» в 1612 году{41}. Но в разоренных в годы Смуты уездах земли находились «в пусте» и доходов не приносили. Фамилии надо было вновь бороться за место в рядах знати. Наиболее удачливыми в этом смысле оказались потомки воеводы Ивана Григорьевича Меньшого.
Все четверо Ивановичей указаны в боярской книге 1615/16 года{42}. Стольник Степан Иванович, прадед Артемия Петровича, отличился при отражении набега польского полковника Александра Лисовского — летом 1615 года отстоял город Волхов от неприятеля, когда соседи-воеводы бежали, оставив врагу крепости и запасы провианта{43}.
В 1617 году он первым из Волынских отправился за границу с посольской миссией — искать союзников против Польши, а также просить о материальной помощи — «казны тысяч на 200 и на 100, по самой последней мере на 80 000 и 70 000 рублей, а меньше 40 000 не брать»{44}. В Лондоне послы «правили поклон» королю Якову I, его жене и «королевичу Чарлусу» — будущему Карлу I. Переговоры с лордом-канцлером Фрэнсисом Бэконом («канслером Фянцыбякиным»), лордом-казначеем Томасом Говардом и «боярином» Томасом Арунделом шли трудно. Проект союзного договора «поотложили», а вопрос о займе стал предметом длительного торга: англичане хотели получить в залог московские «города», а послы объясняли, что требовать такие вещи от московского государя неприлично. (В итоге в 1618 году подручные посла Дадли Диггса дворянин Финч и купеческий агент Фабиан Смит доставили в Москву всего 20 тысяч рублей.) Не удалось русским послам и вернуть в отечество четверых российских «детей боярских», в 1602 году отправленных в Англию на учебу Борисом Годуновым. Результаты этой миссии трудно признать выдающимися, но ожидать большего было трудно — Россия, только начавшая восстанавливать силы после кризиса, в европейских делах веса не имела.
Вернувшись в августе 1618 года на родину, Волынский, по московскому обычаю, сдал в казну королевские подарки («суды серебреные» и серебряный «золоченый» кубок), за что приказано было выдать ему 485 рублей{45}. Надо признать, что особого впечатления этот вояж на его участников не произвел. Статейный список говорит лишь о том, кто и где встречал послов, как они заседали и что говорили. А ведь дипломаты встречались со знаменитым ученым Фрэнсисом Бэконом, ездили по улицам Лондона, слышали об открытиях в Новом Свете. Возможно, они оставались людьми старого московского покроя и западный мир с его деловой жизнью и культурными новациями был им чужд — или же лихолетье Смуты, когда «люторы» едва не сокрушили само Московское царство, заставило московских дворян сознательно сторониться западных порядков.
Позже Степан Волынский воеводствовал на другом краю державы — в Терском городе на Северном Кавказе, возглавлял Холопий приказ; из всех братьев именно его часто приглашали к царскому столу{46}, но он так и остался стольником.
В Боярской книге 1627 года среди семнадцати внесенных в нее Волынских числится и единственный сын Степана Ивановича Артемий, тезка и дед Артемия Петровича. Состоя в чине стольника, он участвовал в «литовских» походах 1654—1656 годов вместе с тремя другими представителями рода, за что все они были награждены по московской традиции — прибавкой поместной земли и денежного жалованья. Артемий Волынский получил «в придачу» 130 четвертей земли и девять рублей{47}. Он прослужил почти полвека, но, как и отец, не поднялся выше стольника. Артемий Степанович скончался в 1684 году, оставив сына Петра — отца нашего героя.
В Боярскую книгу 1691 года занесены имена тринадцати членов фамилии: восьми стольников, четырех стряпчих и одного московского дворянина{48}; однако большинство из них были из других ветвей рода и не выделялись среди низших чинов государева двора. Правда, Волынские не растеряли, а даже приумножили свои владения: «по сказкам» об имениях, поданным в 1700 году на Генеральный двор в Преображенском, у одиннадцати Волынских имелся 1381 крестьянский двор{49}. Однако после смерти двух окольничих и двух бояр у рода не оказалось лидеров; на сколько-нибудь видных должностях в окружении молодых царей Ивана и Петра Алексеевичей представителей фамилии не осталось — они не успели или не смогли выдвинуться. Так, Петр Артемьевич в 1671 году получил чин стольника, состоял в числе рынд во время приемов, ездил «за государем», участвовал в походах, подал роспись рода Волынских в Палату родословных дел, был человеком состоятельным (в 1707 году имел в разных уездах 397 крестьянских дворов{50}), но больше ничем не прославился. Он умер в 1713 году, оставив сына с мачехой.
Молодое поколение лишилось «подпора» со стороны старших. Волынским опять приходилось начинать восхождение, но уже в иных условиях, когда успех обеспечивался не прежними традициями придворной или военной службы, а участием в петровских преобразованиях. Не этими ли обстоятельствами можно объяснить неуемное честолюбие Артемия Волынского и его подчеркнутое стремление возвеличить свой древний род и его померкнувшую славу?
В боях и походах
Артемий Петрович Волынский был потомком Боброка в десятом колене. Он родился где-то около 1689 года, по другим сведениям — в 1691 -м (люди той эпохи не всегда могли точно назвать свой возраст и день рождения), то ли в Москве, то ли в одной из отцовских деревень{51}. Его поколение входило в жизнь на закате Московского царства под гром пушек Северной войны и в неразберихе первых реформ Петра I, когда вернувшийся из Европы молодой царь брил и переодевал дворян и внедрял в русскую жизнь технические новшества вместе с заморским образом жизни. Но одно оставалось для них неизменным — тяжелая и обязательная служба.
Родня едва ли могла помочь юноше: былая слава предков, воевод и бояр, к концу XVII столетия потускнела и Волынские затерялись среди низших чинов государева двора. Отец, Петр Артемьевич, всю жизнь прослужил незаметно; в боярском списке 1706 года он числился уже отставным, но еще годным на «посылки»{52}. Рядом с ним служили родственники: стольники Иван Александрович (умер в 1704 году), Михаил Михайлович, Леонтий Савельевич и Андрей Петрович, стряпчий Иван Савельевич; дожившие до «старости и дряхлости», но так и не выдвинувшиеся дворяне Иван Иванович Большой и Иван Владимирович. Сын боярина Алексей Иванович пропал без вести во время сражения под Нарвой в 1700 году, его брат Василий дослужился до чина лейтенанта флота. В 1708 году поручик Михаил Михайлович Волынский стал адъютантом генерала Н.И. Репнина, а в 1711-м был уже штаб-офицером — подполковником; его брат Иван Михайлович дослужился до полковника.
Стольнику Петру Артемьевичу не слишком везло и в семейной жизни. Два его старших сына Иван и Михаил умерли, скончалась и их мать — Федосья Яковлевна, урожденная Хрущова. Вторая супруга Евдокия Федоровна (вдова князя Ивана Засекина) оказалась особой нрава сварливого — что, возможно, и побудило отца отдать младшего сына Артемия на воспитание дальнему родственнику Семену Андреевичу Салтыкову. Салтыковы состояли в свойстве с царским домом через брак брата Петра I, царя Ивана Алексеевича. Много лет спустя это родство пригодится Артемию для карьеры, но пока придворные покойного брата государя были не в чести и приходилось пробивать дорогу самому.
Как и многие другие дворяне, Артемий начал военную службу с пятнадцати лет. Биографические справки указывают, что он стал служить с 1704 года рядовым в неизвестном армейском драгунском полку{53}. Однако это не так. Ведомость второй роты гвардейского Преображенского полка 1716 года о военнослужащих, «которые написаны из недорослей в салдаты в 704 году, также и после 704 году в других годех», свидетельствует, что в означенное время наш герой стал рядовым этой роты; однако через 12 лет он уже числился среди «отпущеных в другия полки»: «Артемей Волынской, в подполковниках»{54}.
Итак, толчок к будущей карьере дала юному отпрыску знатной фамилии, как и другим его современникам, служба в петровской гвардии. О том, когда и куда он был «отпущен», документ умалчивает. В виртуальной энциклопедии Петербурга (www. encspb.ru) местом продолжения службы Волынского с 1708 года называется Владимирский драгунский полк. Сохранившиеся ведомости самого полка о «взятых в службу унтер-офицерах и драгунах» 1701—1710 годов не содержат его имени{55}; однако они не упоминают уже прибывших в полк лиц в офицерском чине.
Можно полагать, что юному дворянину пришлось немало повоевать — кампании Северной войны стали его «университами». За строками школьных учебников о создании регулярной армии стоят колоссальные усилия по модернизации войска в бедной и малолюдной стране: в России начала XVIII века проживало около 12 миллионов человек, тогда как во Франции Людовика XIV — 20 миллионов. С огромным напряжением Петр I завершил начавшуюся еще в предыдущем столетии перестройку вооруженных сил, соединив российские традиции воинской службы с новейшими достижениями военного строительства.
В начале Северной войны воинские наборы следовали ежегодно, а иногда и по несколько раз в год — всего же при Петре I в армию ушли около трехсот тысяч рекрутов — каждый десятый-двенадцатый молодой парень. Новобранцы вступали в единообразно организованные роты, батальоны и полки, получали казенное оружие, форму, амуницию. Но из них еще предстояло сделать настоящих солдат, умевших держать строй и совершать сложные «экзерциции», рубить, стрелять и действовать штыком, уверенно чувствовать себя в бою и со шведским гренадером, и с татарским наездником. А еще совершать долгие переходы, осаждать и штурмовать крепости, лить пули и шить мундиры, строить переправы; наконец, «варить кашу из топора», когда было нечего есть.
На счастье Петра I, Карл XII после победы под Нарвой двинулся на запад и на несколько лет увяз в Речи Посполитой и Саксонии, тем самым дав царю время для перевооружения армии, создания и обучения новых полков. В это время русские успешно действовали в Прибалтике: в 1702 году они взяли Нотебург (Шлиссельбург), в 1703-м — Ниеншанц в устье Невы, где был заложен Петербург, в 1704-м — Дерпт и Нарву. Однако Петр отнюдь не преувеличивал свои возможности — при посредничестве Франции, Голландии и Пруссии он стремился заключить мир ценой предоставления русских солдат для Войны за испанское наследство в обмен на право оставить за собой устье Невы с только что основанным Петербургом; но на все мирные предложения противник отвечал отказом.
В 1707 году король начал поход на восток. По приказу Петра войска разоряли сначала Польшу, а затем и собственную страну: «…везде провиант и фураж, також хлеб стоячий на поле и в гумнах или в житницах по деревням (кроме только городов)… польский и свой жечь, не жалея, и строенья перед оным и по бокам, также мосты портить, леса зарубить и на больших переправах держать по возможности». Русские солдаты и офицеры приказ выполняли — хотя для мужиков это была трагедия. «Государь милостив и благодетель наш Петр Алексеевич изволил дать приказ об усилении кордонов черными людьми, дабы конфуз свейскому Карлусу чинить. Рогаты да завалы со засеки в лесах учинить же и всем и солдатам и драгунам и шляхте бережение великое иметь. Черные люди со охотою те древа рубили, однако ж со воровскою пользою себе. От завалов и засек те древа таскали по дворам. Мы тех имали и в батоги били… А кои драгуны безлошадны были, тех офицеры посылали по деревням коней брать. А селяне уже жито в рожь и овес собирать починали, и от того бунты учинялись. Драгуны их рубили и лошадей брали. А по полям и лесам имали тех, кто уховался, и рубили же дерзостных, а тех всех, кто поклонно падал, тех в работы разные брали» — так действовал летом 1708 года на Смоленщине драгунский капитан Семен Курош.
И для солдат война отнюдь не была развлечением в духе костюмированных фильмов с благородными героями и прекрасными дамами. «Прибыли ариергарды армии государевой, кои с авангардусом Карлуса постоянно бились тесно. Были те солдаты да драгуны грязны да рваны и много раненых. Карло-ус должен был уже прийти сюда, и его царское величество велел шамад бить и смотр войскам делать. А те драгуны да гранодиры, кои из баталий вышадши были — те отдыхали и с калмыки да со татаре кумыс пили сдобря водкой, а потом с соседским полком на кулаки дрались. Де мы корили, бились и животы лишались, а де вы ховались и свеев (шведов. — И. К.) убоялись. И в дальний швадрон (эскадрон. — И. К.) шатались и лаялись матерно, и полковники не знали что и делать. Государевым повелением самые злостные имались и вешались и в батоги бились на козлах пред всем фрунтом. И нашим из швадрона двоим тоже досталось, драгуну Акинфию Краску и Ивану Софийкину. Вешаны были за шею. А у Краска так от удавления язык выпал, то даже до средины грудей доставал, и многе дивились тому и глядеть ходили всякие», — описал эти тяжелые дни в дневнике упомянутый капитан Курош{56}.
Вместе с однополчанами Артемий Волынский в 1708 году был в сражении при Лесной — «матери Полтавской баталии», в 1709-м — под Старыми Сенжарами, Красным Кутом; позднее он не раз указывал, что участвовал «на баталиях и акциях» и был ранен. Русские солдаты и офицеры учились побеждать в бою, упражнялись и после боя: «…скопно али парно да со штыки да багинеты да хоч о двурук хоч на свейску маниру палаш об одну руку, а фузея с багинетом о другу». «А тех полоняников свейских, кои были исправные вояки, брали в ту экзерцицию. Давали шпаги тупые, дабы глядеть падко, как те колются и рубят. А те шведы, кои не хотели ту чинить экзерциц, тех били и раздевали донага и, связав попарно, гвоздили враз по два. А были и таки, коих нарочно стравляли, и те бились, а мы все зрили» — такие «гладиаторские бои» были наглядными пособиями для русских драгун.
Отступавшие войска уничтожали за собой всё, что могло послужить противнику. Отсутствие провианта вынудило шведов повернуть на Украину в расчете на помощь гетмана Ивана Мазепы. Там шведская армия перезимовала, но за гетманом последовало только несколько тысяч казаков; не оправдались и надежды короля на помощь турок и поляков. В Полтавской битве 27 июня 1709 года шведы были разгромлены; остатки их армии капитулировали под Переволочной на Днепре, а сам Карл бежал в турецкие владения. Под Полтавой Волынский захватил в плен шведского солдата, который крестился в православие, женился на крепостной девушке и навсегда остался служить в его доме.
Через несколько лет мы встречаем Волынского уже в офицерском чине в рядах особой воинской части — «генерального шквадрона» А.Д. Меншикова. Этот эскадрон из четырехсот человек в 1709 году участвовал в боях под Опошней и в Полтавской битве и часто сопровождал государя в поездках{57}. Волынский оказался рядом с Петром при весьма трагических обстоятельствах. В июле 1711 года на берегах реки Прут в Молдавии состоялось сражение, которое могло бы изменить ход российской истории. 38-тысячная армия во главе с царем была окружена 150-тысячным турецко-татарским войском. Все атаки янычар были отражены, но люди не отдыхали трое суток подряд, двигавшийся к армии обоз с провиантом был перехвачен татарами, многие лошади пали, а уцелевшие несколько дней питались листьями и корой деревьев. Сам Петр признавал, что «никогда, как почал служить, в такой десперации (отчаянии. — И. К.) не были». Вечером 9 июля состоялся военный совет с участием министров и генералов, который признал необходимым начать переговоры с противником. Турки сочли предложение о переговорах военной хитростью и не дали ответа. Тогда Петр решился утром идти на прорыв из окружения, поскольку «стоять для голоду как в провианте, так и в фураже нельзя, но пришло до того: или выиграть, или умереть». Скорее всего, царь предпочел бы погибнуть в бою; эту участь могли разделить с ним его лучшие полководцы и министры. Чем бы закончилась в таком случае Северная война, остается только гадать, ведь наследник, царевич Алексей, был не склонен превращать страну в великую державу и строить флот. Не состоялись бы и главные петровские преобразования: создание коллегий, прокуратуры, Табели о рангах, полиции, городских магистратов; введение подушной подати, учреждение Академии наук. У нас была бы другая история…
Армия уже двинулась навстречу противнику, но тут подоспели парламентеры — к полудню 10 июля турки согласились на переговоры. К великому визирю отправился ловкий вице-канцлер Петр Шафиров. Вместе с ним переводчиками и подьячими в турецкий лагерь «для пересылок» (то есть в качестве курьеров) поехали будущий дипломат Михаил Бестужев-Рюмин и «генерального шквадрона ротмистр Артемей Волынской»{58}. Делегацию не заставили ждать, а сразу провели в шатер; послов усадили на табуреты, и — главное — визирь Балтаджи Мехмед паша первым обратился к ним. Эти тонкости восточного этикета свидетельствовали о том, что турки были заинтересованы в заключении мира.
Шафиров поднес подарки: визирю «2 пищали добрых золоченых, 2 пары пистолет добрых, 40 соболей в 400 рублев», его приближенным — меха соболей и чернобурых лисиц и золотые червонцы. Тем не менее условия мира оказались тяжелыми: Россия должна была уступить Азов и завоеванные в ходе Азовских походов 1695—1696 годов земли, срыть новую крепость и порт Таганрог, выдать туркам всю амуницию и артиллерию и отказаться от права иметь в Стамбуле своего посла.
Начался дипломатический торг, который продолжался весь день. С каждым часом силы русской армии таяли, и царь скрепя сердце согласился отдать с таким трудом завоеванный Азов и новый порт Таганрог. Утром 11 июля он написал Шафиро-ву отчаянное письмо: «…ежели подлинно будут говорить о миру, то ставь с ними на все, чево похотят, кроме шклавства (плена, рабства. — И. К.). И дай нам знать конечно сегодни, дабы свой дисператной путь могли, с помощиею Божиею, начать». Петр и его окружение не знали, что янычары отказались идти в новую атаку, поскольку «против огня московского стоять не могут». Но и турки не представляли себе отчаянного положения русской армии — иначе могли бы получить больше: Петр был готов уступить все завоевания в Прибалтике и в придачу Псков, чтобы сохранить Петербург. К тому же Шафиров пообещал визирю 150 тысяч рублей и еще 100 тысяч — другим турецким чиновникам. В результате утром 11 июля условия мира были согласованы и прибывший в турецкую ставку Шафиров заявил о решении царя «мирной договор на тех пунктах заключить».
Прибывший с послом Волынский был свидетелем этой встречи, во время которой «стали по обе стороны конные чауши и шпаги (спаги, турецкие кавалеристы. — И. К), на одной стороне у всех были копьи с прапоры лазоревыми, а з другой стороны с красными прапоры; которых людей было всех человек с четыреста или и болши». Пока шли переговоры, молодой офицер разглядывал впервые увиденный им огромный турецкий лагерь. Перед его глазами предстал вид, подобный тому, что описал французский бригадир Моро де Бразе: «Изо всех армий, которые удалось мне только видеть, никогда не видывал я ни одной прекраснее, величественнее и великолепнее армии турецкой. Эти разноцветные одежды, ярко освещенные солнцем, блеск оружия, сверкающего наподобие бесчисленных алмазов, величавое однообразие головного убора, эти легкие, но завидные кони, все это на гладкой степи, окружая нас полумесяцем, составляло картину невыразимую».
В тот же день «ввечеру посылал подканцлер царскому величеству со известием о том генерального шквадрона ротмистра Артемья Волынского, что мирные трактаты уже пишут со обоих сторон набело, и надеетца рано на другой день розменятца». На следующий день мир был подписан, несмотря на сопротивление шведских представителей, и Волынский доставил государю турецкий экземпляр договора. Вместе с ним ехал незаметный немец-переводчик Генрих (Андрей) Остерман — едва ли тем июльским вечером оба они предполагали, что через 25 лет станут могущественными кабинет-министрами и соперниками. Вечером русская армия двинулась в обратный путь. Довольный визирь прислал неприятелю на дорогу 1200 повозок продовольствия: хлеб, рис и даже кофе.
Волынскому же отдохнуть не пришлось — он получал у армейских казначеев ящики и бочки с деньгами, в чем и выдал расписку на 250 тысяч рублей{59}. «Известную посылку», занявшую целый обоз в «пяти ящиках, в семи фурманах (фурах. — И. К.), в шести палубех» при 50 лошадях, и еще 11 сороков соболей на сумму 5050 рублей ротмистр вместе с Михаилом Бестужевым-Рюминым повез в турецкий лагерь. Вице-канцлер сам просил Петра отправить обоих к нему: Бестужева как знатока иностранных языков, а Волынского — как «нарочитого молодца»{60}.
Деньги Шафировым «были разочтены и на телеги, от них (визиря и других турецких вельмож. — И. К.) присланные, кому сколько обещано для отдачи, розкладены». Проблема заключалась в том, что иностранной валюты в лагере у Петра не было, а получать русские деньги турки стеснялись. «Присланные соболи одиннадцать сороков на 5 тысяч рублев приняты. И сожалеем, что толь мало оных прислано, ибо… от русских денег всяк бежит, и не смеют их принять, и так оные дешевы, что ходит левок их наших денег по 40 алтын. По се число еще никто оных не берет, опасаютца, чтоб кто не признал», — сообщили 28 июля из турецкого лагеря Шафиров и второй посол, Михаил Борисович Шереметев, сын фельдмаршала. Неудобные деньги дипломаты привезли с собой в Стамбул, но визирь так и не решился их принять — раздосадованный до невозможности отказом турок продолжать войну Карл XII обвинил вельможу в том, что он сознательно выпустил русских из ловушки, а вскоре Балтаджи Мехмед паша был смещен.
Волынский же в это время мчался с донесениями послов и письмом великого визиря в австрийский Карлсбад, где царь после пережитых потрясений пил целебные воды. Оттуда он поскакал в стоявшую в Польше армию к фельдмаршалу Шереметеву с приказом «во всяких делах иметь сообщение с господином подканцлером бароном Шафировым и во всем поступать, усмотря по тамошнему», в том числе при любых обстоятельствах оставить пять-шесть полков, даже если остальные будут уведены в Россию. Темпы доставки корреспонденции на протяжении столетий почти не менялись: при непрерывной езде гонец в сутки мог со страшным напряжением сил и опасностью для жизни одолеть 240 верст, что являлось пределом возможного. «Приходилось в степях, при темноте, сбиваться с пути, предоставлять себя чутью лошадей. Случалось и блуждать, и кружиться по одному месту. По шоссейным дорогам зачастую сталкивались со встречным, при этом быть только выброшенным из тележки считалось уже счастием. Особенно тяжелы были поездки зимою и весною, в оттепель; переправы снесены, в заторах тонули лошади, рвались постромки, калечились лошади…» — вспоминал тяготы службы старый фельдъегерь в середине XIX века{61}.
В ноябре—декабре того же года ротмистр спешил из Киева к турецкой границе. Курьерская служба была не только трудна, но и опасна — царских посланцев подстерегали польские сторонники шведов и казаки-мазепинцы; хорошо еще, что на дороге в Бендеры Волынского встретил турецкий конвой{62}.
Вскоре он прибыл в Стамбул, где в то время находились Шафиров и М.Б. Шереметев. Вице-канцлер особо просил царя: Волынского «переменить чином и наградить жалованьем, потому что изрядной человек и терпит одинакой с нами страх»{63}.
Турецкий султан Ахмед III еще раз объявил России войну, и послы в соответствии с османской дипломатической практикой оказались в заключении. В октябре 1712 года весь персонал посольства, 205 человек, бросили в подвалы Семибашенного замка, прикрыв сверху решеткой, на «шести саженях и в двадцати локтях от земли», где те «от вони и духу опасались исчезнуть». К служебным злоключениям Волынского добавились и личные. «Когда я был в турках и посажен в тюрьму, отец мой, имев меня одного сына, опечалился и впал в параличную болезнь, от чего и язык отнялся у него; в то время мачиха моя, которая была весьма непотребного состояния, разорила дом весь», — вспоминал позднее Артемий Петрович{64}.
Выдержка и умелые действия российских дипломатов предотвратили разрастание конфликта. Мир удалось сохранить: в апреле 1713 года послов выпустили из замка и перевезли в Адрианополь. На заключительной стадии переговоров с новым визирем Али-пашой в июне Шафиров взял с собой Артемия Петровича. Переговоры шли тяжко; вынуждая русских к уступкам, турки наносили послам «несносное бесчестье и ругательство», грозили снова посадить их в подземелье и однажды даже прислали палача, который в течение суток сидел под их окнами, ожидая приказа вести на пытки или казнь.
Но всё обошлось, и 16 июня Волынский отписал кабинет-секретарю Петра I Алексею Макарову, что он и его товарищи освободились из «бедственного заключения» в подвале, куда и «ветры там никогда не доходят»; во время пятимесячного сидения узники уже «оставили всю надежду о животе и в такой десперации были, что каждой ожидал смерти». Теперь же Оттоманская Порта «мир возобновляет», о чем было «публиковано всенародно»{65}. Через несколько дней бывший пленник уже скакал в Россию с текстом нового мирного трактата. В Киеве его принял фельдмаршал Шереметев и без промедления отправил документ к царю в Петербург для ратификации{66}. Скуповатый на подарки за счет казны Петр оставил без внимания просьбу о пожаловании Волынскому за заслуги в Турции деревень, а вместо того возвел удачливого курьера в чин подполковника.
Чем занимался бравый офицер в это время, сказать трудно — не слишком высокий чин он имел. Известно, что в сентябре 1712 года Сенат указал перебираться в новую столицу большой группе прежних московских дворян и «царедворцев»; в их числе значились шесть Волынских, в том числе отец и брат нашего героя — Петр Артемьевич и Иван Петрович. Возможно, переезд ускорил кончину старшего Волынского. Спустя два года указ был подтвержден; среди новых столичных жителей, обязанных строить дома, числились уже сыновья Петра Артемьевича{67}.
Артемия же царь не забыл — последовало ответственное назначение. В феврале 1715 года Волынский писал Петру: «В прошлом 1713 году отец мой Петр умер, а иных детей его, кроме меня, нет. А ныне, государь, в небытность мою в Москве мачиха моя, вдова Овдотья, принесла челобитную, чтоб ей отдать все деревни отца моего во владенье, которые остались после его. А я ныне определен в Персию для интересов вашего величества. И тако, государь, в небытии моем мачиха моя, не проча мне, те деревни будет разорять и довольствовать из оных брата своего родного, Василья Головленкова, который с начала настоящей войны вашему величеству не служит». Другой челобитной Артемий просил оставить наследственные владения за ним, как желал сделать его отец при жизни.
Проситель резонно полагал справедливым в соответствии с только что (1714) принятым законом о единонаследии «…оные деревни отца моего указом вашего величества ныне справить за мною, ибо тогда за службами вашего величества мне было справиться некогда, дабы мне впредь было от чего пропитание иметь и служить вашему величеству». Царь челобитье принял, велел подобрать справки и в итоге распорядился «поместья в вотчины отца его, Петра Волынского, по заручной его отцовой челобитной, справить за ним, Артемьем, а мачихе его вдове Авдотье от тех вотчин отказать» — ей оставались только «приданые вотчины» в Галичском и Суздальском уездах, насчитывавшие 106 дворов{68}. Так Артемий Петрович стал самостоятельным хозяином. Но ему предстояло намного более серьезное испытание, чем выяснение имущественных отношений с мачехой.
«При дворе шахова величества»
Для молодого Волынского приключения на Востоке стали первым опытом приобщения к большой политике. Он успешно выдержал этот экзамен. Царь, хорошо разбиравшийся в людях, запомнил молодого офицера. Петр I и сам получил урок: после неудачного Прутского похода он никогда больше не рисковал воевать на два фронта. Но, по мере того как Северная война близилась к концу, он искал новые цели внешней политики на Востоке. Планы Петра I вышли за пределы Европы, на океанские просторы и древние торговые пути Центральной Азии: южное побережье Каспийского моря он рассматривал как плацдарм на пути к овладению богатствами Индии и Китая.
В 1716 году была основана на восточном побережье Каспийского моря Красноводская крепость. Царь распорядился отправить в Хивинское ханство экспедицию капитана гвардии Александра Черкасского с грандиозной задачей: «склонить» хивинского хана к дружбе с Россией и перекрыть плотиной Амударью, чтобы пустить воды великой среднеазиатской реки по древнему руслу в Каспийское море и по ней «до Индии водяной путь сыскать». Можно только удивляться размаху замыслов Петра: повернуть течение рек, проложить новый торговый путь с берегов Балтики в далекую Индию; установить протекторат над Грузией, Арменией и всей Средней Азией; предполагалось не только обязать тамошних владетелей «союзными» договорами, но и учредить при них гвардию из «российских людей».
Летом 1717 года Черкасский повел в туркменскую пустыню три тысячи человек. Все атаки хивинцев были отражены, но против мирных предложений хана Черкасский не устоял. Мир был заключен, русский отряд в окружении хивинских войск подошел к столице ханства и, повинуясь командиру, был разделен на части — якобы для облегчения их расположения на постой. Затем последовало внезапное нападение, закончившееся гибелью большинства солдат и казаков; самого Черкасского и его офицеров изрубили саблями перед шатром хана Ширгазы. Хорошо еще, что мусульманское духовенство отговорило правителя от массовых казней русских; но уцелевшие пленные были проданы на невольничьих рынках Хивы{69}, многие из них навсегда остались в рабстве на чужбине.
Петр пытался проложить путь в Индию и с другой стороны. В Иран он отправил уже в качестве полномочного «резыдующего посланника» (то есть резидента) Артемия Волынского. Летом 1715 года молодой подполковник возглавил миссию из семидесяти двух человек — посольских дворян, чиновников, переводчиков, посланных для обучения восточным языкам учеников «латынских школ» и роты солдат конвоя с пушками; в числе его спутников оказались двадцатилетний крепостной астраханского коменданта, «зело искусный» в восточных языках Семен Аврамов (ему предстояло стать первым российским резидентом в Иране) и англичанин-врач Джон Белл, оставивший подробные записки о странствиях по Востоку, в которых он тепло отзывался о молодом после, оказывавшем иностранцу «знаки дружества» до самого конца своей жизни.
С грузом ценных подарков (ловчими птицами, соболями, «мамонтовой костью» и зеленым чаем) посольство двигалось неторопливо: зазимовало в Казани, достигло Астрахани и после четырехдневного плавания высадилось под Дербентом — в Низабаде. Началось трудное и опасное путешествие: послу пришлось жить на пустынном морском берегу «в шалашах», преодолевать нераспорядительность местных властей, бороться с едва не погубившей его «феброй» — лихорадкой. «Ныне живу в такой скуке, что себе не рад, понеже, кто при мне ни был, все лежат больны… и теперь всех и десяти человек здоровых не осталось. И как вступили в здешную проклятую область, то властно как в пропасть, и воздух здешний еще многим тяжеле турецкого, и я какой болезни не имел, а здесь такою посетил Бог: временем так жестоко мучусь головною болезнью, что не дает света видеть, и когда схватит, то невозможно и перо в руке удержать, и держит часа по два и больше, а в одно время и целые сутки продержала. И уже здесь так три раза мне было, а чаю, что живому не возвратиться в свое любезное отечество», — писал он из Шемахи Шафирову{70}.
Долгой зимней дорогой на Тебриз послу и его спутникам довелось испытать трудности странствований по Востоку — им приходилось довольствоваться солоноватой водой из колодцев, после которых вода Куры показалась им сладкой; ставить ночные караулы от разбойников; торговаться с местными жителями, не желавшими пускать караван в свои деревни. «Здесь все самовластны и не почитают у себя государя», — отмечал Волынский в походном «журнале»{71}. Этот объемный документ стал не только подробным отчетом о путешествии, но и важнейшим источником по истории Азербайджана и Ирана начала XVIII столетия.
В полуразрушенном караван-сарае путешественники встретили Рождество. Зимовать же им пришлось в Тебризе, где начался бунт горожан из-за вмешательства местного хана в торговые дела. По пути посольство наблюдало повсеместное ослабление центральной власти и самоуправство местных правителей, у которых «никакова суда не можно сыскать».
Далее караван следовал через древние города Востока — Ардебиль, Зенджан, священный город шиитов Кум. В столицу Ирана Исфахан посол и его спутники добрались весной 1717 года. Задачи посольства были изложены в инструкции, лично исправленной и дополненной Петром I. Царь предписывал послу «проведывать» об экономических и географических особенностях северных прикаспийских провинций Ирана; узнать «все места, пристани и городы и прочие поселения и положения мест», а также выяснить, «есть ли на том море и в пристанях у шаха суды военные или купеческие» и «какие где в море Каспийское реки большие впадают». В этом месте Петр добавил: «…и до которых мест по оным рекам мочно ехать от моря и нет ли какой реки из Индии, которая б впала в сие море…» Еще царя интересовало, «какие горы и непроходимые места… отделили Гилян и протчие провинции, по Каспискому морю лежащие, от Персиды». Получить все эти сведения надо было «так, чтоб того не признали персияне».
Столь же важной задачей был сбор данных об укрепленных городах и о вооружении шахских войск: «…тщательно ль или слабо в том всем поступают, и не видят ли силу российских обычаев ныне». Особо интересовали Петра отношения Ирана с Османской империей: Волынский должен был «сколко мочно им, персам, добрыми способы внушать, какие главные неприятели они, турки, их государству и народу суть, и какова всем соседям от них есть опасность». Если бы выяснилось, что иранские власти желают «против их, турок, для безопасности своей с кем в союз вступить», послу предоставлялось право начать переговоры о русско-иранском военном альянсе против Турции.
Официальной же целью посольства являлось заключение торгового «трактата» для обеспечения благоприятных условий торговли: «Домогаться… чтоб позволено было росийским купцам во всей Персиде свободной торг и повелено б было покупать всякие товары, как и у его царского величества в землях. А особливо трудится ему пристойными способы, чтоб во области его шаховой в Гиляне и в протчих провинциях позволено было росийским купцам шолк сырец покупать и… вывозить, в чем до ныне от шаха росийским купцам по проискам армянским веема заказано». Шаха же надлежало «склонить» к повелению армянским торговцам «весь свой торг с шолком сырцом обратить проездом в Росийское государство, в чем им по близости пути и в безопасном проезде великая будет польза». Ради «пресечения» караванной торговли Ирана со средиземноморскими турецкими портами обычно скуповатый царь даже готов был предоставить Волынскому сумму, нужную для взятки «шаховым ближним людям». И по-прежнему Петра волновало, «не возможно ль чрез Перейду учинить купечество в Индию, и о том пути, и о торгах, какие у них, индейцов, с персами, оные обретаются; и какие товары им потребны и от них вывожены быть могут». Наконец, Волынский должен был связаться с сидящим под арестом бывшим грузинским царем Вахтангом Леоновичем и осведомиться о положении армянского народа («в которых местех живет, и есть ли из них какие знатные люди из шляхетства или из купцов, и каковы они к стороне царского величества») и по возможности склонить его «к приязни» России{72}.
Поставленные перед Волынским задачи свидетельствуют о том, что, отправляя посольство для заключения торгового договора, Петр уже наметил основные направления своих действий по отношению к южному соседу. Повышенное внимание к прикаспийским провинциям с их развитым шелководством, поддержка и использование в своих целях христианских народов Закавказья, заключение военно-политического союза с Ираном против Турции — все эти цели будут более или менее удачно реализовываться и во время Персидского похода 1722—1723 годов, и впоследствии. И опять-таки интересовал царя не столько сам Иран, сколько поворот «шелкового потока» от Алеппо и Смирны (Измира) на Волгу и установление через персидскую территорию «коммерции» с Индией — «водяным путем» (Петр в 1715 году еще верил в возможности использовать для этого Амударью) или сухопутным.
В иранской столице Волынский начал трудные переговоры с главным фаворитом и первым вельможей шаха Султана Хусейна — «эхтема девлетом»[3] Фатх Али-ханом Дагестани. С русской стороны сыпались «обнадеживания» в «крепкой его царского величества дружбе и приязни»; с персидской — восточная утонченная вежливость сменялась недипломатичным отказом в шахской аудиенции, изоляцией посла и его людей, бесконечными протокольными придирками.
В апреле 1717 года Волынский оказался свидетелем восстания «за то, что хлеб зело высокою ценою продают», — шахские вельможи и прежде всего сам персидский канцлер установили свою монополию на торговлю продовольствием: «Весь харч, также и лучшие парчи, которые здесь делают, продавать заказано всем, кто те заводы и промыслы имели. И продают и торгуют тем только от эхтема девлета… и у его берут протчие на откуп. Также и хлеба на продажу никто не волен привести, кроме эхтема девлета, а кто и привезет, то должен продать ево откупщикам, а тот уже в городе будет продавать». Возмутившиеся горожане «пришли к шахову дому человек с 3000 з дубьем и с каменьем и выламали ворота»; Султан Хусейн «изволил в хареме спрятатца, куда оне не пошли», после чего благоразумно поспешил уехать в свою загородную резиденцию. Восставшие чуть не убили посланного на базар за покупками посольского слугу, «а сказали вину ту, что как сюда приехал посланник, то хлеб стал от него… дороже»; так придворные стремились переложить вину за дороговизну на «неверных».
В конце концов упорство посла в сочетании с обходительностью и — в нужный момент — угрозой прервать дипломатические отношения позволили добиться результата, хотя и не в полной мере. 4 мая Волынскому была дана аудиенция в дворцовом саду, в летнем павильоне, перед которым журчал фонтан. Шах Султан Хусейн, сидевший в окружении евнухов, ласково принял его и после исполнения формальностей угостил обедом — пловом, фруктами и шербетом.
Долгие переговоры завершились заключением 30 июля торгового договора. Добиться разрешения на строительство православных церквей для купцов в Иране и учреждение нового порта на Каспии вместо неудобной Низовой пристани не удалось, не говоря уже об удовлетворении претензий на отправку всего гилянского шелка через Россию. Но договор позволял русским купцам свободно торговать на всей территории Ирана с уплатой обычных пошлин и давал им право закупать в любом количестве шелк без уплаты лишних сборов за вывоз, ограждал их от злоупотреблений чиновников, раньше бравших у них товары даром или по крайне дешевой цене, и обязывал персидские власти предоставлять им охрану и не навязывать недобросовестных переводчиков{73}. На основании договора в 1720 году в Иране появились русские консулы в Исфахане и Шемахе: они должны были собирать относящиеся к торговле сведения, выдавать паспорта русским подданным, заверять их обязательства, завещания и сделки; в случае смерти купца описывать и сохранять его имущество для передачи наследникам.
На прощальной аудиенции Артемий Петрович получил от шаха парчовый халат и двух лошадей и принял подарки для своего государя — слона, двух львов, двух барсов, шесть обезьян и трех попугаев{74}; на обратном пути этот «зоопарк» доставил дипломатам и их спутникам немало хлопот. 1 сентября 1717 года посольство, за исключением оставленного при шахском дворе Семена Аврамова, отправилось в обратный путь. Для следования Волынский избрал маршрут на Гилян и далее по побережью Каспийского моря через Кескер, Астару и Муганскую степь на Шемаху, то есть через те земли, которые особенно интересовали царя. Возвращение заняло три с половиной месяца, не считая вынужденной месячной остановки в Тебризе. Волынский не торопился — и успел выполнить царское задание: ознакомиться с состоянием приморских провинций.
Путевой «журнал» посла обстоятельно описывал главный город Гиляна Решт с его площадями и базарами. Волынский собрал информацию о шелкоткацкой промышленности, выделывавшей «парчи изрядные»; не случайно Гилян давал шахской казне всяких сборов и пошлин, «как нам сказывали, тысяч по триста, а времянем и больше». Ниже посол подчеркнул, что здесь не только «множество родится шолку», но и «здешний шолк выше протчих», и еще увеличил цифры дохода провинции: «Шолку… зело оного родитца много, с которого только одних пошлин (как слышал я сам от эхтадевлета шахова) собирается в казну шахову до 900 000 рублей, кроме иных доходов. Также и пшена (риса. — И. К.) зело много родитца и такова во всей Персии нет, откуды весь дом шахов довольствуетца».
Шелк и лучший во всем Иране рис, по мнению Волынского, стали основой процветания жителей, которые «все особливо богаты и некоторые персианы не так денежны, как гилянцы». Однако посол был вынужден отметить и менее приятные достопримечательности столь богатых земель. В 1717 году провинция была охвачена эпидемией — «поветрием», от которого умерло, «как сказывают… с 60 000 человек здешних жителей, кроме приезжих, которые приезжают для покупки шолка из Алепа, из Вавилона и из протчих мест из Арабии; также и от Константинополя, как турки, так и греки и армяне». Места в Гиляне «зело сырые и непрестанно ложатця от гор великие туманы и мглы, от которых зело нездоровый и заразительный воздух; и редкой год, чтоб поветрия не было». В другом месте посол сообщал, что города и селения провинции расположены «в великих лесах и в болотах, где ни малых поль (полей. — И. К.) нет, токмо болота и непроходимые леса». Поэтому, резюмировал он, гилянцы, «мощно сказать, что вне света живут, в пропастях…».
Следуя дальше, Волынский отметил богатство Ширванской и других пограничных с Турцией провинций — территорий современных Армении и Азербайджана: «Во всей Персии я почитаю лутчшие провинции, начав от границы турецкой, Эривань и Тебриз, которые не безхлебные бывали, тако ж и комерциею немалой интерес Персии приносят, ибо великие караваны турецкия (по несколько сот верблюдов) для купечества туда приходят, а большая часть привозит серебра (нежели иных товаров), которые в Тебризе турецкие купцы сами отдают мастерам переделывать персидскую монету, и потом на готовые деньги, какие товары хотят, в Персии покупают, паче же сырец шолк… провинции, лежащие подле Каспийского моря, Ширванская и Гилянь, ис которых великая польза персиянам. И где я ни был, но прибыточнее оных не видел…» В Ширване же «жилых мест не мало и многолюдно и во всем довольствие и имеют, понеже земля зело плодоносна и множество родитца хлеба (которым и другие многие места довольствуютца), виноградов и протчих изрядных фруктов, каких я и в Турецкой области не видал; также и лесов довольно, а особливо около моря. К тому ж зело много диких изрядных зверей и птиц; также и скотом довольны и рыбами, а особливо лутчей интерес их шолк, которого довольно везде родитца и редкая деревня, где бы не было толковых заводов, как около моря, так и до самой реки Кура»{75}.
Из Шемахи он докладывал государю, что обнаружил отличный «ореховой лес» (к тому же пуд орехов стоил здесь столько, сколько фунт в Голландии) и «множество родов виноградов»; к сожалению, констатировал посол, мусульмане винодельческую продукцию не ценят, но при постановке дела опытными мастерами «здешние места могли б в том Францию превзойтить». Кроме того, посол собрал и отправил в Петербург образцы шерсти из разных мест (Хамадана, Ардебиля, Казвина), но признавал, что «подобной гишпанской изыскать не могли»; разве только дагестанская («кубашинская») могла сравниться с ней качеством{76}.
Посланный защищать интересы российской торговли, Волынский полагал, что необходима постоянная консульская служба для содействия купцам, но в то же время был не слишком высокого мнения о деловых способностях и моральном облике соотечественников. Во-первых, потому, что «компании нет тамо; не токмо посторонние мешают, но и сами между собою один другому пакости чинят. Также ежели где кому и обида случитца, другие ему никогда не помогают, разве которые общие товары имеют». Во-вторых, сами торговые люди «так гнусно и мерско живут, что никоторый народ; так и между собою чинят повседневные ссоры и драки напився, и с чего больше поношение и стыд приносят всему отечеству». Зато русские купцы умеют обманом обходить запреты: «сталь, железа, тазовая и протчая медь, олово, свинец; и хотя оные и заказано провозить, однако ж оных вещей провозят немало». Столбовой дворянин Волынский, скорее всего, не мог высоко оценивать нравы «торговых мужиков», но едва ли сознательно принижал уровень отечественной коммерции.
Намного больше посол верил в способность своего государства прибрать к рукам доходные провинции южного соседа, тем более что на обратном пути мог убедиться в бесплодности своих дипломатических усилий: правитель Шемахи отказался выполнять условия только что заключенного договора и требовал от русских купцов уплаты непомерных пошлин. На представления посла наиб отвечал, что шахскому указу не верит, поскольку его «учинил бездельник эхтема девлет, а не сам шах… а на эхтема девлета и на самого он плюет, не токмо на его указы или договоры»{77}.
Волынский на протяжении всего своего «отчета» последовательно убеждал его главного читателя в слабости иранской монархии и ее неспособности обеспечить порядок в стране. «Сколько я персидских мест видел — нет крепости ни одной», — указывал Артемий Петрович и выражал сомнение в том, что подданные шаха вообще «умели крепости делать». В другом месте он даже удивился бессилью Иранского государства: «Я бы не мог поверить никому о войсках персидских и не мнил бы, что они так бессильны». «Немалая» персидская артиллерия на деле небоеспособна, поскольку пушки не оснащены лафетами, да и «персеяня ни малого искуства в ортилерии не имеют». Воевать без денег невозможно — а казна пуста, с целью ее пополнения шах приказал перелить на монеты дворцовую посуду и «ободрать» гробницы «прародителей своих» в Куме. Персидская держава пока не рухнула лишь потому, что «против их бестия, а не люди (то есть бунтовщики, а не настоящие военные профессионалы. — И. К.) воюют», но даже и с «бестиями» справиться не может: лезгины открыто творят разбой, захватывают мирных жителей в плен и, к «великому удивлению и смеху», на базаре в Шемахе «продают персианом, которые так великодушно с ними поступают, что не токмо оных арестовать, но за власных своих подданных якобы за правдивых чюжестранцев полоняников платят им настоящую цену бесспорно». Дагестанские горцы «к войне имеют склонность», но и они, по мнению посла, не могут одолеть даже несколько десятков русских драгун из посольской охраны, возвращающихся через приморский Дагестан с подарком шаха — слоном, и способны лишь на «великие пакости» по отношению к купеческим караванам. Только грузины и их военачальники годны воевать, и Волынский полагал, что в случае, если бы грузинские «принцы» «имели добросогласие между собою, поистине б не токмо от подданства персидского могли себя освободить, но еще б и от них многие места без великого труда завоевали, понеже… персианя инфатерии (пехоты. — И. К.) никакой не имеют, а кавалерия их против грузинцов, хотя б она была числом и втрое больше, однакож никогда стоять не будет». Обзор военных сил Ирана завершал однозначный вывод: «Ежели б регулярных штадронов 20 к ним (грузинским войскам. — И. К.) присовокупить, то б смело мошно чрез всю Персию с ними без всякого страха пройтить». Русский посол смог установить отношения с вассалом шаха — искавшим покровительства России в надежде освободить свою страну от мусульманского господства царем Картли (Восточной Грузии) Вахтангом VI[4] через его курьера — Фарсадан-бека.
Столь же определенным оказался и анализ политической ситуации: «И кто видел и мог приметить непорядки и нынешнее состояние здешнего государства, то иначе и сказать не может, кроме сего, что самая воля Божия спеет к конечному падению сея монархии». Волынский был удивлен, как могли побывавшие до него в Иране послы не заметить, что «Персида давно так пропадает»: «Мнил и я сначала и чаял, что во время нужды могут тысяч сто войск своих к обороне поставить. Однако ж нынешняя беспутная война мне их подлиннее показала, понеже и по се время не собралось всех войск тритцати тысяч к шаху»{78}.
Выводы были сделаны не на пустом месте — Волынский стал очевидцем завершающего правление династии Сефевидов кризиса. Он знал о захвате иранского Бахрейна султаном Маската, отметил неповиновение жителей Муганской степи, которые отказались принять назначенного шахом хана да «и в протчем во всем уже учинили указам шаховым противность». При нем в том же 1717 году «учинился бунт» в Гиляне и началась «беспутная война» — восстание афганских племен, разгромивших шахское войско и захвативших Гератскую провинцию. Помимо афганцев, «со всех сторон как езбеки (узбеки. — И. К.), так и протчие в свою волю воюют, но не токмо от неприятелей, но и от своих ребели-зантов (бунтовщиков. — И. К.) оборонитца не могут. И уже редкое место осталось, где бы не было ре-белей».
Безвольного шаха Волынский считал главным виновником плачевного положения государства. В донесении от 8 июля 1717 года Артемий Петрович писал канцлеру Головкину: «Трудно и тому верить… что… он не над подданными, но у своих подданных подданной. И чаю, редко такова дурачка мочно сыскать и между простых, не токмо ис коронованных. Того ради сам ни в какие дела вступать не изволит, но во всем положился на своего наместника ехтема девлета». Тот же, по мнению посла, был еще хуже своего господина, «всякова скота глупее, однако же у него такой фидори (фаворит. — И. К.), что шах у него из рота смотрит и что велит, то делает. Того ради здесь мало поминаетца имя шахово, только ево, протчие же все, которые при шахе не были поумнее, тех всех изогнал… И тако делает, что хочет, а воспретить никто не смеет, а такой дурак, что ни дачею, ни дружбою, ни рассуждением подойтись невозможно, как я уже пробовал всякими способами, однако ж не помогло ничто»{79}.
Столь яркие и однозначные характеристики очевидца можно считать достоверными, тем более что прогноз Волынского, что «сия корона к последнему разорению приходит, ежели не обновитца иным шахом», оказался верным. Однако можно заметить и другое: знакомые с европейским «обхождением» петровские посланцы смотрели на людей Востока как на «варваров» и плохо понимали «язык» восточной дипломатии. Громкие военные победы на Западе внушали превосходство над «нерегулярными» войсками Востока, но мешали увидеть устойчивость местных социальных и государственных структур и традиций.
Иранскую элиту Волынский оценивал невысоко: «Истинно не знают, что дела и как их делать. А к тому ж и ленивы, что о деле часа одного не хотят говорить, и не токмо посторонние, но и свои у них дела так же идут безвестно, как попалось на ум, так и делают безо всякого рассуждения». Отнюдь не безгрешного Волынского раздражало высокомерие персидских вельмож в сочетании с ожиданием подарков при решении государственных дел, когда, например, чиновник эхтема девлета в духе судьи Ляпкина-Тяпкина из гоголевского «Ревизора» объяснял, что его господин взяток у посла не примет — разве что, если «есть хорошие соболи, то б несколько сороков отослал, а деньгами или иным ничего не возьмет»{80}. (Правда, сам посол в денежных делах также оказался не вполне чист. До самой его смерти тянулась тяжба с посадским Егором Бахтиным, который заявлял, что Волынский в Иране занял у его дяди Анисима Федотова 2600 рублей и не вернул их. Ответчик же полагал, что платить должна казна, поскольку иранские власти не давали денег на содержание посольства и он вынужден был занимать — и насчитал, что ему следует 768 червонцев, 15 956 рублей и три с половиной копейки, из которых на «презенты» употреблено 613 червонцев и 6189 рублей, не считая данных ему на раздачи казенных мехов на 3500 рублей. Петр I, по-видимому, усомнился в столь значительных расходах и в 1720 году приказал выдать Волынскому в счет жалованья только шесть тысяч рублей. Волынский же долг Бахтину признал и даже выдал расписку с обязательством вернуть деньги, но, если верить истцу, выманил у него в 1737 году «мировую запись» с отказом от тяжбы, отдав всего 150 рублей. Очевидно, у посадского не хватило сил тягаться с могущественным тогда вельможей; после казни Волынского он опять стал добиваться уплаты долга, но Сенат, исходя из наличия «мировой», отказал{81}.)
С такой позиции вполне рациональным представляется стремление России тем или иным образом получить в свое распоряжение богатые и плохо управляемые прикаспийские провинции Ирана, где нет достойных противников: «Народ гилянской зело крупен, точию весьма невоенной, и ружья ни-какова не имеют, и самой народ дикой и робкой. И живут все в розни, и редкую деревню мошно сыскать, чтоб дворов по пяти или по десяти, разве по два и по три». Доказательством «дикости» и «робости» дипломат искренне полагал нежелание пускать к себе посольских людей: «Кажной рад последнее отдать, нежели ково в дом свой пустить, и сами в ыные места мало ездят»{82}.
После трех зимовок в Иране посол смог покинуть не слишком гостеприимную страну только в мае 1718 года на присланных за ним из Астрахани судах. Напоследок путешественников ожидали «жестокие штормы» во время трехнедельного плавания по Каспию и равнодушие астраханского оберкоменданта, «уморившего» с таким трудом доставленный посуху шахский подарок — слона, содержание которого обошлось послу в тысячу рублей. Волынский с раздражением воспринимал задержки в пути и просил государя: «…а ежели уже в моей смерти подлинно донесено вашему величеству будет… по смерти моей последнее награждение мне всемилостивейше изволите учинить воздаянием отмщения над здешними варварами за мою погибель». В том, что «отмщение» будет делом нетрудным, он не сомневался, «…помощью Вышнего и без великого кровопролития великую часть к своей державе присовокупить можете с немалым интересом к вечной пользе без страха, ибо разве только некоторые неудобные места и воздух здешней противность покажут войскам вашего величества, а не оружие пер-сицкое», — убеждал Артемий Петрович царя{83}.
Похоже, слава победителей Карла XII несколько кружила голову подполковнику Волынскому. Он прямо призывал царя к походу на Персию: «…хотя настоящая война наша нам и возбраняла б, однако, как я здешнюю слабость вижу, нам без всякого опасения начать можно, ибо не токмо целою армиею, но и малым корпусом великую часть к России присоединить без труда можно, к чему нынешнее время зело удобно». В Петербурге посол лично доложил царю о своей утомительной и рискованной миссии и представил доклад, к которому был приложен «Журнал на персидскую карту с кратким описанием провинций и городов и где есть какие пути удобные или нужные к проходам армии».
Покинув негостеприимный Иран, Волынский спешил в Петербург вместе со свитой и дарами, загоняя лошадей и наводя страх на местных чиновников. Комендант городка Петровска Андрей Ивинский, определенный на статскую службу «за раны и за полонное терпение», в апреле 1719 года жаловался, что в прошедшем ноябре возвращавшийся с посольством Волынский не удовольствовался предоставленными ему 250 подводами, но потребовал еще 200, а его люди коменданта «били и за волосы тащили на двор к подьячему моему, где он, посланник стоял, и притащивши, оборвали с меня платье, в одной рубахе ругательски растянувши на земле, били и мучили ослопьями (палками, дубинами. — И. К.) не малое время, и оные ослопья переломали, которые на знак посланы в Казань, и едва жива оставили на земле. И оной же Волынской мученого меня еще топками и каблуками бил же и, сковав в железа, держал двои сутки»{84}.
Посольский «поезд» уже обгоняли слухи, что царский дипломат «великими богатствы от шаха одарен», и Волынский спешил их предупредить. В письме начальнику Императорского кабинета Алексею Макарову он сообщил, что вывез из изнурительного путешествия одни долги, и шутливо жалел об отсутствии приятеля — Абрама Ганнибала, кому уже присмотрел невесту, «которая так бела, как сажа»{85}. Однако тогда Петр был весьма доволен действиями своего посланца, которому предстояло исполнять царские замыслы на Востоке.
«Астраханское пекло»
За успешное выполнение миссии Петр I в марте 1719 года произвел молодого офицера в полковники и назначил начальником только что основанной Астраханской губернии{86}. Это был скачок в карьере — Волынский вошел в круг принимавших важные решения лиц из числа петровского «генералитета». Но отныне его ожидала и другая мера ответственности: на высокой должности сложнее было спрятаться за чью-то спину.
Новому губернатору предстояла трудновыполнимая задача благоустройства всей юго-восточной окраины страны. На огромной территории Нижнего Поволжья (включавшей позднейшие Астраханскую, Саратовскую, Самарскую, Симбирскую губернии и Уральскую область) имелось только восемь тысяч дворов, из которых лишь 1225 принадлежали русскому населению, остальные жители были местными «ясачными инородцами», в основном татарами. На торговых площадях и караван-сараях Астрахани делали свой бизнес персы, армяне, индийцы, бухарцы, туркмены, калмыки, татары, грузины.
Расстилавшаяся от Терека до Яика (Урала) и от Астрахани до Саратова степь не имела ни дорог, ни сколько-нибудь определенных границ, ни какой-либо коронной администрации; здесь находились владения кочевых народов — калмыков во главе с влиятельным ханом Аюкой, «киргиз-кайсаков» (казахов) и каракалпаков. Все они лишь формально считались российскими подданными, и с их предводителями надо было поддерживать дружественные отношения. Сюда же вторгались крымские подданные — закубанские татары, и оседлое население должно было отбиваться от их набегов, теряя уведенных в плен родственников и соседей. На юге, на вольном Тереке, жили казаки, а их соседями были воинственные кочевники и горцы Дагестана; их «князья» и «владельцы» получали подарки и из Исфахана, и из Москвы и, таким образом, числились в «опчем холопстве», то есть одновременно признавали себя вассалами «белого царя» и иранского шаха, но на деле не были подвластны никому. Нужно было всячески «ласкать» их, чтобы не допускать набегов и прочих «пакостей» в отношении российских поселений и купцов.
Единственным надежным путем на «низ» (так называли этот край в столице) была Волга. Но она привлекала не только купцов; сюда со всей страны бежали крестьяне — от податей и крепостного права, раскольники — от официальной церкви, стрельцы, солдаты и прочие «служилые люди» — от тяжкой царской службы. В лучшем случае они основывали «вольные», никому не подчинявшиеся и не платившие налогов поселения; в худшем — становились лихими разбойниками, встречавшими торговые и казенные суда. Несмотря на усилия властей, до конца XVIII века на берегах звучали песни «понизовой вольницы»:
…ловят нас, хватают добрых молодцев, Называют нас ворами, разбойниками. А мы, братцы, ведь не воры, не разбойники, Мы люди добрые, ребята все поволжские, Еще ходим мы по Волге не первый год, Воровства, грабительства довольно есть.К тому же расположение края вдали от бдительного ока московских властей давало местным правителям возможность проявлять свой нрав и вводить свои порядки, не останавливаясь перед явными злоупотреблениями. «Здесь иное государство, а не Россия, — писал об Астрахани Волынский Шафирову на возвратном пути из Персии, — понеже, что государю и государству противно, то здесь приятно и такие дела делаются, что и слышать странно». Не случайно именно здесь в 1705 году вспыхнуло восстание против воеводских поборов и притеснений. Сам Волынский вынужден был признаться, что не имеет точных представлений о размерах губернских доходов: по «розыску» среди местных чиновников, они составляли более 200 тысяч рублей, тогда как, по сведениям губернатора, в центр доходило («по генеральной табели счисляется») только 70 тысяч{87}.
Новоиспеченный губернатор понимал сложность поставленных перед ним задач. В июне 1719 года он обратился в Сенат с пространным докладом. Волынский просил назначить к нему нескольких «добрых комендантов и протчих управителей» и перечислил подходящих кандидатов, а также ходатайствовал о создании под его началом губернского драгунского полка, необходимого для действий на неспокойном пограничье — «от кубанцев, так от каракалпаков и от калмыков тамо не будет спокойствия, также и от своих на реке на Волге бывают великие разбои, которые б могли пресечены быть, если бы не так малолюдно тамо было». Для усиления обороны требовались артиллеристы, «искусный инженер», лекари армейского госпиталя и толковые офицеры, поскольку имевшиеся «многие негодны, от чего и солдаты весьма регулу потеряли»; для налаживания работы канцелярии губернатор нуждался в секретаре и «добрых людях» из подьячих.
Беспокоило Волынского отсутствие надежной связи и безопасных дорог: «От Саратова до Астрахани между городов по двести и по триста верст жила никакого нет; того ради как купецким людям, так и протчим проезжим и рыбным ловцам от калмыков и от кубанцев чинится великое разорение, и работных людей берут в плен; также и зимою проезд зело труден, того ради по моему б мнению надобно между городов еще сделать хотя малые городки для прибежища проезжим и для закрытия пустоты от неприятельских набегов, выбрав к поселению удобные безопасные места, дабы не так безопасно было неприятельским партиям чинить набеги» (всё это будет реализовано много лет спустя). Губернатор считал необходимым построить новую удобную пристань и таможню, чтобы воспрепятствовать провозу контрабандных товаров; его заботили нехватка судов современной постройки («новой манеры») и слабость флотской команды, ведь по замыслу Петра Астрахань должна быть современным портом и главной базой будущих военных действий на Каспийском море{88}.
Из недатированного письма Петру можно понять, что Артемий Петрович был не в восторге от назначения. Он заявлял, что в «гражданских делах необыкновенен», жаловался на долги в две тысячи рублей «кроме прежнего» и разоренные «деревнишки малые» и даже осмелился молить, «дабы я тамо вечно не заключен был в таких моих молодых летех». Сравнение государственной службы с положением заключенного едва ли могло понравиться царю{89}. Однако спорить с государем не приходилось. Петр же награждать слугу новыми деревнями не спешил. Но Волынский сумел о себе напомнить — осенью 1719 года попросил Макарова представить царю «древнего дворянина» Василия Яковлева, который сражался за отца и старшего брата государя под Конотопом и Чигирином и был еще настолько бодр, чтобы желать воеводства в Пензе. Артемий Петрович предупреждал, что «сей старичок зело честолюбив и спесив, так же и лжец жестокий», но был уверен, что ветеран «его царскому величеству забавен будет»{90}.
Присмотрел он и выгодную «партию» в лице двоюродной сестры царя по материнской линии молодой Александры Львовны Нарышкиной. В сентябре—октябре 1719 года Волынский в нескольких письмах из Москвы извещал Макарова об объяснении с девушкой при посредстве ее тетки Ульяны: избранница передала ему, что на предложение руки и сердца «склонна, но без повеления его царского величества и всемилостивой царицы не смеет обязаться со мною словом». Но расторопный жених сам нашел дорогу к царице, и она написала юной Нарышкиной о согласии. Тут, правда, на заочное сватовство надулась тетка — и дело-то решено «мимо нее», и «штиль не тот в письме». Вслед за тем и невеста пришла «в сумнение», достойно ли, что брак разрешен «не словом, а письмом»; в итоге Екатерина оставила дело на ее «рассуждение», о чем и сообщила Волынскому{91}.
Обаятельный и настойчивый полковник был не из тех, кто отступал перед трудностями. Волынский тут же стал просить Макарова о соизволении прибыть в Петербург, куда нужно было вызвать и невесту для объяснения с участием государыни, — в чем и преуспел. Сам же он зимой 1720 года докладывал Петру о своих проблемах (на сей раз не личных, а должностных) на первом русском курорте — Олонецких минеральных водах, а затем подал государю составленный на основе этих бесед «мемориал»{92}. Все предложения Волынского были утверждены и вошли в составленную для него инструкцию и обширный именной указ Петра I от 26 октября 1720 года. Эти документы предписывали губернатору заботиться об обороне города и границы, укреплять отношения с соседями и оберегать взаимовыгодную торговлю. Помимо решения этих традиционных задач, царь требовал создать оранжерею и «аптекарский огород»; выращивать из желудей в степи дубовые рощи; готовить на экспорт соленую и маринованную осетрину; заводить кожевенные, «овчарные» и конные заводы с персидскими жеребцами и черкасскими кобылами; купить в Гиляне и разводить в Астрахани померанцевые, лимонные, цитронные, гранатовые и самшитовые деревья, а жителей приучать выращивать виноградную лозу, закупленную в Дербенте и Шемахе{93}.
Сенат внял жалобам губернатора на нехватку персонала — в Астрахань на службу был отправлен 41 офицер; временным управителем стал затребованный Волынским генерал-аудитор Иван Васильевич Кикин. Он прибыл в город в ноябре 1719 года и взял на себя губернаторские хлопоты: проводил перепись населения в «подушный оклад», собирал рекрутов, слал доношения в Сенат{94}. Сам же Артемий Петрович к месту службы не спешил, а пытался поправить свои финансовые дела. Он писал кабинет-секретарю Макарову: «В надежде вашей ко мне милости (здесь и далее в цитате курсив мой. — И. К.) приемлю смелость чрез сие нижайше просить, припоминая ваше милостивое обещание, дабы изволили милостиво внушать о моем разорении и убытках всемилостивейшему государю и государыне царице; а ныне поистине пропадаю с десперации и паки прошу меня не оставить, понеже известна вам моя одинокость и пустота. От горести моей не рад, что и жив, ибо себе ни что иное получил, токмо что от многих вижу злую ненависть и лаю (брань. — И. К.) кроме всякой моей вины»{95}.
Тем временем Волынский уладил семейные дела — лично объяснился с невестой в Петербурге, получил ее согласие, был помолвлен — и в октябре 1720 года прибыл в Астрахань. Там губернатор энергично взялся за дело, но рассчитанная на долгую перспективу программа так и осталась до конца невыполненной. Волынский доставил в Петербург «шафранное коренье», и царь повелел посадить его у себя в оранжерее в надежде получить «плод». Но астраханский климат помешал добиться фруктового изобилия, а тамошняя почва оказалась непригодной для доставленной из Азербайджана лозы. Не доходили руки и до благоустройства самого города, тем более что снабжение отдаленного края было из рук вон плохим, «…крепость здешняя во многих местах развалилась и худа вся; в полках здешних, в пяти, ружья только с 2000 фузей с небольшим годных, а прочее никуда не годится; а мундиру как на драгунах, так и на солдатах, кроме одного полку, ни на одном нет, и ходят иные в балахонах, которых не давано лет более десяти, а вычтено у них на мундир с 34 000 рублей, которые в Казани и пропали; а провианту нашел я только 300 четвертей. Итак, всемилостивейшая государыня, одним словом донесть, и знаку того нет, как надлежит быть пограничным крепостям, и, на что ни смотрю, за все видимая беда мне, которой миновать невозможно, ибо ни в три года нельзя привесть в добрый порядок; а куда о чем отсюда написано, ниоткуды никакой резолюции нет, и уже поистине, всемилостивая мать, не знаю, что и делать, понеже вижу, что все останутся в стороне, а мне одному, бедному, ответствовать будет», — жаловался новый губернатор Екатерине в июне 1721 года{96}.
Не будучи человеком «книжным», Артемий Петрович тем не менее обладал свойственным и самому царю даром ярко и образно выражать свои мысли, что выгодно отличает его послания от суховатых и деловых писем его современников. Ту же Екатерину он просил замолвить за него перед Петром слово, «дабы мне повелено было по возвращении моем из Терека быть в будущей зиме ко двору вашего величества, а поистине к тому не так влечет меня собственная нужда, как дела ваши того требуют, ибо надобно везде самому быть, а без того, вижу, ничто не делается; если же впредь ко взысканию, то, чаю, одному мне оставаться будет». Он искал у царицы сочувствия: «Ношу честь паче меры и достоинства моего, однако ж клянусь Богом, что со слезами здесь бедную жизнь мою продолжаю, так что иногда животу моему не рад, понеже, что ни есть здесь, все разорено и опущено, а исправить невозможно, ибо в руках ничего нет; к тому ж наслал на меня Бог таких диких соседей, которых дела и поступки не человеческие, но самые зверские, и рвут у меня во все стороны; я не чаю, чтоб которая подобна губерния делами была здешнему пропастному месту, понеже кроме губернских дел, война здесь непрестанная, а людей у меня зело мало, и те наги и не вооружены. Также в прочих губерниях определены губернаторам в помощь камериры, ронтмейстеры и земские судьи, а у меня никого нет, и во всех делах принужден сам трудиться, так что истинно перо из рук моих не выходит… также здешнего порта флот, и вся коммерция, и при том рыбные и соляные дела, моего ж труда требуют; и тако ежели ваше величество не сотворите надо мною бедным милость, то я поистине или пропаду, или остатнего ума лишен буду; я подпишуся в том на смерть, что не токмо моему такому слабому малолетнему уму, но, кто б какой остроты ни был, один всех управить не может, хотя бы как ни трудился. Однако ж не знаю, как и мне больше того трудиться, понеже и так застал уже достаточным чернецом и богомольцем и такую регулу держу, что из двора никуды не выхожу, кроме канцелярии, да изредка в церковь».
Одновременно расторопный губернатор готовил подарки своей заступнице — он знал, чем ее порадовать: обещал прислать к ее двору «арапа с арапкою и с арапчонкою, понеже арапка беременна, которая, чаю, по дву или по трех неделях родит, того ради боялся послать, чтоб в дороге не повредилась, а когда освободится от бремени и от болезни, немедленно со всем заводом отправим к вашему величеству». В последнем из цитированных писем от 15 августа 1721 года темпераментный «чернец-губернатор признавался, что не мог упустить случая лично изучить достоинства экзотических уроженок жарких стран: «При сем всеподданнейше доношу: арапка вашего величества родила сына, от которого уж не отрекусь, что я ему отец, ибо восприемником ему был, и тако хотя он и мой сын, однако ж не в меня родился, в мать, таков бел, как сажею выпачкан, и зело смешон»{97}. Арапку для приличия крестили и выдали замуж за соплеменника: записная книга расходов царицы свидетельствует, что 30 января 1722 года «присланы в дом их величества от Артемья Волынского арап с женою, да калмык с женою; указом ее величества дано арапке Анне Ивановой 10 руб., да калмычке 5 руб».{98}. Дальнейшая судьба чернокожего потомка воеводы Боброка, к сожалению, неизвестна.
Главное внимание царя и губернатора поглощала подготовка предстоящего похода на Восток. Петр в декабре 1720 года пожаловал Волынскому звание генерал-адъютанта{99} и поручил ему координацию всей «персидской» политики на месте. Петр дал ему собственноручное указание отправить в Шемаху офицера «бутто для торговых дел», а на деле — чтобы он «туда или назад едучи сухим путем от Шемахи верно осмотрел пути» и особенно «неудобной» участок возле Терков. Самому губернатору тогда же предписывалось поддерживать контакты с Вахтангом VI, чтобы он «в потребное время был надежен нам», а также «при море зделать крепость» с «зелейным анбаром» (пороховым погребом. — И. К.) и «суды наскоро делать прямые морские и прочее все, что надлежит к тому по малу под рукою готовить, дабы в случае ни за чем остановки не было, однако ж все в великом секрете держать»{100}.
Последнее распоряжение царь тогда же отменил — точнее, велел подождать со строительством крепости «до предбудущего 1722 году», но зато потребовал от губернатора прислать «для пробы» образцы верблюжьей шерсти, «персидских кушаков» и «гилянских рогож». Кроме того, Петра интересовали иранские изюм и шафран, которые он предполагал сбывать в соседнюю Польшу (наблюдательный царь, как опытный коммерсант, заметил, что польская шляхта за столом не может обойтись без этих специй){101}.
Волынский, сторонник активных действий на Кавказе, призывал Петра послать на помощь Вахтангу VI пять-шесть тысяч российских солдат. С таким подкреплением и при условии российского «десанта в Персию тысячах в десяти или болше» успех, считал губернатор, обеспечен: к России должны отойти приморский Дербент и богатая Шемаха, а на Тереке нужно построить крепость «для камуникации с Грузиею»{102}.
Скоро подвернулся и предлог для начала военных действий. Объединившиеся против иранского господства повстанцы Ширвана во главе с предводителем Хаджи Даудом и казикумухским Сурхай-ханом совершали набеги на Ардебиль и Баку, угрожали Дербенту. Волынский в июне 1721 года поначалу обнадежил «бунтовщика» Хаджи Дауда — «секретно» передал ему, что российскому государю «не противно, что он с персианами воюет»{103}. В то же время особых иллюзий в отношении нового «приятеля» он не питал: «Кажется мне, Дауд-бек ни к чему не потребен; посылал я к нему отсюда поручика… через которого ответствует ко мне, что конечно желает служить вашему величеству, однако ж, чтобы вы изволили прислать к нему свои войска и довольное число пушек, а он конечно отберет городы от персиан, и которые ему удобны, те себе оставит (а именно Дербент и Шемаху), а также уступит вашему величеству кои по той стороне Куры реки до самой Гиспогани (Исфахана. — И. К.), чего в руках его никогда не будет, и тако хочет, чтоб ваших был труд, а его польза»{104}.
В августе повстанцы взяли Шемаху. Наместник провинции Гуссейн-хан был убит вместе с сотнями других горожан. Начались грабежи гостиных дворов. Русские купцы были «обнадеживаемы, что их грабить не будут, но потом ввечеру и к ним в гостиный двор напали»; некоторые торговцы были убиты, а все товары разграблены. По сведениям «экстракта ис поданных доношении о том, коликое число было у купецких людей товаров в Шемахе и кого имяны», ущерб оценивался «на персицкие деньги 472 840 рублев на 29 алтын»{105}. Волынский послал в Шемаху своего представителя, переводчика Дмитрия Петричиса, но предводитель мятежников Хаджи Дауд заявил гонцу, что о возмещении убытков «и думать не надобно, чтоб назад было отдано для того, что у них обычай в таких случаях: ежели кто что захватит, того назад взять невозможно», и ссылался на то, что сам не может получить долю из разграбленного имущества шахского наместника{106}.
Скоро к губернатору явились ограбленные, но уцелевшие после погрома в Шемахе купцы; двоих из них, Филиппа Скокова и Василия Скорнякова, он отправил к царю, чтобы тот получил сведения о случившемся из первых рук. Грабеж русских торговых людей стал аргументом в пользу скорейшего начала военных действий. «По намерению вашему к начинанию законнее сего уже нельзя и быть причины», — убеждал Волынский Петра в донесении от 10 сентября; теперь, считал он, вторжение будет выглядеть выступлением «не против персиян, но против неприятелей их и своих». Он призывал государя организовать поход следующим летом: «…что ранее изволите начать, то лутче, и труда будет менее». Напористый губернатор был уверен: «…невеликих войск сия война требует, ибо ваше величество уже изволите и сами видеть, что не люди — скоты воюют и разоряют». Артемий Петрович подсчитал, что для успешной операции необходимы максимум десять пехотных и четыре кавалерийских полка вместе с тремя тысячами казаков, «толко б были справная амуниция и доволное число провиянта»{107}.
К тому же Вахтанг VI обещал выставить тридцати-сорокатысячное войско и вместе с русскими дойти до самого Исфахана, «ибо он персиян бабами называет»{108}. Губернатору явно льстило, что «ориэнтальной Иверии король» обращался к нему за помощью и в письмах называл «любезнейшим братом и другом». Другое дело, что положение самого картлийского царя на троне было отнюдь не прочным; в 1721 году Вахтанг писал послание Петру на латинском языке и передал его через католических священников «по той причине, что мы никому другому не доверяем». Но тогда Волынский был уверен в успехе.
Впоследствии эти уговоры будут поставлены Артемию Петровичу в вину: якобы он явился инициатором тяжелой войны. Но тогда так думал не он один. Донесения консула Семена Аврамова рисовали картину разложения шахской армии, бессилия правительства, которое рассчитывало в борьбе с мятежниками только на помощь самих же горских князей и Вахтанга VI, и давали неутешительный прогноз: «Персидское государство вконец разоряется и пропадает»{109}.
Призывая Петра I совершить поход, Волынский уже знал от кабардинских князей, что Хаджи Дауд и Сурхай-хан через крымского хана обратились к турецкому султану, «чтобы он их принял под свою протекцию и прислал бы свои войска для охранения Шемахи». Губернатора это не пугало, хотя он и не знал, что посланцев Дауда в Стамбуле встретили милостиво, но отпустили без определенного ответа{110}. Он полагал, что Дауду и Сурхаю «надобно сыскать безопасный и основательный фундамент», а потому «они, конечно, будут искать протекции турецкой»; тем важнее было России опередить турок.
Против воинственных соседей Волынский считал нужным действовать силой. В августе 1721 года он убеждал Петра I «учинить отмщение андреевцам (жителям дагестанского селения Эндери. — И. К.) за набеги на казачьи городки на Тереке и призывал его построить там новую крепость. Царь разрешил ему «идти на андреевских владельцов для разорения их жилищ — то хорошо, однако ж вдаль заходить не надобно»{111}. Лихой губернатор прибыл на границу с двумя пехотными батальонами и тремя ротами драгун и послал за Терек тысячу донских казаков с атаманом Аксеном Фроловым. «Порубили и в полон побрали, сколько смогли, и бродили по болотам и по степям, как хотели, и так счастливо сию начатую на востоке компанию окончал, а шпаги из ножен не вынимал», — описывал свой поход Волынский, встретивший 1722 год «на голой степи, без воды и без дров»{112}. Императору и Сенату он доложил, что его воинство дважды ходило «в партию на кумыцкую сторону» и громило «андреевские нагайские аулы». В бою погиб «горский князь Атов Баташев», было отбито немало «рогатого скота», верблюдов и три тысячи овец, которых победители при отходе «потопили»{113}. После этой экспедиции он отправил в подарок своему старому приятелю В. Монсу пленного «мальчика изрядного».
По сведениям пленных, «андреевский» владетель Айдемир желал мира, но Волынский не рассчитывал на дагестанских князей в качестве верных слуг. «И мне мнится, здешние народы привлечь политикою к стороне вашей невозможно, ежели в руках оружия не будет, ибо хотя и являются склонны, но только для одних денег, которых (горцев. — И. К.), по моему слабому мнению, надобно бы так содержать, чтоб без причины только их не озлоблять, а верить никому невозможно», — докладывал он царю{114}.
На берегах Терека Волынскому пришлось заниматься примирением противоборствующих группировок кабардинских князей. Вторгшийся весной 1720 года в Кабарду с сорокатысячным войском крымский хан Саадет-Гирей III потребовал от ее князей перейти на сторону Крыма под страхом, что «первых знатных велит перерубить, а достальных переведет на житье на Кубань», а получив отказ, разорил ряд селений, отогнал большое количество скота и провозгласил старшим князем лидера протурецки настроенной части кабардинской знати Ислам-бека Мисостова. Его противники во главе с Арслан-беком Кайтукиным укрылись в горах и обратились к царю с просьбой о помощи. Коллегия иностранных дел повелела Волынскому «оборонять» Кабарду, но не участвовать в походах ее князей на крымские владения, чтобы не нарушать мира{115}.
В январе 1721 года кабардинцы самостоятельно одержали победу над крымцами и их союзниками. Волынский принял у Арслан-бека присягу на верность России. «Хотя я сначала им довольно выговаривал, для чего они, оставя протекцию вашего величества, приводили в Кабарду крымцев, однако ж напоследок-то отпустил им и по-прежнему милостию вашего величества обнадежил и потом помирил их, однако ж с присягою, чтоб им быть под протекцией вашею и притом и со взятием верных аманатов. И тако вся Кабарда ныне видится под рукою вашего величества», — писал он царю 5 декабря того же года. Воинские таланты кабардинцев Артемий Петрович оценил по достоинству: «…все такие воины, каких в здешних странах не обретается, ибо что татар или кумыков тысяча, тут черкесов довольно двухсот». Но в успехе российского влияния на раздираемое клановым соперничеством горское общество он был не уверен: «Токмо не знаю, будет ли им из моей медиации (посредничества. — И. К.) впредь польза, понеже между ими и вовеки миру не бывать, ибо житье их самое зверское, и не токмо посторонние, но и родные друг друга за безделицу режут, и, я чаю, такого удивительного дела мало бывало или и никогда; понеже по исследовании дела не сыскался виноватый ни один и правого никого нет, а за что первая началась ссора, то уже из памяти вышло, итак, за что дерутся и режутся, истинно ни один не знает, только уж вошло у них то в обычай, что и переменить невозможно. Еще ж приводит к тому нищета, понеже так нищи, что некоторые князья ко мне затем не едут, что не имеют платья, а в овчинных шубах ехать стыдно, а купить и негде, и не на что, понеже у них монеты никакой нет: лучшее было богатство скот, но и то все крымцы обобрали»{116}. К тому же упрочение российского влияния в Кабарде могло вызвать осложнения в отношениях с Крымом, а следовательно, и с Османской империей, и в 1722 году Россия от греха подальше признала эти территории крымской «сферой влияния»{117}.
Масштабные приготовления к восточной кампании могли начаться только после заключения завершившего Северную войну Ништадтского мирного договора. В ответ на призывы Волынского к «начинанию» военных действий Петр 5 декабря 1721 года в шифровке обещал ему «сего случая не пропустить — зело то изрядно». Царь известил своего слугу, что «довольная часть войска» уже марширует к Волге на зимние квартиры, чтобы весной по воде прибыть в Астрахань{118}. По возвращении в Астрахань Волынский в ответном послании выразил свою радость по случаю окончания Северной войны — у государя стали «руки свободны», — доложил о строительстве десантных судов и обязался приготовить к лету еще 50 «лодок»{119}.
Следующим письмом в начале 1722 года Петр I вызвал губернатора к себе. Поездка едва не обернулась трагедией: мчавшийся по замерзшей реке санный поезд Волынского ночью под Царицыном угодил в полынью — хорошо еще, что передние лошади остались на прочном льду и смогли вытащить сани. Прочие возки также оказались в воде, так что багаж оказался изрядно подмочен. Бравого генерал-адъютанта больше всего огорчали утрата двух париков и безобразно полинявшие модные чулки; пришлось срочным письмом просить известного щеголя, заведовавшего канцелярией царицы, Вилима Монса добыть для него столь важные детали туалета. Элегантный губернатор сознавал, что в глуши отстал от быстро менявшейся моды. «Рубашки уже слышу, что почали вы с манжетами носить, что за великое удивление почитаю…» — писал он приятелю из Царицына{120}.
В итоге Артемий Петрович нашел в чем выйти в свет. «Когда все еще сидели за столом (у голландского резидента. — И. К.), приехал астраханский вице-губернатор по фамилии Волынский (жених старшей девицы Нарышкиной), который имел что-то передать императору от имени императрицы и потом должен был сесть обедать вместе с другими. Так как он только недавно приехал из Астрахани, то я видел его здесь в первый раз. Он человек очень приятный, высок ростом и красив и, как говорят, на хорошем счету у его величества» — такое впечатление произвел Волынский на камер-юнкера голштинского герцога Ф. Берхгольца{121}. Царь был доволен усердием Артемия Петровича и 18 апреля, наконец, женил его на Александре Нарышкиной. Появились новые родственные связи через брата жены, Александра Львовича, генерал-адъютанта Петра I, впоследствии ставшего сенатором, и ее сестер Аграфену, Марию и Анну, позже вышедших за князей А.М. Черкасского, Ф.И. Голицына и А.Ю. Трубецкого. Несмотря не перипетии сватовства, брак оказался удачным (но, к сожалению, недолгим — супруга скончалась в 1730 году, оставив на руках мужа троих детей).
Таким образом, удачливый полковник и губернатор вошел в ближайшую «компанию» императора и стал его главным сотрудником по восточным делам. Обходительный кавалер сумел снискать расположение царицы Екатерины: он не раз обращался к ней с письмами и посылал живые охотничьи трофеи — фазанов, дроф и «кабаньих поросят»{122}. Более практичными вещами — лошадьми, турецким седлом, серебряной конской упряжью — он одаривал секретаря государыни и своего «любезного брата» Вилима Монса — простого камер-юнкера, который вошел в такую «силу», что к нему за помощью не стеснялись обращаться архиереи, высшие чины империи и даже сам светлейший князь Меншиков.
Молодой «птенец гнезда Петрова» импонировал царю своей бьющей через край энергией, самостоятельностью и стремлением лихо вводить новшества. В этом стремлении Волынский, как и сам государь, порой не знал меры — в 1720 году он вступил в конфликт с епископом Астраханским и Терским Иоакимом по делу о наследстве умершего дворецкого архиерейского дома Ивана Агафонникова. У дьяка, приемного сына покойного, не оказалось подтверждающих его права документов, и «пожитки» покойного были отписаны на государя. Наследник оспорил решение духовного судьи попа Ивана Никифорова; всплыло известие о каких-то хранившихся в «подголовнике» у покойного документах, дело затянулось во взаимных претензиях — и губернатор разрулил его по-военному просто: жалобщика-дьяка избил собственноручно, а попа отправил на допрос в канцелярию. В поисках увеличения казенных доходов Волынский радикально решил вопрос о не плативших подати архиерейских людях (певчих, сторожах, звонарях и пр.): тех из них, кто имел в городе торги и промыслы, определил в «тягло» при полной поддержке астраханских посадских и их бурмистра. Архиерейскому дьяку Барминцеву он лично дал оплеуху за «невежливое» явление пред губернаторские очи, а затем еще распорядился высечь обиженного дьяка, обругавшего офицеров губернского драгунского полка «свиньями». Иоаким обвинил Волынского в присвоении «лазаретных денег», но губернатор доказал, что не собирал и не расходовал их, и Синод распорядился отозвать архиерея{123}.
В 1721 году теперь уже Синод жаловался на астраханского губернатора: тот устроил в кельях астраханского Троицкого монастыря свою канцелярию, приказал сломать каменные ворота и несколько зданий, а монастырскую землю отвел под городскую площадь. Еще больше духовные власти были возмущены его разрешением открыть католическую и «люторскую» (протестантскую. — И. К.) церкви. В 1722 году в Астрахань прибыли католический священник Феликс и монахи-капуцины — братья Казимир, Удальрик и Романус. На посланные ему «допросные пункты» по монастырским делам Волынский внимания не обратил, а братьев-капуцинов взял под свою защиту. «Иноземцы цесарцы римской религии, — писал он в Синод, — есть в Астрахани в службе его императорского величества многие, а также купцы из армян того же закона. Опасности или подозрения от оных фратров быть для государства не чаю, а по-видимому, со временем от них была бы и польза, понеже из тамошнего сурового народа обучаются от них молодые дети латинского и прочих языков»{124}. Именно в этой школе под покровительством губернатора начал свой творческий путь будущий поэт Василий Тредиаковский. Едва ли юный школяр подозревал тогда, как трагически пересекутся их пути в далеком 1740 году.
Волынский побеспокоился и о других «молодых детях» — в том же году составил списки недорослей для определения в школы{125}. Именно при нем в городе появилась «цифирная» школа, а затем и гарнизонная. Во втором учебном заведении Военная коллегия приказала «астраханского гарнизона в гарнизонных полках солдатских, драгунских и прочих служивого всякого чина людей, детей их малолетних учить грамоте, читать, писать и арифметике». Занятия в школе, размещавшейся в двух избах, начались 1 октября 1723 года. Губернатор назначил учителем Лаврентия Жильцова — одного на 114 учеников. Для «топления печей», как и в цифирной школе, губернская канцелярия отпускала дрова «по две сажени на месяц», а для освещения — по пять свечей ежедневно, кроме праздничных и воскресных дней. Оба учебных заведения существовали, видимо, до осени 1727 года, когда началась страшная эпидемия чумы, унесшая половину населения города{126}.
Свое возвышение Волынский воспринимал как должное, но оно не могло не породить в окружении Петра зависти и желания «подставить» удачливого и не в меру активного соперника. Так и случилось. Но сначала Артемию Петровичу пришлось приложить все усилия к тому, чтобы достойно встретить и проводить царя в Персидский поход. Пехота, сосредоточенная в Москве, Ярославле и других городах, в мае 1722 года двинулась вниз по Волге на судах. Царь, как следует из его именных указов, торопил подчиненных со строительством кораблей; работы задерживались, и Петр повелел отправлять вниз по Волге недостроенные корабли и лодки, «чтоб дорогою доделать». Военная коллегия разрешала брать годные для транспортировки армии суда «у хозяев» с последующей оплатой. Недостающих до комплекта рекрутов также брали по дороге. В апреле двинулись и драгунские полки: большую часть личного состава доставляли до Царицына и Астрахани по воде; оставшиеся с полковыми лошадьми шли берегом Волги. Казаки с Украины и Дона двигались сухим путем.
Летом 1722 года состоялась торжественная встреча императора в Астрахани, где он отпраздновал очередную годовщину полтавской победы. Губернатор принимал царя и его свиту (для Петра были выстроены терем в кремле и загородная резиденция), занимался размещением прибывших полков, погрузкой на суда провианта; ему же было поручено собрать в Астрахани 700 телег и купить 300 верблюдов для обоза{127}.
Персидский поход
Восемнадцатого июля 1722 года под орудийные залпы с крепостных стен генерал-адмирал Апраксин поднял вымпел на флагманском корабле «Принцесса Анна» и дал сигнал к выступлению. Петр I в последний раз вел в поход свою армию и флот. Наверное, в те дни он был счастлив, наблюдая картину ночного рейда у острова Четырех Бугров, куда из Астрахани шли сотни военных и десантных судов «и, вышед в море, стали на якорь, и в ночи было огненное видение от фонарей и стрельба из пушек»{128}.
Император с женой и губернатором Волынским шел на боте «Ингерманланд»; на других судах находились неразлучный с государем кабинет-секретарь Алексей Макаров, формальный главнокомандующий в походе Федор Апраксин; действительный тайный советник, выдающийся дипломат и по совместительству глава политического сыска Петр Толстой. Царя сопровождали знаток восточных языков бывший молдавский господарь Дмитрий Кантемир и майор Преображенского полка Михаил Матюшкин — будущий командир колониального Низового корпуса и завоеванных провинций.
Петр I и его армия высадились на безлюдном берегу Аграханского залива 27 июля. В тот же день на корабле генерал-адмирала Апраксина праздновали гангутскую победу. Государь был весел — вместе со свитой окунался в Каспийское море со спущенных с корабля досок.
Однако армия стала нести потери задолго до столкновения с неприятелем: уже в Астрахани от болезней скончались 150 солдат, а 40 бежали. Намеченный график похода тормозила конница, пересекавшая северокавказские степи. Шедший степью с драгунскими полками генерал Гаврила Кропотов рапортовал, что двигаться быстрее не может: «Лошеди драгунские весьма худы от великих степных переходов и от худых кормов, а паче от жаров, от соленой воды»{129}. Бригадир Андрей Ветерани со своими частями должен был занять «Андреевскую деревню». Айдемир, владетель Эндери, на подходе к селению напал на двигавшиеся походным порядком полки. После упорного боя драгуны прорвались и уничтожили его, но потеряли 89 человек убитыми, а 115 человек были ранены{130}.
Петр поначалу радостно встретил известие о победе, но после сообщения о потерях радость сменилась досадой. Царь понимал, как важно успешно начать кампанию; не случайно он приказывал Ветерани быть осторожным, «дабы в начатии сего дела нам не зделать безславия». Теперь он вымещал свой гнев на тех, кого посчитал виноватыми.
Позднее Артемий Петрович составил черновик документа, озаглавленного «Оправдание о персидском деле» и оказавшегося впоследствии среди его бумаг, конфискованных во время следствия. Волынский доказывал несправедливость обвинений, «бутто я причиною был начинанию персидской войны»; ведь не мог же он, в самом деле, противиться страстному желанию Петра I на Востоке «славу свою показать». Еще до его назначения губернатором в Астрахань царь посылал на Каспий морских офицеров и отправил его в Иран с заданием оценить обороноспособность страны. Волынский уверенно утверждал: будь император жив, непременно весной 1725 года явился бы в Иран и «конечно покушался достигнуть до Индии; а также имел о себе намерение и до Китайского государства, что я сподобился от его императорского величества по его ко мне паче достоинства моего милости сам слышать». Петр знал об убытках и военных потерях, но на любые просьбы о выводе войск из прикаспийских провинций «непреклонен был».
Рассказал бывший астраханский губернатор и о вспышке царского гнева во время Персидского похода, объектом которого неоднократно являлся он сам. В июле 1722 года во время купания в море при высадке у берегов Дагестана губернатор не захотел лезть в воду, «поупрямился в том, понеже тогда был припьян, и тем своим упрямством его <величество> прогневал». По словам Волынского, когда Петр узнал о потерях, Ветерани, Апраксин и Толстой перевели царское раздражение на него — якобы губернатор неверно информировал о возможных трудностях. Разошедшийся государь «изволил наказать меня, как милостивой отец сына своею ручкою», а потом уехал с адмиральского корабля на свой, вызвал к себе Волынского «и тут гневался, бил тростью, полагая вину ту, что тот город (Эндери. — И. К.) явился многолюднее, нежели я доносил». От дальнейших поучений «милостивого отца» избавила Волынского Екатерина{131}. Следовательно, Артемий Петрович, вопреки расхожему мнению, попавшему даже в энциклопедию, пострадал не «за вымогательство и взятки»{132}.
Царская дубинка не могла ускорить события, но Петр не терял надежды на успех. Во время одной из поездок по побережью капитан Федор Соймонов убеждал государя, что в Китай и Америку российским морякам и купцам «много б способнее и безубыточнее» плавать с берегов Камчатки. Но император торопился получить доступ к богатствам Востока через Каспий и «на то изволил же сказать: “Знаешь ли, что от Астрабата до Балха и до Водокшана (афганского Бадахшана. — И. К.) и на верблюдах только 12 дней ходу? А там во всей Бухарин средина всех восточных комерцей. И видишь ты горы? Вить и берег подле оных до самаго Астрабата простирается. И тому пути никто помешать не может”»{133}. Но всё оказалось сложнее…
В августе 1722 года Петр I принял ключи от древнего Дербента, но скоро вынужден был повернуть войска, не дойдя ни до Баку, ни до Шемахи — штормы вывели из строя корабли с продовольствием и прочими припасами для армии. Однако морская экспедиция полковника Шилова заняла в декабре Решт, столицу провинции Гилян. По этому поводу Екатерина в марте 1723 года написала Волынскому в Астрахань: «Его императорское величество писмом твоим о том деле, к его величеству писанным, зело доволен, и сей день, получа оную ведомость, отправлено благодарение Богу з достойным торжеством и стрелбою пушечною. О прошении твоем по челобитной о деревнях мы о тебе попечение имеем. Изволь быть благонадежен, что оное твое желание исполнится»{134}. В это же время шахский посол Измаил-бек благополучно прибыл в Астрахань; губернатор доложил в Петербург, что дипломат надеется на защиту своей страны русскими войсками и готов подписать трактат, «на каких кондициях ваше величество изволит»{135}. Волынский советовал царю оставить Семена Аврамова при Измаил-беке, ибо тот его «зело слушает и все ево советы за истинные приемлет», и секретарь сопровождал посла в Петербург{136}.
Летом того же года десант генерала Матюшкина после четырехдневной бомбардировки заставил капитулировать Баку. Короткий поход в раздираемый междоусобной войной Иран привел к присоединению равнинного Дагестана, прибрежных земель Азербайджана и североиранской провинции Гиляна. В сентябре в обмен на уступку этих территорий Петр I обещал помощь наследнику иранского трона Тахмаспу в борьбе с турками и афганцами. Но заключенный на этих условиях с персидским послом договор Тахмасп так и не признал. В том же году турецкая армия вторглась в подвластные Ирану области Армении и Грузии, и только чрезвычайные усилия русских дипломатов привели к подписанию с султаном договора, закрепившего раздел иранской территории. Этот договор оставлял на произвол судьбы поднявшихся против турецкого владычества армян и грузин во главе с картлийским царем Вахтангом VI. Их отряды в течение долгого времени продолжали неравную борьбу с турецкими силами. Лишенному и турками, и шахом трона Вах-тангу Петр предоставил убежище в России, а выход для закавказских христиан видел в переселении их в завоеванные иранские провинции.
Главный идеолог Петровских реформ Феофан Прокопович в Петербурге заявлял в своих проповедях: «Горские и мидские варвары единым оружия нашего зрением устрашены, одни покорилися, другие разбежалися». Но донесения военных рисовали картину массового сопротивления. «Оставя домы свои, все вышли и соединились з бунтовщиками и стоят с собранием окола Ряща (Решта. — И. К.) и Кескера по всем большим и малым дорогам; и засекают дороги лесами и из лесов с сторон из-за каналов стреляют по нашим. А по неприятелям нашим стрелять тако ж за частыми лесами и ускими дорогами и по сторонам тех дорог каналами, по которым лес подобен терновнику, гнатца невозможно. И слышить не хотят, чтоб быть в подданстве. А чтоб здешнею командою таких бунтовщиков унять и собрание их розогнать и знатные места Гилянской и Мазардронской провинций овладеть — за малолюдством невозможно, понеже здесь правинции немалые и людные», — докладывал в январе 1725 года в Петербург генерал-лейтенант М.А. Матюшкин о состоянии дел в южных провинциях Ирана{137}.
Царский «выговор» Волынскому как будто не имел последствий — Петр готовился к продолжению военных действий в Закавказье и поручил ему приобрести две тысячи верблюдов, 500 быков и повозки для армии; сделать новую пристань у острова Четырех Бугров, строить и ремонтировать транспортные суда, для чего возвести комплекс зданий адмиралтейства с казармами и верфью{138}. Матюшкин должен был выполнять требования губернатора и оказывать ему «вспоможение»{139}.
Однако теперь именно командующий Низовым корпусом (так стал называться контингент российских войск в завоеванных провинциях) ведал военными и дипломатическими делами в Иране и самостоятельно сносился с императором и Коллегией иностранных дел. Астраханский губернатор оказался оттесненным на второй план; на него ложились обязанности принимать и отправлять бесчисленных курьеров и прочих направлявшихся в Низовой корпус и обратно лиц, переселять на Терек донских казаков, поставлять припасы для армии и материалы для главной военной базы России на Кавказе — крепости Святого Креста, возведение которой началось летом 1723 года на реке Сулак в Дагестане.
Строители крепости сразу же натолкнулись на трудности: пригодный лес находился за 10—20 верст и его доставка требовала немалых усилий. Большую же часть бревен и досок приходилось с большими трудностями и перебоями доставлять морем из Астрахани. Недовольный комендант Г.И. Кропотов доложил царю, что до зимы крепость поставить не удастся по причине нехватки стройматериалов для возведения плотины на Сулаке{140}. Командующий, в свою очередь, жаловался на задержки в доставке пополнения и провианта. Сенат признал, что мука хранилась в Астрахани на складах «в небрежности» и оттого кули частью были «разбиты» и «потопли»{141}.
Волынский получил грозное царское письмо: «Господин губернатор. Велено вам поставить лес на плотину рано, а вы и в июле не поставили, чему удивляемся, как будешь отвечать». Кроме того, Петр был недоволен задержкой отправки провианта, «а ежели сие дело за провиантом остановится, то будете отвечать»{142}. Губернатор оправдывался, отговариваясь кознями «неприятелей», и вновь прибегал к помощи Екатерины и Монса. О заступничестве императрицу просила и жена Волынского: «Прогневали мы Бога, что вижу гнев его императорского величества на мужа моего; того ради, всемилостивейшая государыня, припадая к ногам вашего величества, прошу со слезами: умилосердись, премилосердая государыня мать, покажи над нами, сирыми, божескую милость, не дай мне, бедной, безвременно умереть, понеже и кроме того всегда была больна, а ныне, видя себя в таком злом бедстве, и последнего живота лишаюсь…»
Волынские беспокоились не напрасно. 8 октября 1723 года в Астрахань прибыл отправленный Петром фендрик (прапорщик) Преображенского полка князь Федор Солнцев-Засекин с наказом допросить губернатора, «высылкою лесов для чего умедлено»{143}. Прапорщик вызвал к себе старшего по чину полковника-губернатора и учинил ему письменный допрос по предписанным государем «пунктам». Артемий Петрович подробно объяснял, что «бревенчатой лес» по его указанию заготавливал симбирский воевода еще зимой, но вывезти не успел из-за неожиданной оттепели. Плоты с пяти-шестисаженными «сваями» прибыли лишь в июле и в Астрахани перегружались на мелкие (ластовые) суда, которых тоже в нужном количестве не было. В итоге последние бревна для строительства крепости были доставлены в Астрахань только в октябре. Для погрузки леса пришлось задержать в городе полторы тысячи направлявшихся в Дагестан украинских казаков — на их отсутствие также жаловался генерал-майор Кропотов. 1130 украинцев вместе с тысячей рекрутов губернатор отправил морем в «островских лодках», но они были разбиты штормом, после чего Волынский посылал прибывавших «черкас» только посуху. Подряды же на поставку бревен и досок, заключенные в Астрахани, были выполнены вовремя. Столь же подробно отчитывался Волынский перед «спецпредставителем» императора в количестве и сроках отправки других «припасов»: копров, тележек, топоров, гвоздей, веревок, пил{144}. Выказанное царем недоверие обижало, и Артемий Петрович с горечью обращался к нему: «Всемилостивейшей государь! Я сумневаюся, что или письма господина Кропотова, или бывшая злоба господина Матюшкина подает на меня, раба вашего, сумнение или и самую перемену высокой милости вашего величества». Не имея за спиной поддержки влиятельных родственников, он больше всего боялся потерять с таким трудом обретенное расположение к нему государя — главную гарантию жизненного успеха: «Я с робяческих лет моих ничего так себе не желал и не искал, только чтоб получить милость вашего величества и показать себя верным рабом и добрым человеком, а для того не токмо бездельных трудов моих, но и живота моего никогда не жалел, как то самому Богу известно, и тако уже, государь, сподобился было и получить высокую вашего величества милость, которая истинно, государь, так мне надобна, что я самим Богом клянуся в том, что лучше Бог отними от меня живот мой, нежели бы мне лишиться милости вашего величества».
В этом обращении потомок старинного рода предстает не старомосковским аристократом, а «новым человеком» Петровской эпохи. Именно такие герои в повестях того времени бесстрашно воевали, делали головокружительную карьеру, обретали богатство, путешествовали по миру от «Гишпании» до Египта. Благородный, но бедный дворянин из «Гистории о некоем шляхетском сыне» в «горячности своего сердца» даже смел претендовать на взаимную любовь высокородной принцессы, «понеже изредкая красота ваша меня подобно магнит железо влечет»{145}, и в этой дерзости не было ничего невозможного — так «вышел в люди» и сам Волынский. Ведь теперь от личных усилий таких «кавалеров» в значительной степени зависело их поощрение в виде чинов или «деревень», не связанное, как прежде, с «породой» и полагавшимся земельным и денежным «окладом».
Закрепленные Табелью о рангах новые правила службы стимулировали активность подданных. С другой стороны, в жестко централизованной системе самодержавной монархии стремление повысить свой статус и упрочить материальное положение не могло не быть устремлено к ее вершине, откуда проистекали милости. Благосклонное внимание государя и при Петре I, и после него оставалось главным критерием и смыслом службы для получения нового чина и связанных с ним благ{146}. Возрастание зависимости статуса и благосостояния от воли монарха имело и оборотную сторону — создавало определенное «силовое поле» давления на самого самодержца. Прошедшие петровскую «школу» дворяне, осознавшие свои возможности, со временем не могли не задуматься о плюсах и минусах реформ и их последствиях и попытаться воздействовать на петровское «наследство». Но при отсутствии легальных форм донесения до престола корпоративных чаяний средством влияния на власть стали не конкретные учреждения и правовые нормы, а подковерная борьба придворных «партий».
В этой борьбе Волынскому еще предстояло вознестись, а затем пасть. Но пока он на себе почувствовал движение поворотного механизма колеса придворной «фортуны»: «И на что уже, государь, тогда мне бедная и жизнь моя, разве только одним неприятелям моим надо мною на поругание, понеже я не столько имею благодетелей, сколько, вступая в вашу милость, получил себе неприятелей, ибо многие по тех мест меня любили и хвалили, пока я в одних только в них искал, а у вашего величества еще ничто был; а ныне есть ли кому причина или нет, однако ж многие на меня нарекают и бранят, и ежели, государь, кому иным бранить нечем, то за Персию, не разсуждая того, что из оной какая впредь будет польза государству, и что естли бы не я, то бы и кроме меня, от других донесено то же было, а я бы остался потом бездельником; и хотя, государь, и с начала прибытия моего из Персии я видел, что мне того от них не миновать, однако ж положился на волю Божию, уповая на милость вашего величества».
Кажется, сам того не желая, Артемий Петрович сформулировал не слишком приятный вывод: он, как и другие царские слуги, был хорош, пока представлял ту информацию, которая соответствовала взглядам самого государя; в противном случае он рисковал впасть в немилость и «остался потом бездельником». Другое дело, что сам Волынский верил: война затеяна не напрасно и приобретенные провинции еще принесут стране немалые доходы (правда, его надежды так и не оправдались[5]). Пока же оставалось слезно просить: «…умилосердися надо мною, сирым, последним рабом своим, не лиши меня высокой своей милости и не извергни из числа добрых людей, не освидетельствовав дел моих, как я милостиво обнадежен. Я могу засвидетельствоваться Богом и совестными делами моими, что я не знаю, в чем пред вашим величеством погрешил, или бы что с нечистою совестию сделал, разве что учинил, то от самой простоты; буде же, государь, что на меня принесено вашему величеству, сотвори надо мною, рабом своим, Божескую милость — изволь мне милостиво объявить и спросить меня, что я как самому Богу, так и вашему величеству донесу самую истину Может быть, государь, о ком изволите мыслить, что правы, а они и виноватыми явятся. Всемилостивейший государь, ежели бы ваше величество совершенно ведал, какие я терплю от некоторых немилости и какие их ко мне нехристианские поступки, надеюся, иное бы мнение обо мне иметь изволил. Однако ж со всякою ли безделицею мне приходить и трудить ваше величество? Точию государь, Бог их рассудит, а я уже ни о чем, только одного милосердия прошу: для самого Бога сотвори, государь, надо мною милость и не остави меня такого сирого в милости своей, понеже кроме Бога и вашего величества, не имею никакой надежды»{147}.
Волынский просил рассмотреть все его действия и, кажется, был прав: его донесения осени 1723 года полны хозяйственных сводок об отправленных из Астрахани на Сулак бревнах, досках, гвоздях, топорах и прочих необходимых вещах. Для выдерживания темпов строительства не хватало кораблей и матросов; заготовка леса шла в Казани и Симбирске, и плоты запаздывали, а потому у губернатора порой просто не было потребных пятисаженных бревен. Без помощи государыни не обошлось: та сообщила губернатору, что на него действительно «сумнения были» по докладам армейских чинов, но доносители были признаны неправыми{148}. Артемий Петрович вновь «за показанные ко мне высокие паче достоинства моего милости» благодарил заступницу, неизменно выручавшую его из беды. Свидетельством благосклонности Екатерины к Волынскому является также тот факт, что цесаревна Анна Петровна «соизволила» заочно стать крестной матерью его дочери и своей тезки Анны{149}.
В этих условиях пост губернатора утратил для Артемия Петровича привлекательность, тем более что общение с «суровым народом» — вольными казаками, горцами и степняками-кочевниками — не слишком его радовало. В январе 1722 года он писал секретарю императрицы Вилиму Монсу: «Хотя б кто был и на том свете, столько ж стал бы сказывать, а я и Терек держу не лучше ада, около которого живут или звери, или черти».
У него не сложились отношения с генерал-лейтенантом Матюшкиным. В свите командующего имелись музыкант-гуслист и шут мичман Егор Мещерский, которого Волынский аттестовал: «…подлинно дурак и пьяница, и не только достоин быть мичманом, ни в квартирмейстерах не годится, и никакого дела придать ему невозможно, что самая правда; и которые морские офицеры его знают, по совести и чести своей в том засвидетельствовать могут, что он таков, как я доношу». Этот персонаж, взятый в дом генерала для «домашней забавы», однажды позволил себе публично «выбранить» губернатора и его семейство «такою пакостною бранью, какой никому вытерпеть нельзя, что, слыша, господин Матюшкин не токмо ему возбранил, но еще и смеялся». Не получив требуемой «сатисфакции», самолюбивый Артемий Петрович лично взялся за воспитание мичмана: в декабрьский день 1723 года, «приманя его, Мещерского, к себе, и за то, что он мною других веселил, сажал его на деревянную кобылу, понеже не мог такого поношения вытерпеть»{150}. Не удовольствовавшись этим, оскорбленный губернатор приказал своим людям бить Мещерского по щекам, вымазать ему лицо сажей, вывернуть наизнанку его кафтан, насильно напоил шута за ужином и отправил под караул на ночь, а поутру опять поместил его на «кобылу» и в довершение всего посадил голым задом на лед{151}.
Губернатор защищал свою честь привычными для той эпохи средствами. Вот как, например, сибирский вице-губернатор Алексей Жолобов вспоминал о своих встречах с Эрнстом Бироном — будущим фаворитом императрицы Анны Иоанновны, в то время служившим ее камергером: «Говорил я еще о графе Бироне, как он Божиею милостию и ее императорского величества взыскан. Такова-то милость Божия! <…> В Риге при покойном генерале Репнине (генерал-губернаторе Лифляндии в 1719— 1724 и 1725—1726 годах. — И. К.), будучи на ассамблее, стал оный Бирон из-под меня стул брать, а я, пьяный, толкнул его в шею, и он сунулся в стену»{152}. А генералы и чиновники империи не по-джентльменски выясняли отношения прямо во дворце: «Всемилостивейшая государыня! В день коронации вашего императорского величества… пришед… Некий и толкнул его, Квашнина-Самарина, больно, отчего он, Квашнин-Самарин, упал и парик с головы сронил и стал ему, Пекину, говорить: “для чего де ты так толкаешь, этак де генералы-поручики не делают”. И без меня в тот час оный Чекин убил (побил. — И. К.) дворянина Айгустова, с которым у него, Чекина, в Вотчиной коллегии дело… а после того… пошед к князь Ивану Юрьевичу и стал ему на меня жаловаться и бранил меня у него… матерны и другими срамными словами».
Как и многим современникам, Волынскому не пришло бы в голову подать в отставку или вызвать ничтожного обидчика на дуэль. О «чести» же природного Рюриковича Мещерского говорить и вовсе не приходится — никто, включая самого генерала Матюшкина, и не подумал его защищать. Но за мичмана вступилось морское ведомство, и губернатор в полном сознании своей правоты объявил Адмиралтейств-коллегий: он поступил с Мещерским не как с дворянином и унтер-офицером, а «как с пьяницей и дракуном, которого де на деревянную кобылу и на льдину сажал, понеже де он, оставя свое доброе звание, пошел добровольно в дураки; для того и он тако учинил над ним, как над дураком и непотребным человеком»{153}.
В конце 1723 года Петр I вызвал Волынского и Матюшкина в Москву «для определения дел будущей компании». 7 мая 1724 года в Первопрестольной состоялась коронация Екатерины, которая, таким образом, становилась в глазах общества наследницей престола. Едва ли император обольщался насчет государственных способностей супруги. Скорее он решил предоставить ей, независимо от брака, особый титул и право на престол в расчете на поддержку своего ближайшего окружения. Очевидцы даже заметили слезы на лице Петра в момент возложения короны на голову супруги. Она же в порыве чувств «хотела как бы поцеловать его ноги, но он с ласковою улыбкою тотчас же поднял ее». Вечером двор отмечал событие торжественным обедом в Грановитой палате; для народа в Кремле был устроен праздник с жареными быками и фонтанами белого и красного вина, подводившегося по трубам с колокольни Ивана Великого. Волынский как генерал-адъютант принимал участие в коронационных торжествах и во время парадного обеда стоял «за креслами его императорского величества» и прислуживал за столом государя вместе со своим шурином Нарышкиным.
Праздник закончился, и Артемий Петрович рискнул перед отъездом на юг подать Петру письмо, объяснявшее «как правость мою, так и некоторую продерзость». Он просил «высмотреть присланные от меня ведомости об лесу и об людех, которые в прошлом году прислал я в кабинет». Не удержался губернатор и от разоблачений проступков его недоброжелателей: у Кропотова на строительстве крепости Святого Креста множество «непорядочных дел», а «злоба генерала лейтенанта господина Матюшкина» объясняется его нерешительностью — командующий медлил «без указа» послать весной 1723 года подкрепление в Гилян (на этом настоял губернатор) и «время немалое пропустил к походу» на Баку, за что получил от Петра выговоры по донесениям того же Волынского, чьи курьеры успевали известить императора раньше, чем прибывали генеральские доклады. Каялся же Артемий Петрович только в избиении мичмана Мещерского: не смог стерпеть «поносную брань» от человека, которого в доме Матюшкина «публично держали за дурака и поили ево и вино на голову лили и зажигали, и марывали ево сажею»{154}.
Еще одно послание, в котором «правду и вину мою написал», Волынский через Монса передал императрице. Однако, как он ни старался, царское неудовольствие всё же давало о себе знать — Петр очень переживал неудачи, постигшие Россию в ее новых владениях. На губернатора был наложен денежный штраф за выдачу денег подчиненным без разрешения Штатсконторы. (Тут Артемий Петрович хотя и согрешил, но считал свои действия оправданными: его чиновники не получали жалованья три года; себе же лично он взял только 300 четвертей ржи — опять же из полагавшегося ему в качестве губернатора, но не выданного «хлебного жалованья». Оклад за 1719 год после многочисленных просьб Сенат повелел выдать Волынскому только в ноябре 1720 года в размере 750 рублей и 475 четвертей хлеба{155}.) Он горько сетовал Монсу на то, что государь «ни правды, ни вины моей знать не изволит, кроме лесу и людей»{156}. Но и обойтись без Волынского на ответственном рубеже империи Петр не мог. Артемия Петровича ожидало новое задание — выбрать нового хана калмыков.
«Конгресс на речке Сапуновке»
Формально состоявший в «подданстве» России калмыцкий народ жил по своим законам и кочевал по обоим берегам Волги на территории, почти не контролируемой российскими войсками. Имперская администрация должна была решать трудную задачу: обеспечить порядок на степной границе и не допустить конфликтов калмыков с другими оседлыми и кочевыми соседями, но и не позволить, чтобы недовольная калмыцкая знать откочевала в крымские или иные владения.
Стоявший много лет во главе калмыков хан Аюка до поры умел сохранять относительную независимость и держал в подчинении многочисленных детей и внуков. Астраханскому губернатору приходилось постоянно сноситься с калмыцкими кочевьями и узнавать последние новости в степи. Так, летом 1723 года он информировал Военную коллегию о набеге «киргиз казаков» (казахов. — И. К.) и подозрительном обмене посланцами между Аюкой и джунгарским великим ханом{157}.
Хан состарился, его старший сын и наследник Чакдорджаб умер, и в орде назревала борьба за престол. Осенью 1723 года Волынский вмешался в спор сыновей покойного за его владения на стороне старшего, Дасанга, вопреки воле самого хана, желавшего передать власть в орде сыну Церен-Дондуку. Под видом переговоров старый хан разжег страсти среди своих потомков и, докладывал Волынский, «так их помирил, что один другого ищут смерти, и уже оторвал от Досанга шестерых законных его братьев». Меньше чем с четырьмя сотнями солдат и казаков губернатор примчался на реку Берекет в 50 верстах от Астрахани, переправился на шлюпке как раз во время стычки, когда ханские сторонники напали на Дасанга, и прекратил «огненный и лучной бой».
«В этой игрушке, — писал Артемий Петрович Головкину, — думаю, что с обоих сторон пропало около ста человек, а раненых и больше». Волынский с горсткой людей столкнулся с выстроенными к бою калмыками. Дондук-Омбо просил его не заступаться за Дасанга, «в противном случае будет он с ним, губернатором, поступать по-неприятельски». В итоге этого столкновения Дасанг потерял около шести тысяч кибиток своих подданных с лошадьми и скотом. Тем не менее Аюка обвинил Волынского в том, что «держит партию Досангову и взял с него себе сто лошадей». Губернатор, в принципе отнюдь не отвергавший подарков, был возмущен: разве стал бы он брать взятки таким образом? «…ежели правда, изволил бы его императорское величество приказать меня самого на сто частей рассечь; а не только брать, истинно о том и не слыхал, только в прошлом году Досанг прислал ко мне две лошади, и то истинно такие, что обе не стоят больше 10 рублев, из которых одна и теперь жива, на которой воду возят». Более того, он сам тайно послал к Дасангу пороху и свинца, чтобы «между ханом и Досангом баланс был, а ежели тот или другой из них придет в силу, тогда трудно иного будет по смерти Аюкиной учинить ханом»{158}. Губернатор решил воспользоваться расколом в ханской семье для обращения в православие кого-либо «из Чапдержаповых детей» и выслал одного из братьев Дасанга, Баксадай-Доржи, в Петербург; тот стал крестником самого императора и православным князем Петром Тайшиным.
В феврале 1724 года старый Аюка умер. Волынский еще в январе двумя годами ранее предлагал решить вопрос о наследстве в пользу более слабого претендента, представителя боковой ветви ханского дома нойона Дорджи Назарова{159}. Сенат утвердил эту кандидатуру. Вызванному на заседание Волынскому сенаторы напомнили о недопустимости избрания нового хана «без воли его величества». Однако провести это решение в жизнь оказалось трудно. Из общества придворных и дипломатов Волынский отправился в степь, где ему пришлось вести долгие переговоры в юртах кочевников: убеждать, угрожать или «ласкать» несговорчивых и чуждых европейским нравам «партнеров»; раздавать им присланные из столицы меха и другие товары. Надо было следовать непривычным церемониям, угощаться местными яствами — густым бараньим супом с луком и перцем и кумысом, наблюдать «выходящие из пределов благопристойности» пляски, терпеть ночной холод и дневную жару, «…среди дня нет возможности отдохнуть или насладиться прохладой. Самый ветер в степях горячий, воздух как бы нагретый в печи… Бывало землю в кибитке ульют водою, расстелют ковер посреди оной, и, взявши подушки, ляжешь, и только оным способом несколько освежаешь себя от дневного зноя», — вспоминал свою жизнь в Калмыкии 100 лет спустя российский священник-миссионер{160}.
Из-под Саратова Волынский в конце июля писал Остерману: «Дело мое зело непорядочно идет, и по се время нималого основания не могу сделать, понеже калмыки все в разноте и великая ныне между ними конфузия, так что сами не знают, что делают; и что день, то новое, но ни на чем утвердиться не возможно, и верить никому нельзя, кроме главного их Шахур-ламы». Губернатор хотел получить в свое распоряжение несколько дополнительных батальонов, «понеже такую дикую бестию, кроме страха и силы, ничем успокоить невозможно»: «Сколько дел, государь мой, я не имел, но такого бешеного еще не видал, отчего в великой печали; покорно прошу вас, государя моего, милостиво меня не оставить в такой моей напасти по твоему обещанию, как я по древней вашей, государя моего, дружбе вашею ко мне милостию обнадежен».
Напрасно в августе—сентябре 1724 года в степи под Саратовом губернатор пировал с неумеренным употреблением «варенова и жаренова мяса в чашах, тут же поставлены были бадьи с вином, пивом и с медом» — на проходивших в «особливой кибитке» переговорах он так и не смог уговорить претендента. Дорджи Назаров, против которого выступили влиятельная вдова хана Дарма-Бала и ее дети, решив не рисковать, отказался от ханской власти. В качестве утешительного подарка он прислал губернатору 415 правых ушей, отрезанных его воинами у врагов — каракалпаков и казахов{161}.
Времени для консультаций с начальством у губернатора не было. Но разговоры с главой буддийского духовенства Калмыкии Шакур-ламой убедили его, что выбор возможен только из числа прямых потомков Аюки. Воинственные калмыцкие «принцы» доверия не внушали, тем более что вдова хана и ее внук Дондук-Омбо предполагали откочевать с подвластных России территорий на Кубань. «Во всех владельцах худая надежда, только главный их духовный Шакур-лама являет великую верность и усердие к его императорскому величеству», — писал Волынский в Петербург. Именно по совету Шакур-ламы Волынский посчитал необходимым поставить наместником Церен-Дондука, наиболее удобного и недовольного матерью. Лама обещал:
«…он его, Церен-Дондука, от всяких противностей воздерживать будет и приводить к тому, чтобы он его императорскому величеству верил»{162}. О принятом решении Артемий Петрович доложил в столицу: «Я ныне принужден объявлять наместничество впредь до указу Аюкину сыну Черен-Дундуку, понеже необходимая нужда того требует для того, что Дундук-Омбо всячески трудится, чтоб никому ханом не быть, и ханскую жену так наострил, что она не только иного, ни сына своего допустить не хочет, причитая себе и то за обиду, и если наместничеством Черен-Дундука от него Дундук-Омбы не оторвать, то от них и впредь, кроме противности, никакой пользы надеяться невозможно. Хотя знатные калмыки доброжелательные равно почитают его и Досанга, что и самая правда, понеже они оба и глупы и пьяны, а Черен-Дундук видится еще поглупее, он же и с епилепсиею; однако улусами своими мало не вдвое сильнее Досанга, а к тому ж много при нем и людей умных и добрых, в том числе и Шахур-лама, который к его императорскому величеству является зело усерден и многие в том прямые пробы показал». Объясняя свой выбор, Волынский писал Остерману: «Покорно вас прошу по милости своей меня охранить, что я не часто пишу, понеже опасен, не разведав подлинно, доносить, а вскоре разведать и узнать ложь с правдою зело трудно, понеже сия бестия бродят в рознице все. И так не хочется в дураках остаться; да то б еще и ничто, только боюсь, чтоб… не подумали, что я стращаю; а ныне я всякого дурака счастливее почитаю, понеже они легче могут ответ дать. Также покорно прошу и в том меня охранить, что я намерен объявить наместничество ханскому сыну Черен-Дундуку, если того крайняя нужда требовать будет, а, чаю, без того и обойтиться нельзя; понеже и без того над здешними власть ханская худая будет; а еще либо и то случится, что одним другого при случае и потравить можно»{163}.
Шестого сентября 1724 года губернатор с двумя ротами драгун прибыл в ханскую ставку в 40 верстах от Саратова и открыл «конгресс на речке Сапуновке». На следующий день, не желая предоставлять вопрос о наследстве на усмотрение ханши и ее советников (собравшийся в это же время совет нойонов постановил повиноваться вдове Акжи), он объявил свое решение. При этом наследник получал не ханский титул, а только звание «наместника калмыцкого хана» и должен был дать личную присягу императору. Дарма-Бала, рассчитывавшая на власть для себя и любимого внука Дондук-Омбо, потребовала предъявить грамоту о назначении Церен-Дондука. Артемий Петрович вынужден был собственноручно сочинить императорский указ и показать его на следующий день калмыцкой знати. В его подлинность поверили не все, и губернатору пришлось пустить в ход свое красноречие — и в конце концов он остался победителем. Волынскому удалось уговорить собравшихся нойонов не претендовать возврат в их подчинение ушедших на Кубань ногайцев, чтобы не допустить конфликта с Крымским ханством и Турцией; в качестве уступки он разрешил им иметь связи с соседними народами и государствами.
Церен-Дондук попытался было уклониться от принесения присяги, но Волынский настоял, пообещав: «… когда его величество изволит увидеть твою верность и службы, тогда в высокой его милости оставлен не будешь». Дасанг помирился с родственниками и на радостях пил вместе с бывшим конкурентом целые сутки. Новый глава калмыков был, кажется, доволен, но мать стала упрекать его за то, что он помирился с Дасангом и слушается российского губернатора; расплакалась, разодрала себе лицо и, выдрав несколько волос, бросила их в лицо сыну, говоря, что за эти выдранные волосы после смерти взыщется на нем.
Официальное назначение нового правителя состоялось 19 сентября 1724 года. Дарма-Бала и Дондук-Омбо на церемонии отсутствовали, хотя позднее и подписали присягу. Калмыцкие вожди обещали служить императору и его наследникам, «удерживать от противностей» своих подданных, слушаться наместника, не иметь связей с «неприятелями его императорского величества», преследовать воровство и грабежи. «Сия моя присяга, полагаю на чело мое Шакьямуни бурхана (буддийскую статуэтку. — И. К.) и прилагаю мою печать. И клал ему бурхана Шакур-лама на голову и вместо его подписал Шакур-лама, для того, что он Черен-Дондук писать не умеет» — так описал эту процедуру сам Артемий Петрович. Губернатор таким манером вышел из трудной ситуации, хотя в октябре в ответ на свои отправленные в начале сентября до-ношения получил указ Сената, по-прежнему запрещавший назначение Церен-Дондука наместником. Только 11 ноября пришел новый указ, санкционировавший принятое Волынским решение и предписывавший взять в «аманаты» (заложники. — И. К.) кого-либо из братьев Церен-Дондука.
Сенаторы были недовольны нарушением императорской воли, но губернатор оправдывал свои действия тем, что поставил Церен-Дондука лишь временно, до назначения нового хана, давая возможность Сенату и Коллегии иностранных дел оценить лояльность наместника либо подобрать новую кандидатуру на ханский престол. В итоге в феврале 1725 года Петербург утвердил Церен-Дондука в должности наместника{164}. В данном случае Волынский, нарушая букву инструкции, сохранял ее дух, направленный на постепенное ограничение полномочий калмыцкого правителя. В то же время, избрав Церен-Дондука, он последовательно стремился создать «баланс» в лице честолюбивого и обиженного старшими родственниками Дасанга.
Опытный администратор, Артемий Петрович был осторожен и не стремился принуждением обращать в христианство калмыцкую знать под угрозой лишения ее «улусов»: «Хотя буду трудиться и склонять его, но если он (Дасанг. — И. К.) не захочет, то никакими мерами нельзя его улусов удержать». Петр, признав правоту губернатора, приказал «к крещению же склонять… ласкою, а не принуждением».
На праздничных пирах калмыцкие «владельцы» и их свита сидели с губернатором за одним столом, где подавались жареные бараны и «в чашках вареное мясо и бадьи с вином и медом», но мириться не спешили. Волынский настоял на возвращении Дасангу части захваченных у него кибиток, но последний вместе с братом Нитар-Доржи стал силой захватывать у родственников свое имущество и людей «во отмщение прежней их обиды». Петр Тайшин видел будущим ханом себя и грозил «разорить» родственников, потому что «по крещении его дан ему такой императорский указ, чтоб изо всех волжских городов и с Дону войсками, сколько когда он потребует, чинить ему, Тайшину, вспоможение». После такого заявления братья дружно напали на императорского крестника, и несостоявшийся претендент, бросив присланную из Петербурга походную церковь, бежал в Царицын под защиту губернатора. Теперь Волынский уже опасался амбиций Дасанга и докладывал в Коллегию иностранных дел, что старший внук покойного Аюки «таким миром, который бы на обе стороны был без обиды, никогда доволен не будет и что больше стало в руках ево силы, то он горазда хуже и спесивее стал быть».
Артемий Петрович вновь вынужден был отправиться в степь — воинственный Нитар-Доржи захватил посланного к нему чиновника Василия Бакунина, «бил его палками, метался на него с кинжалом и, выведя его из кибитки, хотел его из ружья застрелить»{165}. Внук Аюки даже грозился захватить в плен самого Волынского за то, что он не дает «воровать» вольным калмыкам — ведь «то их лутчая забава и пожиток, и что уже они в том воспитаны». Располагая лишь конвоем в 60 драгун, губернатор двинулся вверх по Волге на лодках; в них и ночевали, не рискуя оставаться на берегу, и лишь изредка ехали посуху, с заряженными ружьями. В укрепленной слободе Дубовке в 50 верстах от Царицына Волынский остановился и вызвал на помощь донских и украинских казаков из следовавшего на Кавказ корпуса. Бой у слободы закончился разгромом мятежного нойона: «…калмык его побито около ста человек да живых поймано 61 человек, а сам Нитар-Доржи ушел в улусы Дасанговы»{166}.
Волынский послал Церен-Дондуку приказ отдать Дасанга под суд, но старался не уничтожить одного из претендентов на трон, а «искать ту сторону, удержать в которой наивящая польза ко интересам российским будет». В это время он получил указ (от 26 июля 1725 года) о своем назначении губернатором в Казань, но до самого отъезда продолжал заниматься калмыцкими усобицами. Он написал Дасангу, чтобы тот поймал брата и передал губернатору для «содержания под честным арестом з довольною пищею» до полного его раскаяния. Однако 2 августа пришло известие, что Нитар-Доржи «намерен бежать на Кубань и для того готовит лошадей и сушит мясо, и днем бывает у себя в доме, а на ночь выезжает в пустые поля, опасаясь поимки».
Тогда Волынский решил использовать иные средства. 23 августа у него состоялся разговор с главным советником Дасанга, зайсангом (главой рода) Билюткой, который предлагал поймать Нитар-Доржи, «или убить или окормить», то есть отравить. Губернатор ответил: «…ежели его, Нитара, поймают жива, обещает ему, Билютке, дать пятьсот рублев, а ежели убьет, то триста рублев». Дело закончилось тем, что верные Дасангу люди «удавили» Нитар-Доржи тетивой от лука и отправили его тело Волынскому{167}, а сам Дасанг явился с раскаянием и перешел со своим улусом под защиту русских войск за Дон. В послании императрице Екатерине Артемий Петрович отдал должное своему противнику: «Отважной зело человек был, которого единогласно все калмыки первым у себя воином почитали».
Разделение калмыцких улусов на два лагеря устраивало губернатора, поскольку ослабляло власть наместника. «Изволил запотребно рассуждать, — доносил он в Коллегию иностранных дел 9 февраля 1726 года, — чтоб калмыцкий народ разделен был надвое, так же и ханская власть чтоб была не в одних ханских руках»{168}. Однако при таком раскладе в орде неизбежной оказалась борьба различных группировок, которая продолжалась еще несколько лет.
Глава вторая. ПУТЬ НАВЕРХ
Это природа чисто русская, это русский барин, русский вельможа старых времен!
В.Г. БелинскийОт Казани до Петербурга и обратно
В ночь с 27 на 28 января 1725 года скончался Петр I — правитель, выдвинувший Артемия Петровича на государственное поприще. После ожесточенных споров во дворце победила «партия» Меншикова и Толстого. Они со своими приверженцами сумели сорвать достигнутую было договоренность о том, что наследником станет законный в глазах большинства населения императорский внук, сын царевича Алексея, при регентше-царице Екатерине и под контролем высшего государственного органа — Сената.
Петр Андреевич Толстой доказывал необходимость сохранения в империи самодержавия Екатерины, поскольку «все требуемые качества соединены в императрице: она приобрела искусство царствовать от своего супруга, который поверял ей самые важные тайны; она неоспоримо доказала свое героическое мужество, свое великодушие и свою любовь к народу». Его противники (президент Юстиц-коллегии П.М. Апраксин, сенаторы Д.М. Голицын и И.А. Мусин-Пушкин, фельдмаршал и президент Военной коллегии Н.И. Репнин, дипломат В.Л. Долгоруков, канцлер Г.И. Головкин) отстаивали преимущество законных учреждений и традиций над «силой персон», тогда как для Толстого и Меншикова личность самодержца явно была выше любого закона.
А что же Екатерина? Оказавшись в центре борьбы за власть, она без колебаний встала на сторону старых и близких друзей. Пришлось выйти из образа убитой горем вдовы, которую с трудом оторвали от тела мужа: в критический момент царица раздавала офицерам монеты и обещала гвардии выплатить жалованье из собственных средств. Для них были «приготовлены векселя, драгоценные вещи и деньги»; в итоге воцарение обошлось императрице в относительно небольшую сумму — примерно 30 тысяч рублей.
Новая политическая сила, петровская гвардия, решила спор о престолонаследии. Ее подполковник Бутурлин и майор Ушаков провозгласили право Екатерины на власть без всякой риторики: «Гвардия желает видеть на престоле Екатерину и… она готова убить каждого, не одобряющего это решение». Сделать выбор для них, как и для многих других гвардейских «выдвиженцев», было нетрудно — для них, скорее всего, даже проблемы выбора не существовало, преимущество «полковницы» было очевидно. Судьба трона решалась еще при жизни императора, умиравшего в центральном зале на втором этаже своего Зимнего дворца. У него еще было время, чтобы объявить свою волю, — но уже не было возможности. Меншиков и его сторонники изолировали Петра, и никакое его распоряжение в ущерб Екатерине не могло иметь успеха.
Первый манифест нового царствования извещал о вступлении на престол Екатерины по воле самого Петра, «понеже в 1724 году удостоил короною и помазанием любезнейшую свою супругу и великую государыню нашу императрицу… за ее к российскому государству мужественные труды». Но в созданной трудом всей жизни реформатора системе не оказалось ни четких правовых норм, ни достаточно авторитетных учреждений, чтобы обеспечить законную преемственность власти; на первый план выходило личное начало, пресловутая «сила персон», доказательством которой стало пребывание «подлородной чужеземки» на российском троне. В России началась «эпоха дворцовых переворотов».
Обретение власти не сделало домохозяйку государственной деятельницей, несмотря на внешний блеск и торжество. Новая правительница могла поддержать разговор на немецком языке, усвоила внешние повадки сановного величия и некоторые (весьма скромные) представления о стоявших перед страной проблемах, но всерьез руководить государственными делами была просто не в состоянии.
Отбыв положенный траур, стареющая императрица стремилась наверстать упущенное время с помощью фаворитов, нарядов, праздников и прочих увеселений, не всегда отличавшихся изысканностью вкуса. Саксонский посол Иоганн Лефорт с некоторым удивлением передавал свои петербургские впечатления: «Я рискую прослыть лгуном, когда описываю образ жизни русского двора. Кто бы мог подумать, что он целую ночь проводит в ужасном пьянстве и расходится, это уж самое раннее, в пять или семь часов утра».
Придворные «журналы» за 1725—1726 годы подтверждают «полуночный» образ жизни императрицы. По петровской традиции она еще посещала верфи, госпитали и выезжала на пожары, но большую часть «рабочего времени» посвящала прогулкам «в огороде в летнем дому», в других резиденциях и по улицам столицы и регулярным застольным «забавам» и «трактованиям».
Екатерина обещала «дела, зачатые трудами императора, с помощью Божией совершить» и по мере возможностей следовала этой программе. Она утвердила уже рассмотренные Петром штаты государственных учреждений, отправила в далекое путешествие экспедицию капитан-командора Витуса Беринга, дала аудиенцию первым российским академикам. В новой столице продолжалось мощение улиц, а на «Першпективной дороге» (будущем Невском проспекте) были поставлены первые скамейки для отдыха прохожих. Новые указы запрещали даже отставным дворянам под страхом штрафа и битья батогами ходить «с бородами и в старинном платье» и предписывали бороду «подстригать ножницами до плоти в каждую неделю по дважды». На русскую службу по-прежнему охотно принимались иностранцы. И всё же личная инициатива Екатерины нередко представляла собой не более чем карикатуру на замыслы ее супруга. Знаменитые ассамблеи из средства обучения светскому обхождению и места делового общения превращались в разгульные вечеринки для узкого круга придворных; выдвижение талантливых и умелых помощников — в пожалования новым фаворитам и крестьянской родне императрицы: ее братья Карл и Фридрих Скавронские стали в 1727 году графами Российской империи.
Для решения важнейших государственных проблем в 1726 году при особе императрицы был образован Верховный тайный совет; в него вошли А.Д. Меншиков, П.А. Толстой, Г.И. Головкин, Ф.М. Апраксин, А.И. Остерман и представитель «оппозиции» князь Д.М. Голицын. В том же году Екатерина несколько раз посетила его заседания, но с декабря и до конца царствования больше там не появлялась — появился указ от 4 августа 1726 года о действительности распоряжений за подписями всех членов совета, который был необходим для нормальной работы государственной машины.
Екатерина контролировала его через Императорский кабинет — личную канцелярию во главе с опытным бюрократом А.В. Макаровым. Кабинет получал с мест необходимую информацию от послов, губернаторов и военного командования и общался с советом от имени Екатерины. Оттуда же выходили ее именные указы, касавшиеся прежде всего пожалований чинами и «деревнями», увольнений и назначений; в этих случаях Екатерина иногда отстаивала свое право поступать вопреки мнению министров.
Остававшийся на краю империи Волынский только с оказией мог узнавать о происходивших в столице переменах. Они его не слишком радовали. Императрица ему всегда благоволила, а теперь он оказался вдали от двора, царских милостей и большой политики. И это в решающий момент, когда началась «великая перемена чинам» военным и штатским — в иной день Екатерина подписывала до сотни новых патентов! Многие знакомые губернатора стали большими людьми: Макаров — тайным советником, Остерман — действительным тайным советником и вице-канцлером; он же оставался полковником в степной глуши и с риском для жизни выполнял решения столичных министров.
Надежда, однако, оставалась. Если к императрице не пробиться, то можно напомнить о себе через ее дочь Елизавету, которая к тому же подписывала за неграмотную мать государственные бумаги. Кажется, 35-летний мужественный и бойкий кавалер успел запомниться принцессе — и в ноябре 1724 года Артемий Петрович уже благодарит ее из Царицына за присланные с оказией ленты «бабенке моей с девчонкою» и просит шестнадцатилетнюю барышню о «материнской милости», как саму императрицу. Другое его послание написано просто с блеском:
«Всемилостивейшая государыня цесаревна Елисавета Петровна. Ваше высочество пространным моим рабским утруждать не смею, токмо всеподданнейше прошу, о чем вашему высочеству подноситель сего капитан Лопухин будет доносить, милостивейше выслушать и показать над нами бедными божескую милость милостивейшим предстательством к ея императорскому величеству всемилостивейшей государыне: понеже уже, государыня, пришла на меня конечная гибель, и хотя бы по светскому разсуждению и надлежало выбрать себе из двух одно зло, которое полегче (когда обоих миновать нельзя), но токмо не ведаю, которое зло мое в Сенате меньше поставят; то ли, что я, видев то, из чего будет не токмо повреждение интересу, но и пакости государству, а я все то оставлю (да поеду в Астрахань, где важнаго за мною ни одного дела нет, и ничто и без меня оставлено не будет), или то, чтоб я преслушал указ и в Астрахань не поехал.
И тако разсуждая, по истине, государыня, я уже без ума стал, а о протчих моих бедствах уже и упоминать не смею, дабы тем не утрудить. Того ради, всемилостивейшая государыня, слезно прошу, умилосердися над нами бедными, напамятуй ко мне, последнему рабу вашему, высокую свою милость, чтоб чрез милостивейшее вашего высочества предстательство я хотя на время из здешней пеклы мог свободиться, которую милость так буду почитать, как бы ваше высочество из ссылки свободить или из варварскаго полону изволите меня, как самого невольника, выкупить, за что я со всею моею злосчастною и сирою фамилиею до смерти моей будем молить Всевышняго. Всемилостивейшая государыня вашего высочества всеподданнейший и нижайший раб
Артемий Волынский.
Из Царицына, июня 5 дни, 1725»{169}.
Начав с тяжелого выбора во имя долга — бороться ли с «повреждением интереса» государства или исполнять приказ, — автор заканчивает послание просьбой освободить его от службы, которая оказывается хуже ссылки и «варварского полону».
Должно быть, принцесса сочувственно относилась к жалобам достойного кавалера на «отлучение» его от придворных радостей, из-за чего его жизнь «не лучше простого поселянина», а даже хуже, поскольку ей угрожает опасность со стороны «варваров»-калмыков: «…неправильную и клятвопреступную войну сделали и ту сторону, с которою примирилися, обидели, и когда увидели, что им в том не поманил; также они хотели брата своего роднаго, который в прошлом году крестился, Петр Тайшин, убить до смерти, отчего он от них ушел ко мне, и что я его назад им не отдал, за то меня самого хотели поймать и, взяв меня с собою, бежать к Кубани со всеми улусами, и что там меня держать у себя скованова. А ежели б я стал обороняться, то и до смерти хотели убить…» Войдя в образ страстотерпца за интересы отечества, герой восклицает: «…уже бы лучше смерть, нежели в такия б тиранския руки с животом отдаться, где б, чаю, страдальческим мучением замучили»{170}.
Доживи Волынский до царствования дочери Петра, он бы наверняка занял достойное место при ее дворе. Пока же он только смог добиться освобождения от «пеклы», но не возвращения в столицу. За что только не приходилось отвечать губернатору! Летом 1725 года Артемий Петрович послал императрице пространное донесение о «винной продаже», из которого явствует, что он должен был обеспечить действующую в прикаспийских «ново-завоеванных провинциях» армию привычным для служивых «хлебным вином». Для этого он отправлял хмельной продукт за море, а в крепости Святого Креста организовал стационарный кабак. Но вот беда — Сенат разрешил «черкасам» (украинским казакам. — И. К.) в качестве компенсации за тяжелую походную службу свободно торговать привезенным с родины напитком, и они отбили покупателей у казенного заведения — кто же будет брать вино по пять или шесть рублей за ведро, когда можно взять по четыре? А тут еще давний недруг генерал-майор Кропотов, как «нарочно мне досаждая», купил для своих драгун 200 ведер на стороне. В результате «винная государственная продажа остановилась», а за убытки должен был отвечать губернатор.
Из этого же письма выясняется, что Артемий Петрович был своего рода дистрибьютором государыни, продавая в кабаках вино с ее вотчинных заводов. Однако и тут вышла незадача: ушлый приказчик Алексей Брынцов доставил в Астрахань шесть тысяч ведер, но с отчетом о стоимости вина и накладных расходах хитрил. «И я, — сетовал Волынский, — у него по се время подлинной ведомости не могу получить, по чему оное вино на месте стало, также и до Царицына с провозом. А как слышу, государыня, из слов его, чаю, половина, конечно, если не больше, покрадено: сказывает, будто оное вино на месте стало по 40 копеек ведро, чего на Украине никогда не бывало, да провозу почитает на ведро до сих мест около полуполтины; и, по-видимому, государыня, мне кажется, он достаточный плут, к тому ж и пьяница, и приехал сюда с метрессою, и слышу, что великие чудеса по дороге сделал и тирански без всякой вины бивал многих, также и подрядчиков, которые везли его на своем судне». Другой же царский «управитель» из саратовского имения, казак Ламехов, «истинно, государыня, мот, и пьяница, и такие диковинки делывал, что со братия с пьяными бурлаками войною прихаживал к Саратову и табуны отгонял; какому бы, государыня, от них в вотчинах вашего величества доброму смотрению быть?». Впрочем, служба есть служба: к посланию Волынский прилагал отчет о проданном вине и обещал шесть тысяч ведер, привезенные из царских вотчин, продать, а «что будет от продажи прибыли, о том буду всеподданнейше впредь доносить и, выправляясь, пришлю обстоятельную ведомость»{171}.
Отправляясь из Астрахани к новому месту службы, Волынский счел нужным перевести в Казань лошадей с астраханского дворцового конного завода и распорядился отправить в Саратов 283 пуда шерсти «с казенных покупных верблюдов» — по его мнению, она вполне годилась для московских «фабрик» или на продажу английским купцам.
Екатерина о Волынском не забыла. В июле 1725 года она списала с него наложенный Петром штраф и, самое главное, отозвала из Астрахани — но при этом оставила его провинциальным администратором и приказала по-прежнему ведать «калмыцкими делами». Волынский благодарил: «Получил я указ из Сената о том, что ваше императорское величество повелели положенный безвинно на меня штраф 12 000 рублев снять, а паче соизволили свободить из астраханской пеклы, и что я между здешних варвар волочуся на моих собственных проторях, за те мои убытки наградить. Я, волочася здесь, ныне уже было и до того дошел, что калмыки за мое к ним бескорыстное благодеяние и за труды и самого меня убить или поймать хотели. Дабы уже всему их бешенству конец был, для того, может быть, пробуду здесь до октября месяца или и дал е. Когда уже ваше императорское величество соизволили калмыцким делам быть в моей дирекции в Казанской губернии, я в том предаюсь в волю вашего величества».
В Петербурге министры сочли новое назначение не слишком удачным. В сентябре генерал-прокурор Павел Ягужинский сообщил государыне о мнении Сената против совмещения двух обязанностей губернатора: или ему «ведать» калмыками из Саратова — или управлять обширной Казанской губернией. Однако в итоге императрица постановила сохранить за Волынским и губернаторство, и калмыцкие дела, придав ему в помощь вице-губернатора, а по вопросу о сношениях с калмыками подчинить его командующему полевой армией на юге фельдмаршалу М.М. Голицыну
«Первое» казанское губернаторство во многом было формальным, поскольку Волынский большую часть времени вынужден был посвящать калмыцким неурядицам. Назначенный им наместник не желал мириться с Дасангом. В сентябре Церен-Дондук после встречи с губернатором в степи приказал своим людям готовить на него нападение. Волынский срочно вызвал к двум ротам еще 400 драгун — всё, чем располагал; в ответ обиженный ханский сын прервал переговоры и откочевал. В начале следующего года Церен-Дондук объединился с Дондук-Омбо и напал на улусы своего противника; конфликт удалось погасить только в октябре, но и после этого к губернатору приходили пространные письма с обеих сторон с перечислением взаимных претензий.
Но его в то время больше волновали нарекания из Петербурга. Инициатива, как известно, наказуема: Волынский давеча в борьбе с Нитар-Доржи взял под свое командование казаков — а теперь должен был оправдываться перед Сенатом, почему сделал это «без указа» и тем замедлил движение войск в прикаспийские провинции{172}.
Не давало ему покоя и дело побитого прапорщика Мещерского. После начатого Военной коллегией расследования он жаловался императрице: «Я засвидетельствуюся Богом и делами моими, что я никакой вины моей не знаю; однако ж, как известно вашему императорскому величеству о многих персонах, ко мне немилостивых, от которых ныне такое наглое гонение терплю, что поистине сия печаль меня с света гонит и в такое отчаяние привела, что я не смею ни на какое дело отважиться, понеже, что ни делано, редкое проходило без взыскания, и я только в том живу, что непрестанно ответствую и за добрые дела так, как бы за злые; и тако, сколько ни было слабого ума моего, истинно все потерял и так сбит с пути, что уж и сам себе в своих делах не верю».
При всей несхожести ситуаций оба конфликта подчеркивают характерную особенность личности Артемия Петровича, в котором яркий темперамент сочетался с осознанием себя в качестве гражданина новой России и, по его собственным словам, «истинного сына отечества нашего». Люди этого склада формировались в огне сражений великой войны, были воодушевлены идеей обновления страны, неразрывно связанной с их личной судьбой. Близость к фигуре Петра как будто передавала им часть его волевого напора и харизмы и порождала ту самую «безумную отвагу» (опять слова самого Волынского), с какой Преображенский сержант Михаил о Шепотев в 1706 году с полусотней солдат на лодках атаковал под Выборгом шведский бот «Эсперн» с артиллерией, пятью офицерами и сотней человек команды — и ценой своей жизни победил. Отредактированная Петром I «Гистория свейской войны» сообщала: «На сем бою, наших от 48 человек осталось 18 живых и в том числе только четверо нера-ненных»; у противника «побито два капитана, два поручика, один прапорщик, да солдат, которых перечтено телами 73 человека, да живых взято в полон 23 человека солдат и трое женских персон»{173}.
Тем, кто не погибал, обретенный «кураж» обеспечивал карьеру, возносившую бедных дворян к вершинам государственной службы. В 15 лет солдат, в 22 года — ротмистр и курьер для особых поручений государя, в 26 — подполковник и посол, в 30 — губернатор — всё это ступени жизненного пути самого Волынского, и что могло помешать его дальнейшему подъему? Но для того, чтобы он состоялся, в петровской системе нужны были, помимо способностей и хватки, безграничная преданность и решимость любой ценой и как можно скорее обеспечить выполнение государственной воли. При этом для людей типа Волынского воля эта естественно воплощалась в их персоне. Люди, намеренно или нечаянно препятствующие им, воспринимались как «повредители интересов государственных», а потому и поступал с ними Артемий Петрович без церемоний: отнимал под казенные нужды «палаты» у монастырей, сочинил подложный царский указ для упрямых калмыцких нойонов, приказал бить задерживавшего его посольский «поезд» офицера Ивинского, подчинил себе без всякого указа следовавших в действующую армию казаков. Такие «резоны», как ущемление достоинства людей, попадавших под его горячую руку, в расчет не принимались.
Если бы Волынский продолжал армейскую карьеру, скорее всего, его судьба сложилась бы более счастливо — удалому генералу-победителю многое прощалось, да и что взять с грубого армейца? Однако служба в столичных канцеляриях и карьера на придворном паркете требовали не только «куража», но и тонкой обходительности, умения интриговать за спиной, выдержки и чувства меры — всего того, что не было свойственно походно-боевой жизни на окраине империи.
Вот и сейчас Волынский был не в силах сдержать раздражение: его заставляют отвечать перед непотребным шутом, позорящим мундир. Гордая душа столбового дворянина и государственного мужа не допускала такого суда, где он должен быть уравнен перед лицом закона — с кем? «Служу я с ребяческих моих лет и уже в службе 23 года, однако никакого штрафа на себя не видал и ни кем на суде сроду моего не бывал; а ныне прогневил Бога, что будут судить меня с унтер-офицером; а паче с совершенным дураком и с пьяницею». В другом письме государыне он выражал уверенность, что суд с «публичным дураком» невозможен: «…по всем военным артикулам вины моей не сыщется, ежели меня будут судить правильно, но останется в том генерал-лейтенант Матюшкин: первое, что он держал у себя унтер-офицера в дураках и попускал его не токмо ругать, но и бить офицеров; второе, что оной Мещерской бранил меня в доме его при нем и говорил, что мне, и жене моей, и дочери виселицы не миновать, в чем он не токмо ему не воспретил, но еще тому и смеялся и мне никакой сатисфакции не учинил».
В такой ситуации, как и во многих других, ретивого и инициативного исполнителя могла выручить только стоявшая выше любого закона царская воля. Вот и боялся Артемий Петрович больше всего холодности императрицы Екатерины (ведь он так долго отсутствовал, а пословица гласила: «С глаз долой — из сердца вон») и не раз просился в Петербург: «Истинно, всемилостивейшая государыня, ни в мысли своей не знаю, чем прогневал ваше императорское величество, и работаю всегда с чистою моею совестью, как самому Богу; разве, государыня, чем напрасно обнесен вашему императорскому величеству, того ради, буде что на меня принесено, помилуй, всемилостивейшая государыня, повели милостиво мне объявить и спросить меня; а паче, государыня, со слезами прошу только милосердия, чтоб повелели мне самому ко двору вашего императорского величества быть, хотя на самое малое время, а потом уже как воля вашего императорского величества надо мною».
Под пером Волынского, человека не очень-то книжного, канцелярское «доношение» оборачивалось почти фольклорной кручиной удалого верноподданного молодца: «…сгубила меня одна злая печаль моя; понеже, государыня, только и всего имел по Боге и первую и последнюю одну мою надежду на высокую ко мне сирому вашего императорского величества материнскую милость, но ныне, государыня, так прогневал Бога, что и того я, бедный, лишился и вижу, что сердце вашего императорского величества так господь Бог отвратил, что никакие мои слезные прошения не могут умилостивить, от чего боюся, государыня, чтоб какой злой конец мне не воспоследовал». Но и в предчувствии «злого конца» молодец помнил о христианском долге и напоследок просил «не оставить в милости своей бедных сирот, жену мою и детей, и милостиво их призрить, чтоб они, бедные, между дворов не наскитались, понеже, государыня, по мне столько моего не останется, чем бы могли они век свой пропитаться»{174}.
В столицу полетело следующее «слезное» послание, которое мы приводим полностью как образец эпистолярного стиля Артемия Петровича:
«Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня императрица Екатерина Алексеевна, самодержица всероссийская!
Понеже ваше императорское величество данною вам от всесильного Бога самодержавною властию можете и казнить, и милостиво прощать вины наши, однако ж, всемилостивейшая государыня, не токмо мне, последнему в государстве вашем паутине, но уже и всему свету природные вашего императорского величества добродетели известны, а паче особливые щедроты и милосердие к бедным и сирым бедствующим, между которыми, государыня, я грехов ради моих ныне в первых себя почитаю, и хотя вижу, что я уже никакой милости не достоин, токмо уповая на одно великодушное и мудрое рассуждение вашего императорского величества, всеподданнейше и нижайше прошу со слезами моими чрез сие мое бедное прошение, понеже вижу, что жена моя хотя и нарочно для того поехала, однако ж за глупостью своею не умеет ваше императорское величество ни упросить, ни умилостивить. Это была последняя моя надежда. Для того умилосердися ныне, всемилостивейшая государыня в премилосердая мать, на сие мое убогое и слезное прошение. Ежели чем-либо от недоумения моего и от сущей простоты погрешил и прогневал Ваше императорское величество, извольте мне, бедному, милостиво отпустить, как и всевышний господь Бог грешные милостиво прощает. Буде же, государыня, есть какая моя неотпустительная вина, прикажи, государыня, хоть оковав меня, как злодея, взять отсюда в Петербург и розыскать, и когда пред вашим императорским величеством или государством хотя в малом явлюся виновен, повели, государыня, казнить меня, как сущего изменника, или сослать куда, точию, всемилостивейшая государыня и премилосердая мать, уже бы мне, бедному, скоряе один конец был, нежели от такого продолжительного злосчастного на свете живота моего в такое отчаяние приду, что я и душу свою ни за что потеряю и буду вечно в пекле.
Всемилостивейшая государыня, если изволите мыслить, чтоб здесь ныне из меня какой плод был, милостиво о том по немощи человеческой изволите рассудить: понеже во мне ни ума, ни рассуждения никакого нет, и истинно, государыня, никакие дела в мою голову не идут, но только держу одно место.
Когда я был не в таком слабом состоянии, столько, государыня, трудился, как то все известно, однако ж и впредь если Бог меня живота или последнего ума моего не лишит и допустит увидать ваше императорское величество, потом готов, государыня, как самому Богу, так вашему императорскому величеству всегда работать до кончины живота моего. Ежели, государыня, изволите мыслить, чтоб я на кого какие жалобы приносил и тем ваше императорское величество трудил, Бог меня, государыня, со всеми рассудит, а я не буду, всемилостивейшая государыня, приносить ничего. И паки, всемилостивейшая государыня, слезно милосердия Вашего императорского величества прошу: умилися, всемилостивейшая государыня, покажи над таким бедным человеком божескую свою милость, ради поминовения блаженные и вечнодостойные памяти императорского величества и ради своего многолетнего здравия и бедной души христианской, понеже я, кроме Бога и вашего императорского величества, не имею никакой надежды.
Всемилостивейшая моя государыня, вашего императорского величества всеподданнейший и нижайший раб
Артемей Волынской.
Из Казани. Марта 17-го дня 1726 года»{175}.
Мало кто из высших чиновников того времени умел столь эмоционально и органично соединить признание в различных «грехах» и полной неспособности к делам с благородством невинной и не желавшей никого обвинять души и обязательством «работать до кончины живота». Драматизм жанра достигает высшего накала в готовности принять пусть даже незаслуженное наказание — «скоряе один конец был». Затянувшаяся же неизвестность может привести автора к полному отчаянию с недостойным истинного христианина исходом — но разве может это допустить «милосердая мать»?
Но в столице отзывать энергичного администратора не торопились. В марте 1726 года министры распорядились выдать Волынскому задержанное за два года жалованье, а в апреле императрица милостиво ответила: «Господин губернатор! письма твои все до нас доходят, из которых мы усмотрели, что в немалом ты сумнении находишься о том, якобы мы имеем на тебя гнев свой; и то тебе мнение пришло в голову напрасно, и хотя прежде по письмам Еропкина отчасти имели некоторое сумнение, однакож потом в скором времени чрез письма свои ты выправился, и остался в том помянутый Еропкин, что неправо о том он доносил, а вашими поступками в положенных на вас делах мы довольны. Что же представляешь свои нужды и просишься для того… ко двору нашему, и ныне тебе ко двору быть невозможно затем, что писал к нам недавно генерал-фельдмаршал князь Голицын, что Черен-Дундук согласился с кубанцами и ищут чинить нападение на донских Козаков и на Петра Тайшина, и для того надлежит вам подлинно о том проведовать и до того не допускать; а потом, тако ж и по осмотрении нужных дел в Казанской губернии в июне месяце приезжайте к нам в Петербург»{176}.
По дороге Волынский заехал к М.М. Голицыну и обсудил с ним калмыцкие дела — «ссоры и разорения улусов»{177}. 25 июля 1726 года он был уже в Петербурге — присутствовал на завтраке у Александра Даниловича Меншикова; вместе с князем он отправился в Кронштадт, где находилась императрица с двором. Обратно в Казань он явно не собирался, хотя формально и оставался губернатором. Верховный тайный совет осенью уже обсуждал, кому бы поручить калмыцкие дела; однако найти достойную фигуру оказалось трудно, представленные кандидатуры генерал-майоров Шереметева и Кропотова были Екатериной отклонены. В августе Артемий Петрович купил дом в Северной столице (сделка была утверждена императрицей{178}) и прочно занял свое место в свите. В качестве генерал-адъютанта он часто бывал у фактического главы правительства Меншикова — «при столе» за завтраками и обедами или когда князь «слушал дела»; вместе с придворными дамами и кавалерами навещал его загородную резиденцию Ораниенбаум{179}.
Приближение ко двору сразу помогло решить личные дела. 24 ноября 1726 года Меншиков объявил Артемию Петровичу о повышении из полковников сразу в генерал-майоры, минуя промежуточный чин бригадира{180}. Министры Верховного тайного совета в очередной раз распорядились выдать ему невыплаченное жалованье (несмотря на это и предшествующее повеления, дело тянулось до февраля 1727-го) и удовлетворили просьбу о пожаловании пустошей в Шлиссельбургском уезде. 2 февраля 1727 года Волынского вызвали в совет для объяснений, как и почему он самовольно взял в Астрахани 300 четвертей ржи в качестве хлебного жалованья. Он обязался вернуть государству муку в обмен на удержанную с него штрафную сумму в 974 рубля{181}. В 1726 году Волынский давал также показания по неприятному делу о побитом мичмане Мещерском, и оно «позалеглось».
Однако относительное благосостояние после тяжелой кочевой жизни на окраине не могло компенсировать удаление от активной государственной деятельности. Едва ли Артемий Петрович с его темпераментом мог довольствоваться ролью придворного, сопровождавшего на выездах карету императрицы и возглавлявшего ее охрану, или шталмейстера — конюшего на парадных церемониях{182}. Но к началу 1727 года власть уже ускользала из рук императрицы. Часто болевшая Екатерина всё больше замыкалась в придворном кругу, где за карточной игрой и застольем выдвигались новые фавориты — молодой поляк Петр Сапега и камергер Рейнгольд Левенвольде, получившие за заслуги интимного свойства щедрые пожалования. Меншиков ладил с любимцами царицы, но за пределами дворца реальная власть находилась в его руках. Он задумал дерзкий план, целью которого был брак маленького великого князя Петра с одной из его дочерей, в результате чего сам светлейший князь смог бы породниться с царствующей династией и стать регентом при будущем несовершеннолетнем государе.
Императрица колебалась, считая, что престол принадлежит ее дочерям, но не могла сопротивляться напору Меншикова и всё же дала согласие на этот брак. Весной 1727 года ее силы были на исходе, а вокруг нее шла грызня, закручивались нескончаемые интриги. В апреле у Екатерины началась горячка — по позднейшему заключению врачей, вызванная воспалением или «некаким повреждением в лехком». Светлейший князь не выпускал из своих рук инициативу: 10 апреля он переехал в свои апартаменты Зимнего дворца, чтобы прочнее держать ситуацию под контролем, а 24-го добился от Екатерины указа об аресте своих противников — генерал-полицеймейстера А.М. Девиера, министра П.А. Толстого, генералов И.И. Бутурлина и А.И. Ушакова. Следствие проходило в спешке под сильнейшим давлением Меншикова. Приговор и завещание были готовы лишь к вечеру 6 мая, в последние часы жизни Екатерины — и были ею утверждены, поскольку Меншиков не отходил от постели умиравшей. Едва ли она была в состоянии читать документы — скорее всего, завещание подписала Елизавета.
Утром 7 мая Артемий Петрович присутствовал на заседании высших чинов империи, где Меншиков объявил о завещании Екатерины. Престол переходил к Петру II и регентскому совету при нем; в случае внезапной смерти юного императора корона переходила к его сестре Наталье и дочерям Петра I Анне и Елизавете «с их потомствами». Во время драматических событий, судя по «повседневным запискам» Меншикова, Волынский находился при светлейшем князе, а в день смерти императрицы ужинал и ночевал в его дворце. В первые недели нового царствования он также неотлучно состоял при Меншикове — «кушал» и «слушал дела»{183}. Генерал-майор Бальтазар фон Кампенгаузен впоследствии жаловался на то, что Меншиков распорядился выдавать «полное генерал майорское жалованье» не по старшинству, а тем, кому считал нужным, — А.И. Шаховскому, Ю.И. Фаминцыну, А.П. Волынскому{184}.
Александр Данилович в качестве регента при Петре II мог бы сыграть ту же роль, какую исполнял Мазарини при юном Людовике XIV. Но она оказалась князю не по силам; он, по выражению XVII века, стал «государиться»: своевольно карал и миловал, отбирал и раздавал имения (это стало потом известно из поданных в Сенат жалоб); взял под собственную «дирекцию» дворцовое ведомство и даже позволял себе вмешиваться в церковные дела. Готовилась к изданию монументальная биография
«Заслуги и подвиги его высококняжеской светлости князя Александра Даниловича Меншикова», согласно которой князь, «как Иосиф в Египте, счастливо управлял государством» и тратил на это «собственные деньги», то есть содержал самого Петра I вместе с двором. 25 мая 1727 года произошло обручение Петра II с Машенькой Меншиковой. Синод повелел во всех церквях поминать рядом с императором «невесту его благоверную государыню Марию Александровну», для которой уже был создан особый придворный штат.
Но в правительственной деятельности генералиссимус и светлейший князь не поднялся выше выделки гривенников из «непостоянного и фальшивого серебра» с добавлением мышьяка и выпрашивания герцогства и новой кареты у австрийского императора. Иностранные дипломаты стремились удерживать князя в рамках нужного их правительствам политического курса, соответственно расценивая его, по утверждению австрийского посла Рабутина, в качестве «капитала, приносящего… большие кредиты». Но при этом послы сетовали, что князь напрасно демонстрировал «суровость» своей власти и управлял, «как настоящий император», вместо того чтобы вести себя по понятным правилам: оказывать «милости», заручиться доверием самого царя, его сестры и членов Верховного тайного совета.
Упоение властью, репрессии против недавних союзников и прочих недовольных привели светлейшего князя к конфликтам с капризным подростком Петром II. Зато исполнение служебных обязанностей Меншикова уже не интересовало: в 1727 году он практически не посещал Военную коллегию, всё реже бывал на заседаниях Верховного тайного совета, подписывал протоколы не читая — и тем самым выпускал из рук контроль над гвардией и государственным аппаратом. В результате умелой интриги Меншиков был легко устранен, а его место заняли новые фавориты.
Четвертого июля 1727 года Верховный тайный совет назначил Волынского «министром» (послом) в Голштинию{185}, куда готовилась отправиться Анна Петровна с мужем. По-видимому, это решение принималось по воле светлейшего князя, поскольку сама цесаревна предпочла бы видеть на этом посту одного из сыновей канцлера Г.И. Головкина; но едва ли его можно признать удачным с точки зрения дипломатической практики: Артемий Петрович был слишком горяч, к тому же немецким языком не владел. Однако, по сведениям французского поверенного в делах Ж. Маньяна, защиту интересов принцессы официально взял на себя голштинский министр Геннинг Бассевич, и Волынскому ехать за границу не пришлось — и к лучшему: в далекой Голштинии дочь Петра I родила сына (будущего Петра III) и вскоре умерла от «горячки»{186}.
Одним из последних распоряжений Меншикова Волынский был определен на службу в располагавшуюся на Украине армию, но после «падения» светлейшего князя задержался в Москве, дожидаясь коронации Петра II. Здесь 11 ноября 1727 года у него родился сын Петр{187}. На некоторое время следы Артемия Петровича теряются в бурных придворных событиях. Юный император пропадал на охоте: по неполным подсчетам (исключая короткие поездки на один-два дня), он за два года пребывания в Москве более восьми месяцев провел в погоне за дичью. Несколько раз царь обещал Остерману заняться учебой и присутствовать на заседаниях совета, но так и не собрался.
Новая конфигурация власти опиралась, с одной стороны, на Верховный тайный совет, с другой — на заменивший Меншикова клан князей Долгоруковых. Последние, в отличие от «полудержавного властелина», не пытались подмять под себя верховную власть и «разделили» ее с советом (в числе его членов были два представителя рода — Алексей Григорьевич и Василий Лукич). Главной «сферой влияния» Долгоруковых являлся двор, который в эти годы стал одним из центров политической жизни. Важнейшим становится пост обер-камергера из-за близости к императору. Меншиков сделал главой придворного персонала своего сына Александра, после его опалы, распространившейся на всё его семейство, эту должность занял сын А.Г. Долгорукова Иван. Долгоруков-старший в совете практически не появлялся, но зато, чтобы сохранить привязанность царя, не жалел сил и времени для устройства охотничьих экспедиций, а его сын политике и охоте предпочитал «городские» развлечения и оказался совершенно непригодным к сколько-нибудь ответственной роли в управлении, что и отметили иностранные дипломаты: «В нем не было коварства. Он хотел управлять государством, но не знал, с чего начать; мог воспламениться жестокой ненавистью; не имел воспитания и образования»{188}.
В новом придворном раскладе места для Волынского не нашлось; в подготовленной для Верховного тайного совета ведомости он числился генерал-майором «по армии» с жалованьем 1080 рублей в год без определенной должности. В марте 1728 года министры решили возвратить Артемия Петровича на прежнее место службы, но соответствующий указ был подписан только в мае{189}. Фортуна не баловала Волынского: ему вновь предстояло удаление от двора и возвращение к роли провинциального администратора.
Неудавшаяся «республика» 1730 года
На этот раз казанское губернаторство оказалось вполне реальным, но хлопотным делом. Хлопоты начались еще до выезда к месту: Артемий Петрович вынужден был просить конвой для охраны в дороге — по Оке и Волге свободно разгуливали ватаги разбойников{190}. По благополучном прибытии он занялся планировкой и благоустройством города: с территории кремля были убраны старые деревянные строения и разобраны обветшавшие городские стены, в результате чего застройка посада слилась с окружающими слободами.
Однако из губернаторского дома, стоявшего на месте бывшего ханского дворца, Волынский внимательно следил за событиями в Москве, куда переехал юный государь со своим окружением. Артемий Петрович понимал, что отныне любые кадровые вопросы решаются не только в совете, но и при дворе, где в силу (как тогда выражались, «в кредит») вошли князья Долгоруковы.
Их часто называли «национальной» партией. Но, хотя старшие из князей не жаловали иноземцев, никаких альтернативных программ — и тем более желания восстановить допетровские порядки — они не имели. Для них важнее было подчинить своему влиянию юного государя и оттеснить возможных соперников в борьбе за власть. Новые правители в точности повторяли тактику Меншикова, закончившего свои дни в далеком сибирском Березове. Дочери Алексея Григорьевича были непременными участницами путешествий императора, который к тому же подолгу гостил в подмосковной усадьбе Долгоруковых Горенках. Здесь осенью 1729 года во время своего последнего путешествия четырнадцатилетний Петр II попросил руки дочери хозяина. Помолвка императора и Екатерины Долгоруковой с большой торжественностью прошла 30 ноября 1729 года. В Москве устраивались балы и фейерверки; начались приготовления к царской свадьбе, назначенной на 19 января, съезжались гости. Новую невесту, как и ее предшественницу, приказано было поминать при богослужении; ее брат, обер-камергер Иван Долгоруков, по примеру Меншикова, получил титул князя Римской империи и стал майором гвардии.
Волынский писал отцу и сыну Долгоруковым в конце уходившего года. Алексею Григорьевичу он напоминал, чтобы при раздаче наград и «прочих милостей» по поводу свадьбы императора «и я между прочими для такой радости не лишен был по милости вашего сиятельства в перемене чина»; о «деревнях» он уже просить не осмеливался — «выложил то из головы моей вон», хотя они «и два раза обещаны были». Молодого друга императора он поздравлял с браком «любезнейшей сестры» и выражал надежду, что тот будет «содержать меня в неотъемлемой вашего сиятельства милости и милостивой протекции, почитая в числе истинных и верных, яко есмь»{191}.
Вряд ли эти напоминания имели успех. Однако посреди приготовлений к торжеству в ночь на 19 января 1730 года в московском Лефортовском дворце (он и поныне стоит на берегу Яузы) умер от оспы юный Петр II. Члены Верховного тайного совета той же ночью избрали на царство представительницу старшей линии династии — дочь царя Ивана, вдовствующую курляндскую герцогиню Анну. Но вслед за этим князь Д.М. Голицын предложил собравшимся «воли себе прибавить» и «послать к ее величеству пункты». Так появились на свет «кондиции» (позднее Анна назвала их «коварными письмами как я на престол взошла»), менявшие вековую форму правления.
Совет объявлялся постоянным органом из восьми членов, без согласия которого Анна Иоанновна не имела права назначать наследника, начинать войну, заключать мир и вводить новые налоги, а также производить в чины (военные, морские и статские) выше «полковничья ранга» и «определять» кого-либо к «знатным делам». Императрица должна была принять на себя обязательство «у шляхетства живота, чести и имения без суда не отнимать», единолично «вотчины и деревни не жаловать», «государственные доходы в расходы не употреблять», тем самым отказываясь от традиционных прерогатив самодержца. Завершались «кондиции» указанием на лишение императрицы короны в случае нарушения подписанных ею условий.
Посланцы совета во главе с В.Л. Долгоруковым срочно выехали к Анне в Митаву Вечером 25 января Анна подписала «кондиции»: «Тако по сему обещаю без всякого изъятия содержать». Росчерком пера самодержавная монархия в России стала ограниченной ровно на месяц — с 25 января по 25 февраля 1730 года, до следующего государственного переворота. Большинство подданных об этом так никогда и не узнали; но при ином раскладе политических сил эти ограничения могли бы стать рубежом в нашей истории — шагом к утверждению политических прав и свобод.
Второго февраля министры-«верховники» во главе с князем Дмитрием Голицыным объявили в Кремле о согласии Анны и предъявили «кондиции». Созванные дворяне пришли в смущение — с чего это государыня сама себя «изволила» ограничить? Голицын возражений не допустил, но предложил собравшимся разработать и подать в совет проекты нового государственного устройства, что они и сделали.
Позиции правителей и «шляхетства» вскоре столкнулись. Все проекты так или иначе отражали чаяния служилого сословия: гарантии личной безопасности, отмену закона 1714 года (по нему отцовское имение отходило единственному наследнику), определение сроков дворянской службы, «порядочное произвождение» дворян. Но по принципиальному вопросу о конструкции верховной власти мнение служилой элиты раскололось. Оппозиционный правителям «проект 364-х» (по числу подписавших его лиц) предполагал ликвидацию Верховного тайного совета в его прежнем качестве и составе и создание вместо него «Вышнего правительства» из двадцати одной «персоны». Другое принципиальное положение определяло порядок выборов «Вышнего правительства», Сената, губернаторов и президентов коллегий особым дворянским собранием, где «быть не меньше ста персон».
Короткая и неожиданная политическая «оттепель» в зимней Москве 1730 года была наполнена политическими дебатами. Надолго упрятанные в архив бумаги об обстоятельствах воцарения Анны Иоанновны счастливым для историков образом сохранили не только сами «кондиции», но и составленные в те дни дворянские проекты и планы реформ самого Верховного тайного совета. Но о спорах и столкновении мнений различных «партий» нам известно до обидного мало.
«Здесь дела дивные делаются, — писал из столицы бригадир Иван Михайлович Волынский родственнику в Казань. — По кончине его величества выбрали царевну Анну Ивановну с подписанием пунктов, склонных к вольности, и чтоб быть в правлении государства верховному совету 8 персонам, а в сенате 11-ти; и в оном спорило больше шляхетство, чтобы быть в верховном совете 21 персоне и выбирать оных балотированием, а большие не хотели оного, чтобы по их желанию было 8 персон»{192}. Прибывший из Москвы капитан-командор Иван Козлов смущал казанское общество рассказами о столичных событиях, искренне радуясь: «Теперь у нас прямое правление государства стало порядочное, какого никогда не бывало, и ныне уже прямое течение делам будет, и что уже ни о чем больше не надобно Бога просить, кроме чтоб только между главными согласие было, а если будет между ними согласие так, как положено, то конечно, никто сего опровергнуть не может». Услышанные от него новости Артемий Петрович пересказал в письме своему воспитателю Семену Андреевичу Салтыкову: императрица отныне имеет право потратить только выделенные ей 100 тысяч рублей, «а сверх того, не повинна она брать себе ничего, разве с позволения Верховного тайного совета; также и деревень никаких, ни денег не повинна давать никому».
Губернатора эти известия не радовали, а, наоборот, приводили «в великую печаль». Дело было не только в том, что Козлов непочтительно высказался о придворных родственниках самого Волынского — «теперь де Салтыковых и духу нет, и лучший де твой дядюшка Семен Андреевич ничто, и впредь никого не допустят». В бумагах Артемия Петровича сохранились его размышления о том, «чтоб быть у нас республике».
Казалось бы, более демократическое устройство должно было в глазах энергичного и достойного, но отодвинутого на периферию деятеля выглядеть привлекательным. Однако он признавался: «…я зело в том сумнителен», — видя в нем не столько расширение своих дворянских прав, сколько опасность того, «чтобы не сделалось вместо одного самодержавного государя десяти самовластных и сильных фамилий». Попасть в число этих особ он не рассчитывал и выступал от лица среднего «шляхетства», которое в таком случае вынуждено будет «горше прежнего идолопоклонничать и милости у всех искать, да еще и сыскать будет трудно, понеже ныне между главными как бы согласно ни было, однако ж впредь, конечно, у них без раздоров не будет, и так, один будет миловать, а другие, на того злобствуя, вредить и губить станут».
Выходец из знатного рода, вынужденный с юности сам прокладывать себе дорогу, Волынский не был склонен идеализировать сплоченность и нравственные достоинства своего сословия: «Народ наш наполнен трусостью и похлебством, для того, оставя общую пользу, всяк будет трусить и манить главным персонам для бездельных своих интересов или и страха ради, — и так, хотя б и вольные всего общества голосы требованы в правлении дел были, однако ж бездельные ласкатели всегда будут то говорить, что главным надобно. А кто будет правду говорить, те пропадать станут, понеже уже все советы тайны быть не могут; к тому же главные для своих интересов будут прибирать к себе из мелочи больше партизанов, и в чьей партии будет больше голосов, тот что захочет, то и станет делать, и кого захотят, того выводить станут; а бессильный, хотя бы и достойный был, всегда назади оставаться будет».
Не очень верил Волынский и в способность к самоограничению, ради государственных интересов, нынешних правителей. К примеру, размышлял он, если начнется война и потребуются чрезвычайные сборы, «то будет на главных всегда в доимках, а мы, средние, одни будем оставаться в платежах и во всех тягостях». Кстати, он оказался прав: составленная в 1737 году «Ведомость о имеющемся недобору на знатных и других» показала, что главными неплательщиками были кабинет-министр А.М. Черкасский (за ним числились недоимки в 16 029 рублей), сенаторы (7900 рублей), президенты и члены коллегий (16 207 рублей), генералитет (11 188 рублей) и прочие «знатные» (445 088 рублей){193}.
Волынский сам тянул лямку государевой службы и признавал, что «в неволю служить зело тяжело», но мгновенное освобождение от этой обязанности считал еще более опасным: «Ежели и вовсе волю дать, известно вам, что народ наш не вовсе честолюбив, но паче ленив и не трудолюбив; и для того, если некоторого принуждения не будет, то конечно, и такие, которые в своем доме едят один ржаной хлеб, не похотят через свой труд получать ни чести, ни довольной пищи, кроме что всяк захочет лежать в своем доме»; в таком случае на службу пойдут «одни холопи и крестьяне наши, которых принуждены будем производить и своей чести надлежащие места отдавать им; и таких на свою шею произведем и насажаем непотребных, от которых впредь самим нам места не будет; и весь воинский порядок у себя конечно потеряем».
Здесь устами Волынского говорил сам Петр I, утверждавший: «Наш народ яко дети неучения ради, которые никогда за азбуку не примутся, когда от мастера не приневолены бывают, которым сперва досадно кажется, но когда выучатся, потом благодарят». Губернатору, как и многим другим участникам событий, воспитанным в эпоху реформ, было трудно представить сознательную ломку созданной Петром Великим государственной машины. Именно петровские преобразования вывели их в люди, дали возможность получать чины, ордена, крепостные дворы и «души». Даже идейный «прожектер» 1730 года В.Н. Татищев в «Истории Российской» характеризовал Петровскую эпоху через свое мироощущение состоявшегося человека: «Все, что имею — чины, честь, имение и, главное над всем, разум — единственно все по милости его величества имею, ибо если бы он меня в чужие края не посылал, к делам знатным не употреблял и милостию не ободрял, то бы я не мог ничего того получить»{194}.
Как и Волынский, Татищев искренне видел в появлении Верховного тайного совета «по замыслу неких властолюбивых вельмож» уклонение от Петровских реформ. И для многих других, менее образованных и хуже разбиравшихся в политике дворян служение монарху-самодержцу еще долго оставалось, по выражению историка Е.Н. Марасиновой, «ведущей компонентой исторически сложившегося русского общественного сознания», как чины, награды, пожалования, которые не только давали дворянину престиж и богатство, но и порождали «высокую самооценку, горделивое чувство причастности к власти»{195}.
Но, кроме того, Волынский высказывал свои опасения как бывалый военный и администратор, понимающий, что отмена пусть и несовершенного порядка обернется губительным беспорядком, особенно в иерархически жесткой военной организации. Если офицерские должности будут без разбора заполняться «солдатством», боже сохрани оказаться под властью таких командиров: «…так испотворованы будут солдаты, что злее стрельцов будут. И как может команду содержать или от каких шалостей унять одному генералитету, если в полках не будет добрых офицеров!» Освобожденные от службы беднейшие дворяне-рядовые не станут фермерами или купцами, «большая часть разбоями и грабежами прибылей себе искать станут, и воровские пристани у себя в домех держать будут». Волынский считал: если уж «выпускать» дворян от службы, «однако ж, по моему мнению, разве с таким разсмотрением, чтоб за кем было 50, а по последней мере 30 дворов, да и то, чтоб он несколько лет выслужил и молодые и шаткие свои лета пробыл под страхом, а не на своей воле прожил».
Но в то время как губернатор размышлял о перспективах, ситуация в столице стремительно изменилась. Пока одни размышляли и спорили, другие действовали. Вокруг прибывшей в Москву Анны Иоанновны образовалась небольшая, но активная «партия» сторонников восстановления самодержавия — в их число входили родственники императрицы Салтыковы, в том числе майор Преображенского полка Семен Салтыков.
Неожиданно для правителей 25 февраля 1730 года во дворце появилась дворянская депутация и вручила Анне Иоанновне прошение о созыве «шляхетского» собрания, обвинив совет в игнорировании их мнений по поводу нового государственного устройства. Анна немедленно подписала челобитную и отправилась обедать с «верховниками». Без надзора со стороны членов Верховного тайного совета депутаты никакой новой «формы правления» сочинить не смогли, тем более что гвардейские офицеры громко требовали возвращения императрице ее законных прав. В итоге государыне подали новую челобитную с просьбой «всемилостивейше принять самодержавство таково, каково ваши славные и достохвальные предки имели», и Анна «при всем народе изволила, приняв, изодрать» ранее подписанные ею «кондиции». «А оное делал все князь Алексей Михайлович и генералитет с ним и шляхетство. И что из того будет впредь, Бог знает. И ныне в великой силе Семен Андреевич Салтыков, того ради извольте быть известны: и живет он в верху, и ночует при ее величестве. Я разумею, что вам надобно просить его о перемене чину; извольте ко мне отписать, как вы намерены — в сенате быть или губернатором, а верховного совету не будет, будет один сенат так, как при первом императоре было…» — сообщал московские новости в письме от 1 марта 1730 года родственнику в Казань нижегородский вице-губернатор Иван Михайлович Волынский.
Получив официальное известие о новой присяге Анне Иоанновне уже как самодержице, Артемий Петрович не без некоторого ехидства написал С.А. Салтыкову, что наделавший в Казани шума Козлов испугался «и с великою печалию спрашивал: что за перемена», на что получил от губернатора ответ: «…я надеюся, что государыня, может быть, изволила вступить в самодержавство, так, как прежде у нас было». Бригадир-«конституционалист» поначалу усомнился в таком исходе (по его данным, «ее партишка зело бессильна была»), а потом заявил: «Что для меня де, хоть так, хоть сяк — все равно, только бы де уже один конец был». Волынский высказал влиятельному родственнику свои сомнения: «И понеже известно вашему превосходительству, что он очень неглуп, и для того если бы совершенной надежды не имел, как бы ему так смело говорить, и говорит не пьяный. Боже сохрани какой перемены, чего весьма надобно опасаться и осторожно поступать; а я зело боюся и теперь не вовсе уверяюся, чтоб все было успокоено. Не допусти Боже, ежели какое несчастие сделается и отмена ее величеству, то мы совсем пропадем, и по истине дух наш не спасется».
Опасения, однако, оказались напрасными, и уже находившийся «в великой силе» Салтыков велел губернатору составить подробное «доношение» о Козлове: «…какие он имел по приезде своем в Казань разговоры о здешнем московском обхождении, и при том кто был, как он с вами разговаривал, чтоб произвесть в действо можно было». В ответ Артемий Петрович прислал несколько неожиданное послание, в котором, с одной стороны, признавал, что по обязанности и родственному долгу будет «предостерегать» не только о том, «что к высокой ее императорского величества пользе касается, но и партикулярно к стороне вашего сиятельства надлежит служить мне как свойственнику и милостивому моему благодетелю за толикие ваши ко мне отеческие милости»; с другой — отказывался быть доносчиком на неосторожного болтуна, поскольку не считал, что это «не токмо мне, но и последнему дворянину прилично и честно делать»: «…понеже ни дед мой, ни отец никогда в доводчиках и в доносителях не бывали, а и мне как с тем на свет глаза мои показать?» Волынского смущали последствия такого поступка: «…кто отважится честной человек в очные ставки и в прочие пакости, разве безумный или уже ни к чему непотребный, понеже и лучшая ему удача, что он прямо докажет, а останется сам и с правдою своею вечно в бесчестных людех, и не только кому, но и самому себе потом мерзок будет»{196}. В этих рассуждениях нашего героя сталкивались допетровская Россия и век Просвещения. Как должностное лицо и принявший присягу служилый человек Волынский не сомневался в своей обязанности доложить обо всём, касающемся «к высокой ее императорского величества пользе», — это он и сделал в предшествующих письмах. Но благородному дворянину новой эпохи уже неловко было выступать публичным доносчиком, тем более что процедура следствия по политическим делам предусматривала и для самого доносчика «честной арест»; кроме того, он должен был «довести» свой навет — доказать истинность обвинения, а в противном случае рисковал оказаться в положении преступника-лжедоносителя.
При отсутствии надежных свидетелей или прочих улик доноситель мог надеяться только на свою память. Не дай бог перепутать или исказить услышанное — любая неточность в передаче «непристойных слов» или неверное указание места и обстоятельств, при которых их произносили, рассматривались не просто как ложный навет, а как произнесение преступных «слов» самим «изветчиком». Чем более уверенно держался на очной ставке ответчик (не путался в показаниях, аргументированно отрицал вину), тем выше становились его шансы выйти сухим из воды. В этом состязании при прочих равных шансах (когда свидетелей преступления не было или они «порознь сказали») побеждал тот, кто твердо стоял на своем («утверждался на прежнем своем показании») или находил аргументы в свою пользу. Тут уж всё зависело от характера: или доносчик «ломался» и оговоренный им «очищался» от возведенного на него поклепа, или же ответчик после долгих запирательств признавал истинность обвинения. Часто вслед за ответчиком на дыбу отправлялся не сумевший толком «довести» свой донос объявитель «слова и дела».
Через десять лет Артемий Петрович попадет в застенки Тайной канцелярии; признавшись в служебных проступках и взяточничестве, он даже после двух пыток будет категорически отрицать намерение произвести дворцовый переворот. Пока же он участвовать в следствии не желал и, кажется, не только из страха, но и из убеждения в «пакостности» доносительства на человека, который преступником не был, а лишь неосторожно высказал свое мнение.
Семен Андреевич подобных тонкостей явно не чувствовал и укорял воспитанника, донос написавшего, а свидетелей не представившего: «…на что бы так ко мне и писать, понеже и мне не очень хорошо, что и я вступил, а ничего не сделал, и будто о том приносил я напрасно; а то все пришло чрез письма от вас ко мне, понеже вы изволили писать, что он говорил при многих других, а не одному, а я, на то смотря, и доносил, и то стало быть мне не хорошо, что будто неправо я сказывал». Опытный гвардеец наставлял родственника «отписать, какие он (Козлов. — И. К.) имел разговоры с вами, чтоб можно было произвесть в действо, понеже как для вас, так и для меня, что о том уже коли вступили, надобно к окончанию привесть». Сам же факт доноса его нисколько не смущал — наоборот, он объявлялся признаком «доброй совести», а потому и не мог вызвать осуждение.
Артемий Петрович поспешил «государя отца» успокоить: «От того, что писал, не отопруся никогда, но все то так, как было; не отрекаюся подробно сам донесть, да только приватно, а не публично. А чтоб мне доношении подавать и в доказательствах на очных ставках быть, не только сам добровольно не хочу, ни другу моему не советовал бы, понеже, по моему слабому мнению мне так рассудилось, что то всякому дворянину противу его чести будет, а что престерегать и охранять, то конечно всякому доброму человеку надобно, и я по совести моей и впредь не зарекаюся тоже сделать, если противное увижу или услышу». В качестве губернатора он мог бы и сам на месте произвести первоначальное расследование, но опасался, «не знал, что такое благополучие нам будет. И, правду донесть, имел к тому не малый резон, но понеже тогда еще дело на балансе было, и для того боялся так смело поступать, чтоб мне за то самому не пропасть; понеже прежде, нежели покажет время, трудно угадать совершенно, что впредь будет»{197}.
Так дело моряка, не начавшись, было замято, не повредив его карьеры — Козлов закончил службу генералом и членом Военной коллегии. А не участвовавшему в московских дискуссиях Волынскому эта история неожиданно вышла боком. Поднявшись к высотам власти, он испытал на себе ее прелести и, кажется, стал думать несколько иначе: «Польскому шляхетству не смеет и сам король ничего сказать, а у нас всего бойся». Последнее в его жизни следствие в 1740 году будет допытываться, что он писал в своем проекте о «несамодержавстве в Польше и Швеции» и о «мнимой республике Долгоруких».
Тяжба с архиереем
Артемий Петрович, видимо, надеялся, что наступившее «благополучие» позволит ему покинуть Казань и перебраться в Москву, поближе ко двору, ведь он приходился двоюродным племянником Анне Иоанновне (его дед с материнской стороны был родным братом ее матери Прасковьи Федоровны, жены царя Ивана Алексеевича), а Семен Салтыков занял высокое место при дворе. Доверенным слугам Волынский поручил скупать окружавшие его родовую усадьбу «дворовые места» и пустыри. Одни из их владельцев соглашались легко, другие оказывались «несговорными». В таких случаях помощь оказывал назначенный обер-гофмейстером двора Салтыков, присылавший к упрямцам адъютанта с предложением, от которого трудно было отказаться.
Переезд в Москву произошел несколько иначе, чем желал бы сам Артемий Петрович. В июне 1730 года его «всепокорнейший раб» Борис Останков сообщил, что «в Сенате, государь, по доношению казанского архиерея дело слушано, и говорено, чтоб по тому делу послать для следствия, и того ради призван был Иван Иванов сын Бахметьев, и отговорился он от той посылки ссорою, что имелось в Саратове, и затем, государь, еще к тому делу никто не определен». Так вышел на финишную прямую конфликт губернатора с казанским архиепископом Сильвестром.
Владыка был человеком преклонного возраста, но сильного характера. Он возобновил угасшую было при его предшественнике славяно-латинскую школу, построил для нее здание и обеспечил доходами с двух закрытых им монастырей. Для духовенства в пользу школы была введена своеобразная подушная подать — по одному рублю в год за каждого мальчика из духовного сословия, не обучающегося в школе. С подчиненными Сильвестр был строг: одного из них, архимандрита Спасо-Преображенского монастыря Иону Салникеева, он обвинил в расхищении монастырской казны и снял с должности. Тот в отместку донес, что владыка самовольно «писался митрополитом и драл челобитные на высочайшее имя». Дело долго расследовалось в Синоде, и в итоге Сильвестр получил желанный сан митрополита, а Иона в 1729 году был лишен сана и монашества, бит кнутом и возвращен в Казань для взыскания денег по прежнему делу.
Поначалу архиерей и губернатор обходились без конфликтов, но после воцарения Анны Иоанновны ситуация изменилась. В марте 1730 года противники Сильвестра в Синоде возобновили дело по доносу на архиерея; в Казань отправились два церковных «следователя»; светскую же власть должен был представлять Волынский. К тому времени обнаружились и «драные» архиереем челобитные. Губернатор в отсутствие Сильвестра завладел архиерейским архивом, а секретаря архиерейского приказа Судовикова посадил под арест. 16 июня 1730 года владыка подал в Синод пространную челобитную о том, что «от него, Волынского, в бытность его в Казани губернатором, претерпеваем всякие бедствия, тому ныне третий год неповинно». 38 пунктов этой жалобы последовательно обвиняли губернатора в самоуправстве — захвате церковных «старинных мест» в городе и леса для строительства на них, архиерейского сада и огорода, «и во оном нашем саду в Великий пост он, губернатор, не сказав нам, имел сломать замки и вороты и травил собаками волков и зайцев, отчего старые деревья поломали, а вновь посаженные мной деревья приказал, выкопав, перенести и посадить на загородном своем дворе». Помимо того, Волынский приказал вырубить рощу «при домовом нашем Кизическом монастыре»; «конюший жалованный двор» принуждал «очистить под строение ему губернаторских конюшен». Его люди и солдаты избивали архиерейских служителей. Он забирал к себе на сенокос архиерейских крестьян и брал с них подводы, «домовых» мастеров заставлял бесплатно делать для него оловянную посуду, стеклянные и слюдяные окна, намеренно поместил «к домовым нашим певчим и церковным причетникам» солдат на постой, тогда как у прочих горожан «у многова числа дворов постоем обойдено». Архиерейские служители вынуждены были по воле губернатора вместе с другими посадскими людьми охранять на улицах порядок и, «оставя церковное служение, караулят со всякой печи по ночи сами на каждой неделе, где бы сколько ни было». Сам же губернатор во всякое время года со слугами ездит на псовую охоту, вытаптывая поля и покосы, и насильно берет с крестьян продовольствие и фураж. Жалобы приводят его в страшный гнев: «…оный же господин Волынский в Казани, выхватя из ножен своих шпагу, и гнался с нагольной чрез горницу Духовного нашего приказа за секретарем Осипом Судо-виковым, и хотел заколоть его той шпагой напрасно, который секретарь едва от него, Волынского, ушел и бегством тем Судовиков от смерти спасся»{198}.
Синод отправил жалобу в Сенат, а тот отрешил губернатора от следствия по делу Салникеева и архиерея. Этот удар был для Артемия Петровича неожиданным — только что, перед своим отъездом в Москву, Сильвестр любезно с ним попрощался, и ничто не предвещало такого поворота. Он немедленно отослал свои протесты в Сенат и Синод с опровержением «наглой напраслины», требовал справедливого суда и в досаде писал С.А. Салтыкову, что такой «бесчестной» жалобы «не только такому старому человеку и пастырю церквам, истинно никакому и светскому, а совестному человеку писать так ложно и затевать не возможно».
Но обвинения выглядели настольно серьезно, что даже доброжелательный «дядя» Семен Андреевич воспитаннику не поверил, тем более что митрополит опередил Волынского и первым побывал у обер-гофмейстера со своими жалобами. Салтыков не без ехидства указал гордецу-«племяннику», что тот не желал писать на других «доношения», а теперь «сами то себя показали присланные ваши два доношения на архиерея», да еще и неискусно написанные — «ни мало какого действа в тех до-ношениях, только что стыдно от людей, как будут слушать». Опытный вельможа по-житейски отчитал родственника: «И не знаю, для чего так вы, государь мой, себя в людех озлобили, что, сказывают, до вас доступ очень тяжел, и мало кого до себя допускать изволите, и это не очень хорошо, можно и оставить. Которые на вас пункты подал архиерей, и ежели то правда, что показано в пунктах, истинно мне очень удивительно… Я не знаю, как изволишь так строго поступать. А я ведаю, что друзей вам почти нет, и никто с добродетелью о имени вашем помянуть не хочет. Я как слышал, что обхождение ваше в Казане с таким сердцем, и на кого осердишься, велишь бить при себе, так же и сам из своих рук бьешь. Что в том хорошего, и с таким сердцем на што поступал и всех озлобил?.. Пожалуй, изволь жить посмирнее! Истинно лучше будет»{199}.
Хитрый Сильвестр предложил через Салтыкова дело «бросить», то есть не раздувать, и обещал, что «больше бить челом не будет». Но теперь уже Артемий Петрович решил не отступать — «жить посмирнее» было не в его характере. Он поддержал прибывших по делу Сильвестра церковных следователей и обнаружил признаки фальсификации обвинений в адрес Салникеева. Будучи не менее опытным администратором, чем его противник, Волынский знал его уязвимые места. Допросы чиновников архиерейского дома и их документы свидетельствовали о финансовых злоупотреблениях владыки — незаконных сборах и штрафах с попов, высокой плате за поставление священников (из-за чего 60 храмов епархии стояли «пустыми»), «венечных» пошлинах с прихожан, которые достигали 1—1,5 рубля при фигурировавших в отчетности 13—39 копейках, при этом разница «в приход не записывается, для того что вносится в келью к преосвященному митрополиту». Объявленная губернатором «война» выявила его противников в местном обществе, и Волынский без колебаний отрешил от дел секретаря Василия Второва и вице-губернатора Нефеда Никитича Кудрявцева, который служил в Казани уже давно, был местным помещиком и представлял не столько бюрократию, сколько верхи казанского дворянства.
На обширную жалобу митрополита Волынский представил подробные возражения по каждому пункту, фрагменты которых мы приводим:
«Пункты» обвинений Сильвестра
5….Оной же губернатор, ехав из Москвы в Казань Волгою рекою и при ехав в город Чебоксары, и вышед из стругов своих на берег, и по согласию с чебоксарским воеводою Алексеем Заборовским, велели из пушек палить (или стрелять), и в то время от потехи их пушку разорвало, и погибло мужеска и женска полу человек с пятнадцать, о чем наше смирение, боясь суда Божия, по должности моего звания, и умолчать опасся, понеже от их господских чрезвычайных забав люди божие без всякаго христианского исправления лишены сего ответа безвременно.
6. А потом с начала прибытия господина Волынского в Казань люди его и при нем солдаты, слыша от него к нам всякие напрасныя посягательствы, пришед к певчему нашему, Алексею Высоцкому, в дом, нахально ночным временем и бив его, едва жива покинули без всякие причины.
7. Да у загородного губернаторского двора, по приказу Волынского, богоявленского дьякона Ивана Семенова, да с ним Владимирские церкви посвященных дву человек церковников, Степана Степанова и Андрея Гаврилова, поймав, солдаты прутьями гоняли и стегали нагих, которые и биты нещадно и оставлены при смерти.
8. Также домового нашего иконописца, Никифора Смирнова, по приказу Волынского взяв присланные в полицу и сняв с него, иконника, рубаху, били нагого кошками смертным боем. <…>
18. Он же, губернатор, в бытность свою в Казани повсягодно, во время косьбы сена, на собственные свои конюшни брал у нас, чрез посланных своих, домовых наших одних крестьян, кроме монастырских, человек по тридцати и больше, и работали на него месяца по три без отпуску и во время деловые нужные поры на их крестьянском хлебе, понеже он у себя лошадей держит чрезвычайно многое число.
19. Да от него ж, Волынского, посланные повсягодно в осеннюю пору и грязи брали ж крестьян одних наших, кроме монастырских, с лошадьми подвод по шестьдесят и больши, для перевозки вышепоказанного сена, и бывали на той его губернаторской работе по месяцу и больше без отпуску на их крестьянском хлебе, а с дворцовых и ясашных вотчин людей одних и крестьян с лошадьми ни на какую работу не брал, а все обработывают наши домовые и монастырские крестьяне.
20. По приказу его ж, Волынского, посланные солдаты домовых наших дву человек оловянишников да третьего живописца, Якова Савина, из домов их взяли насильно к губернатору на двор, без ведома нашего; и сделали ему из под неволи оловянной посуды большой руки дюжину блюд, и к тем блюдам четыре ковчега оловянные же, да пять дюжин тарелок большой же руки и на них ковчеги; и прочие работы многие делали, а живописец светлицы подмазывал и всякую живописную работу отправлял многое время, а за работу им платы ни мало не дано.
21. Он же, Волынской, собою, без ведома нашего, велел солдатам побрать дву человек наших оконничников к себе в дом для делания в новыя хоромы стекольчатых и слюденых окончин не малого числа, и задержаны были они до совершенные же отделки, и работали на него днем и ночью без выпуску неотлучно, а платы им ничего не дают. <…>
31. Он же, губернатор, летом и зимою со псовою охотою многолюдством ездит по полям и сенным покосам и посеянной яровой и озимой хлеб наш и монастырской лошадьми и собаками и людьми своими толочут необычно, и мимо помещиковых и других вотчин ночуют у нас в деревнях, и с боем и неволею со крестьян наших и монастырских берут коням сена и овса и про людей всякой живности и хлеба, сколько похотят, и тем несносную нам и крестьянам обиду чинят напрасно.
32. Да по губернаторскому ж приказу к домовым нашим певчим и церковным причетникам поставлено офицеров и солдат, где одна печь, тамо по два человека, а у кого по две печи, тамо по четыре человека, а у иных учинены съезжие дворы и последние покойцы от постою у всех заняты, а у простолюдинов, градских жителей у многова числа дворов постоем обойдено, а церковники за посягательством Волынскаго принуждены и дворишки продавать, да за страхом губернаторским и купить их не смеют.
Возражения Волынского
5. Я воеводе Заборовскому истинно не толь ко стрелять не приказывал, но и заказать велел, и о том кричали, чтоб не стреляли, только не слышно было, понеже я не дошел до того места сажень со ста. А что пьяной пушкарь заряд положил неумеренный, и что разорвало пушку, и его самого и при том других побило четырех человек наповал, да двое от ран померли, я в том не виноват. Сверх того от той разорванной пушки два великие жеребья упали близ меня, и на самом том месте, где я шел, и так меня мало самого не убило до смерти.
6. Я конечно людем моим и ни кому не потачик, а жалобы о том как от певчего, так и ни от кого не слыхал, и люди мои по ночам из двора моего не выходят, что у меня накрепко заказано, айв день по дворам не шатаются ни к кому, разве кто за чем послан, и для того не верю, чтоб то было от моих людей сделано.
7. В прошлом году весною был я с женою и с детьми на загородном дворе, при том были некоторые офицеры и дворяне с женами, и в то время несколько человек, раздевся нагие под самым двором моим, против хором тех, где я с домашними моими и с прочими был, купались и играли пьяные, которым к моему дому, так безчинно обнажа свое тело, и близко подходить не надлежало; и за то я велел их отогнать прутьем, а дьяконы ли были, или дьячки, узнать того было нельзя, для того что они наги были, и может быть что в неведении учинено было то, хотя б кто и лучше их был, а чтоб смертными побоями биты и будто они при смерти оставлены, то он, архиерей, солгал, понеже ни одному из них ни десяти ударов не досталось, и тому уже прошло слишком полтора года.
8. Полиция у меня сделана порядочная, и тем воздержано воровство, кражи, приемы беглецов, шинки и блядские домы запрещены, понеже до полиции всеми теми пакостями Казань была наполнена так, что и добрым людем в нощное время из дворов своих выйтить было трудно; ибо по улицам и переулками не только великие грабежи были, но и смертные убийства, как то всем известно. И естьли кто из подлых людей явится в малых винах, тем всем, не докладывая, чинят от полиции наказанье, а в больших винах с доношениями приводят в губернскую канцелярию. А по справке ныне явилось, что оной иконописец в прошлом году сечен кошками за то, что досталося ему к рогаткам на караул, а он, ругаяся тому определению, поставил на часы, вместо себя, жену свою; и то наказанье учинено ему правильно, однако ж не по моему приказу, а по определению полиции. <…>
18. Лошадей сколько б я ни держал, ему, архиерею, до того дела нет, а в неволю я для косьбы сена не только из его архиерейских и ни из каких вотчин ни от кого крестьян не бирывал, и по три месяца и больши не держивал, а во время сенокосов прашивал я архиерея и других о работниках, и он, архиерей, давал мне человек по двадцати и по тридцати, и того во всю мою бытность один раз или дважды, которые дней по десяти на меня сено кашивали, а собою и в неволю я ни одного человека не бирывал; а что он, архиерей, на меня написал, и то солгал, как недоброй человек.
19. Для перевозки сена подвод в неволю я ни с кого не бирывал, и обработывать никого его, архиерейских, крестьян не заставливал, только что в прошлом 1728 году архиерей по просьбе моей давал мне для перевозки сена подвод с пятьдесят, которые перевезли сена поездки с три с лугов, которые отсюды в семи верстах, а в прошлом 1729 году он присылывал ко мне несколько подвод, для возки сена, с казначеем своим, Алексеем Раифским, и тех подвод я не принял.
20. Оловянишники для починки посуды, а живописец для подмазыванья светлиц, временно хотя и работывали, только не насильно, иногда с воли его, архиерейской, а иногда и они, мастеровые, добровольно и с платы, и без платы, и насильно никто на меня не работывал никогда.
21. Хором собственных у меня здесь своих нет, а живу в домех ее императорского величества, и когда случится делать, или починить окончины того, для таких поделок оконнишников прашивал у него, архиерея, или у его казначея, для того, что иных мастеров здесь, кроме его, нет, и как окончится дело, за работу им давано всегда.
31. Многолюдством по полям я не езживал и архиерейских и монастырских сенных покосов и ярового и озимого хлеба людьми и лошадьми и собаками не то-лачивал, и обиды никакой крестьяном не чинивал, и сена и овса и про людей живности и хлеба насильно не бирывал, а когда случалось с собаками ездить, тогда от меня всем накрепко заказывано, чтоб никому никто обид никаких не чинили и хлеба не толачивали, а в деревнях монастырских, как случится к ночи, я ночевал, и то раз пять или шесть, а не для того, чтоб чинить обиды, и живность, и овес, и сено в то время покупают у меня на деньги и повольною ценою, кто что продаст, а безденежно и в неволю ничего с архиерейских и монастырских крестьян не имывано; а когда случалось, что и безденежно оные крестьяны принашивали, и того во всю мою бытность овса не взято ни двадцати четвертей, также и сена ни пятидесяти возов, а живности не взято ни на пять рублев, но и то не из под неволи, и обид никаких конечно никому не бывало; а ежели б я или люди мои что брали в неволю и безденежно, и ему б надлежало показать имянно, сколько где, и в которых числех, и кем, и на сколько ценою чего побрано, и хлеба потолочено, но он того не показал, и по тому, что он, архиерей, ябедою своею облыгает и вредит честь мою напрасно, стало быть, видно.
32. Постой в Казани у всяких чинов людей, кроме попов и дьяков, становится на всех дворех необходимо, а не у одних архиерейских, потому что в Казани гварнизонных три полка, да прибылых армейских пехотных два, Ростовской и Нижегородской, и стоят по полугоду, а в другие полгода переводят на другие квартеры, и где случится, по очереди, у прибылых полков имеются и съезжие дворы, а посягательства моего к его архиерейским певчим и церковным причетником никакого нет, и отводятся квартеры для постою из полиции по очереди.
* * *
Следующей линией обороны стала для Волынского рассылка писем влиятельным при дворе персонам — тому же С.А. Салтыкову, Г.И. Головкину, княгине М.Ю. Черкасской — второй жене сенатора и будущего кабинет-министра А.М. Черкасского.
Виновным он себя не считал: «Однако ж, как животолюбивый человек, не хочется безчестно жить, а хотя и умереть, однако ж не хочу с тем пороком детей своих оставить, чем меня язвил и всем обо мне разгласил, затеял вымышленно, не бояся Бога и смерти, архиерей здешний, и сделал меня таким. Если то не будет освидетельствовано, то я буду хуже всякого непотребного и сумазбродного человека». Поэтому и просил гордый Артемий Петрович прислать для расследования «доброго и бескорыстного человека».
В пространных и живо написанных посланиях он разоблачал злоупотребления Сильвестра и показывал, как тот искусно перетолковывает во зло его действия:
«Не поскучь, милостивая государыня-мать, и сие еще милостиво прочесть. Написал на меня архиерей, будто я секретаря ево, Судовикова, хотел шпагою заколоть, и, выняв оную наголо, будто гонялся за ним. Проклени Бог душу мою, естьли я то мыслил, не только делал! Сверх того, я не только бить или колоть ево, я ево люблю, и он с самово моево приезду ищет во мне, и не слыхал от меня истинно никогда никакой брани, разве дьявол вместо меня то делал и архиерею во сне явилось.
Еще ж написал, будто я отнял монастырской загородной двор, и держу на нем с двести собак, и будто кормят их и людей моих пятнадцать человек монастырским хлебом да и кашею. Я доношу вам так совестно, как на страшном мне Христовом суде стать: двор тот пустой, и он разгорожен на двое, из которых одну половину велел для меня по прозьбе моей сам архиерей, где только два сарая и один подклет да черная баня, и собак моих истинно было только с тридцать, да при них пять человек людей, и жили только одну зиму, и то не всю; а чтоб довольствовались монастырским кормом, или брали ко мне оттуды овес, будь я вечно бездельник, естьли то, или что-нибудь из того правда, кроме что брано солома одна и то, что сами дадут. Также написал, будто я у монастыря оново велел вырубить бережоную рощу, и будто посланные мной того монастыря игумена хотели убить за то, что он рубить воспрещал. Ежели я мыслил то делать, не только посылать ково рубить, убей меня самово Бог! И хотя по приказу моему одно дерево срублено, я готов заплатить тысячу рублев; сверх того, во всем в том шлюсь на игумена на того, да и роща та вся цела и теперь»{200}. Список обвинений представляется внушительным, хотя порой и удивляет мелочностью; например, престарелый митрополит насчитал 189 якобы украденных губернатором бревен или вымерил расстояние между столбами, выставляемыми по приказу властей горожанами в праздничные дни, на которых должен висеть именно один фонарь, а не три. Разрешить конфликт могло бы только тщательное следствие, но поскольку оно не проводилось, то и указать виновного, разобравшись в потоке взаимных претензий, невозможно. Остается только констатировать, что выплеснувшийся спор губернатора и архиерея высветил изнанку патриархального российского бытия, потревоженного стремительными преобразованиями Петра I. Самым печальным в нем представляется рост имперского могущества при неустроенности, зыбкости правовых начал даже на повседневном уровне. К примеру, оба участника тяжбы оспаривали друг у друга принадлежность нескольких дворов, но ни одна из сторон не приводила явного и документированного подтверждения права на свою собственность — речь шла лишь о былом «владении» и произвольной передаче недвижимости из рук в руки; при этом губернатор волевым решением сносил обывательские дома и не считал нужным разрешать строиться архиерейским певчим просто потому, что они «небрежением своим» могут устроить пожар.
Петровский рационализм здесь оборачивается привычным российским произволом. Власть духовная не была разграничена с правами светских «командиров», а потому чиновники архиерейского дома могли себе позволить не подчиняться даже указам Синода и не отдавать документы людям губернатора. Да и сам митрополит до конфликта ни в чем губернатору не прекословил и, как признавал в письме генерал-прокурору П.И. Ягужинскому, «искал у него подлинно рабски, а не архиерейски».
Отсутствие прочных правовых норм компенсировалось насилием — жалобы той эпохи часто упоминают «пущий гнев», «великий бой», «смертный страх», и начальникам приходилось оправдываться только за явное превышение некоего привычного уровня тиранства. Архиерей смог инициировать следствие, а вот бедному, но забиячливому прапорщику Семену Скрипицыну это не удалось. Он и сам давал волю кулакам — поколачивал свою мачеху, а в судном деле со стольником Герасимом Есиным заявил «отвод» самому судье — губернатору Волынскому, поскольку на него «подозрение имеет». Разгневанный Артемий Петрович посадил прапорщика в тюрьму на четыре месяца, а затем отправил за море — в Низовой корпус. Тот пытался было подать жалобу, но был арестован, отдан под военный суд и сидел в «железах» на хлебе и воде. Челобитные его жены в то время до расследования так и не дошли — и всплыли только в 1740 году, когда губернатор навсегда потерял былую силу{201}.
Артемий Петрович в ответ на обвинения митрополита в произволе искренне уверял, что не таскал секретаря Ивана Богданова за волосы, а только приказал капралу ударить его «раз пять или шесть» — и не ногами, а палкой. Другой же секретарь, Осип Судовиков, сидел под караулом не «многое время», а всего-то «сутки или двое». А при торжественной встрече в Чебоксарах от взрыва пушки вместе с пьяным пушкарем погибло не 15, а только шесть человек… Впрочем, и сами обыватели благонравием не отличались — под окнами губернаторской дачи резвились голые пьяные «церковники», в которых носителей духовного сана «узнать было нельзя», учитель и ученики местной школы били солдат, а те, в свою очередь, по приказу губернатора вразумляли представителей местного просвещения батогами. Волынский искренне недоумевает по поводу неудовольствия митрополита тем, что он взял на сенокос архиерейских крестьян — ведь брал и прежде; вопрос, на каком основании мужики должны выполнять работу, даже не ставится, и их труд не считается «неволей». «Оловенишники», по признанию самого Волынского, работали у него «и с платы, и без платы», что он считал вполне нормальным. Без конюшни и размещавшихся по дворам охотничьих собак (и тридцати, а не двухсот) — губернатор тоже никак не мог обойтись. Обыватели должны беспрекословно подчиняться недавно заведенной полиции — за неявку на ночное дежурство по охране порядка их пороли. «Рогаточные караулы в Казани по улицам имеются не для посягательства к церковным причетникам, — объяснял губернатор, — но для унятия воровства, которым Казань до меня была наполнена, как о том всем известно, и караулят в ночное время всяких чинов люди, кроме попов и дияконов, в том числе и церковные причетники, потому что они имеют каждой у себя свои дворы, и на тех дворех отдаточные в наем избы бурлаком и прочим непатребным, скитающимся без пашпортов, между которыми в тех отдаточных избах многие переловлены разбойники и воры, и выниманы шинки и многие бляди».
Должно быть, не без удовольствия Артемий Петрович припомнил похождения архиерейских подчиненных: «Когда тех караулов было не определено, тогда в ночное время были многие воровства и кражи из церквей церковных утварей, в том числе пойманы были некоторые ведомства и его архиерейского, а имянно: иеромонах Зилонтова монастыря Иосиф, да церкви Бориса и Глеба дьякон, которой по розыску сослан в Сибирь, и прочие, из чего признаваю, знатно его преосвященство сожалеет того, что его архиерейским служителем пресекли теми караулами воровство; ибо, кроме вышеписанного, в нынешнем году не только прочие церковные причетники и иеромонах Спас<с>кого Преображенского монастыря Серафим в ночное время пойман был с непотребною, а егорьевской поп Василей на кабаке играл в карты и отнял у бурлака шапку, и с тем приведены были в полицию, из которой отосланы к наказанию в его, архиерейской, приказ».
Второго сентября Волынский отправил в Сенат свое оправдание, адресованное на высочайшее имя. Губернатор стремился показать: все жалобы на него возникли только после начала расследования злоупотреблений митрополита, из желания «теми поданными на меня пунктами и затейным подозрением пресечь оное о непорядочных его делах следствие». Сам же он лишь просил справедливого суда и выражал готовность в случае обнаружения ущерба от его незаконных действий «все то втрое заплатить»{202}. Еще одна его жалоба на злоупотребления Сильвестра в деле Салникеева была послана в Синод.
Однако Артемий Петрович столкнулся с достойным противником. Престарелый митрополит сидел в Москве, но получал от своих подчиненных и сторонников вести и, в свою очередь, стремился опорочить действия губернатора: вмешательство в подведомственные владыке «духовные дела» и немилостивое обращение с архиерейскими чиновниками (канцеляриста Плетеневского «пытал пред собою в застенке тремя стрясками смертно»).
Это время было одним из самых тяжелых испытаний для Артемия Петровича. В разгар противостояния с Сильвестром слегла и через месяц, 12 сентября 1730 года, скончалась его супруга, оставив на руках мужа троих маленьких детей, а 18 сентября Сенат отстранил его от должности. Но Волынский продолжал верить в свою правоту. «Что я буду за человек, — писал он Салтыкову, — естли я буду упускать и слабо поступать; а что на меня жалуется, не извольте дивиться, только извольте крепко верить, что без причины не делаю никому никакой обиды, а что и делаю, и то не мзды ради, и не для моей страсти, что и Бог и люди видят, и никто в глаза изобличить меня не может, что я вам, как отцу моему, по чистой совести доношу; а что мне мало доброжелателей, что делать, буди воля Божия, только б я был в совести моей чист! Я уповаю, Бог меня не оставит в моей правде, и никто меня не съест, естьли он не попустит своей на меня казни»{203}.
Архиерею не удалось «съесть» губернатора — Синод начал расследование его злоупотреблений. Однако и Волынский не одержал верх — 6 ноября Сенат принял решение о его отзыве в Москву и возвращении в Казань вице-губернатора Нефеда Кудрявцева. Для Артемия Петровича это означало передачу следствия на месте в руки его противников. Правда, назначенный новым начальником губернии князь Михаил Долгоруков заверил его в своей поддержке; но нижегородский вице-губернатор Иван Михайлович Волынский уже сообщил родственнику в письме о печальной участи сосланных князей Долгоруковых — недавних правителей, и опытный Волынский не мог не понимать, что голос представителя опального клана не будет иметь большого веса.
Из Казани губернатор еще раз послал прошение «на высочайшее имя», «дабы государыня известна была, что я невинен». Осенью 1730 года один за другим мчались в Москву надежные гонцы Волынского: денщик Пирожников, сержант Хомутов, подьячий Михаил Власов. Верный приказчик Андрей Курочкин разносил полученные письма по московским адресам и уведомлял барина о положении дел: «Сего ноября 14 числа получен ваш, государев, указ, при том и письма к вашему благодетелю чрез сержанта, господина Хомутова. И те, государь, письма, по подписанному, с ним обща разнесли. А сего ж, государь, ноября 20 числа в Москву привез и Петр Игнатьевич Дубасов, и с ним присланные письма все разнесены ж. И на те письма все сказали, что вам, государь, лучше ехать скорей в Москву, нежели там медлить, а о конвое и о подводах Семен Андреевич, Павел Иванович (генерал-прокурор Ягужинский. — И. К.) и князь Григорий Алексеевич Урусов сказали, что никак того указу сделать не можно. Присланное, государь, письмо ваше, государь, по совету Семена Андреевича с князь Алексеем Михайловичем (Черкасским. — И. К), Петром Игнатьевичем Дубасовым подано обер-камергеру господину Бирону, которое в то ж число у государыни и чтено при Семене Андреевиче, и на то де ничего не сказано, а о перемене, государь, вашей сделано имянным указом, а видно по архиерейскому оглашению, на что чаял все яко бы то и правда, а челобитью, государь, архиерейскому в Сенате о розыске определения никакого нет. А о принятии, государь, Казанской губернской канцелярии из Сенату Нефеду Кудрявцеву указ дан ноября 9 числа, и к вам такой же указ послан, а надеюсь, что Нефед Кудрявцов из Москвы выедет сегодня, а губернатором в Казань сказано князь Михаилу Володимировичу Долгорукову, а указу еще в Сенате не написано…»
Кажется, это письмо упоминает о первом заочном контакте Волынского с одной из главных придворных «персон» аннинского царствования. Впоследствии им предстоит познакомиться ближе, действовать совместно — а затем вступить в борьбу, исход которой окажется для нашего героя роковым. Но пока обер-камергер еще только входил «в силу» и своих суждений явно не высказывал, а Волынский выступал в роли одного из проштрафившихся провинциальных администраторов, чья судьба могла пока повисеть на волоске.
Своим гонцам Артемий Петрович вручал необходимые бумаги и подробные инструкции:
«1. Приехав, осведомиться, как скоро отправляется новой сюды губернатор, и с тем прислать нарочного наскоро.
2. Внушить Семену Андреевичу и прочим, хотя разсуждают пользу мне в моей перемене, а мне оная конечное принесла разорение, какова на меня не бывало, понеже я по обнадеживанию их забрался сюды со всем домом, где одних людей у меня человек со сто, а женатых с тридцать семей. И так мне хотя б и лишние прихоти посметать здесь, однако ж и с нуждами чего обставить нельзя, вряд на двести подвод убраться, кроме своих лошадей…»
Почтенный «дядя» должен был понять, что нельзя зимой гнать несколько десятков породистых лошадей, которые «от одной стужи все помрут»: «Как же то не самое мне разорение стало? А естли б весною мне отсюды ехать и чтоб до майя месяца не переменили меня, чтоб я всего того разорения миновал и собрался водою безо всякого лишнего убытка!» Видимо, своими красавцами Волынский очень дорожил. Только после них он писал о своих детях «малых и деликатных, которые не только на двор ходить, но и сеней, за слабостью здоровья, мало знают; а мне их оставить не на кого, а везти с собою зимою я их застужу и могу поморить. Ежели б жива была покойная жена моя, я бы не тужил о том, хотя и здесь оставить».
Свое «отрешение» губернатор считал обидным и несправедливым («всяк будет думать, что я отрешен за вину какую»), поскольку его противник-архиерей и Кудрявцев сохранили свои места и в их руках остались учреждения, где находились «все к тому следствию надлежащие дела и все справки, а в моих руках того ничего не будет»: «…какой же тот будет правой розыск? Понеже что надобно, тово будет и сыскать негде».
Анна Иоанновна своим указом от 28 ноября 1730 года назначила генерал-майора Волынского на службу в Низовой корпус{204}. Для иного администратора это был шанс выйти из неприятной ситуации с достоинством: командировка в заморскую «горячую точку» делала человека недосягаемым для следствия; оно бы «позалеглось», и генерал-победитель возвратился с наградой. Но Артемий Петрович, уверенный в своей правоте, просил, чтобы в Казань были присланы гвардейские офицеры и провели беспристрастное расследование (или, в крайнем случае, «чтоб в Москве следовать»).
Совету сына канцлера Головкина — жениться на одной из фрейлин императорской сестры — он следовать отказался: «…говорил Михайло Гаврилович, чтоб я женился на которой-нибудь из трех сестер Салтыковых, которые живут при ее высочестве, государыне царевне, Екатерине Ивановне, обнадеживая, что если я женюсь, то мне все вины мои отпущены будут; а они такие госпожи, что никуды не годятся, и за тем досидели до сорока лет, что никто не берет. А мне, по мнению моему, душа моя и честь милее, нежели весь свет; для того хочу с совестью умереть, нежели последнюю половину века моего со стыдом и безпокойством совести моей доживать. Я бы не хотел и в постороннем доме видеть того, кто мне противен своими поступками; каково ж понятно мне с ним будет жить в моем доме, да еще и спать на одной постеле?»
В самом конце 1730 года или в начале 1731-го Артемий Петрович прибыл в Москву на старый отцовский двор на Рождественке. Едва ли возвращение было приятным: императрица на его прошение не ответила, а его противники (вслед за Кудрявцевым в Казань вернулся неутомимый Сильвестр) взяли ситуацию на месте в свои руки и нанесли, казалось, уже поверженному врагу еще несколько чувствительных ударов. «Случилося в Казани и еще одно дело, — вспоминал позднее Волынский, — которое немало помогло моему несчастию. Понеже Казанской губернии подчиненная провинция Соль-Камская безмерно запущена доимкою в кабацких и таможенных сборах, а оные на откупу многие сборы у тамошнего купца Турченинова, что я усмотря, по совести моей начал следовать от чего та доимка, взял табельные оклады и тамошние репорты и счел только один год и 9 месяцов (понеже только меня время допустило), но и в том коротком времени нашел на том одном купце сумнительных с 36 000 рублев, и он уже было во многом сам признался, а ежели б захватил я дале время, надеялся б сыскать и больше, токмо и то мне во вред стало…» Действовал Артемий Петрович по обыкновению сурово, и только Салтыков упросил его отпустить купца из заключения, где тот сидел «в железах», на поруки. Неудивительно, что в поступках губернатора его противники усмотрели не только неправомерную жестокость, но и корыстные намерения. Представители местного татарского населения подали на губернатора жалобу о том, что он приказал собирать с них деньги помимо положенных податей. Это было уже более серьезное обвинение, нежели охотничьи приключения или хозяйственные споры о дворах.
Однако и у Артемия Петровича нашлись друзья — отставной майор и казанский помещик князь Константин Кропоткин и секретари губернской канцелярии Яков Ключарев и Егор Аврамов. Князь обещал надзирать за винокуренным заводом Волынского, а хорошо осведомленные секретари спешно отправляли в Москву разведдонесения из вражеского стана о ходе расследования: «Вчерашнего числа Хвостов пришел в канцелярию и напомнил о деле и о зачотех з дворцовых крестьян и то намерен следовать»; «…подьячева Михаила Власова и денщика Пирожникова, которые летом ездили от вашего превосходительства в Сенат и в Синод, а к нему не зашли, сек жестоко батожьем»; «О подрядех велел изготовить выписки, якобы были многие передачи» (то есть завышение губернатором цен при закупках «припасов» для казны), «..нам, слыша о поношении и вреждении чести вашей, горко и обидно», — заверяли преданные агенты.
Мелочные обвинения митрополита отошли на второй план и всерьез уже не воспринимались. Но подтверждалась более опасная вина Волынского — летом 1730 года с ясачных татар производились незаконные сборы. «Против первого числа генваря ночью допрашивал <вице-губернатор Кудрявцев> сотника, а сидел до десятого часу, которой допросом показал, что собрал з дву дорог з души по три копейки и по пети денег — всего 450 рублев, отдал Василью Кубанцову за то, чтоб их к лесной работе не давать и бортолазов не имать», — докладывали секретари своему покровителю. Дело приобретало неблагоприятный оборот — под следствием оказалось 79 человек. Но сторонники Волынского не сдавались: «Однако ж секретно советовали мы, чтоб как можно другие сотники того ничего не показали, что и обещали зделать, да не надеемся, чтоб они в такой твердости устояли, понеже их стращает пыткою».
Всем было понятно, что начальник губернии сам денег от татар не брал — но их собирал его дворецкий Василий Кубанец. Опытные приказные нашли-таки способ «умедлить» расследование — дворецкому нужно исчезнуть: «Кубанца на время не соизволите ль отослать куда, чтоб при вас не был, для того, естли от них те допросы пришлютца в Москву, чтоб ево не захватили и не стали допрашивать, понеже видно, что и сотников пошлют, ибо они содержатся под караулом и в чепях». На худший случай Ключарев и Абрамов предлагали «патрону» сделать признание, чтобы опередить противников: «По нашему, государь, мнению не лутче ль вам, улуча час, не допущая оного, объявить ее величеству, что за вашу милость сотники давали в почесть» (то есть деньги губернатору давали не в качестве взятки, а в подарок из уважения к его особе и «милости»{205}).
Неожиданно ситуация вроде бы удачно разрешилась. 25 января 1731 года Кропоткин уведомил Артемия Петровича, что другие «татары и сотники» принесли в Казанскую губернскую канцелярию жалобу на прежних челобитчиков, «чтоб им не верить», и утверждали, что деньги с них собирались добровольно, «со всего мирского согласия» и не для губернатора, а для своих же выборных «на всякие расходы» по хлопотам в правительственных конторах, «чтоб ясашным татаром у работы карабельных лесов быть не повелено». Сумма вышла немалая, а путь до столицы был долгим и опасным, потому-то они «для провозу до Москвы с позволения ево, генерал майора господина Волынского, оные денги отдали ему Василью», то есть передали дворецкому на сохранение. Взятые деньги были возвращены хозяевам: в бумагах Артемия Петровича сохранились расписки, которыми татарские выборные представители в феврале 1731 года подтверждали получение «сполна» 2500 и 1100 рублей{206}.
Однако ему не поверили. К тому времени новые губернские власти прислали соответствующее донесение в Москву, и в марте 1731 года Сенат потребовал дворецкого к допросу — но он уже был отправлен в длительную «командировку» на Украину. Тогда сенаторы вызвали самого Волынского, однако повестка не нашла «съехавшего» со двора адресата. Рассерженная императрица 22 марта повелела посадить строптивца под «домовый арест» и приказала провести «инквизицию»{207}.
Бывший губернатор вынужден был явиться в Сенат и оправдываться, что деньги брал исключительно на «сохранение». Но его уже ожидали новые показания, из которых следовало, что сборы были не совсем добровольными, расписки не соответствовали действительности (на деле были возвращены лишь 800 рублей, а остальные «уступлены»), а челобитная против жалобщиков на губернатора составлена его же служителем Андреем Курочкиным. Подследственный поначалу заявлял, что многого «не упомнит»; если же он и отдал не все деньги, то потому, что заслужил вознаграждение, поскольку татарам «делал добра много»{208}. Но затем Артемий Петрович повел себя нестандартно. Он мог бы, как его противник-митрополит, и далее отговариваться, тянуть время, выискивать всё новые юридические зацепки и кляузничать на самих обвинителей. Но не пристало столбовому дворянину вести себя подобно сутяжному подьячему. И генерал-майор вызвал огонь на себя — в личном письме императрице признался в сборе с «ясашных иноверцев» трех тысяч рублей и просил «милосердого прощения».
Повинную голову меч не сечет, и Анна оценила поступок отчаянного «молодца». 28 сентября 1731 года был подписан именной указ о прощении виновного: «Понеже генерал маэор Артемей Волынской ее императорскому величеству всеподданнейше подал на письме повинную в разных взятках, которые он брал в бытность его в Казани губернатором и в чем от ее императорского величества всемилостивейше прощения просил. И того ради, в тех от него самого объявленных взятках он, Волынской, всемилостивейше прощен, и ее императорское величество указала его из под аресту освободить. А что по продолжающемуся о нем в Казанской губернии следствию еще впредь показано будет, о том донесть ее императорскому величеству, для всемилостивейшего рассмотрения»{209}.
Как видим, прощение было неполным и имело в виду продолжение следствия, да и Сенат был убежден, что если бы расследование продолжалось, «то в сборе с тех иноверцев еще столько явилось»{210}. Но пухлое дело о губернаторских злоупотреблениях так и осталось пылиться в сенатском архиве. Колесо Фортуны уже сделало оборот — видимо, Анне Иоанновне чем-то понравился бравый и обходительный генерал. К тому же и Салтыков явно замолвил слово за родственника, вовремя напомнив, что тот не поддержал попытку ограничения самодержавия, а такие вещи императрица не забывала. Следствие было свернуто, а верный Курочкин и денщики Волынского освобождены из-под стражи.
Одиннадцатого ноября 1731 года «обретающийся при армии» генерал-майор Волынский был назначен в Украинский корпус инспектором при кавалерии. Однако на этой должности он лишь числился, поскольку в декабре того же года по-прежнему занимался (вместе с доверенным лицом Анны Иоанновны — майором гвардии Иоганном Альбрехтом, охранявшим императрицу в памятный день возвращения ей «самодержавства») делом жуликоватого откупщика Турчанинова в составе комиссии «по недобору таможенных и кабацких доходов Соликамской провинции»{211}. В свое время начатое им разбирательство замерло, поскольку откупщик сумел поладить с присланными для расследования чиновниками. Но теперь Артемий Петрович сумел довести его до конца. Под самый Новый год они с Альбрехтом подали царице доклад, на основании которого посылавшийся для опечатывания имущества Турчанинова подпоручик гвардии Медведев был разжалован в рядовые, а полученные им в качестве взяток ценные вещи (меха и «китайские товары») и деньги отданы на нужды самой комиссии.
Следователи установили многочисленные прегрешения откупщика: он получил право на торговлю за подозрительно низкую сумму, завел собственные «неуказные» (построенные без разрешения) винокуренные заводы и питейные дома, в которых использовались «неправедные» ведра и прочие водочные меры. К июню комиссия насчитала, что с Турчанинова надлежит взять в казну 47 753 рубля, и начала их с него «править»; в сентябре Волынский доложил о взысканных десяти тысячах рублей, а в октябре — уже о 37 тысячах (за Турчанинова поручились богатые солепромышленники Строгановы){212}. Однако в то же время многие челобитчики не явились для повторной дачи показаний; по некоторым обвинениям Турчанинов отговаривался неведением либо объявлял, что виновные в злоупотреблениях приказчики бежали. Дело закончилось к всеобщему удовлетворению: по представлению самой комиссии в марте 1733 года Турчанинов был милостиво прощен и отпущен домой для сбора оставшихся денег; полученные с него десять тысяч рублей были пожалованы самому Артемию Петровичу на нужды Конюшенной канцелярии, которую он к тому времени возглавил{213}.
Эта довольно обычная служебная история имела неожиданное продолжение. Когда в 1740 году сам Волынский был обвинен во множестве преступлений, в Петербурге ходили слухи о том, что он «…лишил жизни и имущества купца Турч<ан>инова… основателя больших железных заводов и фабрик поблизости от Казани». Алчный губернатор якобы потребовал от него 20 тысяч рублей, обвинил промышленника в невыполнении своих обязательств перед казной, схватил его и держал в подвале своего московского дома, пока не получил деньги. Говорили, что Волынский, опасаясь, что вымогательство будет раскрыто, отравил Турч<ан>инова, а сын несчастного, узнав о судьбе отца, умер от страха. Эта записанная в изложении саксонских дипломатов неправдоподобная история показывает, как опальному министру создавалась негативная репутация{214}. На деле же следственная комиссия о злоупотреблениях Михаила Турчанинова вернула государству крупную сумму денег и дала Волынскому возможность реабилитировать себя после неприятной «казанской истории».
Дела же «безстыдного плута» митрополита Сильвестра обернулись к худшему. В его бумагах нашли осуждение церковных реформ Петра I. Снятый с должности архиерей потребовал, чтобы его судил Сенат; министры Анны постановили лишить его сана и заключить в Выборгскую крепость, где он и скончался в 1735 году.
У «конюшенных дел»
С тех пор карьера Артемия Петровича пошла вверх. 4 и 5 января 1732 года императрица подписала три документа. Резолюция на докладе майоpa И. Альбрехта повелевала прекратить следствие о делах казанского губернатора и его подчиненных; другим указом Артемию Петровичу вручалась «дирекция» над «учрежденной Конюшенной комиссией»; кроме того, Анна Иоанновна подтвердила патент Волынского на звание императорского генерал-адъютанта, дававший ему право передавать высочайшие распоряжения{215}.
Таким образом, наш герой приобрел положение при дворе, который стал важнейшим элементом структуры власти в послепетровской России. При Анне Иоанновне только штатных придворных чинов имелось 142 да еще 35 «за комплектом»; всего же вместе со «служителями» — прачками, лакеями и прочими — при дворе состояли 625 человек. Расходы на дворцовый штат возросли с 90 025 рублей в 1728 году до 163 308 рублей в 1739-м{216}. Повышение роли и престижа дворцовой службы отражалось в изменении чиновного статуса придворных. При Петре I камергер был приравнен к полковнику, а камер-юнкер — к капитану, при Анне ранг этих придворных должностей был повышен соответственно до генерал-майора и полковника, а высшие чины двора из четвертого класса по Табели о рангах перешли во второй. В это время именно придворный круг становится «трамплином» для будущей карьеры многих известных деятелей: Б.Г. Юсупов, М.Г. Головкин, Н.Ю. Трубецкой, М.Н. Волконский, П.С. Салтыков при Петре II и Анне Иоанновне, братья Шуваловы, Н.И. Панин, 3.Г. Чернышев при Елизавете начинали службу в качестве камер-юнкеров и камергеров.
Непростое утверждение Анны Иоанновны на «прародительском престоле» и ее недоверие к вельможам, пытавшимся ограничить ее власть и подписывавшим подозрительные проекты, вызвали чистку в рядах высшего государственного аппарата. Место сосланных Долгоруковых заняли близкие к Анне лица. Особый по значению и приближенности к особе императрицы пост обер-камергера после Меншикова и Ивана Долгорукова занял Эрнст Иоганн Бирон, чье имя стало символом правления Анны. В ноябре 1730 года были отправлены в отставку обер-гофмейстер М.Д. Олсуфьев и весь штат дворцовой канцелярии во главе с ее начальником А.Н. Елагиным (оба они подписывали «шляхетские» проекты в 1730 году).
Новым обер-гофмейстером стал С.А. Салтыков, обер-гофмаршалом — Р. Левенвольде; обер-шталмейстером — П.И. Ягужинский. Высшие чины двора получили специальные должностные инструкции. Для прочих по приказу императрицы было составлено «клятвенное обещание дворцовых служителей», согласно которому придворная челядь (лакеи, «арапы», истопники и даже неопределенных занятий «бабы») обязывалась свою службу «со всякой молчаливостью тайно содержать» и «тщательно доносить» обо всех подозрительных вещах.
В системе придворных учреждений конюшенное ведомство являлось одним из важнейших и фактически исполняло общегосударственные функции — и не только потому, что в доавтомобильную эпоху лошади были главным средством передвижения для всех должностных лиц, а красота придворного выезда существенно влияла на престиж державы. Оно получило задачу обеспечить войска пригодным конским составом. В Нечерноземной России с ее неплодородными почвами и коротким рабочим сезоном крестьянин часто не успевал обработать всю свою надельную землю и уж тем более заготовить на весь год корм для животных. Малорослых лошадей и коров приходилось кормить соломой, и к весне, писали опытные дворяне-хозяева в XVIII веке, «без жалости на скотину взглянуть не можно. Тут она обыкновенно и мрет».
Создание регулярной армии с эффективной кавалерией, обозами и артиллерийским парком требовало около семидесяти тысяч лошадей, которых приходилось скоро заменять. За годы Северной войны бесчисленные конские наборы шли один за другим, а качество поголовья всё ухудшалось. Для полков тяжелой кавалерии (латников-кирасиров) подходящих коней не было, и приходилось приобретать их за границей.
Прежнее руководство придворными конюшнями было «отрешено» от дел. 11 мая 1732 года именной высочайший указ Сенату отмечал, что в армии «лошади по породе своей к стрельбе и порядочному строю весьма неспособны». Задачу «нашу кавалерию в доброе и к военной службе потребное и полезное состояние привесть» было поручено исполнить обер-гофмаршальскому брату — «обер-шталмейстеру, гвардии полковнику и генерал-адъютанту» графу Карлу Густаву фон Левенвольде. Ему подчинялась «комиссия о размножении конских заводов» во главе с Волынским, при этом Артемий Петрович имел право в отсутствие начальника отчитываться непосредственно перед императрицей.
Указ предписывал «собственные наши… дворцовые конские заводы размножить и привести в добрый порядок, также и вновь в государстве нашем, усмотря к тому удобные места, заводить, и размножать по возможности особливые государственные конские заводы, дабы впредь со временем могли мы довольствовать как конную нашу гвардию, так и всю нашу кавалерию своими природными государства нашего лошадьми рослыми». Таким образом предполагалось экономить средства, отказавшись от закупок лошадей за границей. Кроме того, планировалось создать новую конскую породу, более выносливую и неприхотливую, чем немецкие, но более сильную, чем малорослые степные кони{217}.
Другой значимой причиной создания новой придворной комиссии было желание Бирона удалить от двора соперника — генерал-прокурора и обер-шталмейстера Павла Ягужинского. Обер-камергер и фаворит императрицы сам являлся «великим охотником до лошадей» и желал навести порядок на императорской конюшне, на которую тратилось около 100 тысяч рублей в год. Артемий Петрович в этом случае оказался человеком на редкость подходящим: он был знатоком лошадей (в этом он не уступал Бирону) и коннозаводчиком; после его смерти в казну отошли 362 лошади. Волынский составил «Регулу об лошадях как содержать и притом прилежно смотреть надлежит чтоб в добром призрении были», а в его библиотеке имелись книги «О лошадиных заводах», «Берейторская», «О заводе лошадей». К тому же он не любил генерал-прокурора и должен был служебным рвением оправдать прощение за прошлые грехи.
Ягужинский в ноябре 1731 года был отправлен послом в Берлин, а Волынский срочно выехал в Москву и уже в январе 1732-го представил государыне отчет о состоянии конюшенного хозяйства. Он насчитал на одиннадцати дворцовых конных заводах 231 жеребца и 1018 кобыл и доложил, что это количество «не по пропорции заводов; в некоторых местах жеребцов мало, а кобыл против того много, а инде жеребцов много, а против того кобыл мало»{218}. Следующее донесение извещало о необходимости срочного ремонта «конюшенных дворов, где ныне заводы, понеже оные дворы и конюшни все не годны и во многих местах развалилися». Затем Артемий Петрович рассказал об обнаруженных им «непорядках Конюшенного приказу» и подал подробный доклад о перспективах развития «лошадиных заводов». Для успешного развития отрасли он считал необходимым выбрать новые места для создания конных заводов при казачьих, солдатских или ясачных слободах с пригодными землями и лугами. В свою комиссию он просил назначить «канцелярских служителей» с жалованьем не меньшим, чем в коллегиях, и офицеров «для осматривания и описи удобных мест к заводам лошадиным» и предлагал кандидатуры: «…при том подполковник Андрей Змеов, который ныне при тайном советнике Наумове у пашенных солдат, из отставных майор Иван Наумов, капитан Петр Ермолов, адъютант Зимнинской». Еще были нужны строители и геодезисты «для описи мест и сочинения ландкарт». Все его предложения вошли в новый указ Сенату; власти же на местах были обязаны приискивать места для новых конных заводов и «по требованию помянутого ж генерал маэора Волынского давать из обретающихся в тех местах полков, кого требовано будет»{219}.
Третьего мая 1732 года Анна Иоанновна освободила Артемия Петровича от обязанностей инспектора по кавалерии в связи с переходом на службу по императорским конюшенным заводам. Выданная в том же месяце инструкция предписывала ему создать новые центры племенного коневодства в дворцовых волостях Нижегородской, Казанской, Воронежской и Белгородской губерний. Посланные им на места гвардейские офицеры должны были проверить качество земли, воды и трав, состояние жителей, количество и качество сена на покосах, обеспеченность будущих заводов лесом и дровами. Уже имевшееся на заводах поголовье надлежало «разобрать по доброте и по шерстям» и приобрести «немецких, датских и прочих природ чужестранных лошадей». Для работы на заводах предполагалось набрать 200 новых конюхов и отправить 50 грамотных мальчиков из семей духовенства в специальную школу «латинского языка читать и писать», чтобы они впоследствии могли лечить лошадей и работать с «иноземцами коновалами».
Волынскому было поручено руководить создаваемой в Москве (вместо упраздненного старого Конюшенного приказа) Конюшенной канцелярией и «подчиненными к ней конторами и при том над всеми приписанными городами, слободами и волостьми, и селами, и деревнями, которые до сего времени определены ведомством и дворцовыми доходами в Конюшенном приказе были». На службу в новый орган предстояло привлечь «из отставных офицеров, также и из дворян искусных людей, которые порядочно ведут в домех и деревнях своих экономию и имеют нарочитые свои домашние лошадиные заводы»{220}.
Найти подходящих сотрудников оказалось непросто. По инициативе Волынского его шеф Левенвольде подавал на утверждение императрицы представления о личном составе чиновников и обеспечении их жалованьем. В состав комиссии вошли рекомендованные Артемием Петровичем лица, а также опытные и хорошо знакомые с кавалерийской службой капитаны Лаврентий Бобынин, Федул Левшин, владелец завода и «охотник к лошадям» Федор Лопухин. Сам же председатель комиссии лично отбирал в Москве служащих и с трудом смог отыскать 12 человек — остальные оказались непригодны за «незнанием в делах», пьянством и старостью{221}.
Волынский взялся за дело ревностно. После отбытия его шефа Левенвольде в Польшу с посольской миссией теперь уже он подавал в Кабинет министров доношения о конюшенных делах: кто из его подчиненных куда послан, какие места для будущих заводов обследованы; заботился об обеспечении «конюшенных чинов» достойными окладами и докладывал об источниках доходов его ведомства{222}.
К тому времени он уже успел оценить влияние фаворита и вступил с ним в переписку. Он не упускал случая напомнить «милостивому государю моему патрону» о своем усердии и проделанной работе. С лета 1732 года одновременно с рапортами в Кабинет он докладывал Бирону о составлении предварительного списка мест для устройства конных заводов, о посещении подмосковных дворцовых сел и «разборе» имевшихся там лошадей, о необходимости заводить новые конные дворы, ибо «в редкой конюшне лошадей держать мошно» — даже в московской канцелярии «палаты» оказались непригодны для содержания животных.
Не забывал он и подчеркнуть свои заслуги: в короткий срок найдены и описаны пригодные для основания конных заводов территории, сделаны карты, учтен объем заготовок сена. Результат давался нелегко — в январе 1733 года в письме С.А. Салтыкову Артемий Петрович рассказывал, как во время осмотра мест будущих конюшенных заведений, «ездя по степям, от жестоких морозов и от вьюги два раза чуть на дороге не замерз, так что с великим трудом до жилья добился»{223}. Зато теперь, уведомлял он Бирона, «без сумнения имею надежду, что столько сыщется удобных мест для заводов, сколько заводить лошадей ее императорское величество соизволит, чему я безмерно рад». Заодно он указал влиятельному «патрону» на возможность использовать бывшие патриаршие владения, «где есть довольно сенных покосов, а ныне патриарха нет». К тому же и многие казенные земли и луга местной администрацией «отдаются в наймы за малую цену», тогда как его люди «на конюшни ее императорского величества принуждены были сена покупать великою ценою, и то был напрасный убыток»{224}.
Волынский не жаловался императорскому фавориту на трудности, но одним из первых догадался посылать ему «короткой на немецком языке экстракт для известия всему тому, что здесь в прежнюю мою бытность сделано». Он понимал, что длинные официальные донесения скучны и тяжелы для восприятия, но если весьма интересующийся делами обер-камергер получит сжатое и деловое сообщение — «что посылано и подавано в Кабинет, и то в разные времена писано пространно, а ныне нарочно я собрал все в один экстракт и как можно короче сделал, чтобы ваше сиятельство, милостивого государя, не утрудить тем, а о всем бы, как милостивому патрону моему, известно было», — то будет в курсе дел и можно будет попросить его «при случае, что потребно из того будет, о том милостиво внушить ее императорскому величеству, всемилостивейшей государыне»{225}.
Волынский знал, чем угодить знатоку-лошаднику Бирону: морем доставлялись из Ирана аргамаки, из Дагестана — «черкесские» жеребцы, с Украины — лучшие кобылы; последних отобрал лично Артемий Петрович: из присланных двенадцати оставил шесть, остальных забраковал — две лошади были слишком «щекасты», а у четырех оказались «головы сухи»{226}. Бирон не мог не оценить наведенного на конюшнях порядка. «Ныне, милостивый государь, при приезде моем жеребцов, кои по заводам, также которые и здесь годные есть на конюшнях, оных к припускам росписал и определил, к которому сколько каких кобыл по мнению моему рассудилось, прописав реэстры с нумерами всем кобылам и жеребцам именно, и с половины сего апреля начну припускать (для того поздно, что студено ныне время). О строениях доношу, что фуражный двор и остоженную конюшню делают, и надеюсь, недели через три нужные покои отделаны будут, куда с потешного двора переведу лошадей и в Кремле конюшни, где надлежит, буду разбирать и ломать своды, а в прочих местах пробирать стены и чинить то, чтоб нынешним летом отделать, также и запасный каменный двор буду делать», — докладывал Волынский фавориту 9 апреля 1733 года{227}.
Еще в марте он обратился к Бирону с просьбой произвести его в генерал-лейтенанты, но ответа не получил. Того же безуспешно просил для «племянника» и С.А. Салтыков — время наград для него еще не пришло{228}. Однако на прочие письма Артемия Петровича фаворит отвечал учтиво, сообщал новости и откликался на просьбы — при его поддержке (именно Бирон подал императрице его челобитную) Волынский получил разрешение не строить каменный дом в Петербурге, на который у него не хватало средств. (По указу Петра I от 28 января 1724 года владельцы от 2500 до 3500 крепостных душ должны были строить в столице каменные дома «на 8 саженях». По первой ревизии за Волынским числились 1058 собственных душ и 1492 полученные в приданое за женой, в сумме 2550 душ. По другим данным, у него было только 898 собственных душ, то есть всего семья владела 2390 крепостными{229}.)
В июне того же года Волынский сообщил в Петербург о необходимости ремонта конюшен на «потешном дворе» в Кремле и на «запасном конском дворе» и представил смету расходов. Однако, едва приступив к делу, он внезапно вынужден был вернуться на военную службу. Разразилась Война за польское наследство. После смерти Августа II при поддержке французских денег и с помощью французских дипломатов королем Польши во второй раз (впервые — по воле шведского короля Карла XII) был избран Станислав Лещинский. Находившиеся в Польше русский посол Фридрих Левенвольде и его старший брат Карл Густав не смогли предотвратить торжество французского ставленника. Начальник Волынского был послан в Вену для ведения переговоров о совместных действиях против Османской империи и больше уже ко двору не вернулся, отбыв по болезни в свое имение, где и умер в 1735 году. Австрия и Россия поддержали саксонского курфюрста Фридриха Августа, сына Августа II, и заключили договор о союзе, призванном не допустить утверждения французского влияния в Речи Посполитой и сохранить там анархические шляхетские «свободы».
На смену дипломатам пришлось отправлять армию. Артемий Петрович получил приказ выехать в Смоленск и двигаться с порученной ему «командой» (в нее входили драгуны, «сербские роты» и «нерегулярные» калмыки) к польской границе в составе корпуса генерал-лейтенанта А.Г. Загряжского. Оттуда он с шестью-семью тысячами драгун налегке двинулся на Гродно, о чем написал Бирону{230}. Одновременно подробный отчет о проделанной работе был отправлен императрице. С отъездом Волынского дела его ведомства не остановились — подобранные им толковые помощники столь же регулярно отчитывались перед Кабинетом министров{231}.
Под защитой вошедших на территорию Речи Посполитой русских войск оппозиционная Лещинскому конфедерация шляхты избрала королем Августа III (1733—1763). Сторонники Лещинского разгромили посольства России и Саксонии, в ответ армия генерала П.П. Ласси взяла с боем польскую столицу, захватив королевские регалии. 17 января 1734 года Август был коронован в Ченстохове.
Артемий Петрович с 2500 драгунами явился под Варшаву уже в начале октября, затем его части стояли в местечке Лович — заготавливали провиант и готовились к дальнейшим действиям{232}. Здесь Волынскому удалось поближе познакомиться — уже не в качестве скакавшего сломя голову курьера, а в ипостаси государственного деятеля — с польскими порядками и необычным государственным устройством шляхетской республики. Вместе с армией он двинулся к Гданьску — сильно укрепленному портовому городу, где укрылся Станислав.
К зиме русские войска окружили Гданьск; в феврале Волынский и брат фаворита генерал-лейтенант Карл Бирон осматривали городские укрепления и участвовали в атаке на неприятельский форпост, взяв в плен полсотни солдат{233}. Однако штурмовать сильную крепость без осадной артиллерии и подкреплений Ласси не мог. Весной армию возглавил прибывший из Петербурга Бурхард Христофор Миних. 6 марта он собрал в осадном лагере военный совет. Большинство присутствующих — генералы Ласси, Барятинский и Волынский — высказались за то, чтобы сосредоточить под городом больше сил и подвезти осадную артиллерию, чтобы обеспечить осаду и штурм Гданьска{234}. Миних же предпочел немедленно штурмовать предместье Шотланд и начать осаду. Волынский, участвовавший в рекогносцировках, позднее вспоминал, что командующий «завел шанцы и воинские де люди утруждены были работами великими и излишне тем людям было от него изнурение». Неудачный штурм форта Гагельсберг в апреле стоил армии почти двух тысяч погибших.
После нескольких месяцев осады Миних вынудил Гданьск к капитуляции. Лещинский был вынужден второй раз бежать из Польши, французский флот обращен русскими кораблями в бегство, а его двухтысячный десант после нескольких схваток капитулировал и был отправлен в Петербург. Большинство польских вельмож перешли на сторону Августа III. Но Артемий Петрович этой победы уже не застал. Под предлогом нездоровья он отбыл из армии, о чем доложил Бирону: «…по особливому несчастию моему приключилась мне злая животная болезнь, и так был несколько в великой опасности к смерти, и хотя потом некоторую свободу и получил, однакож не только верхом на лошади стало невозможно ездить, но и пешим ходить зело трудно, и затем от генерал-фельдмаршала Миниха отпущен в Санкт Петербург и прибыл сюда в Кенигсберг, где, взяв доктора, пользуюся, и побыв здесь некоторое время для пользования моего, а потом паки буду продолжать до Петербурга по возможности путь мой»{235}.
В столице он вновь с головой ушел в заботы Конюшенной канцелярии. Ему предстояло принять прибывших из Италии неаполитанских жеребцов и устроить для них удобную зимовку в Лифляндии, чтобы «от стужи лошади не повредились». Он же вел переписку с искавшими места для создания конных заводов офицерами и на основании поступивших сведений сочинял особую «табель».
За заслуги на коннозаводском поприще Волынский в декабре 1734 года был награжден чином генерал-лейтенанта. К тому времени организационный период деятельности Конюшенной канцелярии завершился. Ее структура и служебные обязанности персонала были определены в изданных в 1733 году «Штате» и «Регламенте или Уставе конюшенном». Присутствие включало шесть членов (советников и асессоров), казначея и 46 канцелярских служителей (секретарей, переводчиков, канцеляристов, подканцеляристов, копиистов, сторожей); там же трудились 36 стремянных и задворных конюхов{236}.
Канцелярия ведала старыми и вновь основанными конными заводами, строительством и ремонтом их зданий и персоналом — «конюшенными чинами»: на местах в штате состояло около 500 человек: шталмейстеры, управители, «служители конюшенного чина» (конюхи, коновалы и т. п.), работники мельниц, кузниц, кожевенных мастерских, причт церквей, ученики школ при заводах. Ей же подчинялось население приписанных к заводам территорий — конюшенные чиновники определяли налоги и повинности крестьян и судили их.
Обозрев свое хозяйство, начальник отметил многочисленные жалобы на управителей и их «многие неисправности»: заводские руководители наживались за казенный счет, притесняли крестьян (в бегах насчитывалось 1850 душ), а в коннозаводском деле мало смыслили. По докладу Волынского в 1736 году руководящие обязанности на заводах были разделены: управители ведали приписными крестьянами, пашней и покосами, обеспечением лошадей фуражом, а за содержание и разведение лошадей отвечали вновь назначенные унтер-шталмейстеры. Артемий Петрович подготовил проект нового штата и добился его утверждения императрицей. По его инициативе была введена новая должность штал-директора, в обязанности которого входил систематический надзор за порядком на заводах. По причине «малолюдства» своего ведомства Волынский потребовал (и получил) новых служащих из гвардейских кавалерийских унтер-офицеров и придворных берейторов (так в число подчиненных шталмейстеров попали Иоганн Кишкель и Адам Людвиг, сыгравшие роль «доносителей» на следствии в 1740 году). Годных канцеляристов он выписывал из провинциальных учреждений Нижнего Новгорода, Пензы, Ярославля, Твери — туда летели сенатские указы с требованием названным лицам «быть у дел» в Конюшенной канцелярии{237}.
Конфликтов стало больше — но злоупотребления уменьшились: управители и унтер-шталмейстеры взаимно контролировали друг друга. Провинившихся же начальник не щадил: в октябре 1737 года был уволен прапорщик Мещеринов «за продерзости и за пьянство» с лишением офицерского ранга, в 1739-м — штал-директор Лопухин за взятки с крестьян и по причине мешавшей исполнению служебных обязанностей подагры{238}. По инициативе начальника Конюшенной канцелярии на заводах появились «лековые конюшни» (конские лазареты) и «водогрейные очаги» с котлами для мытья породистых питомцев{239}. Он всячески отстаивал интересы своего ведомства: просил добавить дворцовых волостей, а мужиков освободить от взимания недоимок; докладывал об ущербе от московского пожара, случившегося в мае 1737 года, и требовал срочно справить мундиры «конюшенным служителям»{240}.
Подчиненные Волынского описывали и межевали отведенные земли и угодья, приобретали новых лошадей в России и за границей и распоряжались поставками заводных коней в армию и ко двору. Находившиеся в их ведении заводы имели специализацию: на Хорошевском держали упряжных лошадей; на Гавриловском, Богородском, Сидоровском имелись как верховые, так и упряжные и рабочие лошади; на Бронницком разводили верховых лошадей различных пород — «английской, испанской, персидской, турецкой, берберийской, арабской, черкасской, отчасти неаполитанской и русской».
В селе Пахрине находились завод и сводная конюшня, куда доставляли из других заводов молодых необъезженных жеребцов. На каждую лошадь составлялась родословная, а данные о ее приметах, росте и возрасте заносились в шнуровую книгу; на лопатке ставили клеймо с надписью «Его императорского величества Пахринская сводная конюшня». Их содержали «в особой чистоте, покое и довольстве»; трижды в неделю утром и вечером выводили на прогулку или проездку верхом. Служители конюшни обязаны были «поступать с лошадьми ласково, суровость и крику, а особливо побоев не употреблять».
В октябре 1739 года в конюшне находилось 317 лошадей и 12 верблюдов для перевозки кормов и речного песка для манежа. Лучших коней отбирали в производители на Скопинский, Хорошевский, Павшинский, Бронницкий и другие заводы, остальных сортировали по мастям и обучали: одних готовили для упряжки и хождения «в цугах», других — для верховой езды. Отсюда лошадей отправляли в Петербург — в придворные конюшни и Конную гвардию: в сентябре 1736 года в столицу отбыли 155 кобыл; в марте 1737-го — 120 жеребцов верховых и «в цуки»{241}. Оставшихся переводили на Остоженскую конюшню в Москве, где продавали с публичного торга «партикулярным людям».
Здесь были построены девять новых конюшен на 480 стойл, житницы, амбары, кузница, водогрейки, сенные сараи. На берегу реки Пахры выросла слободка для служителей из шести казарм и четырех светлиц. Рядом с церковью были возведены дворы смотрителя (с шестью комнатами) и коновальный, а близ жилой слободки — дом управителя и приказная изба. В штате конюшни числилось 136 человек: стадные и стряпчие конюхи, нарядчики, пять коновальных учеников под командой унтер-шталмейстера шведа Христофора Сенка.
В Бронницах строился конюшенный двор, кирпич для которого делали местные крестьяне. В 1735 году началась перестройка хорошевских конюшен — старые были холодными и не приспособленными для содержания лошадей европейских пород. Там же стала действовать школа для детей, собранных из конюшенных волостей «для обучения в школе латинского языка читать и писать, дабы оне могли знать на латинском языке имена трав и прочих медикаментов, принадлежащих для пользования лошадей». Уже в первый год набор составил 80 человек; для преподавания латинского и немецкого языков нанимались по контракту учителя из иностранцев.
Под управлением Волынского конское поголовье не увеличилось: в 1732 году на заводах состояло 3718 лошадей (из которых 287 оказались «не сысканы»), а к 1 января 1740-го — 3482. С другой стороны, оно существенно обновилось. За несколько лет для подведомственных одиннадцати заводов было куплено 584 жеребца — испанских, арабских, персидских, английских, неаполитанских, датских, немецких, «черкесских» и «кубанских»; еще столько же поступило из царских конюшен, гвардейских полков, личных заводов Анны Иоанновны в Прибалтике и конфискованного имущества опальных. Лошади с заводов выбывали в Конную гвардию, к «охоте птичьей и псовой», в подарок дипломатам; в 1739 году шесть скакунов поступили к Бирону. 1699 лошадей «повалилось» от болезней{242}.
По поводу устройства новых заводов Волынский в 1734 году доложил, что его подчиненными «сыскано и описано в разных губерниях и провинциях 104 места, на которых по довольству земель, по разсуждениям штаб и обер-офицеров, в репортах, присланных в комиссию, назначено, что можно на тех местах содержать в заводах до 36 190 лошадей». Были составлены подробные описи каждого пункта с указанием, сколько в нем годной под распашку земли и лугов.
Артемий Петрович понимал, что сразу вести строительство в полном масштабе едва ли возможно, и предупреждал, что «заводить оные заводы до 36 000 лошадей, мнится, и нужды нет». Он поставил кабинет-министрам целый ряд вопросов: сколько предстоит создавать заводов; какое количество жеребцов и кобыл надлежит содержать и каких пород — немецких или «иных каких»; возможно ли уменьшением налогов облегчить существование «обывателей», которые «приписаны будут к тем лошадиным заводам»?{243}
В марте 1735 года в Кабинете состоялось «рассуждение» о конных заводах с участием А.Б. Куракина, И.Ю. Трубецкого, П.П. Шафирова, М.Г. Головкина, А.Л. Нарышкина, Н.Ф. Головина и А.И. Ушакова. Они ознакомились с докладами Волынского и определили отвести 57 новых мест, для которых «быть в заводах жеребцам немецким до 840 жеребцов, а кобылам русским — украинским, татарским и башкирским, числом оных до 7000 кобыл»; для их содержания предполагалось использовать 74 638 приписных душ. 57 заводов должны были обойтись казне в 313 854 рубля с учетом постройки зданий, распашки и засева полей, в том числе за лошадей предполагалось заплатить 189 тысяч рублей. Кроме того, надо было набрать штат управителей, конюхов, кузнецов, коновалов, учетчиков, канцеляристов, на который предполагалось тратить 37 365 рублей в год.
По итогам «рассуждения» присутствующие решили для первого раза дать добро на приобретение тысячи кобыл, а «в будущие годы на оную покупку откуда деньги употребить, о том разсмотреть в Сенате и представить». Одновременно кабинет-министры поручили Волынскому дополнительно «для конских заводов… отыскать места в Малой России и в слободских полках и на государственных землях»{244}.
Сам Артемий Петрович понимал, что даже в урезанном варианте его проект является весьма затратным. Но он видел перспективу, а потому в другой записке убеждал: «Ежели заведены будут в государстве оные заводы, то из оных разсуждается та польза, что немецкие лошади ценою, как выше показано, приходят в государство от 60 до 70 рублей каждая в полк лошадь и за них на покупку деньги имеют выходить вон из государства как ныне, так и впредь всегда безвозвратно, а свои собственные лошади будут со всеми расходами приходить, по исчислению, по 29 рублев, и деньги оные будут обращаться в своем государстве, да сверх того, против покупки немецких лошадей, за всеми канцелярскими и заводными расходами и людям жалованья (не включая снятых с обывателей четырегривенных денег), чрез каждые 6 лет оставаться будет в казне денег близ 400 000 рублев. Еще же от оных заводов разсуждается и в том государству польза, что из тех заводов со временем старые жеребцы и кобылы продаваны будут, тако ж и из приплодных излишних надлежит продавать, хотя и ниже настоящих цен, однако ж от тех лошадей могут умножиться в государстве и в партикулярных заводах такие ж рослые лошади вместо того, что ныне мелких лошадей имеют»{245}.
Однако «штат и примерное исчисление о ново-учреждаемых конских заводах» поступили на рассмотрение министров 1 июля 1736 года — в самое неподходящее время{246}. В условиях начавшейся войны с Турцией денег в казне не нашлось, масштабный проект так и не был «апробован», и Артемий Петрович оба документа из канцелярии Кабинета «взял к себе». Была упразднена и сама «комиссия о размножении конских заводов».
Как и раньше, возвышение бывшего опального губернатора не всем нравилось. После смерти своего шефа Левенвольде Артемий Петрович вполне мог рассчитывать на пост обер-шталмейстера двора, но здесь его соперником выступил князь Александр Борисович Куракин. Сын знаменитого петровского дипломата, он когда-то и сам представлял интересы России в Париже, но после возвращения предпочел менее обременительные обязанности. «Князь Куракин умом и талантами наделен, но так предан пьянству, что затруднительно выбрать время, когда бы с ним о деле говорить», — характеризовали его прусские дипломаты. Однако при всём том князь был искусным придворным — своими манерами и шутками очаровал государыню (Анна пьяниц не любила, но Куракину сей грех прощала) и вошел в доверие к Бирону. В итоге он-то и получил чин обер-шталмейстера. Но чтобы не обижать деятельного Волынского, в мае 1736 года конюшенное ведомство было разделено на две части: собственно Конюшенную канцелярию и Придворную конюшенную контору со штатом в 445 человек. Волынский по-прежнему заведовал обширным хозяйством казенных конных заводов, а Куракину досталось распоряжаться царскими конюшнями и выездом в Петербурге, причем обоим учреждениям отпускались немалые деньги — по 50 тысяч рублей в год.
Волынский по-прежнему, вплоть до своей опалы и казни, руководил этим ведомством, хотя и уделял ему в последние годы меньше внимания — у него появились новые, более важные заботы. В 1735 году он по своей генерал-адъютантской должности объявлял именные указы государыни{247}. В феврале 1735 года Артемия Петровича назначили начальником следственной комиссии о «сибирских делах»{248}. Главным фигурантом этого дела оказался статский советник и бывший вице-губернатор Сибири Алексей Иванович Жолобов. Почти сразу же после его прибытия в Иркутск в 1731 году стали поступать на него жалобы в Тобольск и Москву. Жолобов жестоко расправлялся с недовольными его правлением — хватал и сажал на цепь; посланным арестовать его офицерам он оказал сопротивление — «обнажил свою шпагу и учинил противность». Каяться он не собирался и в свою очередь обвинил следователей — губернатора А.Л. Плещеева и бригадира А.М. Сухарева — в политическом преступлении. Тогда императрица поручила вести дело Волынскому как человеку решительному и вполне компетентному в губернаторских прегрешениях. Взятый в оборот, Жолобов повинился, что донес на следователей «от одной только своей злобы… и ко отбыванию от следствия», и признался в получении взяток на сумму 12 860 рублей. Но Артемий Петрович и его подчиненные установили, что признание было «неистинное» — только по векселям бывший вице-губернатор перевел жене из Сибири 32 600 рублей, а еще отправил пять драгоценных камней и пять пудов серебра; конфискованные же «пожитки» (меха, камни, золото, парча) были оценены в 32 176 рублей{249}. Однако и Сухарев оказался не без греха — в октябре 1735 года Волынский доложил о нем императрице и получил указание довести бригадира до суда за взятки и упущение «казенного интереса»{250}. Результаты работы прежнего следствия и комиссии Волынского с подчиненными ему гвардейскими офицерами отражены в нескольких томах с протоколами допросов, справками и «экстрактами»{251}. Под тяжестью улик Жолобов признался в злоупотреблениях, а потом совсем не к месту разоткровенничался — рассказал, как в свое время в Курляндии бил в пьяном виде самого Бирона. Следствие выяснило, что вице-губернатор собирал «с народа… лихоимством взятки золотом, серебром и прочим», присваивал часть жалованья казаков, вел с Китаем контрабандную торговлю верблюдами и лошадьми, установил незаконные сборы с крестьян. В отношении ясачных аборигенов он и вовсе не стеснялся — сам драл с них три шкуры и даже сборщиков ясака из местных казаков назначал за взятки; те же компенсировали свои затраты вымогательствами с «инородцев», последние из-за этого не смогли заплатить государству положенных в качестве ясака 8230 соболей.
Кончил Жолобов плохо: 9 июля 1736 года по утвержденному императрицей приговору ему была отсечена голова за то, что «презирая наши указы и присяжную должность, в бытность в Иркутске вице-губернатором злохитросными своими вымыслами чинил многие государственные преступления».
Одновременно с делами этой комиссии Артемий Петрович изложил Анне Иоанновне свое мнение по поводу поданного ей в январе 1735 года проекта «о экономических и промышленных нуждах России», который она велела обсудить в «генеральном собрании» кабинет-министров с участием других высших должностных лиц{252}. На основе своего губернаторского опыта и практики работы на окраинах Артемий Петрович соглашался с автором проекта насчет необходимости увеличения податей с «инородцев», поскольку многие из них, живя в плодородных местностях и имея значительные стада, весьма богаты, а платят меньше природных русских, тогда как в других государствах «иноверцы платят больше туземцев». Надо только стараться избегать излишнего притеснения царской администрацией этих «простых и легкосердых людей», которые «от тамошних воевод отягчены и от тех офицеров, которые бывают у сборов подушных денег»: «пользуются властно, как бы собственными своими крестьянами» (ему ли не знать!).
Проект касался болезненной для государства проблемы бегства крестьян в условиях неурожая 1733—1734 годов, когда в калужских или смоленских деревнях и даже под Москвой крестьяне питались травой, мхом и «гнилой колодой», от нее «ноги и живот пухнут и в голове бывает лом великий, отчего и умирают». Волынский поддержал предложение не увеличивать налоговую тяжесть на оставшихся и провести «ревизию» в местах поселения беглых, но не считал полезным возвращать их (если не владельческих, то, по крайней мере, дворцовых), тем более на скудные земли: «Какой несносный труд будет, что он столько лет был в бегах, а тем временем земля без него не только удернела, но инде уж и лесом поросла, и то все расчищать и распахивать ему сизнова надобно, а при том и дом себе надобно строить новый, понеже старого сыскать будет негде; такожде скотом и хлебом надобно ему заводиться вновь… исправить себя и в совершенное состояние притить уже ни в пять лет не может». Другое дело, что надо увеличить штраф за укрывательство беглых, беря его с крестьян не деньгами, а хлебом, что поможет обеспечить гарнизоны на окраинах.
Артемий Петрович поддерживал содержавшиеся в проекте предложения учредить «запасные хлебные магазины» на случай неурожая и ограничить число винокуренных заводов. Будучи сам владельцем такого завода, Волынский тем не менее полагал, что распространение винокурения сокращает количество хлеба на рынке: «…несколько сот тысяч людей или милионов душ от безхлебицы крайнюю нужду и глад терпят, понеже содержатели винокуренных заводов отнимают сильно пропитание у подлого народа излишними наддачами в ценах хлебных. А если б не они, то конечно, не была бы в государстве такая хлебная скудость, и народ бы так голоду не претерпевал, какой ныне во многих местах есть». В этом он видел явный «государственный убыток» и предлагал «в малохлебных местах» (Новгородской, Московской, Смоленской и Нижегородской губерниях) винокуренные заводы «разорить», тем более что работающие на них крестьяне «лытают от места до места в легких работах и сами ядят хлеб от чюжих рук, а не от своих земледельных трудов (так как мыши) вместо того, чтоб самим в пользу государственную им пахать свою землю», вино же для кабацкой продажи покупать на Украине и в Прибалтике. Волынский предвидел в случае уменьшения числа винокуренных заводов сокращение питейных сборов, «но что из двух, по совести, лучше разсуждать: то ли, что некоторой будет недобор на кабаках, или то, что народ во многих местах погибает от глада?»{253}.
За исключением появления нескольких «хлебных магазинов», пункты проекта так и остались неосуществленными: подати с инородцев не увеличили, винокуренные заводы в бесхлебных месгах не уничтожили (власти покупали хлеб для раздачи голодающим), а бежавших от голода крестьян по-прежнему ловили и возвращали владельцам. Однако именно обсуждение и осмысление таких проблем формировали уровень государственного мышления Артемия Петровича и его представления о путях реформ.
Царская охота
Двадцать восьмого января 1736 года Волынский был пожалован в обер-егермейстеры «в ранге полного генерала», то есть в свете охотничьих пристрастий императрицы и Бирона занял весьма важную должность{254}. Патент на пергамене с золотыми заставками и печатью «на красном воску», обернутый в золотую парчу, хранился в особом серебряном «ковчеге». 15 марта новый начальник придворной охоты был впервые персонально отмечен в придворном журнале в числе гостей на банкете по случаю бракосочетания дочери австрийского императора Карла VI — наравне с Бироном, иностранными послами и первыми вельможами — А.М. Черкасским, Р. Левенвольде, А.Б. Куракиным{255}.
На практике же его ожидали весьма хлопотные обязанности. Как известно, Анна Иоанновна очень любила стрелять — во дворце у окон стояли заряженные ружья, и царица не упускала случая пальнуть по птицам. По описи 1737 года главная охотница империи располагала арсеналом из 91 фузеи, 32 штуцеров, 54 винтовок, 30 пищалей, 11 мушкетонов, 2 мортирок и 46 пар пистолетов, также находившимся под надзором обер-егермейстера{256}.
Стрелять должны были и все придворные, желавшие заслужить благоволение государыни. Артемий Петрович доверие оправдал и тешил Анну с размахом. 1 июля 1736 года он представил императрице доклад вместе со штатами «птичной, псовой и звериной охот». Только охотничья «команда» во главе с обер-егерем Бемом состояла из шестидесяти четырех человек и обходилась в 3015 рублей жалованья{257}; все же расходы на охоту в 1740 году превысили 8300 рублей. Обер-егермейстер доставлял в Петергоф сотни зайцев и куропаток, строил специальный «двор для ловления волков»; в загородные зверинцы животных привозили не только из разных областей России, но и из Сибири и даже из Ирана.
Правда, порой царская охота напоминала бойню: прямо во дворе Зимнего дворца валили кабанов; в Летнем саду свора гончих травила медведей, волков, лисиц. В Петергофе устраивались большие охоты на птиц и зверей с призами — золотыми кольцами и бриллиантовыми перстнями. «Всемилостивейшая государыня изволила потешаться охотой на дикую свинью, которую изволила из собственных рук застрелить»; «с 10-го июня по 6-е августа ее величество, для особливого своего удовольствия, как парфорсною (с гончими собаками. — И. К.) охотою, так и собственноручно, следующих зверей и птиц застрелить изволила: 9 оленей, 16 диких коз, 4 кабана, 1 волка, 374 зайца, 68 диких уток и 16 больших морских птиц», — сообщали об охотничьих забавах двора «Санкт-Петербургские ведомости». Полуистлевшие «арестованные» бумаги Артемия Петровича свидетельствуют, что он вел учет, сколько «оленей и свиней ее императорское величество застрелить изволила», но цифр, увы, не сохранили{258}.
Зимой 1737 года Анна Иоанновна изволила «едва не ежедневно по часу перед полуднем… смотрением в Зимнем доме медвежьей и волчьей травли забавляться», а потому запас зверей быстро подошел к концу. Волынский доложил Сенату о необходимости доставки ко двору медведей, поскольку из имевшихся одни уже были затравлены, а другие изранены настолько, что больше их «травить уже не можно», и сенаторам пришлось распорядиться о закупке зверей на Новгородчине. В другой раз императрицу обеспокоило отсутствие куропаток и зайцев в Петергофе — пришлось первых завозить с Украины, а вторых опять же из новгородских лесов: тамошнему вице-губернатору указом кабинет-министров предписывалось изловить сотню зайцев тенетами, каждого посадить в особый ящик и доставить «водой» в Петербург в Канцелярию обер-егермейстерских дел{259}. Так же для придворных охот собирали со всей России волков, кабанов, оленей, лисиц.
Впрочем, таким же образом развлекались в то время и другие монархи. В Берлине по медведям стрелял король Фридрих Вильгельм I, а в Дрездене с королевским размахом гулял Август III, о чем писали «Санкт-Петербургские ведомости» в марте 1740 года: «В высокий день рождения ее императорского величества императрицы всероссийской изволил его королевское величество от своих министров и других знатных персон сам торжеством принесенные всепокорные поздравлении принять; а потом с ее величеством королевою, также с принцами и принцессами, в провожании всего придворного стата в егерские палаты идти для смотрения звериной травли, которая с девятого часу утра до первого часа по полудни продолжалась. Туда приведены были разные звери, а именно лев со львицею, бабр, леопард, тигр, рысь, три медведя, волк, дикой бык, два буйвола, корова с теленком, ослица, жеребец, две дикие лошади и двенадцать превеликих кабанов. Лев с медведем того же часа на диких свиней напали и, убив их, стали есть. Леопард принялся за теленка, а дикой бык ослицу рогами убил. Другой медведь атаковал волка и несколько раз к верьху ево так бросал, что волк, от него ушедши, к диким свиньям прибежал. Король после того из своих рук рысь и медведя застрелил; а по окончании сей травли изволил его величество с принцами и принцессами в большой сале (зале. — И. К.) сего егерского дому за особливым на сорок персон приготовленным столом кушать».
Артемий Петрович и сам был охотником. У него было много охотничьих собак: датских, гончих и борзых разных пород: курляндских брудастых, «хортых польских», «арлекинов чистопсовых» и др. Подбирал он их со знанием дела и азартом истинного знатока. «Сколько велик, что в наклоне аршин три вершка, и столько хорош, что я, хотя уже не одну тысячу в жизнь мою видел собак, только истинно такой беспорочной от роду мало видел… Мне безумно будет жаль, если оная собака, не оставя здесь плода, увезена будет, за которую он подлинно одному шляхтичу заплатил всего больше, как 400 ефимков», — восхищался он борзым кобелем польского посла в письме «дяде» С.А. Салтыкову в 1734 году.
В ведении обер-егермейстера находились необходимое охотничье снаряжение, «седельная казна», он отвечал за обеспечение штата «мундиром» и жалованьем. Артемий Петрович управлял и московским зверинцем в селе Измайлове. Здесь в 1740 году имелось 156 «борзых, гончих, меделянских, датских, лошьих и других»; сюда же в 1738-м он отдал при отъезде в Петербург собственную «псовую охоту» из тридцати шести собак. В Северной столице на его попечении в сентябре 1740 года числились 183 собаки, в том числе для травли оленей — 60, для травли зайцев — 60, борзых — 19, русских различных родов — 15, больших меделянских — 21, такселей — 6, датских — 2 и трюфельных (обученных искать трюфели. — И. К.) — 2, и 52 охотничьи лошади.
Подчиненные Волынского составляли подробные описания роста и экстерьера своих питомцев. Об императорской псарне должны были заботиться и дипломаты. В последний год жизни государыни Анны посол Антиох Кантемир купил для нее в Париже 34 пары бассетов, заплатив 1100 рублей, а его лондонский коллега князь Иван Щербатов отправил ко двору 63 пары «малых гончих биклесов», борзых и других — всего на сумму 481 фунт стерлингов (2240 рублей).
Составлялись отчеты о разведении собак и работах по улучшению пород. Первым таким документом явился в 1738 году реестр, «сколько ныне в Москве при псовой ее императорского величества охоте и собственности его превосходительства кабинетного министра и обер-егермейстера Артемия Петровича Волынского собак на лицо, и что из которых, по разсмотрению его превосходительства, размечено оставить впредь в охоте и взять в Петербург и сбыть со двора»{260}.
В его же ведении находились зверинцы, а также охотничьи дворы — на них содержались животные, которых императрица «изволила стрелять» собственноручно. Главный Зверовой двор на месте нынешнего Инженерного замка в Петербурге занимал обширную территорию, обнесенную высоким деревянным забором. На дворе устроены были «покои» для животных с каменными фундаментами «для лучшей зверям теплоты». В одном из них помещались две доставленные из Англии львицы; в другом — два «бабра» (леопарда), в остальных — рысь, чернобурая лисица и три мартышки. Четыре белых медведя содержались в особом «остроге» со специально вырытым прудом, а представители других медвежьих пород — в «медвежьих дворах» за Невой около Охты.
«Весьма приятны маленькие беседки и птичник с орлами, журавлями, аистами, цаплями, павлинами и т. д. и т. п. Также и большой пруд для водоплавающих птиц с гнездами у берегов и беседкой посередине. Белые лисы, соболя и тому подобные небольшие звери тоже имеют в этом саду свои отгороженные места» — таким увидел в 1736 году Летний сад российской столицы шведский ученый Карл Берк. В этом и других дворцовых садах в больших клетках-«менажереях» содержались птицы: соловьи, журавлики, зяблики, снегири, овсянки, реполовы, дубоноски, чижи и чечетки; в особых «покоях» помещались экзотические страусы. Там же находилась дичь — тетерева и куропатки, предназначавшиеся для царских охот.
На берегах Фонтанки располагались Малый зверинец и Слоновый двор. В первом содержались вывезенные из Англии индийские и американские олени («малая американская дичина») и дикие козы. На обширном Слоновом дворе квартировал доставленный в 1737 году из Ирана слон, при котором состоял персидский «слоновый учитель», обязанный ухаживать за великаном и гулять с ним по городским улицам. На корм слону полагалось в год «корицы, кордамону, мушкатных орехов — по 7 фунтов 58 золотников каждого сорта, шафрану — 1 фунт 68 золотников, сахару — 27 пудов 36 фунтов 4 золотника, пшена сорочинского (риса. — И. К.) —136 пудов 36 фунтов, муки пшеничной — 365 пудов, тростника сухого — 1500 пудов», а также 40 ведер виноградного вина и 60 ведер водки. Постоялец был разборчив в напитках, и однажды «слоновый учитель» пожаловался, что водка «к удовольствию слона не удобна, понеже явилась с пригарью и не крепка».
В зверинце Петергофа содержались дикие кабаны, тигры, барсы, росомахи, бобры, кабаны, буйволы. Здесь была выстроена специальная беседка под названием Темпль. Зверей выгоняли на площадку перед беседкой, и императрица стреляла по ним из окон. От той эпохи чудом сохранились два вольера-птичника, где размещались клетки с канарейками, соловьями, попугаями и экзотическими колибри.
Императрица периодически интересовалась своими приобретениями. «Пред несколько днями отдана к здешнему двору из Англии сюда привезенная великая птица Струе или Строфокамил (страус. — И. К.), которая ныне с другими птицами в императорской менажерии содержится. Третьего дня по обеде имел персидской посол у ее императорского величества аудиэнцию. Потом приведен был индейцами и персианами пред Летний дом от Надыр шаха к ее императорскому величеству в дар присланной остиндской слон в полном своем наряде. Ее императорское величество изволила оного видеть и разных проб его проворства и силы более часа смотреть», — извещала столичная газета19 мая 1737 года.
За несколько лет на посту обер-егермейстера Артемий Петрович превратил царское развлечение в самостоятельное придворное ведомство, впоследствии получившее название Обер-егермейстерской канцелярии и Управления императорской охоты. Первый штат придворной охотничьей службы в 1740 году определил компетенцию и статус персонала (егерской команды; «псовой», «зверовой» и «птичьей» «охот»; служащих зверинцев), размеры финансирования и количество содержавшихся зверей, птиц, собак и лошадей. Летом этого года в ведомстве обер-егермейстера состояло 96 человек в Петербурге и Петергофе, находилось 185 собак, 52 лошади и 136 голов всякого зверья — лис, рысей, кабанов, американских оленей, львов, зубров, медведей, включая слона. В Москве по нему числились 79 охотников и «служителей» с 148 собаками, 15 лошадями, ловчими птицами и точно не подсчитанным звериным поголовьем — одних только зайцев содержалось 700 штук{261}.
Получив под свой контроль «потешные» дворцовые структуры, Волынский руководил ими вплоть до своего ареста в апреле 1740 года. С получением ответственного придворного поста и чина генерал-аншефа (второй класс по Табели о рангах) он прочно занял место среди высшей имперской бюрократии — теперь его не раз приглашали на заседания Кабинета{262}. Чем выше он поднимался, тем сложнее становились новые поручения — но энергичный и талантливый Волынский был способен выполнить любое.
Артемий Петрович зарекомендовал себя не только «конским охотником», но и вполне «благонадежным» слугой: в 1736 году он участвовал в суде над Д.М. Голицыным. Князь Дмитрий Михайлович был одним из лидеров Верховного тайного совета, пытавшегося ограничить самодержавие Анны Иоанновны в 1730 году, и она этого не забыла. Несколько лет старого министра не трогали, тем более что он сам по болезни устранился от дел и жил в своем имении Архангельском, но в 1736 году о нем вспомнили. Причиной начавшегося следствия стало обычное дело — князь помог зятю, Константину Кантемиру, получить наследство отца вопреки его завещанию. Сенат решил спор между зятем Голицына и его мачехой в пользу первого, но проигравшая сторона апеллировала к императрице. Для рассмотрения жалобы была учреждена комиссия, в которую входили А.П. Волынский, князь А.Б. Куракин, адмирал Н.Ф. Головин, гофмаршал Д.А. Шепелев и генерал-полицеймейстер В.Ф. Салтыков. Решение Сената было признано неверным, а виновником объявлен старый князь.
Судебное присутствие, или «Генеральное собрание» по делу Д.М. Голицына состояло из двадцати человек: кабинет-министры, сенаторы и еще ряд высших должностных лиц; среди них были как приятели Артемия Петровича (В.А. Урусов, П.И. Мусин-Пушкин), так и те, кто через несколько лет будет «следовать» и судить его самого, — И.И. Неплюев, А.И. Ушаков. Суд над князем занял всего один день, вина его по обнаруженным документам и показаниям свидетелей была признана явной, и вынесенная 7 января 1737 года «сентенция» осуждала его на смерть{263}. Осужденный за не слишком значительные по нормам той эпохи служебные злоупотребления, Дмитрий Михайлович был помилован, но угодил в каземат Шлиссельбургской крепости, где в том же году умер.
Артемий Петрович, скорее всего, понимал, что князь пострадал за свою роль в событиях 1730 года, но сам он и тогда не одобрял действий министров-«верховников», и теперь едва ли сочувствовал вельможе, который демонстрировал свою оппозиционность — «отговаривался всегда болезнью, не хотя государыне и государству по должности своей служить, положенных на него дел не отправлял». К тому же состав самой такой комиссии и ее полномочия не были регламентированы никакими законами — всё решала воля монархини. Даже если подобное «Генеральное собрание» и созывалось, то, по сути, судом не являлось, а лишь утверждало обвинительное заключение следствия и выносило заранее предрешенный приговор. Другое дело, что, находясь в числе судей, он не мог не задуматься о том, что любой из его коллег способен оказаться на месте подсудимого: административные грехи имелись почти у всех высших чиновников, а законов, защищавших их личность и честь от царского произвола, не было…
Немировская дипломатия
Наверное, Артемий Петрович с радостью вырвался из столицы. В 1736 году началась Русско-турецкая война. Был взят Азов. Пройдя безводные степи, войска под командованием фельдмаршала Миниха впервые вторглись в Крым. Армия без боя заняла ханскую столицу Бахчисарай, но вынуждена были повернуть обратно. Татарская конница угоняла лошадей и скот во время стоянок, нападала на фуражиров и обозы. Не хватало провианта, а непривычная еда и плохая вода вызывали массовые заболевания. Оборотной стороной славы вторжения в недосягаемые прежде владения хана стали огромные потери: от болезней погибло 30 тысяч солдат и офицеров — более половины личного состава, тогда как на поле боя пали всего две тысячи человек. Опасаясь совместных русско-австрийских действий, турки весной 1737 года согласились на переговоры. Императрица отправила на конгресс в пограничный польский город Немиров делегацию во главе со старым знакомым Артемия Петровича Петром Шафировым; вторым послом был назначен сам Волынский; третьим — Иван Неплюев, долгое время бывший резидентом в Стамбуле. Военные действия при этом не прерывались — армия Миниха готовилась брать турецкую крепость Очаков рядом с устьем Днепра, а армия фельдмаршала Ласси вновь двинулась в Крым.
Обер-егермейстер получил на дорогу годовое жалованье и отбыл в Москву, где в кругу семьи задержался, так что в начале мая получил выговор за промедление. Там он должным образом экипировался. По старому московскому обычаю Анна Иоанновна решила приодеть посла и распорядилась «…из конфискованных пожитков вещи отпустить ему за поставленные цены без переторжки». «И по тому ее императорского величества указу, отобранное им, господином Волынским… по цене на 680 рублев на 61 копейку, ему отпущено, и те деньги у него приняты. Да сверх того отдано ему же, господину Волынскому из конфискованных же пожитков кафтан дикой атласной, шит китайским образцом; доха камчатая, шита на бельем меху; доха же шита шелком на бельем же меху; шапка низана бисером; рукавицы якуцкие, шиты по китайски, по цене на 10 рублев»{264}. (По возвращении с конгресса дипломат исправно сдал полученные напрокат кафтан, доху и другие вещи в Канцелярию конфискации{265}.) Кроме того, государыня выдала Волынскому «в награждение тысячу рублев, которые деньги и имеете вы, прибыв в Москву, взять по сему нашему указу из Конюшенной канцелярии из наличных денег, остаточных за годовыми расходами». 17 июня он на целом поезде из шестидесяти подвод (в первоначально намеченных пятидесяти телегах весь багаж не поместился) отправился на юг — в края, где прошла его боевая молодость. 11 июля послы прибыли в заштатный городишко, где негде было даже разместиться их свите — в итоге разбили шатры в дубовой роще. Дипломаты рассчитывали на «добрые диспозиции»: союзники-австрийцы наконец вступили в войну на Балканах, а Миних 2 июля стремительным штурмом взял Очаков.
Врученная послам инструкция предусматривала заключение мира на наивыгодных условиях — передачу России Крыма и всего северного побережья Черного моря от Кубани до Днестра; впрочем, Остерман допускал сохранение Крыма под властью султана, но с оговоркой, чтобы он убрал оттуда беспокойных татар и поселил на их место «другого закону подданных турецких». В случае же дальнейшего «преуспевания наших военных действ» надлежало требовать у турок провести границу по Дунаю, а Валахию и Молдавию объявить независимыми «удельными особливыми княжествами» под протекторатом России.
Артемий Волынский, вероятно, в этот момент гордился: спустя 25 лет после неудачного Прутского похода он — теперь уже не молодой офицер, а полномочный посол — должен был не просить, а диктовать туркам мир. Но вскоре прибывавшие в посольские шатры донесения с театра военных действий радовать перестали. Австрийские войска после первых успехов в Сербии и Валахии начали терпеть поражения и оставили занятый ими Бухарест. Миниху же пришлось срочно уводить из Очакова победоносную армию — она таяла из-за болезней, и фельдмаршал писал Бирону, что его солдаты «умирают, как мухи». Армия Ласси после безрезультатного похода в Крым также страдала от голода и болезней. Молдавия и Валахия стали причиной раздора среди союзников — австрийцы подали письменный протест против русских предложений и в ультимативной форме сообщили туркам свои претензии на Боснию и большую часть Валахии.
В этих условиях Шафиров и Волынский вынуждены были отступить от первоначальных требований — теперь они рассчитывали получить Азов, Очаков и причерноморские степи от Кубани до Днестра. Турецкие же дипломаты объявили перерыв до получения инструкций из Стамбула. Чтобы выйти из наметившегося тупика, Остерман разрешил начать сепаратные переговоры. 16 августа Артемий Петрович отправился с частным визитом к главе турецкой делегации — реис-эфенди (министру иностранных дел). На совместной прогулке турок заявил, что его страна желает мира с Россией, но австрийцы «корыстоваться хотят, а для того не знают, кого из двух удовольствовать». «На то, — доносил Волынский, — я сказал, что они легко могут разсудить, кого прежде удовольствовать надобно и кто главная воюющая сторона. Лукавый реис-эфенди выразил полную готовность заключить мир на предложенных условиях, не дожидаясь известий из Стамбула, но с оговоркой, «чтоб Россия обязалась, после удовольствования от Порты по своему желанию, отстать от союза с римским цесарем», то есть разорвала отношения с Австрией.
Стало понятно, что турки пытаются играть на противоречиях союзников. Российские послы отправились к австрийскому коллеге графу Остейну. Тот принял их в своей палатке и сказал: «Вы долгое время были у турок, и я думал, что совсем и мир в то время заключили». — «Цесарские послы не далеко были, — отвечал Волынский, — гуляли по другой стороне пруда. Если бы я был столь счастлив и в первый мой приезд к туркам мир заключил, то не оставил бы и их, по близости, к тому заключению попросить, чтобы они соучастниками были, будучи в такой близости от турецкого лагеря». Русские дипломаты постарались сгладить противоречия и умерить притязания австрийцев — но те были уверены, что им скоро удастся «воинскими действами принудить турок к миру».
Дальнейшие переговоры показали, что готовность противника заключить мир являлась показной — он не желал отдать России не только Крым и Тамань, но и Очаков, а австрийцам — вообще ничего: «Пока все турки не пропадут и Порта не исчезнет, они ни четверти аршина земли им уступить не хотят». Шафиров и Волынский вынуждены были сделать неутешительный вывод: «Из всех поступков турок ничего другого признать не можем, как что они у нас выведать хотят, чтобы мы им нагло открылись, а потом бы ваше величество с римским цесарем поссорить, ибо сначала и им (австрийцам. — И. К.) те же попытки чинили чрез молдавского князя Гику. Турки всячески простираются между нами холодность положить, в чем их весь авантаж состоит».
Остерман в столице еще надеялся на успешный исход, считал сепаратный мир «на полезных нам кондициях» возможным; не желал, как и послы, «вовсе разорвать, как турки о том внушают», союз с Австрией, но лишь стремился «заключением своего мира привесть союзника к умеренным кондициям». Однако дипломатическое искусство послов оказалось недостаточным, чтобы преодолеть амбиции союзника. Турки же успешно «проволокли» время, пока ситуация на фронтах не изменилась для них к лучшему — русские ушли из Крыма, австрийцы потеряли занятую ими крепость Ниш в Сербии, но их послы на переговорах требовали отдать ее обратно. Император Карл VI только в конце августа согласился умерить притязания — но было уже поздно. Теперь реис-эфенди был согласен отдать России только Азов, и то при условии разрушения укреплений. 20 сентября на встрече с турецким переводчиком Волынский категорически отказался от таких условий, пригрозив: «Ежели турки недовольны нашими умеренными требованиями, то мы будем далее войну продолжать. Но ежели пламень расширится, то, может быть, как он уповает на Бога, в будущую кампанию и сверх Очакова что турки потеряют; тогда им труднее и договоры быть могут»{266}.
На этом переговоры закончились. 4 октября турецкие уполномоченные покинули лагерь. Волынский и его товарищи дождались присланных за ними подвод и 25-го под конвоем 150 драгун двинулись в обратный путь на Киев.
Дела домашние
Артемий Петрович женился довольно поздно, в 33 года. Его супруга Александра Львовна (сам он называл ее в письмах Анетой) родила ему дочерей Анну (июль 1723 года), Марию (март 1725-го) и сына Петра (ноябрь 1727-го). Вместе с ними в семье воспитывалась маленькая Елена — дочь покойного родственника, морского офицера Василия Ивановича Волынского. Любимая жена скончалась в тяжелом для Волынского 1730 году; новой хозяйки он не завел, и забота о детях лежала на его плечах. Встречающиеся в некоторых изданиях сведения о втором браке министра на сестре его «конфидента» архитектора Петра Еропкина не соответствуют действительности{267}. Сам Еропкин на допросе показывал, что это Волынский «сватал за него родственницу свою, вскоре умершую». Сестры архитектора были замужем: Анна — за его коллегой Т.Н. Усовым, Софья — за капитаном А.А. Черкасским{268}. Светские сплетники не раз «женили» Артемия Петровича, и ему не раз приходилось оправдываться — например, докладывать Бирону, что слухи о его сватовстве к падчерице Матюшкина ложны{269}.
Вечно занятый государственными делами, вынужденный постоянно и надолго отлучаться из дома, Волынский старался окружить своих детей заботой. Из Немирова в Москву летели его письма. «Анютушка, сердце мое; Еленушка, друг мой; Машенька, свет мой; Петрушенька, радость моя! — писал он им из походной палатки 19 сентября 1737 года. — Здравствуйте, и буди на вас милость и благословение Божие». Отец был сильно обеспокоен нездоровьем старшей дочери: «…видя, что ты, сердце мое Аннушка, с трудом могла имя свое подписать; из того могу признать, что ты, не хотя меня печалить, пишешь, будто только от кашля у тебя голова болит; однако ж разумею, какую жестокую у тебя болезнь и о том зело печалюсь, ибо я здоровье ваше и жизнь равно с моею почитаю, и сие пишу — не меньше чернил проливаю мои слезы».
Волынский волновался и за безопасность детей — только что страшный московский пожар оставил без крова десятки тысяч людей. Поэтому Артемий Петрович приказывал слугам: «…чтоб у детей моих в прихожей сидели вдовы по ночам, переменяясь по часам. А именно Степанова, Никитишна, Кирилловна и ныне принятая вдова Афимья Вербитская».
Не успела Анна порадовать отца своим «писанием», как приключилась новая напасть. «Печально мне, что брат ваш ко мне ниже имя свое мог написать; потому сумневаюсь, жив ли он, а что… ко мне пишут об нем, я не весьма верю и думаю, что они то пишут, что ему легче от болезни — не хотят меня опечалить, ибо когда бродить начал, как бы не мог имени своего подписать?» — высказывал он подозрения в следующем письме от 25 сентября.
«Петрушенька, друг мой! — обращался Артемий Петрович к единственному сыну — Я не малую печаль имею о твоей болезни и не знаю, жив ли ты, понеже не только от тебя писем целых, ни подписки руки твоей нет; потому зело мне сумнительно. Того ради Бога для отпиши или вели ко мне написать, а сам подпиши, каков ты, и подлинно ль тебе легче от твоей болезни. Благодари от меня, друг мой, государя моего Лаврентья Лаврентьевича за все его ко мне толь многие показанные милости, которые я ему до смерти моей заслужить не могу». Из последних строк следует, что Волынский поручил заботы о здоровье сына бывшему лейб-медику Петра I и первому президенту Академии наук Лаврентию Блюментросту, после отставки занимавшемуся в Москве врачебной практикой.
Переживая за родных, Волынский пошел на хитрость — не имея возможности часто получать письма из дома с гонцами Коллегии иностранных дел, распорядился, чтобы подчиненные «по вся недели под протекстом о конченых делах репортов» присылали к нему курьеров на почтовых подводах. Сам же успокаивал домашних: «…я не только здоров, но уже и толст, и многое платье мне узко.<…> А я ныне, слава Богу, в совершенном своем здоровье, так что, прощаяся на разъезде с здешними господами польскими, и они у меня, и я у них попили нарочито дни с четыре; потому можете, любезные дети, уверены быть, что я конечно здоров, понеже больному нельзя пить, а я ж и здоровый, ведаете ж, что не охотник; однако ж за любовь их, что ко мне все особливо ласковы были, принужден был; что вам объявя, предаю вас отеческой истинной, всегда непременной любви».
Артемия Петровича интересовало не только здоровье детей, но и их успехи в науках; краткие упоминания в его письмах позволяют сказать, что отец считал необходимым обучать их арифметике и геометрии (чем занимался геодезист Андрей Сипягин), Анну же он просил заниматься рисованием, покупал для нее карандаши и краски. В 1740 году в его петербургском доме находился в качестве учителя выписанный из Штутгарта студент Иоганн Теофилус Сейгер; к его счастью, у Тайной канцелярии «дела» к нему не оказалось{270}.
Будучи рачительным хозяином, он старался воспитать эти качества у дочерей — и не только наставлениями, но и практическими поручениями. «Писал я к Гладкову в Петербург, чтоб он, купя, прислал к вам два пуда кофе, из которых один пуд, когда привезут, изволь отдать Катерине Ивановне. Также я писал к нему, чтоб он купил вам сахару там три пуда и прислал, и для того впредь в Москве сахару не велите покупать, понеже в Питербурге чуть не в полдешевле», — сообщал он старшей дочери из Немирова.
Ожидая в Киеве царского указа касательно своей дальнейшей судьбы, отец давал юной Анне вполне деловые поручения, как настоящей хозяйке большого дома: «Что же ты, друг мой Аннушка, пишешь ко мне о полученном письме с заводу нашего от Векшина, о непорядках Любомирова, прикащика тамошнего, как я из оного Векшина письма усмотрел и безмерно о том жалел; ежели подлинно Любомиров смотался, для того туда весьма ныне надобно послать кого от себя… Того ради разсудилось мне послать туда Петра Киреева, которому за милость мою не трудно для меня ссудить, а ты, друг мой Анютушка, объяви ему, что то от него за одолжение почитать буду… и надобно, чтоб он там пожил месяца полтора или два, и всего там посмотрел, как сиденья вина, так покупки хлеба и прочего; а чтоб Любомиров и прочие все там были ему послушны, о том при сем посылаются за отворчатою печатью мои послушные указы, которые ты, друг мой Анютушка, при себе и при сестрах… вели прочесть; тако ж и прочие присылаемые в дом к людям указы сама прочитай при Курочкине и Филиппе и при Наталье, дабы вы все то знали, что в домех водится, из того бы обучались добрыми хозяйками быть…»
Деловые письма и поручения отца — вещи скучные, но заниматься ими необходимо, объяснял девушке отец. Но объявлять их надо не всем, а только ответственным и доверенным слугам, «для того что многие, слыша письма мои к вам и в доме указы, не выразумев того, что и к чему написано, инаково другим станут врать, а те, от них услыша, и еще с прибавкою перевирать станут». Отписки же приказчиков из вотчин пусть ей читает и объясняет опытный Курочкин, «чтоб вы были не только таковы, каков сам я, но чтобы все знали, что в доме надлежит, хотя и моего лучше; я бы зело рад тому был, для того и обучаю вас»{271}.
Учение, кажется, шло впрок. В следующем году пятнадцатилетняя Анна отослала из Воронова отцу в Петербург бочонок слив, которые «сама солила». Она же обстоятельно писала «государю батюшке», что его подозрения по поводу дурного поведения слуг неосновательны: ее «приставницы» прилежны; в доме «все у нас учтиво и постоянно, и никакого похабства нет, так же и девкам воли не дают», а приставленный к брату Петру Павел Белецкий не пьет и, «не спросясь меня, з двора никуды не ходит». Юной хозяйке приглянулись было «бралиянты» на серьги — любезный продавец даже прислал их на дом для осмотра, — однако не такая уж высокая цена в 45 рублей ее смущала, и дочь полагалась на решение отца{272}.
Хозяйство же, за которым требовалось постоянно следить, было обширным, а его финансовое положение — не блестящим. В 1739 году Артемий Петрович составил «Приложение для единого известия о притчине долгов и протчих убыточных приключений», в котором обрисовал свое плачевное состояние после нанесенного мачехой разорения. «Потом по несчастию моему женился, — писал он, — думал, что тем поправлюся, однако ж такую же нищую взял, каков сам, ибо движимого ни на 4000 рублев не получил, а деревень 1400 душ, и то в таких местах, где весьма мало и хлеб родится, а притом я и своих отеческих деревень с великим трудом чрез несколько лет собрал крестьян и поселил только с 800 душ, а прочие и по ныне пропадают; и так, свидетель Бог, что со всех моих деревень 500 рублев доходу и ныне не имею, и из того редкой год, чтоб я в Москве и в деревнях на 300 или на 400 рублев хлеба не купил».
Артемий Петрович, конечно, преувеличивал — трудно было назвать нищим носителя генеральского чина с сотнями крепостных душ, в то время как 90 процентов дворян по данным первой ревизии были мелкопоместными, то есть имели не более ста душ, а большинство являлись владельцами от одной до двадцати душ. Но и расходы у такой персоны были намного выше — генерал и губернатор должен был иметь открытый стол, принимать гостей, делать подарки, одеваться, содержать выезд, дом и семью на соответствующем уровне при никогда вовремя не выплачиваемом жалованье. Не случайно Волынский вспоминал: «Когда определен был в армии генерал майором, я тогда никакого экипажа не имел готового, но все делал вновь, и лошадей купил, заняв больше 2000 рублев. Будучи в Польше, жил на своем коште, как то всем известно, ни порционов, ни рационов не получал, и все могут засвидетельствовать, что ни один поляк на меня не мог жалобы произносить», — то есть генерал-майор Волынский и его люди не обогащались за счет местного населения.
В том же «Приложении» Волынский указывал, что, подобно многим его современникам, постоянно был на службе и фактически «не имел своего двора, скитался по чужим домам 17 лет». Когда же жизнь стала спокойнее, «принужден был построить в Москве дом, прибавя долгу на себя в той надежде, что там мне надобно было жить и что я, живучи в Москве и получая жалованье, могу чрез несколько лет долг оплатить. Но потом определился быть здесь (в Петербурге. — И. К.), где также дому не имел, принужден был строить по тогдашней моей пропорции деревянный дом». Для возведения следующего, каменного дома пришлось занять еще семь тысяч рублей. «А сверх того, — продолжал он, — нужда привела достраивать и тот дом, где сам живу, понеже разсудилось мне детей моих взять к себе, с которыми я пять лет розно жил. По приезде детей моих крайняя нужда принудила одевать их, снабдевать стыда ради; между тем известная церемония воспоследовала: принужден еще и их, и себя убирать, экипаж собирать, ливрею делать и прочее, на что не только все годовое мое жалованье употребил, но и долгу еще прибавил. И так целый год с того живу: у кого что займу, на то пищу себе и прочие нужды исправляю, ибо запасов ко мне никаких из деревень моих не привозят, для того что и там с нуждою и покупкою пробавляются»{273}.
«Крайнюю нужду» не стоит понимать буквально, однако придворная жизнь по сравнению с Петровской эпохой действительно вздорожала. Анна Иоанновна старалась, чтобы ее двор превзошел в роскоши иноземные. Французский офицер, побывавший в Петербурге в 1734 году, выразил удивление по поводу «необычайного блеска» как придворных, так и дворцовой прислуги: «Первый зал, в который мы вошли, был переполнен вельможами, одетыми по французскому образцу и залитыми золотом… Все окружавшие ее (императрицу. — И. К.) придворные чины были в расшитых золотом кафтанах и в голубых или красных платьях». Жена английского посланника в России леди Рондо оставила описание одного из зимних празднеств: «Оно происходило во вновь построенной зале, которая гораздо обширнее, нежели зала Святого Георгия в Виндзоре. В этот день было очень холодно, но печки достаточно поддерживали тепло. Зала была украшена померанцевыми и миртовыми деревьями в полном цвету. Деревья образовывали с каждой стороны аллею, между тем как среди залы оставалось много пространства для танцев… Красота, благоухание и тепло в этой своего рода роще — тогда как из окон были видны только лед и снег — казались чем-то волшебным… В смежных комнатах гостям подавали чай, кофе и разные прохладительные напитки; в зале гремела музыка и происходили танцы, аллеи были наполнены изящными кавалерами и очаровательными дамами в праздничных платьях… Всё это заставляло меня думать, что я нахожусь в стране фей».
Новый имперский стиль с его нарочитой роскошью требовал затрат — на парадные одежды, богатые дома с многочисленной прислугой, изящной мебелью, штофными[6] обоями, зеркалами, каретами, ливрейными лакеями, богатым столом с входящими в моду шампанским и бургундским. Жалованье придворных было немалым (камергер получал 1356 рублей 20 копеек; камер-юнкер — 518 рублей 55 копеек, что намного превосходило доходы простых обер-офицеров), но его постоянно не хватало. Поэтому многие вельможи, как и Волынский, тяготились «несносными долгами» и искренне считали возможным «себя подлинно нищим назвать». Во всяком случае, вовремя платить по долгам он часто не мог.
В июле 1740 года, после опалы и казни Волынского, новгородский купец и «вышневолоцких шлюзов и каналов содержатель» Михаил Сердюков подал доношение о довольно большой (788 рублей 20 копеек) сумме, которую остался должен ему государственный преступник. В июне 1739 года Артемий Петрович просил купить для него по приложенному реестру и поставить на барках в петербургский дом «столовые припасы»: 15 кулей пшеничной муки, 400 четвертей овса, 40 кулей ржаного и ячменного солода, 15 кулей гречневой крупы, а также круп овсяных, гороха, меда, коровьего и постного масла, 67 ведер простой водки и «скотин до 40 годных на убой»{274}. Заказ был выполнен, но денег Сердюков так и не дождался.
«Нищета» знатных дворян давала возможность императрице проявить щедрость к тем, кто ее заслуживал, — выдать деньги из своих личных или «комнатных» средств. Обычно это были суммы в 500—1000 рублей, но порой и намного большие. Так, например, К.Г. Левенвольде получил на лечение десять тысяч рублей, а из суммы контрибуции с Гданьска еще 33,5 тысячи; его брат обер-гофмаршал Рейнгольд Густав Левенвольде — восемь тысяч. В 1732 году С.А. Салтыкову было выдано вначале 4800, а потом еще 8800 рублей на строительство дома, богатейшему магнату А.М. Черкасскому и фельдмаршалу И.Ю. Трубецкому — по семь тысяч на те же цели; фельдмаршалу Б. X. Миниху вместе с чином пожалованы десять тысяч рублей, столько же дано «в награждение» дипломату А.П. Бестужеву-Рюмину
Одним деньги давались безвозмездно «на проезд за моря», «для удовольствия экипажу» или без всяких объяснений; другим — в долг. Артемий Петрович в числе счастливчиков не был и только один раз, в апреле 1736 года, получил пять тысяч рублей в виде беспроцентной ссуды на пять лет{275}, вернуть которую он так и не успел.
Что же касается земельных пожалований, то и при Петре I, и при Екатерине I, и при Анне все его старания остались без результата. «И хоть уже три раза в разные времена обещаны мне были деревни, но никогда по несчастию моему, до моих рук не дошли — иногда за всегдашними отлучками моими, а иногда за препятствием моих злодеев», — жаловался Волынский в уже цитированном «Приложении». В общем, он был прав: у него хватало и длительных, порой на годы, командировок; и врагов, которых он умел наживать вспыльчивостью, невоздержанностью на язык и решительными действиями.
Но всё же хозяйство у Артемия Петровича имелось отнюдь не маленькое. По справке Камерколлегии (1733), за ним по первой ревизии числились несколько имений: подмосковные Петино (24 крепостные души) и Вороново (171 душа), Новоникольское в Дмитровском уезде (159 душ), Телешово в Вологодском уезде (79 душ), Васильевское в Юрьевском уезде (114 душ), Батыево в Луховском уезде (305 душ), Архангельское в Пензенском уезде (210 душ) и приданое жены — села Арефьино, Бабасово и Пурук в Муромском уезде (1455 душ) — всего 2576 душ. Чиновники, проводившие конфискацию имений в 1740 году, насчитали в них 2517 душ. В январе 1742 года детям Волынского были возвращены Вороново (180 душ), Новоникольское (56 душ), Филютино в Вологодском уезде (91 душа), Арефьино (1085 душ), Васильевское (ПО душ), Батыево (210 душ), вотчина «на речке Шайбуге» в Казанском уезде (102 души), Архангельское (264 души) и деревня Азася (116 душ) в Пензенском уезде — всего 2214 душ{276}. В Казанском уезде на речке Шумбуме он устроил винокуренный завод{277}. Помещик явно старался расширить свои владения и прикупал к имениям всё новые пустоши даже небольшими участками. Так, В 1724 году он приобрел у подьячего Ивана Валяева 25 четвертей в Пензенском уезде «за Сурою», в 1728—1730 годах купил в тех же краях десять четвертей у братьев Василия и Ивана Приклонских, 100 четвертей у стольника Ивана Борисова и еще сотню у стольника Ивана Лебедева; в Муромском уезде в 1729-м — 9 и 14 четвертей у Семена и Кирилла Плотцовых, в 1732-м — 12 четвертей у рейтара Бориса Осоргина. В 1739 году кабинет-министр стал обладателем деревни Бяково в Юрьевском уезде (купил у подполковника Федора Обухова), 120 четвертей на реке Азяк в Пензенском уезде (купил у Анны Григорьевны Аничковой); от майора Ивана Наумова ему перешли 50 четвертей в Инсарском уезде{278}.
По меркам того времени Волынский мог бы считаться весьма богатым помещиком. Однако имения не приносили дохода и не обеспечивали нужды столичных резиденций барина: сам он не раз указывал, что хлеб вынужден покупать на рынке. В бытность губернатором, по собственному признанию, он получал со своих крестьян не более 500 рублей в год. Сохранившиеся бумаги его архива, в отличие от документов его товарища Платона Мусина-Пушкина, не содержат сведений о суммах оброка и отправке в Москву и Петербург огромных обозов со всякими «домовыми припасами».
Зато среди хозяйственных дел встречаются известия: «…со крестьян оброчных денег в зборе толко шесть рублев да ржи тритцать пять четвертей», — и указания: «…пишет ко мне Петр Васильевич, что по осмотру ево в Воронове рожь не веема надежна, так что как бы исправить к будущему году сев; и для того осмотрить тебе в Воронове рожь гораздо, и буде ненадежно севу без прибавки семен, исправить то, что принадлежит к тому на Семены ржы в прибавок, не допуская покамест не наступит сев, у кого займи, а буди взаймы взять не у кого, то хотя и купить надобно».
Барина эти вести не радовали: он требовал их проверки: «…послать в муромские деревни немедленно Якова Кашинцова», чтобы выяснить, кто из крестьян действительно не может заплатить «за скудостию и за недородом хлеба», а кто «имеют промыслы торговые и протчие, и таким всем статца нельзя, чтоб все не могли ничего заплатить», и «приказать ему, Кашинцеву, с таких, у которых… хлеб родился и которые имеют промыслы, с тех как оброчные денги, так и хлеб по окладу збирать»{279}.
Волынского, как и других занятых военной или статской службой помещиков, обманывали дворовые, приказчики и «управители». С ними он был строг. К примеру, Ивана Немчинова, управлявшего муромскими деревнями, барин велел «за слабое смотрение и за протчие его шалости, паче же за пьянство… оковав, выслать в Москву под караулом, где содержать ево до улики скована». Узнав, что в муромских деревнях мужики «не толко какова хлеба или скота не имеют, но и озимного и ярового ничего не посеяли, и все оные скитаютца по миру и претерпевают великой голод», Артемий Петрович дал указание «в сем случае какое вспоможение зделать оным крестьяном». Приказчику с винокуренного завода Тимофею Любомирову пришлось сидеть в заключении в «железах» (кандалах) в московском доме Волынского за растрату денег и «перевоспитываться трудом»: барин велел «держать ево по прежнему ж скована в конюшни, и чтоб был в работе непрестанной как в конюшни, так и дрова рубить по вся дни ему и Немчинову и плуту Глинскому тут же, и чтоб он был всегда в сермяжном толко кафтане и в пасконной рубашке и был бы в непрестанной работе во дворе, а з двора не пускать».
Упомянутый «плут Глинской» (видимо, сын одного из доверенных управителей) доставлял Волынскому много огорчений; тот распорядился «держать ево в крепком надзирании, понеже не толко выучился пить, но и красть, как вы пишите, уже почал, и так уже никакова из него добра быть не найдется, и за то ево еще жестоко высечь и сверх того отцу и матери ево приказать, чтоб они ево воздерживали и отучали ево не токмо от старого ремесла, от пьянства, но и от нонешнего плутовства, кражи, а ежели он будет пить или впредь хотя и в малой какой краже приличитца, не толко он, но и отец и мать его жестоко будут за то наказаны, ибо всем ево шалостям, паче же плутовству причиною отец и беспутная мать ево»{280}.
Барин был гневлив, но отходчив. Когда из Петербурга сбежал Михаила Жук с какими-то подложными письмами, Артемий Петрович приказал «всячески проведывать и искать, чтоб ево поймать, а когда пойман будет, то немедленно розыскивать им в сносе денег и протчего и кто побегу ево был причиною». Следующее письмо повелевало «посечь беглеца с пристрастием плетми», но не очень сильно, «ибо хотя он зделал как прямой плут, презрев то, как я любил ево, однако ж мне ево и теперь жаль». А когда Мишка Жук был схвачен, барин велел его «беречь», чтобы виновный «от страха не зделал чего над собою», и провести с ним беседу на тему «сколько я сожалел об нем, когда он ушол». «И для того, — заканчивал Волынский письмо, — об<ъ>явите ему, что я конечно всю вину ево и заочно отпущаю ему, любя ево и надеяся, что он может мне заслужить оную всегда лутче прежнего; и хотя он и подозрение себе зделал было, однако ж чтоб он и в том не сумневался конечно; ибо я за истину держу, что он сие подозрение навел себе от одного толко страха. И для того, разсуждая потому, что он безмерно робок, все то ему упущаю и… могу вменить за природную ево добродетель, что он имеет великое опасение»{281}. Видимо, грозен был хозяин в гневе, если бедный Жук от «одного толко страха» решился на побег; но зато «великое опасение» холопа было расценено как явная добродетель.
В 1735 году Артемий Петрович велел приказчикам составить по образцовой форме «описные книги» или ведомости «по деревням и по дворам по имяном как мужеск так и женской пол, прописывая с летами; и что у кого лошадей и скота рогатого и мелкого, и при том хлеба молоченого и не молоченого, и что под кем земли роспашной и не распашной и сенных покосов, и сколко к нынешнему году посеял кто ржи и ныне ярового какового хлеба, и что под кем положено тягла, и сколко на меня пашет земли и платит доходу или денежного оброку и сверх того, что с кого платитца государственных подушных по разположению мирскому денег». Такой переписи в бумагах Волынского не обнаружено — возможно, она и не была составлена, поскольку сам же барин в письмах жаловался, что даже после неоднократных подтверждений «оных переписных книг никогда ко мне не присылывано».
Венцом же хозяйственной мысли Артемия Петровича стала составленная им в 1725 году для дворецкого Ивана Немчинова «Инструкция о управлении дому и деревень». В духе петровского времени он стремился в ее двадцати семи пунктах тщательно регламентировать все виды крестьянских работ; требовал составить описание пахотных земель и переписные книги крестьян и их повинностей; указывал мужикам норму посева на десятину — не по одной четверти ржи, а по две; предписывал добавлять для удобрения к обычному навозу перегнившие за зиму и сожженные весной хворост, солому и листья; избы и хозяйственные постройки крыть не соломой, а «лубом и дранью», а конюшни строить по составленным им лично чертежам. Крестьянкам же было приказано научиться ткать широкие полотна, а «понеже многие есть такие ленивцы, что прядут и ткут хуже посконнова, отговариваяся, будто лутчее не умеют, для того дается вам образцовая за моею печатью холстина, которую разослать по всем деревням по аршину за своею печатью к прикащикам и велеть всем бабам объявить».
Крестьянских парней в 20 лет ожидал непременный брак (под страхом штрафа), чтобы каждые две семейные пары могли составить «тягло» и работать на господина. Каждое «тягло» должно было пахать на барщине по одной десятине, за что получало «ссуду» — семена для посева и деньги на покупку лошади. Кроме того, «понеже все помещики обыкновенно получают с своих деревень доходы и столовые припасы», крестьяне Волынского должны были поставлять с каждого «тягла» продукты: «…в декабре месяце по пуду свинаго мяса, по три фунта масла коровья да по одному молодому барану в июне месяце. С них же с каждаго тягла по три фунта шерсти овечьей и по пяти аршин посконнаго холста, и при том еще с Васильевских и с Никольских сморчков сухих по одному фунту, малины сухой по одному фунту, а с батыевских вместо сморчков и малины брать по два фунта грибов сухих. Да когда мне случится быть в Москве или Петербурхе, тогда с каждаго тягла брать по одному гусю, по одной утке, по одной русской курице, по одному поросенку и по двадцати яиц».
Как большинство дворян того времени, Артемий Петрович полагал своим долгом воспитывать неразумных мужиков. Те, по его мнению, привыкли «празнествовать и лениться, оставя свой должный труд и работу, ездить по торжкам, понеже у мужиков и у баб мало не у всех обычай, хотя есть нужда или нет, однакож надобно на торгу побывать, и вместо того что было сделать себе от трудов своих какой прибыток, а иной последнюю копейку пропьет». Он требовал, чтобы его подданные жили с соседями мирно, ласково и учтиво, «понеже всякая людская и мужичья грубость и невежество причитается нам самим (помещикам. — И. К.) в поношение». Управитель должен был следить за тем, чтобы крестьяне не воровали, не укрывали беглых, ловили разбойников, вовремя исполняли подати и повинности.
Для вразумления своих крепостных барин послал в вотчины «новоизданную печатную книжицу о десяти заповедях Божиих», которая должна была читаться священниками в храмах; не посещавшим богослужение надлежало «чинить наказание». При этом Волынский считал необходимым, «чтоб было в деревнях по несколько человек умеющих грамоте», а наиболее способных следовало «в Москве учить писать хорошим писцам: из сего польза та, понеже у нас в деревнях своих писцов нет, то которые годны будут — отдавать в деревни прикащикам для записок, а протчие годятся учить ремеслу, какое в селе потребно будет».
Кроме того, из десятой доли всех доходов от деревень был образован особый капитал, делившийся на три части: одна шла на нужды церкви, другая — на содержание причта, третья — на помощь престарелым, убогим и сирым, «кои никакой работы не могут работать, о которых в 11 пункте следует, а именно: покупать им платье и пищу, дабы кроме хлеба и каша была с маслом; также из тех денег содержать и сирот, одевать их и на те деньги учить; также бедных вдов и девок, о которых в 12 пункте показано, выдавать, награждая из тех же денег по разсуждению, а имянно давать, когда денег таких мало — то рубли по два, а когда случится довольно — давать и до пяти рублев, дабы женихи таких бедных и сирот лутче охотилися брать»{282}.
«Инструкция» Артемия Петровича создавала в миниатюре идеальный образ петровского «регулярного государства», где в меру просвещенные и сознательные подданные ответственно выполняют свой долг. Как было на самом деле, мы уже не узнаем. Однако судя по тому, что переписные книги не были составлены даже десять лет спустя, слуги не спешили претворять в жизнь указания хозяина; по его признанию, пруды оставались «не чищены», а сады «у нас во всех деревнях так отпущены, что никуда не годятся». Видимо, Волынский так и не дождался предписанных помесячных рапортов, «а по окончании года обстоятельных обо всем ведомости, что было посеяно хлеба и на сколько десятин и что родилось».
Имения приносили скромный доход, требуя, в свою очередь, расходов. Артемий Петрович как член древнего рода старался не отдавать на сторону фамильную собственность, поэтому в 1726 году после смерти своего бедного родственника В.И. Волынского выкупил подмосковное село Вороново у секретаря Ивана Глазатова. О тамошнем усадебном хозяйстве сведений у нас нет — за исключением указаний «домоправителям» об улаживании конфликта крестьян с мужиками «господ Стрешневых» и высказанного намерения купить соседнюю пустошь у ее владельца Григория Кудаева. Возможно, в будущем Артемий Петрович собирался сделать Вороново настоящей барской усадьбой — но так и не успел.
Главными же его заботами были собственные конные заводы в селах Васильевском и Батыеве. В первом на «аргамачьем заводе» в 1740 году имелось 48 лошадей, которых обслуживали восемь конюхов; во втором — 101 лошадь разных пород. Приказчики вели учет и составляли соответствующие документы — например, «реестр молодым жеребцам» или «кабылы, которым быть у припуска», — где указывалось происхождение каждого животного: «Жеребец вороной, грива направо; от темно буланой домашней кобылы и от вороного домашнего жеребца Малыша»{283}. Хозяин скучал по своим любимцам и, не имея возможности часто бывать в далеких от Москвы селах, просил перевести их поближе, поскольку «желает смотреть лошадей». Опытный лошадник, он давал конюхам указания: «К бурым ко всем осми кобылам будете припущать гнедопегого аргамака».
Составленная Волынским «Регула о лошадях, как содержать и при том прилежно смотреть надлежит чтоб в добром призрении были» поражает знанием подробностей и выдает истинного знатока, для которого в коннозаводском деле мелочей не было:
«Для летних выпусков лошадям сделать около Батыева в разных местах два пригона, где пристойно и ближе к пастбищам, где пасутся лошади, дабы из пригонов лошадям недалекий до кормов перегон был, а делать выбрав сухия и скалистыя места, чтоб вода не стояла и не было грязи; и оплесть плетнем частым со всех сторон, длиною каждую стену по 50 сажень, а вышиною б в три аршина или выше, а посредине одни ворота; а по обеим сторонам ворот сделать по сараю до самых побочных стен, плетеные ж, и сверху соломою накрыть как покрываются обыкновенно, дабы в ненастныя времена лошадям дождь не докучал.
Также кобыл с жеребятами держать в особливом стаде и в пригоне, а холостых особливо. И для того для бережих кобыл, из тех, кои с жеребятами — сделать особливый пригон подле того луга, что за большим прудом подле большой дороги, близ слободки; и делать строенье и сараи так, как выше показано, только длиною и шириною на 25 саженях. И во всякую весну оные все три пригоны починивать, оплесть из мелкаго хворосту, а не из крупнаго, и смотреть, чтоб роженья не торчали, дабы лошади глаз себе не перепортили, или б и не набрюшилися. Также и по рекам для водопою выбирать места не тонкия и расчищать берега, чтоб место к воде шире, дабы лошадям не пить мутной воды, что зело им нездорово, еще ж берег искапывать, чтоб не круто было».
Излишней самостоятельности слуг, особенно по лошадиной части, барин не одобрял и в таком случае гневался. «Пишет ко мне Петр Васильевич, что к присланным от Василья Пахомовича кобылам велел ты припустить неопалитанского жеребца малого, и то ты соврал: иногда чего сам не смыслишь зделать, то надлежало было тебе писать ко мне и требовать на то повеления, или спросился с Петром Васильевичем. И впредь уже так не делай, буде сам не знаешь, что к чему приличнее, немедленно пиши ко мне», — сделал он выговор Андрею Курочкину. Но за хорошую работу жаловал: «Батыевскому прикащику Барсову за доброе ево смотрение дать семь аршин сукна по рублю аршин»{284}.
Кажется, наиболее доходным предприятием Артемия Петровича был его винокуренный завод под Казанью. На нем имелось 60 котлов-«казанов» емкостью 540 ведер, которые давали примерно семь—десять тысяч ведер водки в год. В прибыльном водочном бизнесе Волынский использовал и «административный ресурс» — несколько подрядов на поставку вина губернатору «уступил» местный купец Афанасий Дряблов за обещание не взыскивать с него и его товарищей тысячу рублей за украденный провиант. «Смотрение» за заводом осуществлял казанский прокурор Василий Неелов, а крупные поставки вина (по четыре—шесть тысяч ведер) шли в кабаки не только Казанской губернии, но и соседней Нижегородской, где вице-губернаторствовал родственник, бригадир И.М. Волынский{285}.
Помимо собственных вотчин, Артемий Петрович ведал и хозяйством своей родственницы и воспитанницы Елены Васильевны. Ее приказчики отчитывались перед ним о состоянии имений и составляли ведомости полученных доходов; иногда он брал из них небольшие суммы для каких-либо срочных выплат{286}. Денег не хватало, и Волынский, как и другие вельможи, постоянно был в долгах — и занимал деньги у своих же подручных и коллеги по Кабинету князя А.М. Черкасского. Однако после ареста и казни министра следователи насчитали за ним всего 17 долгов на общую сумму в 3602 рубля (подсчет современного исследователя Ю.А. Тихонова дал несколько большую сумму — 3892 рубля 26 копеек{287}) — не так уж и много при постоянных расходах на строительство и столичную жизнь.
Одни долги он отдавал быстро — это касалось прежде всего заимствований из касс подведомственных учреждений. Адъютант Иван Родионов и другие подчиненные Волынскому чиновники на следствии признавали, что их начальник «многажды бирал денги в росход как из егерской, так и из Конюшенной канцелярии» — по 100, 500 и 1000 рублей, но всегда их возвращал{288}. О других же долгах Артемий Петрович мог и запамятовать. Еще в 1716 году он по векселям взял у английского купца Якова Ренгольта 600 рублей, обещая уплатить деньгами или персидскими товарами, но заимодавец их так и не дождался; в 1740 году о возврате долга просил уже его сын. Иноземцу-портному Михаилу Рексу Волынский не заплатил 89 рублей «за дело в 1726 г. платья и за приклад», а серебряных дел мастеру Николаю Дону — 21 рубль 62 копейки за изготовление двух серебряных чашек. Не был оплачен годовой труд Иоганна Зегера (200 рублей), обучавшего его сына Петра, а органист лютеранской церкви Фридрих Вильд не получил 50 рублей за обучение дочерей игре «на клевикортном инструменте». Весной 1740 года министр не расплатился с придворным обер-гофкомиссаром Исааком Липманом за доставленную из Силезии карету ценой 233 талера и купленного за 400 рублей испанского жеребца. Мастер латунного дела швед Карл Густав Гедберг не дождался 100 рублей за изготовление фигурок оленя, двух черепах, двух собак, осла и прочих животных, а также колокольчиков на шутовскую свадьбу{289}. Но эти суммы должник уже не мог заплатить по причине ареста.
В столичных резиденциях
Теперь пора заглянуть в московские и петербургские владения Волынского. В тяжелом для него 1731 году он задумал перестроить родовую усадьбу в Москве на Рождественке. Помогал Артемию Петровичу архитектор Петр Михайлович Еропкин, «…был он, Еропкин, при строении в московском его, Волынского, доме палат во время того, как он, Волынской… в доме своем арест себе имел», — давал показания о начале этого знакомства архитектор на допросе в 1740 году.
С этого момента началась их дружба. Сам Еропкин составил проект, строила же здание артель его крестьян, которая подрядилась за два сезона 1731—1732 годов возвести из материала заказчика двухэтажные каменные палаты. Строительство затянулось — в 1733—1734 годах появились боковые флигеля; затем началась отделка, прерванная большим московским пожаром 1737 года — тогда сгорели крыша дома и всё «деревянное строение» во дворе. Здание украшали жестяные водосточные трубы с «драконьими головами», белокаменные карнизы, «резьба герба и имени» (фрагменты стен и убранства сохранились в подвалах нынешнего здания Московского архитектурного института){290}. Здесь долгое время жили и сам Волынский, занимавшийся конными заводами в подмосковных селах, и его дети. Скупив несколько соседних участков, Артемий Петрович стал хозяином обширной территории, примыкавшей к реке Неглинной. Там он с 1735 года начал устраивать парк, который должен был уступами спускаться к воде{291}.
Имелся у Волынского и загородный двор в районе нынешней Новой Басманной улицы. Однако в 1739 году московское жилье опустело — хозяин с семейством окончательно перебрался в Петербург. Там у Артемия Петровича имелся купленный в 1726 году деревянный двор на Мойке, где он в 1730-х строил и каменный дом, обошедшийся в семь тысяч рублей; память о владельце усадьбы осталась в названии существующего и по сей день Волынского переулка между набережной Мойки и Большой Конюшенной улицей. Петр I отвел Волынскому в 1720 году еще одно место для дома на набережной Невы; от этого строительства Артемий Петрович долго пытался отговориться, и в 1733 году, уже при императрице Анне, это ему удалось. Но высокая придворная должность и министерский пост обязывали, и он в конце концов отстроился и здесь — тот же Петр Еропкин возвел двухэтажный дом с балконом (на месте нынешнего дома 34 на Английской набережной) рядом с домом родственников Волынского — шурина А.Л. Нарышкина и «дяди» С.А. Салтыкова{292}.
Последней приобретенной недвижимостью стал купленный в 1739 году у генерал-майора Семена Алабердеева загородный двор на южном берегу Фонтанки, раскинувшийся от нынешнего Загородного проспекта вдоль Московского проспекта до самой реки. Двор на Мойке был «строением весьма стеснен», и новый хозяин, желая иметь более просторное владение, просил отдать ему смежные «порозжие земли»{293}. Он успел поставить здесь «поваренную избу», конюшню, баню, избы для прислуги и барский деревянный дом из двенадцати покоев — обитых голубой камкой комнат с кафельными каминами и печами и простой дубовой мебелью. Он мечтал на новом месте разбить сад («огород завесть»), чему уже не суждено было свершиться.
Сведения об обстановке дома на Мойке находятся в описи имущества, отданной 31 мая 1740 года в Тайную канцелярию. Описание семнадцати комнат начинается со спальни самого хозяина, стены которой были обиты китайским красным атласом «с травами». В ней стояли кровать с пунцовой штофной завесой, два ореховых «аглинских» шкафа-кабинета[7] с зеркальными стеклами и медными подсвечниками, два стола красного дерева, обитое кожей канапе, восемь английских стульев с кожаными подушками. На стенах висели два зеркала в золоченых рамах, картина неизвестного содержания, барометр. Здесь, согласно протоколам допросов товарищей и подчиненных Волынского на следствии в 1740 году, он часто принимал близких людей.
Модными атрибутами того времени были «фигура китайская золоченая», маленький глиняный идол, лаковая китайская шкатулка «наклеена раковинами», оклеенная соломой «фляша чайная бумажная» китайской работы, китайские же ножи; в особом деревянном футляре хранились десять «идолов» с вырезанными на них номерами, а «золотые ль, ис компазиции познать невозможно». Наверное, вместе с Волынским путешествовали «трубка подзорная маленькая», нож с вилкой китайской работы, карандаш «в меди», трубки и турецкий табак «в мешочке золотом турецком», походная складная кровать с тюфяком.
К спальне примыкали три комнаты, в том числе два кабинета и столовая; две из них были обиты камкой (одна — «по красной земле цветы зеленые», другая — голубой), третья, окнами на Мойку, была украшена ткаными шпалерами. Первая была меблирована еще одним шкафом-кабинетом красного дерева, креслом, обитым красной кожей, столом красного дерева, на котором стояла «персона ея императорского величества, вырезана на пальмовом дереве». В другой находились три картины на холсте и китайская картина на бумаге, накрытая «китайскою шелковою порчицею», зеркало в золоченой раме, два шкафа-кабинета, шкаф красного дерева, а также хранились нужные для повседневной работы вещи: очки китайские в футляре, какие-то инструменты в ящике красного дерева, часы в футляре, шкатулка с медикаментами, парик «сандре на болване». Третья комната была украшена картинами с изображением собак — не хозяйской ли охотничьей гордости?
Опись не упоминает портрета самого хозяина. Мы до сих пор не знаем точно, как выглядел Артемий Петрович в зените своей карьеры. На известном портрете из Третьяковской галереи, чаще всего репродуцируемом в качестве изображения нашего героя, предстает красавец-вельможа. Однако немецкому художнику Генриху Хойзеру, работавшему в Петербурге в 1743—1748 годах, позировал изящный, холеный барин в одежде и парике по моде 1740-х годов, с камергерским ключом, которого у Волынского никогда не было, с холодным и чуть презрительным выражением лица, не очень вяжущимся с поведением и манерами петровского «птенца»{294}. Другим предполагаемым портретом Волынского является созданное неизвестным художником и хранящееся в Национальном художественном музее республики Беларусь изображение кряжистого стареющего мужчины с широким волевым лицом, в строгом темном мундире и пудреном парике, опирающегося на седло. Этот атрибут дал основания составителям каталога предполагать, что на портрете запечатлен именно обер-егермейстер Волынский, радетель коннозаводского дела{295}.
Так что единственным бесспорным изображением Артемия Петровича остается его портрет кисти Георга Гзелля, попавший в Третьяковскую галерею из имения Воронцовых, потомков Волынского. Однако он кажется нам не слишком удачным: из темного фона выступает фигура мужчины средних лет в латах и пышном плаще; парадные атрибуты не слишком сочетаются с бесстрастным лицом героя. Конечно, так и полагалось писать владетельных европейских принцев; но изображение совсем не наводит на мысль о порывистом и жизнелюбивом характере хозяина дома на Мойке…
Его «угловая зала» была убрана персидским коноватом[8]. Очевидно, она служила гостиной: здесь стояли большой стол «каменный» и маленький деревянный, четыре кресла и 24 английских стула с триповыми[9] английскими же подушками; на стене висел портрет самого хозяина на полотне в черной раме. Надо полагать, что именно здесь располагались гости и «конфиденты» Волынского для политических бесед.
Последней из хозяйских апартаментов была кладовая. В ней Артемий Петрович хранил изображения царей Иоанна Алексеевича, Петра I (в том числе его «персону» на белой тафте и «патрет… на кости»), принцессы Анны; туда же он задвинул портреты Бирона и его жены. Там же находились две «модели деревянные дому его, Волынского», а также множество не очень нужных и порой экзотических вещей, среди которых имелись «зазывной рог собачий», три рога буйволовых охотничьих, турецкие чубуки, девять «масок разных», штаны «самояцкие»[10] из оленьих лап с сапогами, шахматные доски и костяные шахматы в мешочке, десять китайских ширм, «осмигранная» тросточка с нанесенными на нее мерами длины, используемыми в разных европейских государствах, персидские ковры, три «рубашки татарских шитых», две пары персидских и пара индийских башмаков, «китайские лапти», английские фонари, сундук и ящик с хрустальной посудой и еще масса самых разнообразных вещей.
Три светлицы занимал сын Волынского; одна из них была обита «вощанкой цветной», другая — коноватом, третья оклеена желтыми бумажными обоями. Здесь можно выделить относящиеся к учебе стол с ящиками, географические карты, четыре глобуса, две зрительные трубки, медную чернильницу и клавикорды.
Далее следовали покои дочерей: светлица-«прихожая» со шпалерами, окнами на Мойку; вторая — подле спальни отца, окнами в сад, с красной камкой с зелеными травами по стенам; так же была украшена и третья, наугольная светлица. Имелись также и две «детские» спальни с тафтяными[11] зелеными завесами.
Яркие краски обоев отражались в зеркалах — их в доме было 23 штуки: 16 — в тяжелых золоченых рамах с золочеными медными подсвечниками, остальные — в ореховых рамах. Хозяин не поскупился на живописные плафоны — в его доме были 48 разных «картин на потолке писанных». Мебель состояла из пяти шкафов-кабинетов «аглинских» со стеклами и четырех без стекол, канапе, двух камчатых[12] ширм, двадцати четырех столов, семи кресел, двадцати четырех стульев с триповыми подушками, тридцати двух стульев с кожаными подушками и семнадцати без подушек.
Судя по всему, наличие добротных английских вещей в доме не случайно — Волынский и ранее предпочитал их. Среди его бумаг сохранился счет, выписанный 14 марта 1721 года представителями английской фирмы «Элизар и Эвене», — «роспись, что отпущено в дом ево величества Артемия Волынского». Собираясь отбыть в Астрахань, он взял с собой «хорошей кабинет», стол, импортный «нужник», дюжину тарелок, четыре портища[13] сукна, пару башмаков с серебряными пряжками, серебряную и «жемчужную» табакерки и необходимые припасы: бочонок сухарей, дюжину бутылок сидра, две дюжины Канарского вина, дюжину «бургонского» и дюжину вина «герметате»{296}.
В описи имущества министра перечислены три серебряных креста (в двух имелись частицы мощей), украшенные финифтью и камнями; три серебряных киота (в один из них вделаны мощи мучеников Афанасия и Варвары), 25 икон и восемь печатных изображений апостолов. Еще были крест «лаловой» с бриллиантами в футляре, кресты яхонтовый[14] и изумрудный с алмазными искрами, алмазный розовый (с сорока четырьмя камнями) и янтарный.
Особо выделены в описи «каменья»: алмазы, яхонты, изумруды, лалы, жемчуг; 22 перстня, в основном золотые, десять трясил[15], серьги золотые с «черными камешками», бриллиантовые, старинные золотые, «ввертные», подвеска персидская золотая с жемчужными зернами «бурмицкими»[16], камень в золоте, «что на руке носят», сердоликовая печатка в золоте, сердоликовая оправленная серебром табакерка; галстук, «низаной» в три нитки персидским мелким жемчугом, четыре «репейка»[17], «низаные» жемчугом, агатовый и яшмовый чубуки, песочные часы на янтарной подставке, фарфоровый набалдашник для трости и другие изящные изделия. Некоторые камни и вещицы были завернуты в бумажки с надписями, сделанными самим Волынским; так, на пакете с зеленым четырехугольным камешком значилось: «Перстень делать А. П».; на другом стояло: «Перо золотое с каменьем подарено от грузинского принца Бакара».
Среди золотых вещей (общим весом около шести фунтов) названы табакерки — золотые, оправленные золотом «каменные», черепаховые; «патрет» мужской в золоте за стеклом «на руку»; кальянная чашка с золотой крышкой; в кожаном футляре «персона» Волынского в золоте под стеклом; золотые часы, пять перстней; десять колец, на одном из которых, с чернью и финифтью, подписано «моменто мори»; четыре золотые цепочки к часам; шпага с золотым эфесом. Здесь же указаны золотые медали — в честь коронации Екатерины I в 1724 году, «за мир турецкой» 1739-го и неизвестные «персицкие или турецкие». На двух бумажках с кольцами Волынский сделал надписи: «Матери моей Федосьи Яковлевны», «Тещи моей Прасковьи Федоровны».
В перечне серебряных изделий — прежде всего посуда: пять блюд, в том числе лохань для бритья, 15 блюдечек, 12 тарелок, семь чашек, чаши конфетная и для лимонов «обронной[18] аглинской работы», китайские чашки, чарки и чарочки, пять стаканов, кружки, 18 ножей, 23 пары ножей с вилками, шесть больших ложек, 24 средние и 33 малые, два хрустальных уксусника, оправленные серебром; пять солонок, две сахарницы, пять чайников немецкой и китайской работы, английские кофейник и молочник, походный «канфор»[19] с чашкой, «во што спирт наливают», пять подносов. Многие из этих вещей не раз переезжали — Волынский возил за собой столовое серебро в Немиров и Москву.
Кроме того, в описи есть еще множество хозяйских вещиц: оправленная в серебро бритва, рукомойник с лоханями, колокольчики, персидская серебряная жаровня, 19 больших и два малых шандала, готовальня с зеркальцем, серебряными уховерткой, пером и щеткой; 19 табакерок с серебряными крышками, «персона дамская на серебре и персона оправлена серебром за стеклом». Здесь же указаны медаль в честь «победы над шведами под Полтавою в 709 году в 29 день июня по старому штилю дарованной» и еще одна, «с патретом ее императорского величества».
Прочая посуда в доме была медной и оловянной. «Мужское платье» представлено в изрядном, но не чрезмерном количестве: в гардеробе Волынского имелось пять суконных епанчей, два казакина — атласный и канифасный; три бешмета, 16 кафтанов, 12 камзолов, 11 штанов, два сюртука, несколько штофных и парчовых шлафроков. Владелец любил щегольнуть рубашками тонкого голландского полотна с кружевными и батистовыми манжетами, роскошными китайскими шлафроками, рысьими шубами или суконным пальто, подбитым «сибирскими белыми волками»; комплектами кафтанов с камзолами и штанами — бархатными, парчовыми, гродетуровыми, камчатыми, камлотовыми[20], суконными; галстуком теплым «черных лисиц». В запасе имелись меха: соболя белый и камчатский, дикая персидская черная собака, дикая коза, барс, рысь, сибирская белка, чернобурая лиса, голубой песец, бобр, сибирский волк.
Дополняли гардероб пуховые шляпы, бархатный картуз и различные шапки, 34 пары шелковых и 29 пар бумажных чулок, пять пар оленьих и 25 пар лайковых перчаток. О путешествиях на Восток свидетельствовало «азиацкое платье»: семь кафтанов, шаровары, серый армяк[21], халат «шахов верхней» парчовый с золотыми кистями и шнурками, «завой» с персидской чалмы, три кушака, турецкие сапоги и четыре пары башмаков, черный и белый калмыцкие овчинные тулупы. «Женское платье» дочерей менее индивидуально — среди обычных для того времени «роб»[22], «самар», «шлафоров», «юпок», «белья» и аксессуаров — лент золотых, серебряных и шелковых и вееров — можно выделить только особое «мушкаратное (маскарадное. — И. К.) платье» из тафты и гродетура разных цветов и «мушкарадные» шляпы — атрибуты дворцовых развлечений.
В доме военного и охотника почетное место отводилось конским «уборам» и всякого рода оружию. Чего здесь только не было: семь турецких «фузей», «насеченных» золотом и серебром, ружья английские, французские, немецкие, саксонские, шведские, отечественные «тульской работы» и пары пистолетов к ним; шесть нарезных «стуцеров», три мушкетона, две турецкие пищали «из витова железа» с золотой насечкой, две персидские пищали, две «янычарки» с медной оправой, две «турки» (ствол одной украшала золотая насечка, другой — серебряная), русская винтовка с березовым ложем и железным прибором, пара дорожных карманных пистолетов, а также холодное оружие — шпаги, кортики, палаши, тесаки, сабли, кинжалы, копья. Среди сабель выделялась одна (с одной стороны «вышлефована», с другой — заржавевшая), которой Артемий Петрович особенно дорожил, объясняя, что «найдена на Куликове поле»; она очень интересовала следствие в качестве косвенного доказательства преступных умыслов владельца.
Дочери Артемия Петровича учились играть на клавикордах, но сам хозяин, кажется, еще не оценил входившую в моду при дворе итальянскую оперу. Его музыкальные вкусы были несколько проще—в числе его слуг находились поляк-бандурист Бункорковский и украинец-гуслист Сиротинский.
У хозяина дома было и еще одно хобби — нумизматика: его коллекция состояла из 135 золотых, 376 серебряных и неизвестного количества медных монет. Среди золотых преобладали восточные — персидские, турецкие, индийские, бухарские, «азиатские» и «которого государства неизвестно», встречались испанские, голландские, польские и венецианские «червонцы» XV—XVII веков. Серебряные монеты были преимущественно западноевропейские: испанские, английские, немецкие, французские; имелись также золотоордынские, турецкие и персидские. Коллекционировал Артемий Петрович и старинные отечественные монеты; в его собрание попали серебряные деньги Новгородской и Псковской республик, великих князей Ивана III и Василия III; копейки Ивана Грозного, Бориса Годунова, Василия Шуйского и первых царей из династии Романовых. Среди медных монет в описи указаны «азиатские деньги»: персидские «генжинские», гилянские, казвинские, «ордевинские», шемахинские и другие, хранившиеся в двенадцати мешочках, бумажных пакетах и глиняной кубышке. Как видно, увлечение нумизматикой началось у Волынского еще в пору его пребывания послом в Иране, а затем продолжилось во время губернаторства в Астрахани и Казани.
Для поездок у хозяина имелся целый парк повозок: «берлин» — четырехместная карета с резным вызолоченным корпусом, внутри отделанная малиновым трипом; «полуберлин двухперсонный», две дорожные коляски и трое саней, обитых красной каразеей[23]. На выездах хозяина окружали скороходы и гайдуки в красных шапках с позументом и серебряными кистями; в покоях — лакеи в суконных красных камзолах с серебряным позументом и белых кафтанах{297}.
Как всякий знатный вельможа, Артемий Петрович имел свой «двор», в котором состояло не меньше сотни людей; в мае 1740 года опись имущества опального зафиксировала в его петербургских домах 89 человек. На правах бедных родственниц у него жили внучки боярина Ивана Федоровича Волынского Прасковья и Настасья. На вершине иерархии слуг стоял вольный дворецкий Павел Белецкий; присланный к императорскому двору в певчие, но не принятый, он в 1716 году пришел к Волынскому «волею своею», был певчим, парикмахером, «дядькой» его сына — и вышел в люди. Ключник Викула Векшин из старинных дворовых «имел у себя на руках всякие съестные припасы и питья».
Взятый Волынским в Астрахани «неволею» кубанский татарин Михаил Нечаев «имел смотрения по деревням над конюшнями и имеющимися лошадьми». В июле 1735 года он «ушел» из Петербурга с поддельным «воровским пашпортом» и объявился в городе Торопце, где угодил под караул. На допросе он назвал себя крещеным калмыком Александром Александровым и сочинил историю о том, как служил добровольно генерал-адмиралу Ф.М. Апраксину, а затем стал торговать лошадьми и заехал в город для того, чтобы получить долг. По просьбе Артемия Петровича этим делом занялся московский главнокомандующий С.А. Салтыков и забрал к себе арестанта, при котором обнаружилось 99 червонцев. Сам же Волынский прислал за беглецом «служителя» Конона Черкасова и, кажется, был обескуражен поступком доверенного холопа, у которого, жаловался он Салтыкову, «скарб мой почти весь, что имею, на руках был»{298}, однако простил беглеца — барин, как мы видели, был крут, но отходчив.
Ниже по статусу стояли лакеи (17 человек, все грамотные), десять поваров и столько же конюхов, егерь, псарь, дворник, кучер, гайдук, два истопника, скотник. На барина работали два собственных портных, три сапожника, два слесаря, семь столяров и мастер-серебряник.
Большинство дворовых являлись старинными крепостными из вотчин Волынского, другие попали в дом «неволею» или «пришли» сами и прижились. Судьба таких людей порой была весьма необычной. Так, повар Иван Артемьев объявил, что «уроженец он в Ындии и оттуда увезен персами в малых летех», в бытность Волынского послом в Иране пришел к нему служить и принял крещение; его коллега Петр Барабин родился в Иране, поступил к послу в услужение за 15 рублей в год, а затем выехал с ним в Россию, где и был крещен в православие. Охотник Василий Завидовский был поляком, а конюх «киргиз казак» Андрей Киргизов родился «в Бухарах», пленным был вывезен в Казань, год «сидел под караулом» в губернской канцелярии; губернатор его окрестил и взял к себе в дом». Пятнадцатилетний турок из Очакова Африкан Петров был взят в плен во время штурма города русскими войсками в 1737 году, вывезен в Россию в обозе фельдмаршала Миниха и подарен им Волынскому, в доме которого «обучился по росиски грамоте».
Такими же «подарками» были два малолетних калмыка и татарчонок Камбет. Братья-лакеи Иван и Яков Волковы родились от крепостного отца и крещеной «персиянки» Аксиньи, привезенной хозяином из Ирана. В доме Волынского родились пятеро его слуг; один из них, сын пленной шведской «девки» Татьяны лакей Петр Немчинов, был «прижит Артемьем Волынским со оною матерью ево блудно в небытность жены ево Волынского в 723 году»; сама Татьяна была «выпущена на волю» и выдана замуж за иноземца, кожевенного мастера{299}. В другом документе следственной комиссии «побочными Волынского детьми» названы также девятнадцатилетний Немчинов и семилетний Андрей Курочкин, тезка и однофамилец домоправителя (возможно, тот официально считался его отцом){300}.
Вместе со старшим Курочкиным московской усадьбой управлял иноземец Филипп Боргий, служивший у Волынского по контракту. Частично истлевший список дворовых июня 1737 года сообщает, что они получали жалованье, размер которого установить уже невозможно; в подчинении у них находился получавший десять рублей в год канцелярист. Еще один старый приказчик, Афанасий Глинский, получал 20 рублей, а Михаил Нечаев — восемь. Лакеям барин платил по четыре—шесть рублей — и заставлял их учиться не только грамоте, но и «арифметике и геометрии»{301}. Здесь же жили дворовый «адвокат» — стряпчий Андрей Чернышев, купленный хозяином в 1738 году, и еще 43 человека.
О книгах в доме Волынского в описи имущества сведений нет, однако библиотека у него была. Не так давно опубликованная опись включает 537 книг, а еще восемь были переданы в Коллегию иностранных дел{302}. Больше других естественных наук Артемий Петрович интересовался географией — у него имелись атласы, книги о различных странах Европы и Азии, общие курсы географии. Такие сочинения, как «Описание Персии и Грузии» на немецком языке или «Описание Персии и Индии» на французском, издания договоров России с Ираном и Турцией, Коран, явно связаны с его деятельностью на посту астраханского губернатора и подготовкой Персидского похода Петра I.
У Волынского имелись также книги по арифметике и геометрии — «Приемы циркуля и линейки», «Сокращение математическое». Петр требовал от своих офицеров профессиональной квалификации, поэтому неудивительно обилие изданий по фортификации и артиллерии, в том числе на немецком и итальянском языках. Необходимыми были и иностранные пособия по «лошадиному» делу — «Немецкого егера другая часть», «О лошадиных заводах», «Берейторская», «О заводе лошадей».
Как государственный деятель Волынский не мог не интересоваться законодательными памятниками: в его библиотеке были собраны Соборное уложение 1649 года, петровские уставы и регламенты, а также печатные сборники указов. Здесь же можно встретить книги по юриспруденции и политике — переведенные на русский язык «Истинную политику знатных и благородных особ», «О должности человека и гражданина» немца Самуэля Пуфендорфа и «Корпус права гражданского» на латинском языке. Известно, что у него имелись произведения голландца Юста Липсия, итальянцев Траяно Боккалини и Никколо Макиавелли. Однако эти книги в описи не значатся — возможно, потому, что были изъяты сразу после ареста.
Как придворный Артемий Петрович собирал описания торжественных церемоний, похорон, иллюминаций и фейерверков в торжественные дни; читал «Ведомости» и календари, издания проповедей и «слов» Феофана Прокоповича. Довольно неожиданным является большое число книг по архитектуре и рисованию на немецком, итальянском и латинском языках — возможно, они интересовали Артемия Петровича в связи с развернутым им строительством и близким знакомством с архитектором Еропкиным.
Интерес к истории России и собственного рода отразился в собирании не только книг (первого учебника русской истории — «Синопсиса»), но и рукописей исторического содержания; среди последних — «Летописец Стрыйковского», «Летописец старинной», «Гранограф» («Хронограф»?), «Известие о житии русских князей от Рюрика», «Степенная книга». В числе сочинений по европейской истории были как русские издания первой половины XVIII века («Книга историография початия имене, славы и расширения народа славянского…» Мавро Орбини, «Деяния церковные и гражданские» Цезаря Барония, «Введение в гисторию Европейскую» Пуфендорфа, «Краткое описание о войнах из книг Цезариевых»), так и книги по истории Швеции, Англии, Польши, Испании, Греции на различных языках, труды античных историков Тита Ливия, Корнелия Непота, Квинта Курция, Тацита на латыни, справочники по генеалогии.
Обычными для книжных собраний того времени были евангелия, псалтыри, служебники, минеи, триоди, требники, необходимые для служб в домашней церкви; патерики и жития святых для душеспасительного чтения. Художественная же литература в библиотеке Волынского была немногочисленна и, видимо, не очень его интересовала. Однако он всё же приобрел «Новый краткий способ к сложению стихов» поэта В.К. Тредиаковского, с которым имел столкновение при открытии «Ледяного дома» в 1740 году, приведшее, в числе прочих причин, к трагическим последствиям.
В целом книжное собрание Волынского можно считать типичным для деятелей петровского времени, у которых богослужебные книги соседствовали с новейшими научными сочинениями и техническими справочниками по артиллерии и «навигацким» наукам. Его владелец не был книжным человеком с глубокими гуманитарными познаниями (библиотеки Д.М. Голицына, А.И. Остермана, Феофана Прокоповича были гораздо обширнее), и его коллекция скорее являлась рабочим собранием, использовавшимся в практической деятельности и отражавшим широкий круг интересов хозяина. Известно, что она пополнялась до последних дней: «промемория» из Академии наук в следственную комиссию о Волынском от 9 августа 1740 года сообщала, что кабинет-министром и его друзьями Соймоновым и Эйхлером «забрано в домы ис книжной лавки книг и протчего» на 83 рубля 17 копеек, «а денег за оные не заплачено».
Зарубежные издания (преимущественно немецкие, а также латинские, польские, французские) составляли почти половину библиотеки, хотя известно, что Волынский иностранных языков не знал. Обращает на себя внимание и наличие различных словарей, грамматик, разговорников, иностранных букварей и азбук. Можно предположить, что, осев в Петербурге и принявшись за сочинение политических проектов, Артемий Петрович стал заниматься изучением языков.
Глава третья. ВО ГЛАВЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
Пусть будет муж совета он.
К.Ф. Рылеев«Через великий порог перешагнул»
«…нам любезноверный обер-егермейстер наш Артемий Волынской чрез многие годы предкам нашим и нам служил и во всем совершенную верность и ревностное радение к нам и нашим интересам таким образом оказал, что его добрые квалитеты и достохвальные поступки и к нам показанные верные и усердные службы к совершенной всемилостивейшей благоугодности нашей служить могли. Того ради мы оного апреля третьего дня тысяча семьсот тридесят осьмого году в наши кабинетные министры всемилостивейше пожаловали и определили. Я ко же мы его тем достоинством со всеми к тому принадлежащими чести и преимуществы сим жалуем и учреждаем, повелевая всем нашим подданным помянутого нашего обер-егермейстера Волынского за нашего кабинетного министра надлежащим образом признавать и почитать», — эти торжественные слова императорского патента означали вершину служебной карьеры{303}. Именной указ Сенату от 3 апреля 1738 года сразу же был разослан по присутственным местам империи{304}. «Волынский теперь себя видит, что он по милости ее императорского величества стал мужичек, а из мальчиков, слава Богу, вышел и через великий порог перешагнул или перелетел», — писал Артемий Петрович «дяде» Салтыкову. Ему было чем гордиться: 34 года назад вступивший юнцом в солдатскую службу, он теперь стал первым членом высшего государственного органа власти и главным советником государыни с немалым окладом в шесть тысяч рублей в год. Уже 5 апреля он приступил к исполнению обязанностей министра, а через три дня объявлял коллегам именные указы государыни{305}.
Путь наверх был труден, а потери неизбежны. И дело не только в зависти, интригах, угрозе монаршей опалы или судебного дела. В интересах карьеры приходилось заискивать, исполнять повеления и постоянно показывать «ревностное радение» отнюдь не только в государственных интересах. Как и многие другие придворные, Волынский заверял Бирона в своей преданности: «Увидев толь милостивое объявленное мне о содержании меня в непременной высокой милости обнадеживание, всепокорно и нижайше благодарствую, прилежно и усердно прося милостиво меня и впредь оные не лишить и, яко верного и истинного раба, содержать в неотъемлемой протекции вашей светлости, на которую я положил мою несумненную надежду, и хотя всего того, какие я до сего времени ее императорского величества паче достоинства и заслуг моих высочайшие милости чрез милостивые вашей светлости предстательствы получил, не заслужил и заслужить не могу никогда, однако ж от всего моего истинного и чистого сердца вашей светлости и всему вашему высокому дому всякого приращения и благополучия всегда желал и желать буду, и, елико возможность моя и слабость ума моего достигает, должен всегда по истине совести моей служить и того всячески искать, даже до изъятия живота моего».
В этом письме 1737 года Волынский как будто предсказал свою судьбу — его «живот» был «изъят» как раз за недостаточное служение. Но тогда звезда обер-егермейстера только восходила и герцог заверял его в своей поддержке: «В одном письме вашего превосходительства упоминать изволите, что некоторые люди в отсутствии вашем стараются кредит ваш у ее императорского величества нарушить и вас повредить. Я истинно могу вам донести, что ничего по сие время о том не слыхал и таких людей не знаю; а хотя б кто и отважился вас при ее императорском величестве оклеветать, то сами вы известны, что ее величество по своему великодушию и правдолюбию никаким неосновательным и от одной ненависти происходящим внушениям верить не изволит, в чем ваше превосходительство благонадежны быть можете».
Энергичный и усердный слуга представлялся фавориту наилучшим кандидатом в члены Кабинета министров. После кончины канцлера Головкина для «противовеса» хитроумному Остерману нужна была самостоятельная и амбициозная фигура из русской знати. Сначала эту роль играл возвращенный из почетной ссылки в Берлин Павел Ягужинский. Через полтора года после его смерти настала очередь Волынского — к тому времени он уже показал свои «добрые квалитеты и достохвальные поступки». Такая комбинация обеспечивала устойчивость нового органа, хотя взаимный контроль и «запланированные» конфликты между его членами порой вызывали проблемы.
Они обозначились едва ли не сразу. Английский консул Клавдий Рондо в донесении от 8 апреля 1738 года оценил нового министра как «очень талантливого человека, который не раз принимал участие в серьезных делах», одновременно отметив, что это назначение придется «не по душе Остерману», которому теперь «не дадут распоряжаться во всем по усмотрению вполне свободно»{306}. Кабинет-секретарь Андрей Яковлев (не иначе как с ведома Остермана) поднес Волынскому «форму присяги», где ему была обещана смертная казнь в случае ее нарушения. Тот заметил секретарю: «Государыня жалует меня званием министра, а ты топором и плахою». Кажется, мелочь — но другие кабинет-министры при вступлении в должность к подобной присяге не приводились. Гордый Артемий Петрович счел себя оскорбленным и с позором убрал Яковлева из Кабинета «за непорядочные в делах поступки» (21 сентября 1739 года секретарь был «отрешен от дел», а в октябре посажен под караул за «нехождение» к новому месту службы), тем самым нажив себе еще одного врага{307}.
Затем наступили административные будни. В отличие от упраздненного Верховного тайного совета Кабинет занимался преимущественно внутренними делами. В первые годы работы нового органа через него шло подавляющее большинство назначений, перемещений и отставок. При этом даже «недоросли», только что поспевшие в службу, представали перед министрами, а императрица утверждала своей подписью назначения секретарей в конторах и канцеляриях. Огромное количество времени (порой министры заседали, как фиксировалось в журнале, «с утра до ночи») отнимали многочисленные дела финансового управления: проверка счетов, отпуск средств на различные нужды и даже рассмотрение просьб о выдаче жалованья. Позднее на первый план выдвинулись вопросы организации и снабжения армии в условиях беспрерывных военных действий 1733—1739 годов.
Принципиальные решения тщательно готовились и принимались совместно — так, «мнение» Кабинета о плане военных действий кампании 1739 года было разработано Остерманом и предлагало императрице оценить плюсы и минусы продвижения армии к Дунаю через территорию Речи Посполитой. Все министры вместе с главнокомандующим Минихом осторожно, но настойчиво доказывали, что необходимость решительного наступления перевешивает риск возмущения шляхты, тем более что с помощью денег можно «хорошую в Полше партию устроить» в пользу России, а выход из войны терпящих поражение союзников-австрийцев оставляет Россию один на один с турками. План был принят без оговорок и получил императорскую резолюцию: «Опробуэца»{308}.
Журналы Кабинета поражают разнообразием проходивших через него дел. Наряду с принятием важнейших политических решений (о вводе русских войск в Польшу или проведении рекрутских наборов) министры разрешали постричься в монахи однодворцу из города Новосиля Алексею Леонтьеву, обсуждали челобитную украинского казака Троцкого о передаче ему имения тестя, рассматривали план каменного «питейного дома» в столице и знакомились с образцами армейских пистолетов и кирас. Кроме того, из Кабинета исходило множество мелких административно-полицейских распоряжений: о «приискании удобных мест для погребания умерших», распределении сенных покосов под Петербургом, разрешении спорных судебных дел и рассмотрении бесконечных челобитных о повышении в чине, отставке, снятии штрафа.
Министры обсуждали поступавшие непосредственно к ним или от государыни доношения, рапорты, челобитные; запрашивали информацию от других учреждений, после чего выносили решение сами или отправлялись к императрице с проектами именных указов и высочайших резолюций. С появлением Волынского сложившаяся практика работы Кабинета стала меняться. В его журналах прежние формулы («Господа министры ходили к ее императорскому величеству с докладами и для подписания указов», «Господа министры объявили ее императорского величества указ») сменились другими, из которых следовало, что новый член проявлял инициативу: «Кабинет-министр Волынский объявил, что ее императорское величество указала», или «…объявил ее императорского величества указы», «…прислал из Петергофа объявленные от ее императорского величества именные изустные указы на письме своею рукою», или «Его превосходительство изволил с собою взять <дела> для докладу ее императорскому величеству в Петергоф»{309}.
Артемий Петрович рассматривал множество самых различных дел — например, «изволил приказать взять сего числа ведомость: сколько ныне во всем флоте матросов и в морских полках всех чинов людей налицо, и к тому в комплекте потребно в кабинет ее величества сего числа из военной коллегии ведомость: сколько в остзейских гарнизонных полках людей состоит и в комплект надобно» — или требовал подать сведения о нехватке на армию сукна с «российских фабрик», приказывал завести в Астрахани «шелковые сады», отправлял гарнизонных солдат на работу к «шлюзному мастеру» на Неву у Смольного двора, разъяснял Военной коллегии, как отбирать кобыл для конных заводов на Украине, обустраивать конюшни и какой штат конюхов для них нужен{310}.
Что удалось Волынскому сделать на этом посту? В октябре 1738 года он добился от Сената указа об отмене всех назначенных прежде излишних сборов с приписанных к дворцовым конюшням и заводам крестьян — они должны были, как и прочие крестьяне дворцового ведомства, сверх семигривенной подушной подати платить 40 копеек{311}.
Как мы помним, «комиссия о размножении конских заводов» была закрыта, а работа по их созданию свернута. Однако в 1739 году после окончания Русско-турецкой войны выяснилось, что кавалерия потеряла десятки тысяч лошадей в степных походах. Правительству пришлось проводить особые конские наборы, но качество пополнения оставляло желать лучшего: по свидетельствам иностранцев, случалось, что «драгуны, сходя с коней, валили их на землю». Кирасиры и конногвардейцы в боевых действиях не участвовали, но и для них потребовались массовые закупки лошадей на замену отслуживших.
В сентябре 1739 года Волынский добился издания указа об устройстве на Украине конных заводов на пять тысяч кобыл «лучших и темных шерстей», для которых надлежало закупить 500 немецких жеребцов. Заводы устраивались в каждом казацком полку, но действовали под контролем Конюшенной канцелярии — она могла ревизовать их и требовать предоставления различных ведомостей{312}.
Следом была восстановлена «комиссия о размножении конских заводов» и ее начальник выдвинул новый план выведения лошадиных пород в России — но теперь уже за счет духовенства. Церковь была крупнейшим землевладельцем и обладала 759 тысячами крепостных душ. При архиерейских домах и монастырях существовали свои конные заводы. Волынский еще в 1732 году обратил внимание Бирона на этот потенциал церковных земель и теперь, в условиях финансового дефицита, рассчитывал его использовать. Он представил Анне Иоанновне доклад об устройстве на церковных землях заводов, «собранных из русских кобыл с немецкими жеребцами». Артемий Петрович лично продемонстрировал государыне образцы породы и обещал, что в скором времени русская кавалерия, укомплектованная «так сильными и легкими лошадьми, всеконечно прочих всех в Европе превзойтить может», — он всегда мыслил масштабно.
Проект, утвержденный именным указом от 19 ноября 1739 года, обязывал церковных землевладельцев поставить с каждых ста душ по одной «русской кобыле»; при этом лошади должны были поступать не из хозяйств крестьян, а с заводов и конюшен самих вотчинников. Государство брало на себя покупку за границей дорогих немецких лошадей, но экономило на содержании обслуживающего персонала, поскольку основной уход за животными осуществляли бы монастырские специалисты; содержание лошадей также возлагалось на монастыри — но под контролем особого департамента Конюшенной канцелярии{313}.
Отчасти эти планы были реализованы: новые заводы появились в десяти «малороссийских полках» на Украине (там имелись 4572 лошади «русской и молдавской породы»), полку Конной гвардии и трех кирасирских полках{314}. Однако «виды» правительства на развитие коннозаводства в церковных владениях натолкнулись на сопротивление духовенства. Церковные власти были недовольны новой тяжелой повинностью; возникли и технические трудности, поскольку не у всех обителей имелись свои заводы и пригодные лошади (или средства на их покупку), не все монастырские деревни были расположены в подходящих для коневодства местах, и их владельцы несли бы неравномерные тяготы по устройству и содержанию заводов. Дело затянулось, а после смерти Волынского и самой императрицы правительница Анна Леопольдовна отменила эту реформу по прошениям Святейшего синода.
Артемий Петрович подал еще одно предложение — ввести новый денежный сбор с монастырских крестьян на содержание заводов в размере 40 копеек с души и на получаемые ежегодно 300 тысяч рублей содержать конные заводы при полках на Украине, в Белгородской и Воронежской губерниях. В этом случае предполагалось достичь экономии государственных средств за счет использования труда солдат и полковых коновалов. В своем проекте, изъятом при аресте, Волынский писал и об обязательном учреждении дворянских конных заводов, «чтоб в завод было со 100 душ по кобыле и в сборе на всякой год было по лошади»{315}.
Анна Иоанновна не дожила до получения армией первых лошадей с новых конных заводов, созданных по планам Волынского, однако уже функционировавшие позволяли проводить «текущий ремонт» русской кавалерии и просуществовали более десяти лет, после чего были расформированы или переданы в собственность частным лицам. Гораздо труднее оказалось создать новую породу, одновременно сильную и выносливую: существовавшие «деликатные» породы были «больше на парад, нежели к делу способны». Эта проблема сохранялась и при Екатерине II, решить ее удалось лишь с развитием частного коннозаводства.
Но именно при Волынском дело сдвинулось с места, и современники высоко оценивали его начинания. «Когда оный Левенвольд был шталмейстером, тогда общим проектом с обер-камергером фон Бироном да генералом Волынским представили государыне императрице Анне Иоанновне, чтоб в государстве конские заводы размножить, и потому немалое число жеребцов и кобыл куплено в немецких краях и определено по заводам и конские покои по проекту Артемия Петровича Волынского построены. Сим лучший порядок при заводах учрежден, и с 1734 г. повелись в государстве лучшие лошади. Оные Левенвольд, Бирон и Волынский великие были конские охотники и знающие в оной охоте. И с того времени знатные господа граф Николай Федорович Головин, князь Куракин и другие немалым иждивением собственные конские заводы завели, а до сего великая была скудость в России в лучших лошадях верховых и каретных», — одобрял усилия Волынского офицер Измайловского полка Василий Нащокин{316}.
Выше уже говорилось об устройстве Волынским школ при заводах. Но он заботился о квалифицированных кадрах не только в его любимом коннозаводском деле. 13 августа 1739 года на очередном заседании Кабинета министров «его превосходительство Волынский приказал:
1) о выборе из кадетского корпуса к посылке чужестранным дворам к обретающимся тамо российским министрам, тако ж некоторых и для определения в коллегии из таких, которые из русских знатного шляхетства и довольно обучены языкам — латинскому, французскому и немецкому и учили юриспруденцию или гражданскую историю и генеалогию, и чтобы были острого ума, 30 человек, с прописанием — кто способны особливо к политическим и гражданским делам;
2) выбрать из кадетского корпуса, из российского шляхетства, не из знатных фамилий, но чтоб были острого ума и понятны к наукам 30 человек, которые совершенно умеют арифметике, геометрии и рисовать, а при том чтоб и языки иностранные — латинский, французский и немецкий — совершенно умели так, чтоб могли о строениях архитектурных иностранные книги читать и разуметь, и, выбрав оных, представить Еропкину в науку архитектуры, а летами чтоб были не выше 18 лет»{317}.
Судя по всему, Артемий Петрович желал возродить петровскую практику посылки за государственный счет юных «пенсионеров» для обучения за границей; примечательно его стремление получить специалистов по части «политических и гражданских дел» с учетом полного отсутствия в стране юридического образования. К сожалению, мы не знаем, что вышло из этих намерений.
Не забывал Артемий Петрович и о своей «охотничьей» должности. В мае 1738 года он подал государыне доклад с перечнем животных и птиц из всех уголков империи, «потребных в зверинцы и менажереи вашего императорского величества»: зубров, диких кошек, лошадей и быков, маралов, леопардов, тигров, фазанов, журавлей с берегов Терека и персидских куропаток. Анна его утвердила, и в губернии были отправлены ее именные указы о доставке в Петербург лосей, оленей и рябчиков из Олонца, диких лошадей и «баранов с витыми рогами» из Сибири, битых («к столу нашему») и живых лосей из Казани, оленей, «диких кошек» и сайгаков из Астрахани{318}. Обер-егермейстер радел и о своих подчиненных — напоминал государыне, что штат охотничьей придворной службы уже давно составлен, но не утвержден, из-за чего егеря не получали жалованья, а собаки корма, и добился выплаты задержанных денег{319}. Затем Кабинет по настоянию Волынского уже сам выделял необходимые средства на жалованье «обер-егермейстерской команде»{320}.
На основе других докладов Волынского появились указы «о ловлении» и доставке ко двору ежегодно двухсот куропаток и пятисот зайцев, о запрещении охотиться на лосей в Санкт-Петербургской и Новгородской губерниях (царские егеря должны ловить их и везти в столицу) и продавать «птиц соловьев» — их также следовало «объявлять при дворе ее императорского величества». Сенат должен был заботиться о «размножении серых куропаток» в окрестностях Петербурга и о том, «чтоб нынешнею весною, наловя в Москве соловьев до 50-ти, да в Новгородской губернии и во Псковской провинции до 50-ти же, и привезть в Санкт-Петербург за добрым призрением». Обер-егермейстер лично распоряжался доставкой ко двору редкостных экземпляров — белого кабана из подмосковного Измайлова и белой галки из дома покойного князя И.Ф. Барятинского. Кабинет-министрам пришлось объявлять жителям прилегавшей к городскому зверинцу улице, чтобы они коров не держали, поскольку прибывшие из-за границы дикие быки-«ауроксы» сильно нервничали.
Вольная охота в окрестностях обеих столиц запрещалась; как информировал подданных очередной указ, императрице стало известно, что дворяне «с охотами весьма многолюдно ездят и зайцов по 70 и по 100 на день травят»{321}. Правда, строгие предупреждения были не слишком действенными, и Волынский жаловался Сенату: «Не взирая на оное запрещение, партикулярные люди и ныне всяких родов птиц не только в дальних местах, но и около самого Петербурга стреляют и ловят сетками и силками и битых птиц продают в Петербурге на рынке, а некоторые тем отговариваются, что будто публикации о нестрелянии и неловлении птиц не слыхали». Он требовал принять новый указ — теперь уже не о полном запрещении охоты, а о прекращении ее в мае—июле, «понеже с мая месяца птицы сидят на гнездах и выводят детей, и для того обыкновенно во всех в Еуропе христианских государствах все охоты и ловы и стрельба, а наипаче о птицах, кроме птоядных (хищных. — И. К.) и вредительных, майя с 1-го по август месяц запрещается»{322}.
Порой кабинет-министру приходилось напоминать чиновникам о необходимости соблюдения справедливости. В декабре 1739 года при рассмотрении жалоб на распределение солдат на постой в Петербурге (его самого в свое время обвиняли в таких же нарушениях в Казани) Волынский отметил: «От полиции в постое солдатском поступается непорядочно, а именно разверстаны квартиры и уже у некоторых и действительно поставлены на дворах солдаты, а на других только назначено быть коликому числу постоев, а солдат не поставлено, а оставлены те дворы для прибывших полков, отчего обывателям одному пред другим обида», — после чего вызвал в Кабинет советника Полицеймейстерской канцелярии и потребовал, чтобы «солдаты были ставлены у всех равно». Но нерадивые полицейские чиновники не исправились, и министр принял радикальные меры. В журнале Кабинета 20 декабря 1739 года сделана запись, что Волынский и Черкасский приказали «советника Тихменева и секретарей, покамест они постой с тех дворов, на которых по указам ставить не велено, не сведут и пока требуемую в Кабинет ведомость о приходе и расходе денежной казны не подадут, держать в Полицей-мейстерской канцелярии скованных под караулом, при них неотлучно быть от Кабинета ездовому или курьеру»{323}.
От Военной коллегии Волынский потребовал объяснений, по какой причине не рассмотрена жалоба казака Федора Иванова на атамана волжских казаков Макара Персицкого, вследствие чего челобитчик был вынужден подать ее императрице. Сенаторам также приходилось получать от него выговоры. 11 декабря 1738 года Артемий Петрович вызвал в Кабинет своего приятеля обер-прокурора Сената Федора Соймонова и объявил ему: «…ее императорскому величеству известно учинилось, что господа сенаторы в присутствии своем в правительствующем сенате неблагочинно сидят, и когда читают дела, они тогда об них не внимают для того, что имеют между собою партикулярные разговоры и при том крики и шумы чинят, а потом велят те дела читать вновь, отчего в делах продолжение и остановка чинится. Тако ж в сенат приезжают поздно и не дела делают, но едят сухие снитки, крендели и рябчики и указных часов не высиживают, а обер-прокурор Соймонов в том им, по должности своей, не воспрещает и, ежели б кто из сенаторов предложения его не послушал, на них не протестует. Того ради ее императорское величество указала объявить ему со гневом и дабы впредь никому в том не упущал и о скорейшем исправлении дел труд и радение имел; а ежели кто из сенаторов что противно будут чинить, о том бы протестовал и записывал в журнал и всеподданнейше ее императорскому величеству доносил»{324}.
Пришлось ему участвовать и в куда более серьезном расследовании — трагически завершившемся «деле» князей Долгоруковых, которые в глазах Анны Иоанновны выглядели главными виновниками попытки ограничения самодержавия и ее персональными врагами. Еще в 1730 году Василий Лукич был навечно заточен в Соловках, а Алексей и Иван отправились по следам Меншикова в Березов; у опальных были конфискованы вотчины, дома и всё имущество. Спустя восемь лет на ссыльных обрушилось новое следствие. Тобольский канцелярист Осип Тишин (сам же подпаивавший и провоцировавший на откровения Ивана Долгорукова) донес, что ссыльный фаворит Петра II презрительно отзывался об Анне Иоанновне: «Какая она государыня, она шведка!» — порицая ее за отношения с Бироном и «разорение» своего рода. В ходе розыска Иван Долгоруков сознался не только в инкриминируемых ему «непристойных словах», но и в сочинении подложного завещания Петра II, передававшего трон царской невесте княжне Екатерине Долгоруковой. Эти признания в итоге привели его и других членов семейства на плаху.
Императрица лично утвердила состав суда: в него вошли кабинет-министры Черкасский и Волынский, три архиерея из числа членов Синода, все сенаторы, генерал-фельдмаршал И.Ю. Трубецкой, адмирал Н.Ф. Головин, генерал-аншеф Г.П. Чернышев, два генерал-майора и четыре майора гвардии, высшие придворные чины (обер-шталмейстер А.Б. Куракин и гофмаршал Д.А. Шепелев), генерал-кригскомиссар Ф.И. Соймонов, президент Ревизион-коллегии А.И. Панин и ряд менее крупных чиновников — вице-президент Коммерц-коллегии Иван Аленин, советник Адмиралтейства Захар Мишуков, советник Петр Квашнин-Самарин{325}.
Они приговорили «бывших князей» к смерти. Казнь баловня судьбы Ивана Долгорукова, в январе 1730 года подделавшего царскую подпись на составленном отцом и дядьями подложном завещании государя, была страшной. 8 ноября 1739 года под Новгородом бывший фаворит был колесован: процедура предусматривала раздробление костей рук и ног путем переезда тяжелым колесом или разбивания дубиной, после чего преступнику отрубали голову или укладывали еще живого на колесо, которое поднималось на врытый на месте казни столб. Мучения на колесе истекавших кровью людей иногда растягивались на сутки, но младший Долгоруков страдал недолго — ему отрубили голову. Следом за ним были обезглавлены его дядья Сергей и Иван Григорьевичи и бывший член Верховного тайного совета Василий Лукич, а «разрушенная невеста блаженныя и вечно достойныя памяти императора Петра II девка Катерина» заточена в Томский Рождественский монастырь «под наикрепчайшим караулом»{326}.
Царствование императрицы не было таким уж кровавым — из столичной Тайной канцелярии в ссылку отправились всего 820 политических преступников. Мрачная «социальная репутация» правления Анны Иоанновны в немалой степени была вызвана не столько масштабом репрессий, сколько громкими делами и показательными расправами с представителями благородного сословия. Из 128 важнейших судебных процессов аннинского царствования 126 были «дворянскими», почти треть приговоренных Тайной канцелярией принадлежала к «шляхетству», в том числе самому знатному{327}.
В повседневной же министерской практике Волынский проявлял снисхождение, зная, что приходится претерпевать под следствием, тем более незнатным и невлиятельным подданным империи. Рассмотрев в сентябре 1738 года предложение Сената «об удержании пыток в малых делах», Артемий Петрович отправил его обратно с указанием: «пока уложение сочинено и исправлено будет», надо позаботиться, «дабы люди в малых делах напрасно пыток между тем не терпели». В ноябре он же обязал полицию выделять жителям сломанных в ходе строительства на Переведенской улице домов новые помещения, чтобы они «не померли от от стужи и нужды». А 16 августа 1739 года уже сам кабинет-министр решил не взимать недоимку в 400 рублей с бедной вдовы Юровой и отныне, «за объявленным ее убожеством, не взыскивать и из доимки выключить»{328}.
Волынский перетянул на свою сторону князя Черкасского и скоро стал играть главную роль на заседаниях Кабинета министров и в отношениях с государыней. В то же время он понимал, что Кабинет перегружен множеством мелких дел: «Мы, министры, хотим всю верность на себя принять, будто мы одни дела делаем и верно служим. Напрасно нам о себе так много думать: есть много верных рабов, а мы только что пишем и в конфиденции приводим, тем ревность в других пресекаем, и натащили мы на себя много дел и не надлежащих нам, а что делать и сами не знаем». В сентябре 1739 года он добился от Анны Иоанновны именного указа с поручением установить разделение обязанностей между министрами: «Принадлежащие Кабинету дела расписать по экспедициям, дабы впредь конфузии не могли происходить»{329}. О «непорядках» в кабинетских делах он писал и в сочиняемом для императрицы «генеральном рассуждении».
Остерман уступил ему свое место при «всеподданнейших докладах» Кабинета императрице, с которыми раньше выступал постоянно. Разногласия Волынского и Остермана привели к тому, что осторожный вице-канцлер даже не являлся в присутствие, предпочитая объясняться с коллегами письменно{330}. Однако многоопытный бюрократ не сдался под напором деятельного и честолюбивого соперника. Андрей Иванович мог не присутствовать на заседаниях, но весьма часто подавал свои «мнения» по обсуждаемым вопросам, где подвергал сомнению решения коллег: советовал испросить «всемилостивейшую резолюцию» императрицы, критиковал те или иные предложения, требовал изменить формулировку проекта указа или настаивал на необходимости согласования решения: «Его сиятельство граф Андрей Иванович Остерман приказал кабинет-министрам донести, чтоб по сообщении из Сената о произведении смоленского шляхтича Станкевича к тамошней шляхте в генеральные поручики изволили, не докладывая ее императорскому величеству, прежде посоветовать с его сиятельством»{331}. При этом он использовал малейшие промахи оппонентов — например, отмечал в журнале, что не обнаружил присланных из Сената бумаг, а «понеже те оба сообщения мне не объявлены, того ради и моего мнения объявить не могу».
В свою очередь Волынский сам или вместе с Черкасским приказывал «донести» о чем-либо вице-канцлеру: «Приказано от господ кабинет-министров доложить его сиятельству графу Андрею Ивановичу Остерману, что надлежит выбрать в адмиралтейскую комиссию на место князя Урусова советника, на которое место представляются кандидаты: экипажмейстерской конторы советник Петр Пушкин, капитан Вилим Лювес; изволит ли его сиятельство в том согласиться». Следующая запись показывает, что Остерман вновь уклонился от ответа: «О сем его сиятельству того числа докладывано; изволил сказать: их обоих знать не изволит и для того предает о том в рассуждение им, господам кабинет-министрам»{332}.
Волынского эта уклончивая манера раздражала, но с влиятельным соперником приходилось считаться, выслушивать его замечания и учитывать их. Так, 21 декабря 1738 года вице-канцлер явился в присутствие первым и ушел еще до появления Волынского, оставив ему послание: «О князе Кантемире доложить его превосходительству Артемию Петровичу, что его сиятельство граф Андрей Иванович Остерман изволил объявить, что он о сем деле не известен и мнения своего дать не может», — дав понять, что ему не предоставили информацию. Волынский явился позже, сразу же затребовал ведомость о названном деле из Юстиц-коллегии и в свою очередь велел передать Остерману: «Его превосходительство Артемий Петрович приказал о фуражной доимке на дворцовых мызах на Конную гвардию его сиятельству графу Андрею Ивановичу доложить, что экзекуция и по се время стоит, а заплатить такой доимки не в состоянии, да и не надлежит за другими крестьянскими работами и тягостями»{333}, — взяв, таким образом, под защиту крестьян «своего» дворцового ведомства, с которых военные выбивали недоимки.
В других случаях Волынский с Черкасским стояли на своем, и Остерман вынужден был уступать. Например, Андрей Иванович настаивал на посылке в армию члена Военной коллегии генерал-майора Игнатьева для укомплектования полков и приведения их «в доброе состояние». Волынский и Черкасский сочли эту командировку нецелесообразной: «Игнатьева отправить невозможно для того, что он в нынешнее время для многих и так важных дел при Военной коллегии весьма потребен», — и генерал остался на своем месте{334}.
Однако министр не собирался ограничиваться текущей политикой. После только что закончившейся Русско-турецкой войны Волынский и его «конфиденты» попытались наметить новый долгосрочный курс внутренней политики — в этом случае Артемий Петрович выступал как признанный политический лидер во главе группы единомышленников.
Министр и его «клиенты»
В механизме функционирования любой монархии «старого режима» действовали не только официальные лица и органы власти с громкими названиями, но и неформальные институты. Вельможи того времени заключали неформальные, но весьма влиятельные союзы, составляли придворные «партии»; вокруг милостивца-«патрона» группировались его родственники и приверженцы-«клиенты».
Некоторые исследователи пытались объяснить перипетии российской политической системы послепетровской эпохи борьбой сменявших друг друга или деливших власть нескольких «опорных» кланов (Салтыковых, Нарышкиных, Трубецких){335}. Однако такая схема не всегда «работает», поскольку она основана исключительно на родственных связях, в то время как переплетения родства предполагали возможности выбора{336}. К тому же историки уже подчеркивали эфемерность таких родственно-политических отношений, которые «использовались, когда это было выгодно, и забывались, когда это становилось политически целесообразно»{337}. Исследования показали, что в России существовал клиентелизм монархического окружения, родственный, земляческий, должностной{338}.
Комплекс документов, сложившийся в связи с работой трех комиссий по делу кабинет-министра А.П. Волынского (двух следственных — «генералитетской» и для разбора финансовых злоупотреблений — и комиссии по «описи пожитков»), позволяет нам представить ближайшее окружение Волынского. Похоже, у Артемия Петровича не было опоры в лице родственников: былая клановая солидарность ушла в прошлое. Старая элита «государева двора» смогла приспособиться к новым требованиям государственной власти и сохранить как свой высокий статус на службе, так и размеры землевладения{339}. Приток выдвиженцев (не из низов, а в первую очередь из рядов московского дворянства) порождал недовольство старых родов. Но при этом для политической культуры даже высшего слоя дворянства петровского и послепетровского времени характерно отсутствие корпоративной солидарности: состав придворных «партий» быстро менялся. К тому же новый порядок вел к возрастанию зависимости статуса и благосостояния дворян от воли монарха. Члены такой элиты рассматривали друг друга в качестве конкурентов в борьбе за карьерное продвижение. Незамкнутость же «служебной» элиты и высокие темпы ротации порождали неприязнь к «выскочкам» (хотя нередко аристократы сами были вчерашними выдвиженцами).
Всё это препятствовало складыванию сословной солидарности, что осознавалось просвещенными современниками. Князь М.М. Щербатов сетовал на упадок «духа благородной гордости и твердости» дворян, оставшихся под самодержавным произволом «без всякой опоры от своих однородцов». Так было и у Волынских: члены «фамилии» (включая нижегородского вице-губернатора Ивана Михайловича) не делали карьеру с помощью кабинет-министра и не были приближены ко двору. Сам Артемий Петрович в процессе «восхождения» нуждался в благожелательном отношении влиятельных персон и, по его словам, «стремился быть под первыми» — сначала заручился поддержкой С.А. Салтыкова, затем — К.Г. Левенвольде и Э.И. Бирона.
Эти отношения не отличались прочностью — из-за карьерного роста самого Волынского и изменения придворного счастья его «патронов». Если в начале своего пути Артемий Петрович прибегал к заступничеству «дяди» Салтыкова, то к 1735 году они поменялись ролями. Семен Андреевич хотя и оставался обер-гофмейстером, но был явно не в «кредите» и находился вдали от двора — на посту главнокомандующего в Москве. В сохранившихся письмах Волынский по-прежнему называл его «милостивым государем отцом», но родственной теплоты не было и в помине. Артемий Петрович коротко уведомлял адресата о своих «конюшенных» делах и не просил, а скорее давал поручения: узнать, как обстоят дела у племянницы Елены, «отрешить» от управления ее хозяйством майора Ивана Колычева, пристроить в город Скопин «управителем» дворцовой волости Ивана Чернцова. «Дядя» же в ответных письмах больше не поучал своего корреспондента, как раньше, а высказывал опасения, что тот на него может быть за что-то «сердит»{340}. Можно, пожалуй, сказать, что сановный «дядя» был достаточно далек от вознесшегося «племянника» — настолько, что следствие в 1740 году им даже не интересовалось.
Люди, окружавшие в последние годы Артемия Петровича, находились в разной степени близости к нему. Первый круг образовали его «конфиденты»: капитан флота и советник Экипажмейстерской конторы Андрей Федорович Хрущов (1691—1740); уже знакомый нам архитектор, полковник и гофбау-интендант Петр Михайлович Еропкин (1690-е — 1740); обер-прокурор Сената генерал-майор и генерал-кригскомиссар Адмиралтейства Федор Иванович Соймонов (1692—1780). К ним можно добавить также тайного советника и президента Коммерц-коллегии Платона Ивановича Мусина-Пушкина (1698—1742?) и генерал-майора и советника Военной коллегии Степана Лукича Игнатьева (7—1747). По показаниям дворецкого Кубанца, «в опеке» у министра состояли бывший командир астраханского порта, затем директор Московской адмиралтейской конторы, контр-адмирал, советник Адмиралтейств-коллегий и начальник Морской академии князь Василий Алексеевич Урусов (около 1690 — 1741) и капитан гвардии Василий Чичерин.
Только Еропкин «имел свойство» с Волынским через Нарышкиных. С ним, как мы знаем, Артемий Петрович был знаком давно. Еще раньше он должен был познакомиться со служившими в 1720-х годах на Каспии капитанами Урусовым и Соймоновым. Однако все они состояли на службе давно и «вышли в люди» самостоятельно. Во всяком случае, у нас нет оснований полагать, что чины (полковника у Еропкина в 1728 году, капитан-командора у Урусова в 1730-м, капитана флота у Хрущова в 1732-м, обер-штер-кригскомиссара у Соймонова в 1733-м, бригадира и генерал-майора у Игнатьева в 1727 и 1734 годах) получены ими при участии Волынского. Но к середине 1730-х их пути пересеклись в столице. С.Л. Игнатьев в 1734 году стал оберкомендантом Петербурга, а в 1735-м работал вместе с Волынским в следственной комиссии по делу вице-губернатора Жолобова. Он же вместе с П.И. Мусиным-Пушкиным был определен в 1739 году в комиссию, созданную для устройства конных заводов во владениях «синодального ведомства»{341}. Хрущов в 1735 году был отправлен с В.Н. Татищевым в Сибирь «для надзирания рудокопных заводов» и по возвращении служил вместе с Соймоновым в Адмиралтействе. Последний же наряду с Еропкиным в 1737 году вошел в число членов «Комиссии о Санкт-Петербургском строении»{342}, составившей генеральный план застройки столицы, в основу которого была положена трехлучевая система улиц-магистралей.
Соймонов к тому времени был уже связан с влиятельным обер-егермейстером. Кажется, не случайно Федор Иванович был пожалован в обер-прокуроры Сената «в ранге генерал-майора» 11 апреля 1738 года, почти одновременно с назначением его «патрона» кабинет-министром{343}; немедленно началось «наступление» на президента Адмиралтейств-коллегий Н.Ф. Головина.
Все «конфиденты» были членами старых фамилий, людьми одного поколения, хорошо образованными, но ниже по чину и придворному «кредиту», чем Артемий Петрович. Поэтому им приходилось приспосабливаться к привычкам «патрона». Часто посещавший Волынского в связи с постройкой «Ледяного дома» Еропкин рассказывал на следствии, как тот работал над своим сочинением зимой 1739/40 года: «Понеже Волынский некоторые дни сыпал после обеда временем пополудни часу до восьмого, то надлежало его дожидаться, по которых мест встанет… Около Рождества вошел я к нему в спальню, в которой он тогда писал, и были при нем дети его и прочие девицы родственницы его и служители, всех человек около десяти…» — и хозяин дома читал им только что написанные части проекта.
Но всё же их отношения (за исключением, пожалуй, Игнатьева и Чичерина) можно считать не только «клиентскими», но и дружескими. Волынский поручал «конфидентам» написание и обработку текста его «генерального рассуждения». Хрущов подбирал озвученные Волынским мысли «пункт к пункту», Соймонов делал дополнения по морской части, Еропкин редактировал текст и сочинял «картину рода» кабинет-министра, которую потом красками писал будущий статс-секретарь Екатерины II, а в 1740 году скромный переводчик Академии наук Григорий Теплов. Их «дружба фамилиарная» (по определению следствия) являлась тесным интеллектуальным общением единомышленников. Кажется, необычность такого явления в придворной среде лишь усиливала его восприятие окружением Анны Иоанновны как опасного заговора.
Несколько выпадали из этого круга владелец 9,5 тысячи душ, тайный советник, сенатор, президент Коммерц-коллегии, начальник Канцелярии конфискации и Коллегии экономии Платон Мусин-Пушкин и член Военной коллегии, исправный служака, но не боевой генерал Степан Игнатьев. Граф Платон Иванович в сочинении проекта не участвовал, хотя и предоставлял Волынскому документы и ведомости Коммерц-коллегии и присутствовал на застольных беседах, за что и попал под суд вместе со всей компанией. Кроме того, Мусин-Пушкин на следствии заявлял, что не хотел «быть доводчиком» на министра и посещал его, уже находившегося под домашним арестом.
А вот Степан Лукич Игнатьев не пострадал, хотя и назывался в бумагах комиссии «конфидентом». Но, в отличие от просвещенных друзей Волынского, оберкомендант оказывал министру пусть и предосудительные, но вполне понятные и не расцениваемые как покушение на власть услуги: давал солдат и столяров для работ в доме, отпустил 1000 пудов сена и 50 четвертей муки; подарил «цук[24] вороных» (Волынский отдарился жеребцом){344}; может быть, именно благодаря дружбе с членом Военной коллегии Артемий Петрович так и не вернул военному ведомству взятых им еще в Казани солдат-денщиков.
Второй круг составляли подчиненные Волынского «по егермейстерской части» и Конюшенной канцелярии: секретари В. Гладков и П. Муромцев, советник А. Наумов, асессоры П. Богданов, В. Смирнов и В. Десятое; адъютант П. Родионов и его отец унтер-шталмейстер Б.Г. Родионов; казанский прокурор В. Неелов, архитектор И. Бланк, доверенный дворецкий В. Кубанец.
С большинством из них «патрон» был связан давно. Капитан Василий Неелов познакомился с Волынским в Казани, где служил в гарнизонном драгунском полку. Там же состоял секретарем и находился «в милости» у губернатора Петр Богданов. Последний вместе с секретарем Василием Гладковым служил в «комиссии о размножении конских заводов», а потом входил в состав следственной комиссии по делу Жолобова. Раненый капитан в отставке Василий Десятов по представлению Волынского в мае 1738 года был пожалован в асессоры Конюшенной канцелярии. Ее же советником стал отставной майор Александр Наумов{345} — в 1727—1731 годах он являлся воеводой в Кромах, а затем в Калужской провинции, по службе занимался «садами» Волынского, и к нему отправляли из Москвы конюхов. Секретарь Петр Муромцев прапорщиком состоял в «команде» Волынского; его брат Иван служил во время губернаторства Артемия Петровича канцеляристом в Астрахани, а затем в Симбирске, откуда прислал начальнику два воза рыбы. Василий Смирнов в 1737 году был назначен асессором в Петербургскую дворцовую контору, а в следующем временно заведовал ею{346}.
Все они служили «патрону» не только на рабочем месте, но и «партикулярно». Через Гладкова находили доступ к министру просители — к примеру, проштрафившиеся симбирские купцы Андрей Воронин и Герасим Глазов, поднесшие Волынскому в 1739 году дорогую парчу{347}. Адъютант капитан Петр Родионов вел дела с находившимися под следствием о похищении провианта купцами Афанасием Дрябловым и его компаньонами, которые в 1740 году уступили Волынскому подряд на поставку 12 тысяч ведер вина на казанский кружечный двор{348}.
Петр Богданов был правой рукой Волынского и, судя по протоколам, иногда в одиночку заседал в канцелярии. Вне службы он ведал «домашними делами» хозяина и следил, «кто на него, Волынского, сердит или кто его за что бранит». Асессор Василий Десятов «ведал дом и деревни» племянницы Волынского Елены Васильевны и приглядывал за московским домом самого «патрона»{349}.
Назначенный в 1739 году с помощью Соймонова губернским прокурором старый драгунский офицер и владелец 159 душ Василий Неелов не только ведал казанским винокуренным заводом Волынского, но и по его поручению должен был защищать «от обид» помянутого выше купца Дряблова, помещика Степана Чулпанова и купца Тихона Пушникова. Очевидно, не без помощи Артемия Петровича дело по обвинению Неелова в том, что он «касался скверными словами» знамени полка и оскорбил капитана Пантелеева, так и не дошло до военного суда, несмотря на все усилия командира полка{350}. Архитектор Иван Бланк, как он сам утверждал на следствии, был «произведен Волынским» и по распоряжению Соймонова незаконно вел работы по прокладке «каналов» у дачи министра на Фонтанке{351}.
Начальник же, по словам адъютанта Родионова, «добр бывал ко многим», хотя и не всегда. Так, например, ему самому Волынский подарил лошадь, «академическому учителю» Салтанову и писарю Артемию Коростелеву — чины; последний за два года был произведен в подпоручики и флигель-адъютанты, а затем в капитаны ландмилиции, откуда в 1736 году затребован в Конюшенную канцелярию. Младший брат Родионова из прапорщиков Рязанского драгунского полка был переведен «к конюшенным делам» в капитанском чине. Десятову в октябре—декабре 1738 года шеф устроил поездку в Новгород по личным делам под видом командировки «для окончания стата»: туда асессор поехал с восемью подводами, а обратно уже возвращался с восемнадцатью — на прогоны было затрачено 120 казенных рублей{352}. Но прошение Богданова о прибавке жалованья в 1739 году было в Кабинете отложено.
Отношения Волынского с этими нижестоящими «клиентами» были вполне откровенными — он «говаривал о всем нескрытно»: рассказывал о придворных делах, жаловался на неприятности, делился размышлениями и, случалось, когда под рукой не было наличности, занимал у Неелова и Богданова по несколько сотен рублей. А секретарь Гладков мог сказать министру-вельможе, что он «лишнее пишет», по поводу изложенного в его проекте мнения о том, что Кабинет забрал к себе слишком много дел{353}.
Через них устанавливали неформальные контакты с «патроном» другие представители чиновного мира. Кубанец и Родионов в своих показаниях приводили десятки примеров «подарков»: персидский «конской убор» от купца Демидова из Астрахани, лошадь, ружье и пара пистолетов от советника Бергколлегии, «шуба волчья белая» от сибирского губернатора Бутурлина, «китайские куклы медные» от вице-губернатора Ланга, соболя от воеводы Заборовского, две тысячи рублей от Федора Владимирова, зятя заводчика Акинфия Демидова, две кобылы от барона Менгдена и т. д. При этом, как заявлял Родионов, «нихто не даривал во взяток» — просто на всякий случай искали знакомства с «сильной» при дворе персоной. Зато сами подчиненные министра взятки брали: 50 рублей с купца Панкратия Рюмина, столько же с московских питейных компанейщиков, а с жены «серебряного мастера» за освобождение его от наказания — две серебряные кружки и шесть чарок{354}.
На следствии они вели себя по-разному. Василий Гладков оставался при опальном хозяине и переписывал набело «одну тетрадь» проекта Волынского для передачи посетившему арестованного Ушакову, после чего сжег бумаги «патрона» и «ни о чем не показал» на следствии. Другие хотя и говорили о распоряжениях Волынского и называли тех, кто искал его милости, но ничего существенного сообщить следователям не могли и отвечали, что с Волынским «рассуждений не имели». Только Кубанец стал давать показания обо всех служебных и финансовых прегрешениях хозяина более чем за десять лет и больше всего боялся «запамятовать» что-либо из его действий.
В 1739 году «клиентская сеть» Волынского была на подъеме, судя по карьерам ее членов. Князь В.А. Урусов 17 июня был произведен в генерал-лейтенанты и назначен главным командиром Оренбургской комиссии вместо тайного советника В.Н. Татищева. Ф.И. Соймонов 16 октября становится генерал-кригскомиссаром Адмиралтейства и «имеет в коллеги<ю> поступать яко вице-президент». В эту же коллегию были по его представлению назначены посещавшие дом Волынского П.К. Пушкин (советником) и Н.М. Желябужский (прокурором). Статский советник И. Эйхлер 24 октября из секретаря Анны Иоанновны превратился в «тайного кабинет-секретаря»; в феврале 1740 года ему было определено жалованье в тысячу рублей{355}.
Это можно считать успехом. Но «при особе ее императорского величества» Артемий Петрович приобрел поддержку лишь кабинет-секретаря Эйхлера — «секретного друга», как он сам себя назвал. Следственной комиссией их отношения были квалифицированы как «дружба искательная». Эйхлер успел уничтожить письма «патрона», но из сохранившихся его писем Волынскому, написанных зимой 1738 года, следует, что он читал послания Артемия Петровича Анне Иоанновне и сообщал их автору, что они «весьма милостиво принимались». Он следил за «противной партией»; хотя ее представители разглашали, что возвращения отбывшего на очередную инспекцию конных заводов Волынского в столице не очень-то и ждут, но секретарь точно знал: «Подлинно вас скоро сюда ожидают, как из всех дискурсов понять можно» — и советовал прибыть ко двору к дню рождения императрицы. Он же регулярно извещал министра о событиях при дворе: Неплюеву велено «быть в Киеве»; фельдмаршал Миних «скоро к армеи возвратиться имеет»; Черкасский заболел и не выезжает, но уже может подписывать документы, а герцог Бирон «горлом заболел» и «непрестанно полоскание употребляет»{356}. Волынский же делал «клиенту» подарки — то коня-иноходца, то сотню бревен на постройку дома, — но к советам Эйхлера прислушивался не всегда, и тот вроде бы даже пытался «от конфиденции с ним отстать», но так и не решился.
Амбициозный кабинет-министр не считал нужным (или не смог) создать своей «партии» из влиятельных фигур в высшем звене управления и при дворе, в чем следователи его подозревали и собирались допросить его гостей и приятелей. Одних (А.И. Румянцева и М.Г. Головкина) от этого избавила императрица; другие (А.М. Черкасский, Н.Ю. Трубецкой, В.Я. Новосильцев и П.И. Мусин-Пушкин) были допрошены, но признаны, за исключением Мусина-Пушкина, непричастными к делам и планам главного обвиняемого.
«Генеральное рассуждение»
«Эпоха дворцовых переворотов» проверяла на прочность петровские преобразования, но отнюдь не отвергала их. За аннинское царствование в стране появились 22 новых металлургических завода, Россия увеличила производство меди до 30 тысяч пудов (по сравнению с 5,5 тысячи в 1725 году) и заняла прочные позиции на мировом рынке в торговле железом, вывоз которого за десять лет увеличился в 4,5 раза. Рос экспорт пеньки, льняной пряжи и других товаров{357}.
Однако на первом месте во внутренней политике была не столько защита интересов дворянства, сколько приоритет государственных потребностей. Их рост требовал всё новых средств, которых постоянно не хватало. Разорение центральных районов страны, по которым в 1732—1734 годах прокатился голод, вызвало гибель и бегство крестьян, а недоимки по подушной подати с 1735 года стали быстро расти. Горожан, как и при Петре I, заставляли нести всевозможные службы: заседать в ратуше, собирать кабацкие и таможенные деньги, работать «счетчиками» при воеводах.
Царствование Анны принесло ужесточение контроля над духовенством и подготовку секуляризации церковных вотчин. В 1738 году по причине накопившихся казенных недоимок в 40 тысяч рублей Коллегия экономии, управлявшая церковными и монастырскими вотчинами, была изъята из ведения Синода и передана в подчинение Сенату.
Анна, как и ее грозный дядя, самовольно назначала архиереев, не обращая внимания на мнение Синода. Дела о неотправлении молебнов и поминовений возникали в массовом порядке; виновных ждали не только плети и ссылка, но во многих случаях и лишение сана. Тех же священнослужителей, кто по каким-либо причинам не присягнул новой императрице, рассматривали как изменников, и следствие по их делам передавалось в Тайную канцелярию. С 1736 года начались «разборы»: «синодальных и архиерейских дворян и монастырских слуг и детей боярских и их детей, также протопопских, поповских, диаконских и прочего церковного причта детей и церковников» власти немедленно отправляли в армию, чтобы восполнить огромные потери. В итоге некоторые храмы и монастыри остались без причта; даже безропотные губернские власти доносили, что в случае взятия действительных дьячков и пономарей «в службе церковной учинится остановка»{358}. Такие гонения вполне могли расцениваться как происки исконно враждебных православию «немцев».
Предоставление льгот дворянству сопровождалось увеличением его служебных тягот. В 1734 году Анна повелела сыскать всех годных к службе дворян и определить их в армию, на флот и в артиллерию; с началом большой войны в 1736-м для явки «нетчиков» был определен срок — 1 января — и разрешено подавать доносы на неявившихся даже их крепостным.
В то время дворянина на службе могли выпороть; но даже не битый не был уверен в достойном «произвождении»: порядок получения чинов не раз менялся, и добиться повышения, отпуска или отставки влиятельному и обеспеченному офицеру было гораздо легче{359}. Проблемы ожидали дворян и дома. Вместе с восстановлением военных команд для сбора подушной подати был возобновлен запрет помещикам переводить крестьян в другое имение без разрешения; хозяева стали ответственными плательщиками за свои крепостные души. В неурожайные годы дворянам предписывалось снабжать крестьян семенами и не допускать, чтобы они «ходили по миру» (побирались). В 1738 году власти в одном из указов даже официально осудили «всегдашнюю непрестанную работу» помещичьих крестьян, из-за которой они не могут исправно платить государственные подати{360}. Наконец, выход в отставку после выслуги двадцати пяти лет, разрешенный по закону 1736 года, был отложен до окончания турецкой войны.
«Уже пять или шесть лет, как слышатся жалобы, во-первых, на слепую снисходительность императрицы к герцогу Курляндскому; во-вторых, на гордый и невыносимый характер последнего, который, как говорят, обращается с вельможами, как с последними негодяями; в-третьих, на его фаворита, еврея Липмана, придворного банкира, подрывающего торговлю; в-четвертых, на вымогательство огромных сумм, частью истраченных на женщин, а частью на выкуп поместий герцога и на постройку ему великолепных замков; в-пятых, на сдачу трех четвертей молодых людей в солдаты, которых убивают, как на бойне, вследствие чего поместья дворян обезлюдены и они не в состоянии уплатить общественных податей» — такими представлялись настроения российского «шляхетства» офицеру-иностранцу на русской службе в 1740 году{361}.
Эти настроения не могли не волновать квалифицированных и думающих людей, объединившихся вокруг Волынского. Члены компании собирались по вечерам в доме Волынского на Мойке: ужинали, беседовали, засиживались до полуночи. До нас дошли отрывочные сведения о предметах обсуждения: «о гражданстве», «о дружбе человеческой», «надлежит ли иметь мужским персонам дружбу с дамскими», «каким образом суд и милость государям иметь надобно». Интеллектуальные беседы подвигли министра на сочинение обширного проекта, который он сам на следствии называл сочинением «о поправлении государственных дел» или «генеральным рассуждением».
Кроме вышеперечисленных основных участников кружка, к работе привлекались секретари Военной коллегии Петр Ижорин и Василий Демидов, сенаторы Александр Нарышкин и Василий Новосельцев; о «военной части» проекта Волынский сообщал А.М. Черкасскому, главе Тайной канцелярии А.И. Ушакову, генерал-майору С.Ф. Апраксину. Таким образом, проект Волынского являлся результатом коллективного труда группы компетентных чиновников среднего и высшего уровня, оформлявшего основные мысли кабинет-министра в конкретные предложения.
К сожалению, проект до нас не дошел. Автор доделывал его вплоть до самого ареста — «перечеркивал тот проэкт Артемей Волынской в неделю раза по два». После грянувшей опалы он сжег черновики, а переписанную набело часть отдал начальнику Тайной канцелярии Ушакову — этот пакет исследователям пока найти не удалось. Из обвинительного заключения и показаний самого Волынского и его друзей можно составить некоторое представление о его содержании, отраженное в сводке-«конспекте», сделанном историком Ю.В. Готье.
В сохранившемся предисловии к проекту Волынский обращался к читателям; позднее он признавался, что представлял в этом качестве людей своего круга — сенаторов и коллег-министров. Автор извинялся: «…не школастическим штилем и не риторическим порядком в расположении в том своем сочинении глав написал, в том бы меня не предосуждали, того ради, что я в школах не бывал, а обращался я с молодых лет в военной службе» — и заявлял: «И ежели вы, господа почтенные, усмотрите сверх что к изъяснению и дополнению, прошу в том потрудиться, и я на резонабельное буду склонен и сердиться и досадовать за это не стану».
Даже это обращение могло вызвать неудовольствие (в манифесте о казни Волынского оно прямо названо «злодейским предисловием»): министр апеллировал не к государыне, а прямо к «своей братье» из числа «генералитета», считая их компетентными для оценки его проекта и способными на его претворение. Еще большее подозрение могла вызвать следующая за предисловием историческая часть, где Волынский, как показывали его друзья, изложил историю России от Рюрика до избрания царя Михаила Федоровича. Именно здесь автор «написал многие острые речи о несамодержавстве в Польше и Швеции и другие излишества» — упомянул о «супружестве» своего предка с дочерью Дмитрия Донского, а царя Ивана Грозного назвал «тираном»{362}. На следствии подозрительная императрица сразу велела спросить своего бывшего министра о памятных событиях 1730 года: «Не сведом ли он от премены владенья, перва или после смерти государя Петра Второва, когда хотели самодержавство совсем отставить?» Для подозрений были основания: в бумагах Волынского нашлись копии «кондиций» и нескольких появившихся в то время проектов.
Однако сравнение этих документов с предложениями опального министра показывает разницу между «оппозиционерами» 1740 года и «конституционалистами» 1730-го. В предисловии Волынский обещал «зачать с Кабинета» и показывал Соймонову незаконченное сочинение «на двух листах о непорядках и о умножении дел кабинетских и о разделении оных в Кабинете дел на две экспедиции двум секретарям». Другим слушателям он рассказывал о необходимости расширить состав Сената и повысить его роль за счет перегруженного делами Кабинета и вновь ввести сенаторские ревизии губернских учреждений{363}.
В течение нескольких месяцев 1740 года усердно трудившийся над переписыванием проекта служащий Конюшенной канцелярии Герасим Внуков рассказал следствию, что текст проекта состоял из шести частей («о укреплении границ российских», «о церковных чинах», «о шляхетстве», «о купечестве», «о правосудии» и «о экономии»), разбитых на 70 «пунктов»{364}. Из сохранившихся упоминаний о планах министра можно понять, что он собирался сократить армию до шестидесяти полков, тем самым сэкономив казне 1 миллион 800 тысяч рублей; из остальных частей устроить военные поселения-«слободы» на границах; однако неизвестно, увязывал ли он эти меры с сокращением подушной подати с крестьян, шедшей именно на содержание армии.
Далее Волынский предлагал «облагородить» приходское духовенство — «в оный чин весть шляхетство», отправлять будущих попов в «академии» и обеспечивать их за счет паствы: ученым батюшкам «самим не пахать, а чтоб приходским людям платить им деньги». Надлежало также чиновников «умножить к делам из дворянства», то есть назначать природных дворян на должности в государственных учреждениях, в том числе и на канцелярские места, занятые выходцами «из самой подлости». Представителей благородного сословия следовало посылать обучаться за границу, чтобы «свои природные министры со временем были». Кроме того, Волынский предлагал ввести для дворян монополию на винокурение, восстановить в городах магистраты для защиты купцов от произвола провинциальных воевод — ему ли было не знать об этих «обидах»!
Министр считал необходимым условием «правосудия» «в гражданские чины вводить шляхетство ученых людей и в воеводы определять», последних же назначать «беспеременно», а не на один-два года. В сфере «экономии» следовало бедные монастыри обратить в «сиротопитательные дома», сочинить «окладную книгу» (статей доходов государства. — И. К), сбалансировать доходы и расходы бюджета, принять меры для «размножения фабрик и заводов»; навести порядок в «таможенных и других сборах» путем борьбы с намеренным занижением декларируемых цен на ввозимые в Россию товары — они должны были конфисковаться в казну с уплатой владельцу заниженной стоимости из особого фонда; запретить совместные торговые компании с иноземцами — возможно, чтобы помешать господству на внутреннем рынке крупных иностранных фирм под фиктивными марками{365}.
Мы не можем сейчас утверждать, что этот краткий обзор полностью отражает содержание всех семидесяти «пунктов» обширного сочинения. Однако имеющиеся в нашем распоряжении данные свидетельствуют о том, что Артемий Петрович был продолжателем именно петровской «генеральной линии». Сам он, если верить Кубанцу, считал: «…есть за что благодарить меня дворянству». Пожалуй, можно согласиться, что расширение состава и полномочий Сената отвечало дворянским интересам, как и повышение образовательного уровня, и укрепление позиций «шляхетства» в администрации. Но ведь, кроме того, по проекту кабинет-министра дворянству светили сокращение офицерских вакансий в армии, непопулярная служба в канцеляриях и того хуже — в приходских попах, перспектива «поубоже платье носить» и повышение цен на престижные заморские товары вследствие увеличения пошлин или принудительной продажи европейских вин казне с последующей их перепродажей потребителям. По давней заветной мечте Волынского, «шляхетство» должно было учреждать и содержать конные заводы, «чтоб в завод было со 100 душ по кобыле и в зборе на всякой год было по лошади». Однако как истинный представитель древнего рода он напоминал дворянам об их высоком призвании и считал делом государственной важности составление родословных «всему российскому шляхетству по алфабету», чему положил пример изображением «картины» своей фамилии.
Церковь он также рассматривал в качестве ресурса государственной власти: забота о просвещении батюшек (правда, неясно, за чей счет оно должно было осуществляться и что при этом делать с массой оставшихся «неучеными» попов) сочеталась с желанием использовать монастырскую «жилплощадь». В то же время намерение улучшить материальное положение духовенства, очевидно, имело целью повышение престижа священнослужителей и усиление влияния церкви на общество и отличалось от практики ущемления интересов православного клира в царствование Анны Иоанновны{366}.
Восстановление достаточно бесправных петровских магистратов для купечества вполне уравновешивалось бы «бессменным» воеводским руководством. При этом не вполне понятно, как Волынский рассчитывал сочетать несменяемость воевод с повышением авторитета назначавшего их Сената. Едва ли предложенные им сенатские ревизии могли бы гарантировать должный порядок на российских просторах да еще и при упразднении высшего органа надзора в лице генерал-прокурора. Эту должность министр явно считал ненужной, «понеже оной много на себя власти иметь будет и тем может сенаторам замещение чинить», а возможно и потому, что влиятельный генерал-прокурор мог стать опасным соперником первому лицу Кабинета.
В отличие от авторов дворянских проектов 1730 года Волынский обходил проблему организации и прав верховной власти. Министр и прежде не сочувствовал ее ограничению, а выступать с такими идеями в конце царствования Анны Иоанновны и подавно не собирался, тем более что своих планов не таил и хотел представить свое сочинение «для докладу ее величеству». Отнюдь не являлось политически «непристойным» и разозлившее следствие сочинение нидерландского гуманиста Юста Липсия «Увещания и приклады политические от различных историков» (Monita et Exempla politico) — его автор придерживался вполне монархических убеждений, верно служил Габсбургам и не признавал никакого ограничения власти государя, за исключением его христианской совести{367}. Другое дело, что он приводил, а Волынский использовал показательные примеры дурного поведения «женских персон» у власти, что могло обидеть Анну Иоанновну.
В целом же известное нам содержание проекта трудно назвать крамольным. Даже сочинители злобного манифеста о казни Волынского не смогли выискать в «генеральном рассуждении» ничего криминального и ограничились обвинениями автора в том, что его намерения касались «до явного нарушения и укоризны издревле от предков наших блаженныя памяти великих государей и при благополучном нашем государствовании к пользе и доброму порядку верных наших подданных установленных государственных законов и порядков, к явному вреду государства нашего и отягощению подданных».
Скорее, наоборот, проект находился на столбовом пути развития внутренней политики послепетровской монархии. Сократить армию безуспешно пытался Верховный тайный совет{368}; при Анне предпринимались попытки «одворянить» государственный аппарат (путем «приписки» молодых дворян-«кадетов» к Сенату для обучения канцелярской работе) и сбалансировать бюджет; позже, при Елизавете Петровне, будут восстановлены магистраты и введена дворянская винная монополия. Волынский предусматривал частичное удовлетворение запросов и интересов основных российских сословий — но, кажется, Артемий Петрович несколько преувеличил значение своего детища. Его проекту, составленному из нескольких несоразмерных частей, не хватало систематичности и постановки принципиальных проблем, а самому автору — способности к «отвлеченным мыслям» и планомерной работе. По мнению исследователя проекта Ю.В. Готье, Артемий Петрович на высшем государственном посту оставался «умным и способным дилетантом»{369}.
По масштабу поставленных задач его план уступал не только ограничительным проектам 1730 года, но и прожектерству знаменитого представителя российской бюрократии времен Елизаветы Петровны — генерал-фельцейхмейстера и сенатора графа П.И. Шувалова. Впрочем, есть основания полагать, что Петр Иванович при помощи своего брата, начальника Тайной канцелярии А.И. Шувалова, ознакомился с предложениями Волынского — не потому ли исчез из следственного дела кабинет-министра пакет с его сочинением?{370} Как и Волынский (в «мнении» 1735 года и проекте 1740-го), Шувалов предлагал меры по борьбе с побегами за рубеж, укреплению границ и учреждению «запасных хлебных магазинов» на случай неурожая. Созвучны идеям Волынского и мысли елизаветинского вельможи о заполнении обученными дворянами мест секретарей в провинциях и губерниях, несменяемости воевод и создании солдатских «слобод».
Но при всём этом проект Шувалова представляется более цельным и продуманным, а его размах превосходит относительно скромные «поправления» опального кабинет-министра. Волынский, насколько можно судить по кратким упоминаниям, в рамках своего плана сокращения армии предполагал поселить солдат в слободах «при границах». У Шувалова же о каком-либо уменьшении численности вооруженных сил речь не идет; границу с Польшей он мыслил укрепить линией форпостов через каждые 25—30 верст с полевыми драгунскими полками для регулярного патрулирования. Солдатские же «слободы» как стационарные места размещения армейских частей с семьями и школами для солдатских детей граф считал необходимым расположить не только у границ, но и по всей территории страны при городах, «где хлеб дешевле и довольство в лесах». Для обеспечения армии и, как сказали бы теперь, продовольственной безопасности государства Петр Иванович предлагал создать целую систему «магазеинов»-складов трех типов: «для удовольствия полков», стратегические («капитальные для балансу в цене на хлеб») и при портах. Руководить же этой системой государственных ресурсов призвана была служба земских комиссаров — губернский генерал-комиссар с двумя оберкомиссарами и подчиненные ему провинциал-комиссары и уездные комиссары. Первые должны были назначаться Сенатом, вторые — избираться «ис тамошнего лутчева дворянства», но утверждаться в должности генерал-комиссаром; возглавлять же новое ведомство должна была учрежденная при Сенате Контора государственной экономии, которую надлежало «поручить в дирекцию особливой из высокоповеренных господ сенаторов персоне».
Можно полагать, что в этой «персоне» автор проекта видел себя, поскольку новая служба получала бы огромные полномочия. В ее подчинении находились бы не только служащие «магазеинов» и казенные хлебные запасы, но и огромные средства на их заготовку — вся «неокладная денежная казна» государства. Новая контора регулировала бы цены на хлеб, осуществляла его закупки и доставку к месту назначения. Комиссары должны были возводить хлебные магазины и солдатские «слободы», контролировать передвижение, дислокацию («лагеря») и обеспечение полков, заботиться о починке мостов и дорог. Помимо того, в их ведение переходили «ревизоры-межевщики», занимавшиеся борьбой с разбоями сыщики, сборщики «подушных денег» и ведавшие лесами вальдмейстеры. Наконец, комиссары отчасти могли бы контролировать земельную собственность дворянства (выявление выморочных имений и «лишней» земли и крестьян «сверх пожалованных»); они должны были получить прокурорские полномочия для возбуждения перед Сенатом «безгласных дел» и судебные права на рассмотрение «обид и ссор», в том числе споров крестьян с помещиками (за исключением «татиных и разбойных дел»), и прочих исков до 30 рублей.
Петр Иванович подсчитал и штат новой службы «государственной экономии» — он должен был включать 3599 человек, почти половину имевшихся к тому времени государственных служащих империи. При этом грандиозный план был призван не только обеспечить продовольственное благополучие страны и удовлетворить амбиции его создателя. Последний, шестой пункт проекта объясняет и еще одну причину его появления. Шувалов предложил: быть «губернаторам и воеводам с товарыщи безсменно», с обеспечением их самих и их подчиненных «довольным жалованьем». Таким образом, провинциальная администрация становилась синекурой для заслуженного «шляхетства», поскольку реальная власть на местах находилась бы в руках чиновников «государственной экономии». Новое «суперминистерство» должно было сохранять «вертикаль власти» и заодно защищать обывателей от произвола «воевод и подьячих»{371}.
На подобные изменения Артемий Петрович не претендовал; его как будто вполне устраивала сложившаяся конфигурация власти с ним самим в качестве не формальной, а реальной первой фигуры правительства. Его планы осторожно касались либерализации аннинского режима в смысле упорядочения финансов, повышения значения Сената и роли «шляхетства» в местной администрации. Последнее неслучайно — уж очень неспокойным для правящей элиты было время Анны Иоанновны. Помимо известных процессов над представителями фамильной знати Д.М. Голицыным и Долгоруковыми, центральная и местная администрация не раз подвергалась перетряске — за десять лет состоялись 68 назначений на руководящие посты в центральном аппарате и 62 назначения губернаторов. Царствование Елизаветы дает такое же количество назначений (60 начальников учреждений и 70 губернаторов), но за 20 лет; при этом за оба царствования было смещено одинаковое количество (60 и 59 человек) начальников учреждений и почти одинаковое (61 и 66 человек) губернаторов. При Анне 22 процента руководителей учреждений и 13 процентов губернаторов были репрессированы; с учетом уволенных и оказавшихся «не у дел» эти цифры составят соответственно 29 и 16 процентов, а за двадцатилетнее царствование Елизаветы наказания руководителей учреждений происходили почти в два раза реже и настолько же возросло количество должностных лиц, досидевших на своем посту до естественной смерти{372}.
Судя по отзывам, дошедшим до нас из окружения Волынского, министр нисколько не скрывал своего сочинения и был уверен в том, что оно принесет ему славу и еще более утвердит и без того высокое положение при дворе. Для этого были все основания. Казалось, он захватил лидерство в Кабинете — в этом смысле расчет Бирона на соперничество министров вполне оправдался. Однако искушенный в интригах Остерман не случайно «уступал» главную роль: выдвижение яркого и амбициозного соперника на первый план, его претензии на место первого советника государыни объективно подрывали позиции не только вице-канцлера, но и самого Бирона. Рано или поздно Артемий Петрович неминуемо должен был столкнуться с фаворитом. Так и случилось — но перед этим его ждал последний успех.
Глава четвертая. «МУЧЕНИК ПОЗОРНОЙ КАЗНИ»
В оном же году кабинет министр Артемий Петрович Волынский да с ним Андрей Хрущов и Петр Еропкин взяты под караул; люди были славные своим разумом.
В.А. Нащокин«Ледяной» триумф
Новый, 1740 год открылся чередой торжеств. После новогоднего праздника двор 19 января отмечал десятую годовщину восшествия Анны Иоанновны на престол. В ее честь звучали русские и немецкие вирши (приводим подстрочный перевод аннинского времени):
Благополучная Россия! посмотри только назад, На прошедшую ночь давно минувших времен. Вспомни тогдашнюю темноту: взирай на нынешнее свое цветущее щастие. Удивляйся премудрости Великие Анны. Рассуждай ее силу, которая ныне твою пространную империю Славой своего оружия одна защищает. Ее величие везде и во всем равно. То и двор ее своим великолепием все протчие превышает, Свет ее славы пленяет слух и сердце чужестранных народов. Они числом многим бегут сюда спешно, живут с удовольством. Кто не ее подданный, тот подданным быть желает. Сие златое время России По желанию сердец наших именем Великие Анны назвали.Следом шли празднование дня рождения императрицы и приготовления к торжеству по случаю подписанного недавно мира с турками. Кабинет-министр Волынский готовился поразить столицу невиданным зрелищем — свадьбой царского шута князя Михаила Голицына и шутихи-калмычки Евдокии Бужениновой в специально выстроенном по этому случаю на Неве «Ледяном доме».
В столичные и местные учреждения империи полетели указы, подобные тому, что получила Канцелярия от строений: «Повелели мы учинить нашему кабинет министру и обер егермейстеру Волынскому некоторые приуготовлении, потребные к маскараду. Того ради прислать к нему от оной Канцелярии архитектора Бланка, тако ж, сколько к тому потребно будет, мастеровых и протчих людей, лесных и других материалов; то все по требованию его отправлять немедленно». Закипела работа, и в короткое время рядом с царским дворцом вырос причудливый дом из ледяных плит с ледяными окнами.
Вокруг всей крыши тянулась галерея, украшенная столбами и статуями. Крыльцо с резным фронтоном вело в сени, из которых можно было попасть в две симметрично расположенные комнаты. В одной комнате размещались два зеркала, туалетный стол, шандалы со свечами, большая кровать, табурет и камин с ледяными дровами; во второй — стол, два дивана, два кресла и резной поставец со стаканами, рюмками и блюдами, на столе стояли часы и лежали карты. Все эти вещи были сделаны из льда и «выкрашены приличными натуральными красками». Ледяные дрова и свечи, намазанные нефтью, горели. Имелась даже ледяная баня, которая несколько раз топилась, и желающие в ней парились.
Перед домом стояли шесть ледяных пушек и две мортиры, которые могли стрелять. На ледяных воротах были укреплены горшки с ледяными ветками, на которых сидели ледяные птицы. У ворот красовались два ледяных дельфина, с помощью насосов выбрасывавшие из челюстей огонь из зажженной нефти. Неподалеку находился ледяной слон в натуральную величину с фигурой персиянина-погонщика. «Сей слон внутри был пуст и так хитро сделан, что днем воду, вышиною на 24 фута, пускал, которая из близко находившегося канала Адмиралтейской крепости трубами приведена была, а ночью, с великим удивлением всех смотрителей, горящую нефть выбрасывал. Сверх же того мог он, как живой слон, кричать, который голос потаенный в нем человек трубою производил», — описывал чудесное зрелище профессор Академии наук Георг Крафт.
Свадьба должна была состояться на фоне грандиозного маскарада, главную роль в котором должны были играть представители разных земель бескрайней империи. От Академии наук царский указ потребовал «подлинное известие учинить о азиятских народах, подданных ее императорского величества, и о соседях, сколько оных всех есть, и которые из них самовладельные были, и как их владельцы назывались, со описанием платья, в чем ходят, гербов на печатех или на других, на чем и на каких скотах ездят, и что здесь в натуре есть платья и таких гербов, и например: мордва, чуваша, черемиса (марийцы. — И. К.), вотяки (удмурты. — И. К.), тунгусы, якуты, чапчадалы (камчадалы. — И. К.), отяки (вероятно, остяки — ханты. — И. К.), мунгалы (одна из территориально-родовых групп бурятов. — И. К.) башкирцы, киргизы, лопани, кантыши, каракалпаки, арапы белые (арабы. — И. К.) и черные (негры. — И. К.), и протчие, какие есть, подданные российские и четырех частей земли: Европы, Азии, Америки, Африки, генеральное их описание народа и скота, на чем ездят, герба и платья».
Ученые рекомендации пришлось выполнять местным властям. Так, посланный в Казань указ требовал в спешном порядке выбрать «из татарского, черемисского и чувашского народов каждого по три пары мужеска и женска полы пополам и смотреть того, чтобы они собою были не гнусные, и убрать их в наилучшее платье со всеми приборы по их обыкновению, и чтоб при мужеском поле были луки и прочее их оружие и музыка, какая у них употребляется». Такие же распоряжения были отправлены на Украину и в северный Архангельск{373}.
Не были забыты и великорусские мужики — в подмосковных дворцовых волостях, ямских селах, Калужской провинции местные власти срочно отыскивали игравших на рожках пастухов и «баб молодых и столко ж мужей их, умеющих плясать, для отсылки в Санкт Питер Бурх ко двору ее императорского величества». Перепуганных крестьян конвоировали в Московскую губернскую канцелярию, где сортировали на «годных» и «негодных». В итоге нашли шесть пастухов-рожечников и отобрали восемь пар крестьян-плясунов, которых за казенный счет одели, обули и отправили в Петербург{374}.
Шутовская свадьба с этнографическим парадом состоялась 6 февраля 1740 года. Под руководством Волынского был разработан церемониал маскарадного шествия и нарисованы эскизы маскарадных костюмов. Торжество удалось на славу. В день свадьбы участники церемонии собрались на дворе министра — главного распорядителя праздника; оттуда процессия прошла мимо императорского дворца и по главным улицам города.
Открывал шествие римский бог Сатурн на колеснице, запряженной четырьмя оленями с позолоченными рогами. Вслед за ним двигались играющие на рожках пастухи верхом на коровах, три колдуна с накладными носами; сказочный богатырь, потешная «гвардия» жениха — 24 воина в вывороченных заячьих шубах верхом на козлах, музыканты с гудками, волынками, «рылями» (лирами), балалайками и рожками, за ними линейки и сани, запряженные быками или собаками, на которых ехали вотяки, лопари (саамы), камчадалы, просто ряженые «под видами разных диких народов», Бахус верхом на винной бочке с двумя сатирами и Нептун, в роли которого выступал шут Иван Балакирев.
За «жениховой конюшней» — оседланными ослом, козлом и бараном — ехал в санях, запряженных шестью оленями, сам жених — «дурак самоятской ханской сын Кваснин» князь Голицын, свахи, управитель маскарадного поезда верхом на слоне, 12 арапов на верблюдах, главный жрец торжества с изображением солнца, «которого идолопоклонники за бога почитают», и, наконец, в «качалке» на двух верблюдах «невеста блядь Буженинова» со свитой из мордвинов, чувашей и черемисов на санях, запряженных свиньями{375}.
«Когда поезд объехал все назначенное пространство, людей повели в манеж герцога Курляндского. Там по этому случаю пол был выложен досками и расставлено несколько обеденных столов. Каждому инородцу подавали его национальное кушанье. После обеда открыли бал, на котором тоже всякий танцевал под свою музыку и свой народный танец. Потом новобрачных повезли в Ледяной дом и положили в самую холодную постель. К дверям дома приставлен караул, который должен был не выпускать молодых ранее утра» — так, по воспоминаниям адъютанта Миниха, капитана Манштейна, завершилось это мероприятие.
Одним из главных участников шутовского действа был поэт и секретарь Академии наук Василий Тредиаковский, которого за два дня до праздника поколотил разгневанный Волынский. Министр потребовал написать стихи на шутовскую свадьбу; Еропкин забыл передать его приказание поэту, и тот, вызванный в неурочный час дежурным кадетом на «слоновый двор» (штаб подготовки «фестиваля»), возмутился. Волынский же никак не мог допустить какой-либо помехи торжеству и лично «вразумил» стихотворца. Как писал в слезной челобитной сам Тредиаковский, «его превосходительство, не выслушав моей жалобы, начал меня бить сам перед всеми толь немилостиво по обеим щекам; а притом всячески браня, что правое мое ухо оглушил, а левый глаз подбил, что он изволил чинить в три или четыре приема», а потом «повелел и оному кадету бить меня по обеим же щекам публично».
После избиения Тредиаковскому дали «на письме самую краткую материю, с которой должно было ему сочинить приличные стихи», и отпустили. На следующий день поэт явился с жалобой в присутствие, где Бирон принимал посетителей — «пасть в ноги его высокогерцогской светлости и пожаловаться на его превосходительство», но, на беду, столкнулся там с обидчиком, и истязание продолжилось: «…увидев меня, спросил с бранью, зачем я здесь, я ничего не ответствовал, но он бил меня тут по щекам, вытолкал в шею и отдал в руки ездовому сержанту, повелел меня отвести в комиссию и отдать меня под караул, что таким образом и учинено. Потом, несколько спустя времени его превосходительство прибыли и сами. Тогда браня меня всячески, велели с меня снять шпагу с великою яростию и всего оборвать и положить и бить палкой по голой спине столь жестоко и немилостиво, что, как мне сказывали уже после, дано мне с 70 ударов».
Поэт, сидя под стражей, написал стихи, а затем в маске и потешном платье читал шутовское приветствие («срамное казанье») новобрачным:
Здравствуйте, женившись дурак и дура, еще и блядочка, то-та и фигура. Теперь-то прямое время вам повеселит<ь>ся, теперь-то всячески поезжанам должно бесит<ь>ся, Кваснин дурак и Буженинова блядка сошлись любовно, но любовь их гадка. Ну мордва, ну чуваша, ну самоеды, Начните веселые молоды деды. Балалайки, гудки, рошки и волынки, Сберите и вы бурлацки рынки, Плешницы, волочайки и скверные бляди, Ах вижу, как вы теперь ради, Гремите, гудите, брянчите, скачите, Шалите, кричите, пляшите, Свищи весна, свищи красна. Не можно вам иметь лучшее время, Спрягся ханской сын, взял хамское племя. Ханской сын Кваснин, Буженинова ханка, Кому того не видно, кажет их осанка! О, пара! О, нестара!..Можно посочувствовать и побитому Тредиаковскому (его рапорту о побоях, поданному в Академию наук 10 февраля, хода не дали), и несчастному жениху Михаилу Голицыну (внуку боярина князя Василия Васильевича — начальника Посольского приказа и фаворита царевны Софьи) и посетовать на грубость шутовских развлечений, но следует признать, что «шоумейкером» Волынский оказался хорошим. Его представление имело успех как раз потому, что отвечало вкусам не только императрицы, но и прочей публики. «Поезд странным убранством ехал так, что весь народ мог видеть и веселиться довольно, а поезжане каждый показывал свое веселье, где у которого народа какие веселья употребляются, в том числе ямщики города Твери оказывали весну разными высвистами по-птичьи. И весьма то было во удивление, что в поезде при великом от поезжан крике слон, верблюды и весь упоминаемый выше сего необыкновенный к езде зверь и скот так хорошо служили той свадьбе, что нимало во установленном порядке помешательства не было», — вместе с народом искренне радовался забаве капитан гвардии Василий Нащокин{376}.
Что же касается Тредиаковского, то кабинет-министр видел в нем не поэта и ученого, а подобного мичману Мещерскому шута и прихлебателя своего соперника князя А.Б. Куракина — и обошелся с ним соответственно. Отпустив последние десять ударов палкой посредством караульного капрала, Волынский милостиво разрешил обиженному жаловаться, «…а я де свое взял, и ежели де впредь станешь сочинять песни, то де и паче того достанется», — заявил он стихотворцу, по заказу «патрона» писавшему на него обидные «басенки и песенки»:
Набрала ворона перышек от прочих птиц; Убралась всеми снизу вверх без мастериц. Величаться начала сею пестротою, Презирая птичек всех в том перед собою.Или еще хуже:
Во львиную осел как нарядился кожу, И ею он покрыл зад, ноги, спину, рожу, То в той он устрашал, как лев, везде зверей. А инде приводил чрез то в страх и людей{377}.Одиннадцатого февраля «народы» были приглашены во дворец для прощальной аудиенции, где танцевали перед императрицей. 14-го числа Анна Иоанновна принимала приветствие от «государственных чинов», которое поднесли князь Черкасский и фельдмаршалы Миних и Ласси; «иностранные министры», дамы и придворные были допущены к целованию руки императрицы. Прием закончился раздачей милостей по случаю заключенного мира с турками; государыне были представлены пленные турецкие офицеры, и Артемий Петрович проводил их к столу.
После этой церемонии, по свидетельству французского посла, «два герольда верхами, в великолепном убранстве… отправились в различные кварталы города, возвещая о мире; при них находились два секретаря, которые читали договор, и четыре унтер-офицера, бросавших в народ деньги». 15 февраля при дворе был маскарад, который завершился далеко за полночь. 17-го в заключение торжеств императрица раздавала золотые медали иностранным дипломатам и придворным, а потом «пошла в апартаменты принцессы Анны (племянницы императрицы. — И. К.), выходящие на площадь, и сама стала бросать оттуда деньги в народ». Для подданных было выставлено угощение, в том числе два зажаренных целиком быка и вино из фонтанов, наполнявших огромный бассейн. За народным «удовольствием» императрица и свита «смотрением из окон веселитца изволили»…
Наверное, доволен был и Артемий Петрович.
6 марта Анна Иоанновна подписала указ о выдаче изобретательному придворному «для нынешнего мирного торжества в награждение» 20 тысяч рублей{378}, однако сделано это было «по его прошению». Никаких же иных знаков отличия честолюбивый министр не получил, хотя у него не было ни ордена Александра Невского, ни Андреевской звезды. Это было последнее торжество Волынского.
Бирон уже готовился нанести ему удар. В собственноручно поданной челобитной (на имеющемся в следственном деле списке не проставлена дата, но в бумагах следственной комиссии указано, что она приобщена к делу 16 апреля 1740 года{379}) обер-камергер и герцог представал верным слугой, который «с лишком дватцать лет» несет службу, «чинит доклады и представления», что тем более важно сейчас, когда один министр Кабинета «в болезни», а другой, то есть Остерман, «за частыми болезнями мало из двора выезжает». Волынский же осмелился подать государыне письмо (о нем пойдет речь ниже. — И. К.) с наветами на тех, кто «к высокой вашего императорского величества персоне доступ имеет», и тем самым возвел «напрасное на безвинных людей сумнение». Как бы не понимая, о ком идет речь в этом письме, Бирон просил защитить его честь и достоинство и потребовать от Волынского, чтобы «не токмо с именованием персон точно изъяснено, но и надлежаще доказано, и показанные со злости и лукавства тех, на которых автор того письма доводить хощет, именно объявлены были».
Следом фаворит обвинил кабинет-министра, посмевшего «в покоях моих некоторого здешней Академии наук секретаря Третьяковского побоями обругать». Собственно, само избиение поэта Бирона не интересовало. Для него Тредиаковский тоже был вроде шута, но не из придворного ведомства; в другое время он сам вместе с Волынским посмеялся бы над забавным приключением. Но теперь это происшествие пришлось как нельзя кстати: кабинет-министр рукоприкладствовал по отношению к просителю, прибывшему в приемную «владеющего герцога», и, самое страшное, в «апартаментах вашего императорского величества»{380}, а это уже пахло оскорблением императрицы и могло подпадать под понятие «государева слова и дела».
Тут, пожалуй, интересными являются не сами обвинения, а причины, заставившие Бирона выйти из тени, предстать жалобщиком и вынести придворные склоки на публичное разбирательство. На первый взгляд неожиданное выступление фаворита против пользовавшегося его поддержкой министра, похоже, не было случайным. Эрнст Иоганн Бирон, обер-камергер и герцог Курляндский, к тому времени являлся фигурой весьма влиятельной, но отнюдь не всесильной. Как у любого «настоящего» фаворита, у него был свой круг обязанностей и полномочий — в качестве начальника придворного штата и личной канцелярии императрицы, дополнительного «канала» поступления информации от высших военных и штатских чинов, удобного неформального посредника в контактах с иностранными дипломатами, наконец, своеобразного лоббиста, ускорявшего принятие важных решений и игравшего роль влиявшего на раздачу наград и милостей. Но в текущее управление Сената и Кабинета он не вмешивался, а в иностранных делах вынужден был считаться с Остерманом. Только объединение этих двух фигур могло сокрушить Волынского.
Поражения и победы
Артемий Петрович, начав службу при Анне в качестве безнадежно проштрафившегося губернатора, в 1736—1739 годах неуклонно шел «наверх». Однако удержаться у власти сложнее, чем взойти на вершину. Для успеха ему (как и Бирону, Остерману или Миниху) надо было найти свою «нишу» — круг обязанностей, которые делали бы его необходимым, — и уметь осторожно делить компетенцию, не посягая на чужой «огород». Но своими растущими амбициями новый министр насторожил многих.
Он долгое время был лояльным по отношению к Бирону, но затем стал отдаляться от «патрона». С помощью друзей он выступил против президента Адмиралтейств-коллегий адмирала Н.Ф. Головина — креатуры герцога. 11 апреля 1738 года обер-штер-кригскомиссар флота Ф.И. Соймонов занял пост обер-прокурора Сената «в ранге генерал-майора», и вскоре после его назначения появился именной указ Анны Иоанновны от 29 мая 1738 года.
Документ во всеуслышание объявлял, что адмиралтейские суммы отдавались «на векселя купцам некоторым, не токмо малознатным капиталистам, в том числе и самым банкротам», а президент Головин «самовластно» раздавал деньги, «как бы его собственные», купцам и своим «служителям». В злоупотреблениях обвинялись также его подчиненные, а нечистый на руку командир был принужден «терпеть, манить, потакать и всячески пакостные их дела, кражи и воровство, елико возможно, попускать или закрывать, бояся того, чтоб на него самого доносить не стали». После ареста кабинет-министра Головин в прошении от 20 апреля 1740 года объяснял, что обличавший «бессовестные дела» чинов Адмиралтейства указ был составлен Волынским: «…обще с бывшим обер-прокурором, что ныне генерал-кригскомиссар, Федором Соймоновым сочинили и в доме у себя переписывали и чернили… формуляр указа, который переписывал кабинетный канцелярист Андрей Суровцев, яко бы на Адмиралтейств-коллегию, а в самом деле на меня, всеподданнейшего раба вашего императорского величества, будто бы деньги и материалы казенные вашего императорского величества самовластно разобраны и прочие непорядки учинены»{381}.
По составленному Волынским указу императрицы началась проверка «адмиралтейских сумм»{382}. Проведенная сенатором В.Я. Новосильцевым и обер-прокурором Ф.И. Соймоновым ревизия флотского ведомства выявила крупные «непорядки»: чины Адмиралтейства давали казенные деньги в долг «на вексели», всего с 1734 года «по словесным предложениям» была роздана внушительная сумма — 408 901 рубль. Сам адмирал Головин позаимствовал из казны 47 461 рубль; при этом десять тысяч взял без какого-либо «определения» коллегии, полученные деньги в срок не возвращал, а с некоторых сумм не платил проценты; кроме того, президент бесплатно оприходовал два небольших судна с Партикулярной верфи и пользовался казенными стройматериалами (красками, досками, железом) «для домовых своих нужд»; за флотский счет достались ему и дорогие часы за 265 рублей{383}.
У Волынского с Головиным в 1737 году уже был конфликт: президент Адмиралтейств-коллегий присвоил сумму, выданную Конюшенной канцелярией в счет займа, взятого у флотского ведомства на покупку лошадей в Башкирии. Соймонов заставил его осенью того же года вернуть деньги, но дело дошло до государыни, и адмирал на коленях просил у нее прощения{384}. На этот раз дело было еще серьезнее. В августе 1738 года Волынский заготовил проект указа об «отрешении» Головина от управления коллегией и «присутствии вместо того за коллежских советников экипажской экспедиции советникам Пушкину и Хрущову»{385}. Но документ «в действо произведен не был»: Бирон, по свидетельству Соймонова, «взяв оной у государыни из рук, бросил Волынскому в глаза, упрекая его, что он неправильно подает на графа Головина, а он де человек чесной и доброй»; таким образом, адмирал с «помощию» своего патрона Бирона «пришел в прежнюю свою силу»{386}.
Он осмелел настолько, что в феврале 1739 года стал требовать от Штатсконторы якобы недоплаченные его коллегии с 1731 года 2 394 605 рублей 47 с половиной копеек. Финансисты, обидевшись, стали доказывать, что Адмиралтейство, как и другие ведомства, действительно недофинансировалось, но сумма долга составляет никак не более 959 тысяч рублей, да и тех «Статс контора платить не должна и не ис чего», поскольку на флотские расходы были учреждены «особливые сборы» с таможен. В итоге в апреле 1740-го Сенат повелел выдать Адмиралтейству 100 тысяч рублей «с денежных дворов», а затем еще 50 тысяч на жалованье и провиант строителям галер, чтобы они не разбежались, а на все последующие требования отвечал отказом.
Однако противники адмирала покоя ему не давали. В июне 1738 года Сенат потребовал от Адмиралтейства отчет во всех расходах с 1731-го. Головин, ссылаясь на «неприсылку счетов от портов и контор», с выполнением тянул, а присланные из коллегии бумаги противоречили друг другу{387}. Несмотря на это, президент не унимался и требовал «свои» два с лишним миллиона. Тогда Кабинет нанес ответный удар: именной указ императрицы от 21 мая 1739 года, «контрактованный» подписями всех трех кабинет-министров, обязал морское ведомство в недельный срок отчитаться за все полученные и израсходованные за восемь лет средства, в том числе за собранные недоимки, закупленные «припасы» и сэкономленное от «неполного комплекта» жалованье{388}.
Адмиралтейство с заданием не справилось и в сентябре. В том же месяце прокурором коллегии был по представлению Волынского и Черкасского назначен Н. Желябужский{389}. Соймонов стал генерал-кригскомиссаром флота; этим же указом были уволены его предшественник на этом посту М. Голицын и обер-штер-кригскомиссар Ф. Лопухин, а членами коллегии стали часто бывавший у Волынского капитан П. Пушкин и И. Микулин{390}.
Соймонов сразу же доложил Сенату, что его ведомству надлежит «не такая сумма, сколко та коллегия почитала, но многим менше». Указанные адмиралтейским начальством недоимки названы «без подлинных справок», тогда как на деле многие из них уже получены и недостающие материалы закуплены; к примеру, на строительство доков было выделено не 80 тысяч рублей, а все 120 тысяч, только не все суммы проходили через ведомости Адмиралтейства. В итоге сенаторы 9 января 1740 года постановили, что морякам недоплачено не два с лишним миллиона, а 507 421 рубль. Головин, после того как ему продемонстрировали соответствующие бумаги «за руками» адмиралтейских бухгалтеров, вынужден был с этими расчетами согласиться{391}.
Параллельно неутомимый Соймонов в декабре 1739 года начал ревизию Кронштадтского порта и обнаружил «против портному регламенту не токмо непорядочные, но и казне убыточные поступки» флотского начальства. На складах недосчитались сотни четвертей муки, мачтовые деревья гнили в грязи и воде, в гавани стояли бесхозные суда с «припасами»; служащие не знали, что хранится в тех или иных «магазинах», в то время как флотское имущество обнаруживалось лежащим в частных «амбарах»{392}. 29 января все нарушения были перечислены в поданном императрице «экстракте», так что эту кампанию Соймонов и его «патрон» едва ли считали проигранной.
В других случаях приходилось уступать. Кабинет министров долгое время не давал добро на план приватизации металлургических заводов, выдвинутый другой креатурой герцога — саксонским бароном Куртом Александром фон Шембергом. Прибывший в Россию в 1736 году с группой немецких инженеров и мастеров Шемберг, возглавив горное ведомство (Генерал-берг-директориум), выступил сторонником приватизации казенных предприятий — при условии, что именно его контора будет этим процессом руководить, а его подчиненные смогут вступать в рудокопные компании и становиться владельцами заводов.
Двадцать второго марта 1738 года Шемберг подал в Кабинет доношение, в котором, как резюмировалось в подготовленном для министров «экстракте», «он… болше стал склонятца об отдаче заводов в партикулярные руки», но при увеличении налогов с их владельцев. В частности, с домен он предлагал брать столько, «как ныне Акинфей Демидов платит в казну», то есть по три с лишним тысячи рублей, в то время как сбор в казну по копейке с пуда чугуна в среднем давал около 800 рублей с каждой домны. Для преодоления «сумнительств» он просил передать ему гороблагодатские и лапландские заводы, обещая менее чем за год выплатить их стоимость казне, отказываясь от полагавшихся льгот по налогообложению («никаких уволнителных лет не желает»). Генерал-берг-директор просил к заводам земли и приписных крестьян, права распоряжаться кабаками и поставкой провианта на заводы, а также гарантий владения и распоряжения заводами. При этом он рассчитывал, что и другие заводчики пожелают «с ним равные кондиции получать и к тому ж охотно и безспорно со времянем склонятца будут платить то же, что он в казну платить будет», то есть полагал, что права, которых он добивался, должны распространяться на всех частных предпринимателей{393}.
Подготовленные в Кабинете «экстракты» для слушания этого дела отразили «перемену мнения» автора (прежде он считал, что «лутче те заводы казенным коштом заводить, нежели партикулярным людем отдать»), отметив, что прежний начальник сибирских горных заводов В.Н. Татищев обещал казне от гороблагодатских заводов почти 30 тысяч рублей дохода, а Шемберг — только 9378.{394} Эти «экстракты» были поданы «его превосходительству Артемию Петровичу… в апреле месяце», после чего в Кабинете был составлен проект указа об организации комиссии для рассмотрения проектов Шемберга о «позволении ему в Лапландии и в Сибири при горе Благодати заводить горные заводы компанею». Заодно комиссия должна была определить, «сходно ли с нашими правами и не возможно ли иных лутчих способов изыскать, чтоб казне нашей болшая прибыль быть могла».
Однако подготовленный проект не был утвержден — вместо него 31 мая 1738 года был подписан именной указ, по которому создавалась особая «комиссия о горных делах», которой предстояло в совете с самим Шембергом решать вопрос уже обо всех горных заводах: «на казенном коште оныя заводы прибыльнее содержать или в компанию партикулярным людем отдать». Членами комиссии были назначены барон П.И. Шафиров, князь А.Б. Куракин, граф М.Г. Головкин, граф П.И. Мусин-Пушкин; чуть позднее в нее был включен барон X. В. Миних, брат фельдмаршала{395}.
Волынский в составе комиссии не значился; среди ее членов имелись как его «приятели», так и противники. В поданном уже 12 июня докладе они высказались в пользу приватизации. Но неизбежно встал вопрос, кто этим процессом будет управлять. Комиссия предложила в этом качестве себя, чтобы «охочие люди в учрежденную комиссию являлись» и подавали «кондиции», на которых они согласны взять казенные заводы, после чего «по предъявленным кондициям, и от Генерал-берг-директора мнению, и по разсуждению учрежденной комиссии с теми людьми и договор чиним быть имеет». Высочайшая резолюция от 16 июня повелевала «о предложениях генерал-берг-директора фон Шемберха и о горных делах и заводах основательное разсмотрение иметь», при этом подчеркивала: «…не о прежних токмо указах только толковать и оных держаться, но о том наиглавнейшее разсуждение иметь надлежит, что при таком впредь о сих делах установляемом учреждении и распоряжении нашему и государства нашего интересу к лучшей пользе и прибыли быть и касаться может, и какия по тому основанию иногда новыя учреждения учинены быть имеют»{396}.
Таким образом, речь шла о реформе горного дела и подготовке для этого «новых учреждений». Однако комиссия не считала нужным выходить за рамки прежнего законодательства («генеральной Берг-привилегии и указов, сколко к тому делу принадлежит»), и Шемберг оказался «с реченною комиссией) во многом не согласен». Он прислал свои возражения, а затем и сам выступил в собрании с требованиями, чтобы «охочие» (желающие стать заводчиками) люди являлись прямо в Генерал-берг-директориум и были утверждены «кондиции», «на каких те новоучреждаемые заводы и рудные места отдавать в компании и оные приобщить к той публикации в форме регламента, дабы каждой и все о том ведали и знали, к чему являт<ь>ся»; вследствие чего и иностранные подданные были бы «уверены, не втуне приезжать в здешнее государство».
Сам Шемберг составил проект нового горного регламента. Началось долгое обсуждение, в ходе которого обозначились основные противоречия между комиссией и «иностранным специалистом». Шемберг отстаивал интересы своего ведомства: оно должно было обладать правом приписывать деревни к горным заводам. Его оппоненты полагали, что этим делом должна ведать «учрежденная о горных делах комиссия, в которой и наш генерал-берг-директор присутствует»; жаловать же деревни могла только императрица.
Члены комиссии считали: «понеже те заводы не все равнаго достоинства, и, следовательно, чтоб оные все отдать в компании на генеральных или одинаких кондициях неприлично», нужно в каждом случае устанавливать для предпринимателя особые «кондиции». Шемберг же предлагал конкретно прописать в законе порядок налогообложения по имеющемуся прецеденту с Демидовыми: «вместо десятинного сбору и всяких пошлин» брать с заводовладельцев «з железа на уравнителном основании… с домны, на которую во один год выплавится чугуна до ста тысяч пудов, 3058 руб. 77 коп. на год, с меди, олова и свинца десятую долю… серебро по 14 копеек золотник, а золото по 2 руб. 30 коп. чистого ж золотник отдавать»{397}.
Проект Шемберга требовал гарантий наследственного владения заводами (даже в случае осуждения и конфискации имущества «инвестора» они должны были отойти наследникам). Члены комиссии полагали иначе: «Оное состоит в высочайшей ея императорского величества милости, как и о протчих движимых и недвижимых имениях, а иначе оное с государственными правами несходно», — что неудивительно при отсутствии самого понятия собственности в юридическом языке той эпохи. В лучшем случае они считали возможным обещать, что «позволение к рудокопанию» не будет отнято до тех пор, пока «то дело по надлежащему производить будет».
Наконец, по мнению комиссии, «всем тем, которыя от Генерал-берг-директориума и его правления зависят, в рудокопные дела, от которых они имеют получать прибытки, касаться не подлежит, ибо признавается, что, когда горныя управители или служители в тех делах будут участниками, то высочайшему… интересу будет предосудительно, к тому ж когда они будут интересен™, то уж кому надзирание над ними иметь». Такая постановка вопроса исключала участие Шемберга и его подчиненных в приватизации заводов. Поэтому он и отстаивал право участия для всех, «хотя б кто в нашей (императорской. — И. К.) службе обретался или не обретался». Кроме того, генерал-берг-директор предлагал предоставлять владельцам денежную помощь от казны, приписывать деревни к заводам с освобождением от «рекрутских и прочих поборов сверх подушных», разрешить беспошлинный ввоз на заводы необходимых «припасов и материалов» и дать возможность «в Россию привозить на казенном коште» нужных специалистов из-за границы. Но при этом сам поборник частной инициативы намеревался получить едва ли не самые лакомые куски госсобственности и отстаивал право единоличного контроля за проведением приватизации, что создавало условия для злоупотребления служебным положением.
В итоге настойчивости Шемберга комиссия всё же расширила привилегии частных горнозаводчиков: они должны были получить гарантию наследственного владения, свободу распоряжаться выплавленной медью, снятие ограничений в землеотводе для заводов, преимущественное право на добычу найденных полезных ископаемых перед собственниками земли, дополнительную помощь от казны в виде пособий, а также налоговых льгот. Выгода казны состояла в увеличении налогов с горнозаводской промышленности. При этом комиссия выступила против чрезмерной роли Шемберга в приватизации.
Далее работа над законопроектом перешла в Кабинет. После обсуждения предложений комиссии и замечаний Шемберга вице-канцлер Остерман согласился с необходимостью введения единых налоговых норм и гарантий прав собственности заводчикам (хотя и с оговоркой, что «сей пункт зависит от единой ее императорского величества высочайшей милости») и поддержал право генерал-берг-директора участвовать в приватизации. Правда, министр усомнился в полезности привоза на заводы «съестных и протчих припасов беспошлинно», поскольку от этого для казны мог последовать «немалый ущерб», а также счел нецелесообразным выписывать из-за границы «горных людей на казенном коште» и высказался против приписки деревень Генерал-берг-директориумом, так как «дело сие Сената, откуда и оную приписку чинить надлежит».
В целом же Остерман оказал Шембергу поддержку. Однако дело застопорилось. Как отмечалось в доношении комиссии в Кабинет от 1 ноября 1738 года, «по определению комиссии положено было о том в Генерал-берг-директориумом еще изъясниться, которой конференции поныне не была… за случавшимся некоторым из господ членов болезнми и за ожиданием на вышеозначенныя поданныя от комиссии всеподданнейшие доклады всемилостивейшей резолюции».
Похоже, Волынский и Черкасский тормозили подачу доклада для «всемилостивейшей резолюции». К февралю 1739 года появилось — уже за подписями всех трех кабинет-министров — «всеподданнейшее мнение», носившее двусмысленный характер. Кабинет согласился на приватизацию казенных горных заводов (в реестре значилось десять медеплавильных, десять железоделательных и два «серебряных» предприятия) даже с участием «управителей» из Генерал-берг-директориума, но допускать к приватизации надлежало только «з докладу и позволения ея императорского величества». При этом Кабинет отказался от прямой «отдачи» в частные руки именно тех предприятий, на которые положил глаз Шемберг: лапландских «рудных мест» и недостроенных Кушвинского и Туринского казенных заводов при горе Благодать. Эти крайне богатые и прибыльные участки министры предложили императрице «иметь главнейшее под именем своим, учредя пристойную компанию, в которую удостоены быть могут те, кого ее величество по высочайшей своей милости ныне впредь допустить изволит», то есть фактически предоставили решать щекотливый вопрос самой Анне Иоанновне{398}.
Окончательное решение вопроса о регулировании деятельности частных заводовладельцев произошло 9 и 10 февраля 1739 года. В Кабинет были призваны «для общего з господами кабинет-министрами разсуждения» генерал-берг-директор и члены «комиссии о горных делах». Шемберг мог торжествовать: было решено, что отдачу заводов «чинить Генерал-берг-директориуму по своему разсмотрению», как прежде это делала Бергколлегия; к приватизации допускались «управители горных дел»; по налогам предстояло «платить заводчикам з железа подоменно, применяясь к тому, по чему каждая домна в год пудов чугуна на каждом заводе, смотря по доброте руд, дать может, а с меди попудно, а оклад на все заводы положить одинако»{399}. Доклад, составленный в результате заседания и констатировавший, что «с общим мнением господ кабинетных министров как члены комиссии о горных делах, так и генерал-берг-директор согласны», 14 февраля и был утвержден императрицей.
Вопрос о приватизации интересовавших Шемберга заводов формально был отложен — отдать в разные компании предстояло все намеченные предприятия, «кроме железных в Сибири при горе, называемой Благодать, также и кроме медных в Лапландии». Но ждать ему пришлось недолго: в один день, 3 марта 1739 года, были утверждены новый Берг-регламент и особая, за подписью императрицы и всех трех министров, «привилегия» генерал-берг-директору{400}. Шемберг получил искомые «рудные места» со всеми строениями и лесами с правом держать «припасы» и вино, платить «вместо определенной в нашем Берг-регламенте с меди десятой доли с каждого пуда изготовленной меди по одному рублю» под «всемилостивейшей протекцией» самой государыни.
Едва ли одному генерал-берг-директору подобное было под силу. Он явно получил поддержку Остермана и членов комиссии — обер-шталмейстера Куракина и, скорее всего, Головкина, пожалованного 3 февраля 1739 года в действительные тайные советники. За спиной у двух последних стоял Бирон; именно М.Г. Головкину он поручил в конце февраля или самом начале марта доложить императрице о «непорядках, нападках и взятках Василья Татищева» для «отрешения» его от руководства Оренбургской экспедицией и казенными заводами Сибири{401}. 27 мая Кабинет создал комиссию для расследования обвинений против Татищева, сам же он был отставлен от дел и посажен под домашний арест. Кстати, на его место был назначен старинный приятель и «свойственник» Волынского — произведенный в июне того же года в генерал-лейтенанты князь Василий Урусов.
Шемберг наращивал успех. Для управления своим хозяйством он создал целый «Благодатский обербергамт» с нанятыми в Саксонии мастерами. 30 марта он попросил расторгнуть договоренность о продаже российского железа за границей с фирмой Шифнера и Вульфа (от такой монополии государство, по его мнению, «кредит потеряет») — и тут же предложил на их место себя «на тех же кондициях»: покупать казенное железо по 58 копеек за пуд, не требуя, в отличие от предшественников, поставок железа строго по сортам{402}. Контракт с давними комиссионерами казны был заключен тремя кабинет-министрами 5 февраля 1739 года, но 16 июня вопрос был решен иначе: по именному указу генерал-берг-директор получил право приобрести от 500 до 600 тысяч пудов железа, обязавшись выплатить Шифнеру и Вульфу компенсацию в 20 тысяч рублей. Через шесть дней фаворит императрицы герцог Курляндский согласился «быть порукою» своему протеже{403}.
Правда, особых коммерческих талантов новый «эксклюзивный дистрибьютор» российского железа не проявил. В августе 1740 года его долг казне составил 138 655 рублей, и Анна Иоанновна потребовала от Сената добиться уплаты за поставленные ему в 1739 и 1740 годах 239 тысяч пудов железа. Барон заплатил лишь 90 тысяч и просил об отсрочке, но после смерти императрицы, 3 ноября, Сенат по указу теперь уже регента Бирона повелел ему немедленно внести недоплаченную сумму{404}. Возможно, герцог к тому времени разочаровался в своем выдвиженце. Однако в 1739 году Шембергу еще явно везло: 24 мая ему на десять лет был пожалован принадлежавший умершему барону П.И. Шафирову «сальный промысел» в Архангельске. Артемию Петровичу пришлось утешиться лишь одновременно пожалованным ему в столице дворовым местом «против церкви Невского монастыря»{405}.
Татищевым же занялось вялотекущее следствие. Однако вряд ли можно говорить о поражении русских патриотов в борьбе с «немецким засильем» — в столкновениях придворных партий имело значение покровительство той или иной «сильной» персоны, а не национальная принадлежность. В последнем случае конкурентами Шемберга выступали не российские предприниматели, а английские подданные, негоцианты немецкого происхождения Матвей Шифнер и Яков Вульф, поставщики английского сукна для русской армии, получившие в 1732 году на пять лет монополию на продажу за границей казенного поташа и железа; свои позиции компаньоны восстановили уже после падения Бирона{406}.
Князь Я.П. Шаховской отмечал в мемуарах, что Волынский «с товарищем своим, кабинет-министром же графом Остерманом, имел потаенную вражду и каждый из них, имея у двора из первейших чинов свою партию, непременно один другому сети к уловлению и рвы к падению хитро делать тщились». В данном случае Артемий Петрович столкнулся еще и с Бироном — и потерпел поражение, о чем говорил с досадой своему младшему «конфиденту» Ивану де ла Суде: «Знаю, что герцог на меня гневен за Шемберга, неоднократно он, герцог, гневался и о том ему неоднократно говаривал… и за то жесточайший выговор был».
Однако и Остерману пришлось оправдываться — после высочайшего выговора за то, что железо, поташ и другие товары были отданы Шифнеру и Вульфу «без надлежащей публикации и с немалым казны нашей убытком в противность регламента и указов наших». Андрей Иванович вынужден был объяснять: после формальной «публикации» лишь один купец Бардевик выразил желание взять 100 тысяч пудов металла; само же «Берг управление» объявило, что других желающих заняться продажей казенного железа не нашлось. Тут как раз и явились уже проверенные Шифнер и Вульф, готовые по той же цене в 58 копеек за пуд приобрести всё железо на четыре года. А «поташной контракт» с Шифнером и Вульфом, одобренный Волынским и Черкасским, был казне выгоден (здесь Остерман напомнил государыне о своем радении о государственной пользе и не удержался от укола в адрес соперника: «…бывшей в Кабинете товарищ наш по своему нраву не оставил бы то себе в заслугу привесть»{407}).
Похоже, хитроумный и осторожный вице-канцлер в этом деле вел свою игру. В первый день начавшегося следствия, 15 апреля 1740 года, Артемий Петрович объявил, что именно «граф Андрей Иванович принудил его к горным делам», а сам от них успешно «отвиливал»{408}; после чего, как мы можем судить, в пику Волынскому поддержал претензии Шемберга. Однако, подставив горячего коллегу, он не собирался отдавать российскую металлургию на откуп ставленнику Бирона. Шемберг получил богатые рудники, но процесс приватизации остался под контролем Кабинета.
Действовавший совместно с Шембергом английский купец Герман Мейер (в свое время монопольно закупавший казенное железо, но оттесненный Шифнером и Вульфом и с 1733 года официально числившийся банкротом) пожелал взять на десять лет все назначенные к приватизации заводы «по сю сторону Тобольска», тогда как российские подданные собирались делать это «выбором» и на своих условиях. Он же претендовал на 11 железоделательных и пять медеплавильных заводов и в своем прошении убеждал, что сможет обеспечить приток в Россию «знатных капиталов из других государств», в то время как российские горнозаводчики продают свою продукцию слишком дорого, «а денги кладут под спуд и в обращение не выпускают». Кроме того, Мейер ссылался на имевшийся у него кредит в Англии, обещал привлечь «наилучших мастеров» и даже завоевать для русского железа весь английский рынок, поскольку его друзья в парламенте могут обеспечить высокие ввозные пошлины на металл из Швеции{409}.
Генерал-берг-директориум поддержал Мейера, но 19 ноября Анна Иоанновна повелела отказать амбициозному просителю «для известных резонов», о чем Кабинет официально объявил Шембергу. Барон был недоволен намерением передать заводы «в компанию знатным капиталистам, как русским, так и иноземцам» не оптом, а по отдельности, с присоединением «худых» предприятий к «добрым», и высказывал опасение, что вряд ли «на все вдруг охотники явиться могли», но изменить что-то был не в состоянии{410}.
Министры же, «призвав» Татищева, с его помощью разделили оставшиеся заводы на части «по удобности положения мест, приписав малоприбылные и недостаточные заводы к таким заводам, при которых богатые руды и доволство лесов». 21 марта 1740 года члены Кабинета подали «представление» о равных для всех участников условиях приватизации; при этом главным покупателем продукции приватизированных по этой схеме предприятий всё равно оставалось государство, чтобы, как писали министры, исключить ненужную конкуренцию заводчиков на экспортном рынке и неумеренную сбавку цен{411}. Это был один из последних документов, которые подписал Артемий Петрович…
В итоге первая большая приватизация государственного сектора экономики России так и не состоялась: вслед за Волынским со сцены сошли все основные участники этого спора — сначала императрица, потом Бирон, а затем и Остерман; в 1742 году, при Елизавете Петровне, от горного бизнеса был отстранен Шемберг. Можно предполагать, что основания для передачи горной промышленности в частные руки имелись. Металлургические предприятия по соотношению себестоимости и рыночной цены не были так уж убыточны для казны, но эффективность управления и качество их продукции порой уступали частным заводам. К тому же приватизация должна была сопровождаться увеличением прав и привилегий заводчиков (судя по проекту Горного устава 1740 года), что должно было способствовать развитию частного сектора.
С другой стороны, не вполне понятен вопрос с технологиями. Шемберг привез с собой партию саксонских мастеров, но судить, что они сделали для организации производства на российских заводах, без специальных исследований трудно. Обещанный же Шембергом и Мейером приток иностранных инвестиций представляется еще более сомнительным. Мощных транснациональных корпораций тогда не существовало, а имевшиеся влиятельные компании (подобные английской и голландской Ост-Индским) действовали в более выгодной сфере торговли. Частные же иностранные предприниматели, желавшие вкладывать большие деньги в разработку уральских рудников, в XVIII веке как будто не появились — иностранное купечество концентрировалось в столице и держало в своих руках вывоз российской продукции и операции по продаже казенных товаров. Скорее успехов могли достичь предприимчивые представители отечественного купечества. Сами же Шемберг и Мейер «знатными капиталами» не обладали и рассчитывали расплатиться за приватизацию частью прибыли, полученной от продажи того же железа и от сального архангельского откупа — что было осуществимо лишь при сильном «административном ресурсе» в лице фаворита.
Наконец, приватизация могла способствовать улучшению «правового климата» и привлечению частных инвесторов. Но, судя по документам Кабинета, правящий круг не слишком охотно воспринимал эти новации и стремился сохранить, пусть и в иной форме, государственный контроль не только над самим процессом приватизации, но и над будущими производителями. В этом смысле и Волынский, и его оппонент в Кабинете Остерман выступали проводниками петровского курса. Другое дело, что либерализацию отечественного горного законодательства и обеспечение прав собственности предпринимателей отстаивали не столько богатые инвесторы с передовым опытом, сколько шустрые «немцы» с вполне корыстными видами. Впрочем, уже при Елизавете Петровне раздача казенных предприятий была проведена и подавно не лучшим образом — металлургические заводы разошлись по рукам вельмож из окружения императрицы, в «инвесторы» явно не годившихся.
Итак, вопрос о приватизации конкретных заводов, вопреки воле Волынского, решился всё же в пользу ставленника герцога. Но летом 1739 года Бирон также потерпел поражение — не сумел женить своего сына Петра на предполагаемой наследнице российского трона юной Анне Леопольдовне, племяннице императрицы. Намеченный девушке в женихи брауншвейгский принц Антон Ульрих ей не нравился; однако Бирон оказался интриганом неискусным — в этом отношении он всегда уступал Остерману. Саксонский дипломат Пецольд передавал, что герцог рекламировал мужские достоинства своего сына словами, «которые неловко повторить». На очередной бал Петр Бирон явился в костюме из той же ткани, из которой было сшито платье принцессы Анны. Брауншвейгский дипломат обиделся: «Все иностранные министры были удивлены, а русские вельможи — возмущены. Даже лакеи были скандализованы»{412}.
С брауншвейгской фамилией Бирон справился бы, но на стороне глуповатого принца Антона оказались более опытные и опасавшиеся амбиций герцога особы — Волынский и действовавший на этот раз заодно с ним Остерман, а также австрийский посол маркиз Ботта д'Адорно. Князь Черкасский говорил: «…принц Петр человек горячий, сердитый и нравный, еще запальчивее, чем родитель его, а принц брауншвейгский хотя невысокого ума, однако человек легкосердный и милостивый». На Антона Ульриха работало и время. Чтобы сохранить корону за старшей ветвью династии Романовых, племянница обязана была представить старевшей императрице наследника, ведь брак Анны-младшей с иноземцем, не являвшимся российским подданным, делал ее собственное вступление на престол проблематичным. Сыну же Бирона было всего 15 лет. Поэтому в марте 1739 года начались приготовления к свадьбе мекленбургской принцессы с Антоном Ульрихом Брауншвейгским. В условиях цейтнота Бирон пошел ва-банк и предложил Анне Леопольдовне своего сына. Принцесса выгнала претендента и согласилась иметь дело с неказистым, но хотя бы бесспорно породистым женихом.
Уламывал ее на брак с Антоном Ульрихом как раз Волынский. Принцесса капризничала и жаловалась: «Вы, министры проклятые, на это привели, что теперь за того иду, за кого прежде не думала», — упрекая, что ее жених «весьма тих и в поступках не смел». Опытный царедворец галантно парировал укоры и разъяснял молодой женщине всю пользу ситуации, когда муж «будет ей в советах и в прочем послушен»{413}. Анна Иоанновна от радости устроила пышные торжества. Проигравший Бирон в июле 1739 года должен был присутствовать на свадьбе фактической наследницы престола с немецким принцем, делая хорошую мину при плохой игре. Потом на следствии Артемию Петровичу припомнят его активность в этом деле.
Но в то время Волынский верил в свою звезду: дельный министр, бойкий придворный, краснобай, лошадник, охотник, он удачно вписывался в окружение Анны Иоанновны. Императрица, как рассказывал адъютант министра Иван Родионов, вроде бы даже скучала без него и зимой 1740 года жаловалась: «Я де хочю веселитца, а он де занемог». Но именно этим Волынский и был опасен Бирону, тем более что успешно «забегал» ко двору императорской племянницы, тогда как попытка герцога стать ее свекром потерпела поражение. Приятель министра, кабинет-секретарь императрицы Иван Эйхлер предостерегал его еще летом 1739 года: «Не очень ты к принцессе близко себя веди, можешь ты за то с другой стороны в суспицию впасть: ведь герцогов нрав ты знаешь, каково ему покажется, что мимо его другою дорогою ищешь».
Предостережения не подействовали — Волынский не скрывал радости от провала сватовства сына Бирона к Анне Леопольдовне, при удачном исходе которого «иноземцы… чрез то владычествовали над рускими, и руские б де в покорении у них, иноземцов, были»{414}. Его не смущало, что брак мекленбургской принцессы и брауншвейгского принца трудно назвать победой «русских». Зато в будущем можно было рассчитывать на роль первого министра при младенце-императоре, родившемся от этого союза, и его неопытной матери, что было исключено, если бы принцесса породнилась с семейством Биронов.
Последняя опала
В середине июня 1739 года Остерман попытался устранить с поста обер-прокурора «конфидента» Волынского Соймонова, отправив его в Оренбург. Но Артемий Петрович отстоял Соймонова перед императрицей. В ответ тем же летом вице-канцлер организовал новую атаку на соперника с помощью обер-шталмейстера А.Б. Куракина: по инициативе последнего его подчиненные — «отрешенные» Волынским от должности за какие-то «плутовства» шталмейстер Кишкель и унтер-шталмейстер Людвиг — обвинили начальника Конюшенной канцелярии в «непорядках» на конных заводах. Так из-за двух безвестных немцев начался конфликт, который привел Волынского на плаху.
Артемий Петрович перешел в наступление — в письме императрице объяснил, что Кишкель уже два раза находился под следствием и оба просителя «от других научены вредить меня и в том обнадежены», иначе «осмелиться никогда б не могли» жаловаться, поскольку сами были уличены в «плутовстве». Он же, Волынский, «обнесенный» перед императрицей, едва «сам себя в то время не убил с печали», убеждал, что готов к «освидетельствованию» всех своих дел, заверял в служении государыне «без всякого порока» и в качестве доказательства своей честности приводил «несносные долги», из-за которых мог «себя подлинно нищим назвать».
Но на этом обиженный министр не остановился и в особом приложении под названием «Примечания, какие притворства и вымыслы употребляемы бывают при монаршеских дворах и в чем вся такая закрытая безсовестная политика состоит» обличал не названных по именам, но без труда угадываемых подстрекателей (Остермана и его окружение), стремившихся «приводить государей в сомнение, чтоб никому верить не изволили и все б подозрением огорчены были»{415}.
Волынский осознавал, что справиться с двумя ключевыми фигурами ему не по силам. Поэтому переведенную на немецкий язык копию письма он показал Бирону и получил его одобрение. Артемий Петрович был уверен в поддержке со стороны герцога и позднее на следствии рассказал, что сам Вирой рекомендовал вручить письмо Анне — видимо, рассчитывая на уменьшение влияния Волынского из-за борьбы с Остерманом. Мнительному Бирону едва ли понравилось высказывание темпераментного Артемия Петровича о «бессовестной политике и политиках, производящих себя дьявольскими каналами». Конечно, фаворит занимал высокую придворную должность и был законным владетельным герцогом — но вряд ли кто-то не знал о настоящем источнике его могущества.
Послание пришлось некстати — Анна обиделась. «Ты подаешь мне письмо с советами, как будто молодых лет государю», — заявила она автору. Однако положение министра не пошатнулось. Герцог же явно был недоволен его независимостью и влиянием на императрицу. Артемий Петрович жаловался, что Бирон «пред прежним гораздо запальчивее стал и при кабинетных докладах государыне… больше других на него гневался; потрафить на его нрав невозможно, временем показывает себя милостивым, а иногда и очами не смотрит». «Ныне пришло наше житье хуже собаки!» — сокрушался Волынский, заявляя, что «иноземцы перед ним преимущество имеют»{416}. У нетерпеливого кабинет-министра не всегда хватало умения приспособиться к «стилю руководства» и влиянию Бирона на Анну; он горячился, в раздражении заявлял, что «резолюции от нее никакой не добьешься и ныне у нас герцог что захочет, то и делает».
Между тем в доме Волынского кипела работа по созданию «генерального рассуждения». Именно осенью 1739-го — зимой 1740 года его влияние достигло максимума: он удалил из Кабинета своего недоброжелателя Яковлева, поставил вопрос о разделении Кабинета на экспедиции; был утвержден проект создания конных заводов на церковных землях. 3 марта 1740 года указ императрицы назначил шестерых новых членов Сената: М.И. Леонтьева, М.С. Хрущова, И.И. Бахметева, П.М. Шилова, Н.И. Румянцева и М.И. Философова. К тому времени число сенаторов уменьшилось, и эта акция соответствовала намерениям Волынского расширить состав учреждения.
Ни рассердившая Анну Иоанновну записка Волынского, ни скандал с побоями Тредиаковского в «апартаментах» Бирона не лишили Артемия Петровича доверия императрицы. Но меньше чем через месяц ситуация изменилась — в конце марта ему внезапно был запрещен приезд ко двору. Такие придворные «конъюнктуры» обычно не отражаются в казенных бумагах; можно лишь предположить, что трагический поворот судьбы министра был вызван объединением его противников — Бирона и Остермана.
Кажется, именно Андрей Иванович стал организатором «искоренения» соперника. В 1741 году, после восшествия на престол Елизаветы Петровны и своего ареста, Остерман поначалу отрицал какое-либо отношение к «делу» Волынского — заявлял, что сам о том «не старался», а осудила виновного «учрежденная на то особливая комиссия». Но скоро в бумагах вице-канцлера обнаружились поданное императрице «мнение» о необходимости «отрешить отдел» и арестовать Волынского, а также «мнение и прожект ко внушению на имя императрицы Анны, каким бы образом сначала с Волынским поступить, его арестовать и об нем в каких персонах и в какой силе комиссию определить, где между прочими и тайный советник Неплюев в ту комиссию включен; чем оную начать, какие его к погублению вины состоят и кого еще под арест побрать; и ему, Волынскому, вопросные пункты учинены». На прямой вопрос следователя: «Для чего ты Волынского так старался искоренить?» — Остерман 15 декабря 1741 года ответил вполне определенно: «Что он к погублению Волынского старание прилагал, в том он виноват и погрешил». Он признал и назначение следователем своего «приятеля» Неплюева, «ибо оной Волынский против меня подымался»{417}. Изгнанный в свое время Волынским из Кабинета секретарь Андрей Яковлев тогда же показал, что Остерман пригласил его к себе и предложил подать челобитную на Волынского, что он и исполнил{418}.
Возможно, именно Остерману удалось убедить придворное общество в том, что пресловутое письмо Волынского летом 1739 года и его последующие действия направлены против герцога Курляндского, благо Артемий Петрович нигде не упоминал имен. Фаворит и так уже не без основания видел в министре соперника. Дворецкий Волынского Василий Кубанец вспоминал, как барин передавал ему слова обиженного герцога: «Ты де по часу шепчешь со всемилостивейшею государынею». К тому же Волынский уже несколько раз в Кабинете вставал поперек дороги фавориту, а неудача со сватовством сына и случай с Тредиаковским могли окончательно вывести из себя Бирона, обладавшего вспыльчивым и крутым характером. Кажется, эта интрига удалась; во всяком случае близкие ко двору фельдмаршал Миних и его адъютант Манштейн были убеждены, что Волынский подал императрице записку, в которой «взводил разные обвинения на герцога Курляндского и на другие близкие императрице лица. Он старался выставить герцога в подозрительном свете и склонял императрицу удалить его»{419}.
Кажется, последней каплей, переполнившей чашу терпения императорского фаворита, стал описанный французским послом маркизом де Шетарди и неизвестным русским автором «Замечаний» на записки Манштейна конфликт. В ответ на просьбу польского посла Огинского о возмещении убытков, причиненных шляхте проходившими по территории Речи Посполитой русскими войсками, герцог изъявил согласие, а Волынский, напротив, подал письменное мнение о недопустимости подобных уступок, на которые его оппонент мог пойти из «личных интересов» (герцог Курляндии являлся вассалом польского короля). Произошло публичное объяснение, и взбешенный Бирон заявил, что ему «не возможно служить ее величеству вместе с людьми, возводящими на него такую клевету», после чего Волынскому был запрещен приезд ко двору, что отметил Шетарди в депеше от 29 марта 1740 года{420}. Этот инцидент изображен на картине В.И. Якоби « А.П. Волынский на заседании Кабинета министров» (1875): Артемий Петрович разрывает бумагу с польскими претензиями, а среди испуганных присутствующих за ним пристально наблюдают коварный Остерман и спрятавшийся за ширмой Бирон.
Показания «клиентов» Волынского говорят о том, что весной 1740 года они ловили каждый слух о судьбе «патрона», противостоявшего фавориту. Взятый следствием 20 апреля асессор Василий Смирнов признался, что говорил Гладкову: «Когда де уже кабинет министра герцог сшибет, то де уже и протчим как стоять». Он же рассказал и о том, что Артемий Петрович будто бы прямо во дворце схватился за шпагу, «и ежели бы де не фамилия и не дети ево Волынского, то б де он Волынской его светлость заколол»{421}. Первоисточник этой «информации» следователи так и не обнаружили, но выяснили, что опасные разговоры вели и другие — архитектор Иван Бланк, инспектор Петр Арнардер, подмастерье Илья Сурмин, какой-то так и не найденный «учитель».
Будучи отлученным от двора, министр пока продолжал исполнять свои обязанности: последнюю бумагу, направленную из Кабинета в Штате контору, он подписал 31 марта. Судя по черновым журналам Кабинета, «господа кабинет министры» (так обозначали Волынского и Черкасского при отсутствовавшем в марте Остермане) заседали 4 апреля; потом последовал перерыв, и 15-го на работе был уже только Черкасский{422}.
Фавориту оказалось нелегко получить санкцию государыни на расправу с Волынским. Миних утверждал, что «сам был свидетелем, как императрица громко плакала, когда Бирон в раздражении угрожал покинуть ее, если она не пожертвует ему Волынским и другими», а секретарь Артемия Петровича Василий Гладков показал на следствии, что слышал от асессора Смирнова, как Бирон, стоя перед Анной Иоанновной на коленях, говорил: «Либо ему быть, либо мне». Государыню подталкивали к возложению опалы на Волынского и другие вельможи. Как докладывал саксонский посланник Зум 9 апреля 1740 года, давний противник Артемия Петровича обер-шталмейстер Куракин пытался внушить Анне, что ее дядя Петр I «застал Волынского уже на такой скверной дороге, что накинул ему петлю на шею». «Волынский, — убеждал придворный императрицу, — с тех пор стал еще хуже; следовательно, если ваше величество не затянете петли и не повесите негодяя, то мне кажется, что в этом отношении желание и намерение великого государя не будет выполнено»{423}.
Сам же опальный метался в поисках защиты. Бирон отказался принять его; Волынский кинулся к братьям Минихам, спрашивал, как обстоит его дело, у барона Менгдена, и услышал ответ: «Его светлость (Бирон. — И. К.) безмерно на него, Волынского, гневен и изволит де говорить, что более с ним, Волынским, вместе жить не хочет»{424}. Вскоре вопрос был решен. 12 апреля именной указ императрицы повелел «взять» в Тайную канцелярию секретаря Муромцева и дворецкого Василия Кубанца. Делопроизводство следственной комиссии открывается недатированным и не имеющим начала докладом о необходимости следствия по поводу адресованного императрице письма 1739 года и других подозрительных поступков министра (вроде составления проекта об «убавке армии») — очевидно, упомянутым «мнением», подготовленным Остерманом{425}.
На следующий день апреля новый указ отрешил опального «от егермейстерских и кабинетских дел» и потребовал пресечь «всякое с ним, Волынским, сообщение», изъять его «проэкт» и прочие бумаги — и поднять прощенное «казанское дело» десятилетней давности. В тот же день была создана «генералитетская» комиссия для расследования «преступлений» кабинет-министра, резиденцией которой стал «Италианский дом» — небольшой загородный дворец, выстроенный в 1712 году на левом берегу Фонтанки для будущей Екатерины I. В комиссию вошли старый фельдмаршал князь Иван Трубецкой, генералы Григорий Чернышев, Александр Румянцев, Василий Репнин, Андрей Ушаков и Никита Трубецкой, сенаторы Василий Новосильцев, Михаил Хрущов и Петр Шипов, киевский губернатор тайный советник Иван Неплюев. Им было поручено допросить обвиняемого «по пунктам» и провести следствие по другим документам, «которые в комиссию сообщены»{426}. Судя по тексту этого последнего указа, можно полагать, что пауза между объявлением опалы и арестом нужна была для того, чтобы сформулировать пункты обвинения, начиная с отложенного «дела» о вымогательстве денег у инородцев в 1730 году.
Основными действующими лицами стали главный следователь империи — начальник Тайной канцелярии Ушаков и ставленник Остермана дипломат Неплюев. 15 апреля Волынский был привезен в комиссию, где ему предъявили 13 вопросов по злосчастной записке, поданной им императрице:
«…ее императорское величество указала вам ответствовать:
1) Кого в службе ее величества знаете, которые на совестных людей вымышленно затевают, вредят и всячески их добрые дела омрачают и опровергают, дабы тем кураж и охоту к службе у всех отнять?
2) Кого вы знаете, кои приводят ее величество в сумнение, чтоб никому верить не изволила и все подозрением огорчены были и казались быть всякой милости недостойными?
3) Кого знаете, кои ее величеству опасности представляют иногда и о таких делах, которые за самые бездельные почитать можно, однако ж оные наибольше расширяют, всякие из того приключения толкуют, а ничего прямо не изъясняют, но все скрытными и темными терминами выговаривают и притом персону свою печальными и ужасными минами показывают?.».
И далее — 22 «пункта» «по содержанию известного письма»; лишь один из них требовал объяснения, почему Волынский «дерзнул бить» Тредиаковского в дворцовых «покоях».
Артемий Петрович на эти вопросы отвечал в несколько приемов — 15, 16, 17 и 18 апреля. В первый день он заявил, что «в поданном письме своем он таких именовал: графа Павла Ягужинского, князей Долгоруких и Голицыных, князя Александра Куракина, адмирала графа Николая Головина, ибо все они так его, Волынского, вредили и помрачали, что публично бранивали, но только о вышеозначенном о всем написано было им от горести и от горячести об одной своей только персоне, а чтоб они, кроме его, других совестных людей вредили — за ними и за другими он не знает».
Волынский самым подробным образом перечислил, кто и когда ему говорил, что ему «вредил» ненавистный Куракин. По остальным пунктам он однозначно указывал на другого противника: «Написал об Остермане по примеру тому, что Петр Толстой во многих делах Петра Великого обманывал». Однако требование: «Должны вы при именном показании бессовестные поступки доказать» — выполнить не смог: «Причитал все бессовестные поступки к графу Остерману, графу Головину, князю Александру Куракину, а прямо бессовестных поступков за Остерманом, Головиным, Куракиным и за другими не знает, написал с злобы мнением своим». В случае с Тредиаковским Артемий Петрович сразу признал себя виновным в том, что осмелился в покоях герцога «явные насильства производить, людей бить и силою оттуда выталкивать».
На этом допрос окончился. Однако журнал комиссии засвидетельствовал, что обвиняемый «кроме настоящих ответов своих говорил», а все присутствующие его «унимали».
Артемий Петрович помянул и немцев-«доносителей» Кишкеля и Людвика, которых «поджигал» (подначивал) его враг Куракин; и хитрого Остермана, который «принудил его к горным делам»; и даже давно покойного Павла Ягужинского, который якобы «губил ево и притом тако говорил, что за голову ево не жаль дать три тысячи червонных». Он еще не освоился с ролью подследственного — нервничал, «выходил в другую палату», вновь обвинял Куракина, оправдывался, что злополучное письмо, прежде чем передать императрице, показывал Черкасскому и Бирону{427}.
Видимо, он еще надеялся на благополучный исход и просил себе другую должность, «понеже я в прежнее свое место не гожусь». Его мог ждать обычный в случаях пристрастного разбирательства смертный приговор с заменой на ссылку в армию или в «деревни» с последующим прощением и отправкой на вице-губернаторство куда-нибудь в Сибирь. Хорошо знакомым ему судьям Артемий Петрович бросил: «Пожалуйте, окончайте поскорее», — на что получил отповедь Румянцева: «Мы заседанию своему время без вас знаем; надобно вам совесть свою во всем очистить и ответствовать с изъяснением, не так, что кроме надлежащего ответствия постороннее в генеральных терминах говоришь, и для того приди в чувство и ответствуй о всем обстоятельно».
Потом его отпустили домой. Наутро Волынский смиренно прибыл на следующий допрос с целым ящиком книг, которые до того «не объявил». Теперь же поняв, что «собранной суд в знатных и во многих персонах состоит», он счел долгом отдать их и «был в робости». Но «робости» хватило ненадолго; Артемий Петрович не удержался от того, чтобы бросить в лицо Неплюеву: «Ведаю, что вы графа Остермана креатура» (он оказался прав — Неплюев стал одной из главных фигур на следствии), — после чего стал заверять, что его «горячесть и дерзновение» происходили с досады на поведение Остермана, который «никогда с ним без закрытия не говаривал». Выслушав его, Ушаков отправился с докладом к императрице{428}.
Допрос возобновился 17 апреля в семь часов утра. На этот раз Волынский уже не дерзил, не нападал на своих противников, а заявлял, что, обвиняя вельмож, «все врал», становился на колени и кланялся комиссии, признавал, что вел себя неосмотрительно «з горячести и злобы». Он просил не «поступать с ним сурово», вновь сетовал на свою «горячесть» и признавал, что «все делал он по злобе на графа Остермана, Куракина и Головина и поступал все против их, думал, что был министр, и мыслил, что он был высокоумен, а ныне видит, что от глупости своей все врал с злобы своей».
«Не прогневал ли я вас чем?» — спрашивал он Ушакова, потом опять жаловался на Куракина, который «все торжества ево поносил и бранивал». Собравшегося идти на доклад Ушакова Волынский на коленях просил ходатайствовать перед Анной Иоанновной и Бироном, а после его отъезда обращался за поддержкой к Чернышеву («ведаю де я, что ты таков же горяч, как и я; деток ты имеешь, воздаст де Господь деткам твоим») и Румянцеву. По поводу избиения Тредиаковского бывший министр оправдывался: тот неосторожно «противился» ему и дерзнул заявить, «что де он не дурак», после чего был бит палкой кадетом, а на следующий день уже в покоях Бирона сам Волынский «…ево Третьяковского и вытащил ис полаты вон и в сенях ударил ево по щеке и толкал в шею». После возвращения Ушакова бывший министр опять падал перед ним на колени, «вину свою приносил» и просил о заступничестве жену Бирона, графиню Бенигну{429}.
Так завершился третий день следствия. Ничего нового и важного ни с позиций обвинения, ни в оправданиях подследственного не прозвучало — но, похоже, Артемий Петрович понял, что его дело плохо. Расследование шло по нарастающей, его контролировала и направляла сама императрица по ежедневным докладам Ушакова, просто у следствия поначалу не было улик, помимо вышеуказанного письма и побоев, нанесенных Тредиаковскому.
Но круг обвиняемых расширялся: 16 апреля был взят Хрущов; в этот же день особой запиской императрица велела допросить его и арестовать Еропкина{430},18-го схвачен Родионов, 20-го арестован асессор В. Смирнов и был подписан указ об аресте И.М. Волынского.
Восемнадцатого числа последовал указ об охране главного подследственного «крепким караулом». Инструкция требовала держать арестанта в строгой изоляции — даже «судно поставить ему в том покое». В доме Волынского заколотили окна и опечатали комнаты. Опальный министр жил, как в камере тюрьмы, при свечах; охране было приказано, чтобы арестант «отнюдь ни с кем сообщения иметь… не мог и для того в горнице его быть безотлучно и безвыходно двум солдатам с ружьем попеременно». Дети Артемия Петровича находились в том же доме, но отдельно от отца; к ним был приставлен особый караул.
«Неправосудное бесчеловечие»
Девятнадцатого апреля «журналы» комиссии и, очевидно, письменный текст показаний Волынского были представлены Ушаковым при очередном докладе императрице. Допросы продолжались 20 и 23—24 апреля — теперь Артемий Петрович отвечал на вопросы, с кем он «сиживал» и беседовал у себя дома, что говорил про брак Анны Леопольдовны; рассказывал про «картину» своей фамилии. Следователи с 23 апреля по 20 мая подготовили новые перечни вопросов — из 14, 23, 31, 13 и 15 «пунктов»{431}; они требовали объяснения Волынским фраз, когда-то сказанных им («ныне весьма мудрено жить», «долго ли еще Бог потерпит», «нет простяков, но все политики стали»), и его планов («в каком намерении сочинен» его проект), но ничего серьезного предъявить не могли. Лишь в последнем списке появился, со ссылкой на дворецкого Кубанца, роковой вопрос об умысле «зделать себя государем».
Следователи и сами понимали, что придворные дрязги и опрометчивое письмо царице настоящими политическими преступлениями не являлись. Надо было обнаружить что-то более весомое. 16 апреля в комиссию поступили искомые обвинения. Это были составленные еще в феврале челобитная и «доносительные пункты» изгнанного Волынским из Кабинета Андрея Яковлева с перечислением «худых поступков» министра: как он брал взятки во время губернаторства в Казани, не платил пошлины со своих товаров, оформил себе на чужое имя откуп в Нижегородском уезде, держал в «услужении» солдат, незаконно уволил самого Яковлева по сфабрикованному делу, а других должностных лиц ругал и бил прямо в Кабинете. Пять из пятнадцати пунктов его доноса касались конюшенного ведомства, которое закупало за границей кобыл, а не жеребцов и произвольно изменило требования к статям лошадей, набираемых в полки: кирасирские кони, традиционно более крупные, теперь почти не отличались от драгунских{432}. (Справедливости ради надо отметить, что к тому времени перегруженный другими обязанностями при дворе Волынский уже не мог эффективно контролировать Конюшенную канцелярию, находившуюся в Москве; ее протоколы за 1738 год показывают, что на заседаниях он не присутствовал и управлял работой подчиненных посредством приказов-«ордеров» и резолюций на их докладах{433}.)
Тогда же к делу была приобщена жалоба Бирона. На следующий день появились челобитная разжалованного и осужденного директора портовой таможни С. Меженинова и «доношение» симбирского купца Мартына Корелинова о поднесении его коллегами по бизнесу дорогих подарков Волынскому. 20 апреля в ход пошло прошение посадского человека Егора Бахтина о взыскании с опального министра давнего долга; 23-го — челобитная Тредиаковского «о насильственном и, следовательно, государственным нравам весьма противном его на меня нападении, и также о многократном своем от него на разных местах и в разныя времена нестерпимом безчестии и безчеловечном увечье, а притом и о наижесточайшем страдании и в самых вашего императорского величества апартаментах». Эти обвинения выглядели более весомо, но и перечисленные в них грехи на измену не тянули. И здесь на помощь комиссии пришли показания доверенного дворецкого Артемия Петровича Василия Кубанца.
Пленный молодой татарин попался на глаза Волынскому еще в Астрахани — в губернской канцелярии, куда его отдал бывший хозяин купец Клементьев. Губернатор взял его к себе и не ошибся: холоп оказался смышленым и грамотным (у него имелась даже своя библиотека, включавшая популярную тогда в России «книгу Квинта Курциа о делах содеяных Александра Великого царя Македонского», «грамматики», календари, «книгу о мерянии земли») и скоро стал правой рукой господина. Адъютант Родионов даже показал, что именно Кубанец читал хозяину книгу Юста Липсия.
Судя по всему, отношения Волынского с доверенными «клиентами» и слугами были очень откровенными: он рассказывал о придворных делах, жаловался на неприятности, делился своими размышлениями. На следствии же одни старались если не выгородить обвиняемого, то хотя бы не вредить ему; другие сообщали всё, что знали.
Арестованный еще 12 апреля Кубанец, на беду Артемия Петровича, оказался самым откровенным из его приближенных, и даже больше. Видимо, несмотря на доверительное отношение барина, у холопа накопилось много претензий, да и погибать ради него Василий не желал. «Помилосердуй, всепресветлейшая монархиня всероссийская, всемилостивая самодержавнейшая великая государыня, помилуй милосердием высоким, яви ко мне и пролей к бедному и погибающему человеку высокомонаршеское милосердие. Всю мою вину и живот мой подвергаю под высокие стопы вашего императорского величества», — умолял дворецкий, больше всего боявшийся «запамятовать» что-либо из речей или действий хозяина.
Уже 15 апреля (все показания он писал собственноручно) слуга стал вспоминать прегрешения Волынского, начиная со времени его губернаторства в Казани. Он упомянул не только о крупных взятках с татар, но и о волчьей шубе, полученной барином от сибирского вице-губернатора Бутурлина, о куске голубой парчи от фабриканта Гончарова, о трех штофах от симбирских купцов и трехстах казенных бревнах, взятых на строительство дома министра{434}.
Искренность Кубанца следователи оценили. Но 17 апреля ему сообщили, что императрица лично слушала его «доношение», однако осталась недовольна, ибо в нем «не о всем имянно и не обстоятельно от тебя объявлено», и намекнули, что желают знать не только о «преступлениях указам», но и о «злобных намерениях» Волынского. Самому же Кубанцу припомнили его уклонение от следствия в 1731 году, но обещали помилование, если он расскажет «всю истину без всякого закрытия».
Перепуганный и одновременно обнадеженный доносчик принялся писать «пополнения» к своим первоначальным показаниям: с 17 апреля по 24 мая он подал 17 собственноручных «доношений». Эти сочинения написаны довольно бессвязно — дворецкий выкладывал всё, что вспоминал, потом дополнял свои показания, приводя новые подробности или пересказывая уже изложенное. Он, видимо, не вполне понимал, чего от него ждут, и продолжал рассказы о тех, кто «искал» покровительства министра, и о всевозможных подношениях ему. Память у дворецкого была цепкая, но речь шла о заурядных взятках, а не о политике; только мельком Кубанец упоминал, что Волынский «чернил и перечеркивал» свой проект и в разговорах стремился «свои дела хвалить», а прочую придворную «свою братью уничтожать».
Двадцать первого апреля Кубанцу зачитали (или показали) обращенное лично к нему письмо за подписью императрицы: «Понеже ты объявил, что нечто донести имеешь, о чем однако ж, окроме нам самим, объявить не можешь, а нам тебя перед себя допустить нельзя, того ради повелеваем тебе то, еже нам самим донести имеешь, написать на писме и, запечатав, отдать асессору Хрущову, которой то нам самим за оною ж печатью подать имеет. Анна»{435}. Тут-то он и вспомнил, что его хозяин не только «прославлял фамилию свою», но и читал предосудительную книгу голландца Юста Липсия, сравнивая при этом средневековую неаполитанскую королеву Иоанну II и античных Клеопатру и Мессалину с российской государыней и заявляя: «Женский пол таков весь», — что являлось «весьма противно против вашего императорского величества» (21 апреля); желал «погубить» Остермана, «гвардию весьма к себе ласкал» и себя «причитал к царской фамилии» (4 мая); желал «себя в силу и власть привесть» (7 мая) и даже «тщился сам государем быть» (22 мая). Наконец, 24 мая дворецкий заявил, что его господин одобрял не отечественную «систему» правления, а польские порядки и «хотел в государстве вашего величества республику зделать»{436}.
Последние показания Кубанца о «республике» не согласовывались с якобы высказывавшимся Волынским намерением стать «государем» — но это уже не имело значения. Теперь подследственному можно было не только инкриминировать только служебные грехи, но и предъявить обвинения «по первым двум пунктам». Может быть, к политическим «видам» добавилась и личная обида императрицы — его, проворовавшегося холопа, она помиловала и вознесла, а он осмелился хулить свою государыню и благодетельницу.
Двадцать второго апреля императрица повелела Артемия Волынского «со двора ево взять в адмиралтейскую крепость». Там состоялся еще один допрос. 26-го последовал новый указ о переводе всех арестованных в казармы Петропавловской крепости, следствие же было передано в Тайную канцелярию — ее начальнику Андрею Ушакову и креатуре Остермана Ивану Неплюеву{437}. Теперь следствие вели только они; прочие же члены комиссии были от него отстранены — тем более что некоторые из них сами попали под подозрение. В Адмиралтействе остались бумаги Волынского, разбором которых занимался компетентный и озлобленный доноситель Андрей Яковлев, ставший секретарем следственной комиссии. Началась опись имущества главного обвиняемого.
Поблажкой знатному арестанту было разрешение иметь в заключении одеяло, шубу, посуду, деньги и слугу; в крепость с господином отправился камердинер Василий Гаст. 8—9 мая Артемия Петровича вновь допрашивали. Свои высказывания он объяснял «простотою от невоздержности языка своего»; к примеру, он осуждал Бирона за то, что «высоко и строго себя ведет», поскольку «может ее величество милость свою от него отменить». Признался он и в чтении сочинений Боккалини, Макиавелли («бакалиновой книги» и «махиавеля», взятых из библиотеки князя Д.М. Голицына) и Юста Липсия. Доносчика Кубанца он охарактеризовал как «совестного человека», но категорически отрицал все обвинения в каких-либо преступных «замыслах»{438}.
Следствие же не менее упорно их искало. 30 апреля к арестованным прежде «конфидентам» добавился Ф.И. Соймонов. Поначалу вопросы к ним были неконкретными — например, какие «фамилиарные дружбы» они водили с опальным, почему засиживались у него по вечерам и что «таким необычайным и подозрительным ночным временем, убегая от света, исправляли и делали», «при том какие рассуждении и намерении были». Друзья Волынского не признавали никакого заговора в своих действиях и поступках «патрона», утверждали, что выполняли поручения, «боясь Волынского яко свирепого и жестокого человека» или «из желания ему прислужиться и из опасения подвергнуться его неприязни». Эйхлер сознался, что посещал Волынского, разговаривал с ним о герцоге Бироне, читал его проект, предостерегал, дабы он своими посещениями Анны Леопольдовны не навлек подозрений Бирона, но о намерении кабинет-министра совершить переворот не сказал ни слова. Взятый 27 мая де ла Суда подтвердил только то, что с разрешения своего начальника читал проект Волынского и посещал его семейство.
Однако 11 мая Ф.И. Соймонов первым сделал страшное признание в том, что Волынский «может чрез возмущение владетелем себя сделать»{439}. 16-го Еропкин также поведал о замысле Волынского «присвоить себе верховную власть». Эти обвинения и приведенные резкие отзывы «патрона» об императрице («государыня у нас дура, и как докладываешь, резолюции от нее никакой не добьешься») привели к тому, что 18 мая Анна Иоанновна отдала приказ пытать «конфидентов». На следующий день на пытке и Хрущов сделал роковое признание в том, что Волынский желал «сделаться государем».
К тому времени Артемий Петрович уже сознался в неоднократных взятках, которые несли ему купцы и прочие просители, дабы к ним «был благоприятен»; в комментировании книги Липсия; его «злодейственное рассуждение» о сравнении нехорошей неаполитанской королевы с российской монархиней было 15 мая сочтено «великой важностью» и препровождено к Анне Иоанновне в запечатанном пакете{440}. Преступник подтвердил, что противодействовал браку принцессы Анны с сыном Бирона, рассказал о подготовке и чтениях своего проекта. Следователи уже располагали найденными в его бумагах списками «кондиций» и дворянских проектов государственного устройства, поданных в феврале 1730 года{441}.
Шестнадцатого мая Артемий Петрович помог следствию неосторожным заявлением, что при составлении «картины» (родословного древа) «причитался свойством к высочайшей фамилии»; поняв, что натворил, он тут же стал от своих слов отказываться. Но гордыня оказалась сильнее. Спустя четыре дня он объявил, что «ево Волынского фамилия не плоше Рамановых» и если царя Михаила Федоровича в 1613 году избрали на престол «по свойству» с женой Ивана Грозного, «то де и по ево Волынского с московской великою княжною Анною свойству могут дети или внучаты или правнучатые во Волынского российского престола приемниками быть»{442}. Вновь опомнившись, он стал оправдываться, что «и в мысли не держал» подобного, а сказал так только «от страха, боясь розыску». Но такие заявления в те времена с рук не сходили и в итоге привели подследственного на эшафот.
После очередного доклада Ушакова 21 мая Анна Иоанновна дала указание пытать Волынского. На следующий день в застенке Артемий Петрович на полчаса был поднят на дыбу и получил восемь ударов кнутом, после чего повинился во взятках, «зло-вымышленных словах» в адрес государыни-«дуры» и «применении» к ней текста Юста Липсия о королеве Иоганне, в многократной «невоздержности языка» и высокомерии, но в заговоре против императрицы не признался: «Такого злого своего намерения и умыслу, чтоб себя чрез что нибудь зделать государем, никогда он, Волынский, не имел и не смеет». Он понял свою ошибку и теперь пытался объяснить, что о возможном пребывании своих потомков на престоле говорил только от страха «и такового умысла подлинно не имел»{443}.
Признания «конфидентов», сделанные под давлением и пытками, не дали никаких доказательств существования реального заговора. Еропкин на очной ставке смог уличить Волынского только в давних московских разговорах 1731 года о запутанной проблеме престолонаследия и сравнении «суетного и опасного» времени Анны Иоанновны с правлением Бориса Годунова, но Артемий Петрович категорически отверг подозрения в симпатии к цесаревне Елизавете Петровне, которую он считал «ветреницей».
На две недели (с 22 мая по 7 июня) Волынского оставили в покое. Теперь Анну Иоанновну занимали связи изменника с вельможами ее двора на предмет выявления «партии». 28 мая императрица лично беседовала с Черкасским и «слушала» в «адмиралтейском доме» протоколы допросов Трубецкого и Мусина-Пушкина. Князь Алексей Михайлович успешно «во всем запирался» и был от дальнейшего разбирательства освобожден, а для графа Платона Ивановича «слушания» завершились арестом{444}.
Заготовленные вопросы арестованному показывают, что Ушакова и Неплюева больше интересовал не проект Волынского, а то, какие «непристойные слова» были им и прочими участниками кружка сказаны про императрицу, в чем заключалось «явное предосуждение» российских порядков и «какую злобу имели» они по этому поводу. Кроме того, следователи допытывались, с чего это Платон Иванович посещал уже находившегося под домашним арестом Волынского, когда всем вокруг было ясно, что он находился в опале.
Мусин-Пушкин отрицал свое участие в «противных делах» и «продерзостных поступках». Он признавал, что с Волынским встречался часто, но разговоры вращались вокруг «награждений» и текущих служебных дел, проект же «видел и слышал», но участия в его составлении не принимал, а его содержания «не упомнит»{445}. Однако к тому времени следователи уже располагали показаниями самого Волынского и его «конфидентов» о том, что граф «ведал» о проектах, был «одного мнения» с другими и даже об «опасности от того ему, Волынскому, он, Платон, представлял». Мусин-Пушкин опять заявил, что ничего «не упомнит», но затем шаг за шагом стал признавать, что предоставлял Волынскому документы и ведомости своей коллегии; вспомнил, что кабинет-министр позволял себе, к примеру, такие критические высказывания: «…его высококняжеская светлость владеющей герцог Курляндской в сем государстве правит, и чрез правление де его светлости в государстве нашем худо происходит», «…великие денежные расходы стали и роскоши в платье, и в государстве бедность стала, а государыня во всем ему волю дала, а сама ничего не смотрит».
На естественный вопрос следователей, почему же, услышав такое, он не донес, Мусин-Пушкин заявил, что не хотел «быть доводчиком» и даже счел своим долгом заехать к опальному Волынскому «для посещения в болезни». Но узнав о новой порции признаний самого Артемия Петровича (граф их не ожидал и не смог скрыть удивления), он подтвердил свое участие в беседах, затрагивавших честь императорской фамилии: о попытке Бирона женить сына на племяннице государыни. На следующем допросе 6 июня в «застенке» его подняли на дыбу и дали 14 ударов, однако ничего нового он не показал{446}. В итоге главной виной графа было признано само его присутствие при обсуждении проекта, «охуждавшего» государственные порядки: он не только не возражал, но и «прямо притакал и оставался при тех его, Волынского, злодейственных рассуждениях» вместо того, чтобы немедленно о них донести. Иных обвинений даже такой мастер политического сыска, как Ушаков, изыскать не смог.
Трубецкой был допрошен 2 июня, после чего Анна Иоанновна «показанию на него Артемия Волынского всемилостивейше верить не указала». Однако императрица лично побеседовала с Никитой Юрьевичем 4 июня (ведь Волынский показал, что читал книгу Липсия с ним вместе) и тогда уж распорядилась князя «более не следовать». Сам он с негодованием отверг саму возможность чтения им каких-либо книг; вот в молодости, при Петре I, он «видал много и читывал, токмо о каковых материях, сказать того ныне за многопрошедшим времянем возможности нет». Разговоры же его с Волынским вращались вокруг нескольких тем: «х кому отмена и кто в милости» у императрицы, о ссорах Волынского с другими сановниками, о назначениях. Много лет спустя екатерининский сподвижник Н.И. Панин вспоминал, что Трубецкого спас от следствия И.И. Неплюев, которому князь Никита Юрьевич через год отплатил неблагодарностью и едва не «управил» своего благодетеля в Сибирь вслед за Остерманом и другими министрами свергнутого императора Иоанна Антоновича.
Пятого июня Анна Иоанновна приказала допросить Новосильцева. Тот в письменных показаниях поведал, что в дом министра «езживал для искания в нем, Волынском» и что в последних числах декабря 1739 года хозяин показал ему проект, «чтоб Сенат умножить, понеже кабинет министры о умножении Сената не радят и не желают, тако ж и армии некоторую часть убавлял, а протчие полки назначил поставить по границам, и чтоб завесть школы и в попы производить из ученых людей». Он признал, что предисловие к проекту написано «с явным предосуждением и укоризною прошедшего и настоящего в государстве управления», но оправдывал свое недонесение тем, что разговор был «наодин», то есть без свидетелей. Затем сенатор покаялся: «Будучи де при делах в Сенате и в других местах, взятки он, Новосильцев, брал сахор, кофе, рыбу, виноградное вино, а на сколько всего по цене им прибрано было, того ныне сметить ему не можно. А деньгами де и вещьми ни за что во взяток и в подарок он, Новосильцев, ни с кого не бирывал» — и тут же указал, что от симбирских купцов (тех же, которые наведывались к Волынскому) принял «анкерок» вина, двух лошадей, по четыре аршина зеленого сукна и серебряной парчи, «да два осетра и белуга да пол теши матерой», которые, с его точки зрения, «взятком» не являлись{447}.
Анна Иоанновна поверила в политическую невинность обоих вельмож, но Новосильцеву выговор всё же объявила — не за взятки, а как раз за «политику»: «…видя такой противной проэкт и слыша предерзостные оного Волынского разсуждения, не доносил»{448}. Обоим после допросов дали возможность оправдать монаршее доверие — сделали судьями по делу их недавнего собеседника.
Параллельно главному направлению следствия разворачивались и другие. В отдельное производство были выделены дела об осуждении директора таможни С. Меженинова, о рытье на даче Волынского канала за государственный счет, о его работе над «воинским статом» с сокращением в мирное время армии на 40 тысяч человек, о незаконном содержании им у себя денщиков и солдат казанского гарнизона, о покровительстве симбирским купцам, обвиненным в «похищении» таможенных и питейных сборов, о получении с крестьян дворцовой Сарапульской волости 400 рублей{449}.
К допросам привлекались подчиненные и давние «клиенты» Волынского — адъютант Иван Родионов и его отец унтер-шталмейстер Богдан Родионов, секретарь по егермейстерским делам Василий Гладков, служащие Конюшенной канцелярии асессоры Василий Десятов, Василий Смирнов и Петр Богданов, секретарь Петр Муромцев, казанский прокурор Василий Неелов, архитектор Иван Бланк и др.{450}. Всем им представляли список из семнадцати вопросов, касавшихся «указам преступных и противных поступков» начальника, заимствования им казенных денег и вещей и противозаконных «намерений и рассуждений». Поднимались давно сданные в архив дела о злоупотреблениях министра (поборах в Казани, избиении мичмана Мещерского), а также те челобитные, которые в свое время даже не рассматривались. Канцеляристы денно и нощно скрипели перьями: за несколько месяцев 1740 года следствие извело полведра чернил, 12 стоп бумаги, четыре фунта сургуча, 260 свечей по счету и еще неизвестное их количество общим весом 20 фунтов.
* * *
Крупных хищений за Волынским так и не обнаружилось: он часто брал в казенных кассах по 300, 500 и тысяче рублей, но всегда возвращал. Как важный вельможа он использовал для своих нужд казенные повозки и упряжь, его собаки содержались на казенном корме. Его подчиненные «смотрели» за имениями шефа и исполняли его поручения по хозяйству; но едва ли это можно было расценить как измену, и чиновникам сделали смешной в российских условиях выговор за то, что они начальнику в том «воспрещения не чинили». Более того, подчиненные подтвердили правомерность наказания Волынским «доносителей» — шталмейстеров Кишке-ля и Людвига: у первого в Хорошевской конюшне обнаружился «недостаток фуража», а у второго в пахринской оказались «лошади худы».
Однажды следователям вроде бы повезло: в бумагах взятого одним из последних по этому делу бывшего «художественного агента» Петра I в Италии Юрия Ивановича Кологривова нашлось письмо 1730 года, где речь шла о какой-то присяге. Под текстом автор письма нарисовал странную фигуру и сделал приписку: «толко одна голова»; против правой руки указал: «вся в пластырех, кроме двух», а против левой — «один палец владеет»{451}. Кологривов после соответствующего внушения в Тайной канцелярии поведал, что письмо ему написал член Юстиц-коллегии Епафродит Иванович Мусин-Пушкин и речь в нем шла о второй присяге, которую подданные приносили Анне Иоанновне в 1730 году уже как самодержице. Признался он и в том, что автором письма был брат графа Платона Мусина-Пушкин Епафродит, сторонник республики в России, что изображенная в письме «персона» — карикатура на императрицу и ее вид («вся в пластырех») означал, «что самодержавию ея императорского величества не все ради». Епафродит Мусин-Пушкин за свое вольнодумство вполне мог бы получить смертный приговор, но скончался еще в 1733 году. Использовать же находку для подтверждения виновности Волынского не удалось.
За отсутствием прямых улик следователи решили использовать историческую часть проекта Волынского и ставить ему в вину то, что он гордился древностью и славой своего рода, о чем не раз говорил друзьям и подчиненным. В ход пошли обнаруженная в бумагах Волынского копия с местнической грамоты якобы XIV века, в которой упоминается предок Артемия Петровича князь Дмитрий Алибуртович (Михайлович) Волынский, занимавший первое место среди бояр нижегородского князя Дмитрия Константиновича. Этот список 1721 года до сих пор вызывает вопросы и предположения исследователей, поскольку если это не копия, а подделка, то очень искусная{452}.
Уликами стали «картина» родословного древа с изображением государственного герба и древняя сабля, будто бы найденная на Куликовом поле. Этот «тесак» вместе с какой-то древней «чернильницей» достался Волынскому от Якова Суровцева, управителя Богородского конного завода, расположенного неподалеку от места исторической битвы.
Сабля была предметом особой гордости Артемия Петровича, он даже сочинил текст надписи, которую хотел вырезать на клинке: «Найдена сия сабельная полоса в степи, из земли выкопана в урочище на Куликовском поле близ реки Непрядвы, на том месте, где в 6887 году, а от Рождества Христова в 1379 году была баталия (вероятно, хозяин реликвии запутался с переводом даты на юлианское летосчисление — Куликовская битва состоялась в 1380 году. — И. К.) с многочисленными татарскими войски, бывшими с ханом Мамаем, во время государствующего тогда в России благоверного государя и великого князя Димитрия Иоанновича Московского и всея России, на которой баталии российским воинством сам великий князь командовал, с ним же и помощные ему были войски литовские и прочие, под приводом благоверного князя Димитрия Михайловича Волынского, за которого потом великий князь Димитрий Московский отдал в супружество сестру свою родную, благоверную Анну Иоанновну».
Арест министра сопровождался его дискредитацией в глазах общества. Аккредитованные в Петербурге дипломаты передавали своим дворам, что Волынский и его друзья хотели не просто захватить власть, но «возвратить Россию к прежним порядкам, изгнав из нее иностранцев»{453}. Министр якобы собирался поднять восстание «черни», убить герцога Курляндского, устранить от власти прочих «немцев» (Остермана, Миниха, Левенвольде), отослать Анну Леопольдовну с мужем в Германию, захватить императрицу в Петергофе и посадить ее в тюрьму или постричь в монахини, а самому жениться на цесаревне Елизавете Петровне и «претендовать» на престол{454}.
Седьмого июня Артемия Петровича вновь привели в застенок. Ушаков и Неплюев в присутствии заплечных мастеров объявили ему, что показаниями других «сообщников» он уже полностью «изобличен», и в последний раз предложили сказать правду о своих «злодейственных намерениях».
Обвиняемый признался в принятии «со многих людей взятков», в «противных указам поступках», «бессовестных и зловымышленных словах», в том числе и по отношению к императрице, даже в том, что хвалил «польское житие» и дерзко «причитал себя» к царскому дому — но, как и раньше, твердил: «Умысла, чтоб высочайшую власть взять и самого себя зделать государем или какое возмущение учинить, не имел». Повторные увещевания рассказать о «дальних злых своих намерениях» успеха не имели, и Волынского вновь подняли на дыбу, дав на этот раз 18 ударов кнутом. Но он выдержал пытку, спас свою честь, не признавшись больше ни в чем сверх того, что уже сказал, и заявил, что «в том умереть готов»{455}.
«Известная экзекуция»
Девятого июня Анна Иоанновна повелела следствие «более розысками не производить» и подготовить «изображение о винах» преступников. Для простолюдинов дела о «непристойных словах» обычно завершались битьем плетьми и «свобождением» на волю или к прежнему месту службы — при условии чистосердечного признания вины и обычной в подобных случаях ссылки на смягчающее обстоятельство — «безмерное пьянство». Но в случае с министром и его чиновными «конфидентами» такого быть не могло — даже несмотря на то, что следствие так и не смогло ничего выяснить про заговор и не были обнаружены какие-либо связи опального с гвардией. Примечательно, что служившего под его началом в «комиссии о размножении конских заводов», участвовавшего в рассмотрении дела Жолобова и не раз бывавшего в доме Волынского капитана Преображенского полка Василия Чичерина даже формально не «следовали».
К 16 июня «обстоятельное изображение» («экстракт») дела было подготовлено и передано императрице. Следственная комиссия перечислила «вины» Волынского: «составил предерзостное плутовское письмо для приведения верных ее величества рабов в подозрение»; «осмелился нарушить безопасность государственных палат… причинением побоев Тредьяковскому»; «питал на ее величество злобу»; «отзывался с поношением о высочайшей фамилии»; «сочинил разныя злодейския разсуждения и проект»; «имел с своими сообщниками злодейские речи касательно супружества государыни принцессы Анны»; «старался в высочайшей фамилии поселить раздор», «причитался к оной свойством» и т. д. Но пристрастное следствие так и не смогло доказать обвинение в якобы готовившемся захвате власти — главный подследственный «остался при том, что такого злого умыслу не имел».
Императрица, похоже, колебалась. Волынский, безусловно, заслужил опалу. Но допустить на десятом «триумфальном» году царствования позорную казнь толкового министра? Наконец, она решилась. 19 июня по высочайшему указу следственная «бригада» во главе с Ушаковым и Неплюевым была преобразована в суд. Под началом фельдмаршала И.Ю. Трубецкого состояли генерал-прокурор Н.Ю. Трубецкой, кабинет-министр А.М. Черкасский, обер-шталмейстер А.Б. Куракин, генералы Г.П. Чернышев и А.И. Ушаков, генерал-лейтенанты В.Ф. Салтыков, М.И. Хрущов и С.Л. Игнатьев, тайные советники И.И. Неплюев, Ф.В. Наумов, А.Л. Нарышкин, В.Я. Новосильцев и еще несколько чиновников, генералов и майоров гвардии. Эта комиссия должна была ознакомиться с обвинительным заключением и вынести приговор.
Судьи принадлежали к тому же кругу, что и подсудимые, как правило, хорошо их знали и поэтому сами могли быть обвиненными в содействии или сочувствии им. 20 июня 1740 года они вынесли приговор: за «безбожные, злодейственные, государственные тяжкие вины Артемья Волынского, яко начинателя всего того злого дела, вырезав язык, живого посадить на кол; Андрея Хрущова, Петра Еропкина, Платона Мусина Пушкина, Федора Соймонова четвертовав, Ивана Эйхлера колесовав, отсечь головы, а Ивану Суде отсечь голову и движимые и недвижимые их имения конфисковать». Многими судьями руководил страх. Зять Волынского, сенатор Александр Нарышкин, после приговора сел в экипаж и тут же потерял сознание, а «ночью бредил и кричал, что он изверг, что он приговорил невиновных, приговорил своего брата». Другой член суда над Волынским Петр Шипов признался: «…мы отлично знали, что они все невиновны, но что поделать? Лучше подписать, чем самому быть посаженным на кол или четвертованным».
«Великодушная» императрица пожелала «жестокие казни им облегчить»: Волынскому надлежало отсечь правую руку и голову, а его главным помощникам Хрущову и Еропкину — только головы; прочим же была дарована жизнь — битье кнутом и ссылка «на вечное житье» на окраины империи; легче всех был наказан Мусин-Пушкин — всего лишь «урезанием» языка и ссылкой в монастырь. Сразу же по конфирмации приговора его сообщили главному преступнику.
Волынский держался стойко: разговаривал с караульным офицером, пересказывал увиденный накануне вещий сон — явившегося к нему для исповеди прежде незнакомого священника. Потом он сказал: «По винам моим я напред сего смерти себе просил, а как смерть объявлена, так не хочется умирать». К осужденному несколько раз приходил священнослужитель, с которым он беседовал о жизни и даже шутил — рассказал батюшке соблазнительный анекдот об исповедовавшем девушку духовнике, который ее «стал целовать и держать за груди, и та де девка, как честная, выбежала от него вон». Но и перед лицом смерти Артемий Петрович не желал прощать старой обиды давно покойному канцлеру Головкину и грозил «судиться с ним» на том свете{456}. 25 июня он позвал к себе Ушакова и Неплюева, вновь покаялся «в мерзких словах и в предерзостных и в непорядочных и противных своих поступках и сочинениях» и просил избавить его от позорного четвертования и не оставить в беде детей… Но царская воля была неизменна.
Ушаков, остававшийся «на хозяйстве» в столице во время отъезда двора в загородные резиденции, запиской сообщил Бирону для передачи императрице в Петергоф о точном времени казни: «Известная экзекуция имеет быть учинена сего июня 27 дня пополуночи в восьмом часу». Поутру преступников доставили из крепости к близкорасположенному месту казни — на Сытный рынок. По прочтении высочайшего указа бывшему министру отрубили правую руку и голову, а его товарищам Петру Еропкину и Андрею Хрущову — головы. Трупы казненных в течение часа оставались на эшафоте «для зрелища всему народу»; затем «его (Волынского. — И. К.) мертвое тело отвезли на Выборгскую сторону и по отправлении над оным надлежащего священнослужения погребли при церкви преподобного Сампсона Странноприимца».
В приговоре подробно описывалось, как надлежит поступить с родственниками Волынского: «Детей его сослать в Сибирь в дальние места, дочерей постричь в разных монастырях и настоятельницам иметь за ними наикрепчайший присмотр и никуда их не выпускать, а сына в отдаленное же в Сибири место отдать под присмотр местного командира, а по достижении 15-летнего возраста написать в солдаты вечно в Камчатке».
Утвердив жестокий приговор, Анна Иоанновна проявила и некоторую милость к жертвам, распорядившись вернуть женам Хрущова, Соймонова и Мусина-Пушкина их недвижимое приданое; детям первых двух (у Соймонова их было пятеро, у Хрущова четверо) оставалось по 40 душ, дети же Мусина-Пушкина получали всё имение деда — графа Ивана Алексеевича{457}.
После казни отца дети Волынского, каждый в особой повозке с провожатым, были отправлены в ссылку. Привезенная в Енисейск четырнадцатилетняя Мария Артемьевна 4 ноября была пострижена в Рождественском монастыре под именем старицы Мариамны. 26 ноября та же участь постигла Анну — она стала монахиней иркутского Знаменского девичьего монастыря Анисьей. Петр был доставлен в Селенгинск — крепость на русско-китайской границе и 12 января 1741 года сдан ее коменданту бригадиру Ивану Бухгольцу, под чьим «крепким присмотром» он должен был состоять, «не смея вступать в разговоры с посторонними людьми».
На этом преследования не закончились: «генералитетская комиссия» была преобразована в следственную комиссию для разбора финансовых злоупотреблений Волынского и его «конфидентов», которая работала, по крайней мере, до июля 1742 года.
Вслед за казнью последовала уже отработанная процедура конфискации и перераспределения движимого и недвижимого имущества — этим занималась уже третья по счету комиссия по «описи пожитков» преступников. За «жилплощадью» опальных, как это обычно бывало в «эпоху дворцовых переворотов», немедленно выстроилась очередь. В июле 1740 года родственник Остермана камергер Василий Стрешнев выпросил себе «двор с каменными палатами» Волынского на Неве; барон и вице-президент Камер-коллегии лифляндских и эстляндских дел Карл Людвиг Менгден получил его «двор деревянного строения» на Мойке, но без обслуги — было решено отправить «всех имеющихся в доме Артемия Волынского девок в дом генерала, гвардии подполковника и генерал-адъютанта фон Бирона» (Густава, брата фаворита){458}. Из мужчин восемь человек были взяты в Измайловский полк, трое — в Конную гвардию, девять — в придворную Конюшенную контору.
В петербургский дом Мусина-Пушкина на Мойке перебрался генерал-прокурор Трубецкой. Дача Платона Ивановича «близ Петергофа» отошла фельдмаршалу Миниху; «Клопинская мыза» — опять же Густаву Бирону. Московский дом Волынского на Рождественке после смерти императрицы Бирон во время своего недолгого регентства при Иване Антоновиче пожаловал новому кабинет-министру А.П. Бестужеву-Рюмину, но тот воспользоваться им не успел, поскольку вместе с покровителем попал под следствие. В итоге этот дом остался в дворцовом ведомстве, как и большинство «отписных» земель и крестьян опальных. Туда же в 1740 году отошла и загородная усадьба Волынского. В ней расположился «егерский двор» и покои были переделаны для размещения придворной псовой охоты в составе 195 собак и 63 служителей.
Наличные «пожитки» нестеснительно выгребались из домов арестованных и свозились для оценки и распродажи в «Италианский дом» на Фонтанке, где при Анне Иоанновне был устроен театр. Опись имущества Волынского упоминала неловкие и тут же пресеченные попытки его дочерей скрыть некоторые ценности: «По объявлению девки Авдотьи Панкиной сыскано у дочери Волынского Анны, которое она от описи утаила…» (далее шел перечень бриллиантовых серег, перстней и колец). «По объявлении девки калмычки» в сундуке Прасковьи Волынской нашлись алмазные и другие вещи, которые «положены были для утайки меньшою Волынского дочерью Марьею», в том числе «трясило» с яхонтом и семнадцатью бриллиантовыми «искрами», серьги, старинная золотая пуговица с финифтью, 13 «бурмицких» жемчужин, медаль золотая «о мире с турками», портрет за стеклом в золоте, три золотых кольца и перстень.
Тридцать первого июля Анна указала оценить имущество опальных, что и было сделано с помощью опытных «ценовщиков» из Канцелярии конфискации. Движимое имущество Волынского имело стоимость 27 450 рублей, Мусина-Пушкина — 14 539 рублей; Соймонов и Хрущов по сравнению с вельможами выглядели бедняками — их вещи стоили соответственно 565 и 496 рублей{459}. Продавалось, однако, не всё. Значительная часть золотых и серебряных вещей из «пожитков Волынского и Мусина-Пушкина» общим весом 11 фунтов 58,5 золотника по указам была отправлена в ноябре 1740 года в Монетную канцелярию, а «золотыя медали, червонные» и старинные монеты сначала попали в Кабинет министров, а оттуда были переданы в Академию наук.
К дележу в первую очередь допускались избранные. Из вещей Мусина-Пушкина императрица взяла себе в «комнату» четырех попугаев; в Конюшенную контору переехали «карета голландская», «берлин ревельской», две «полуберлины» и четыре коляски. Породистые «ревельские коровы» удостоились чести попасть на императорский «скотский двор», а дворцовая кухня получила целую барку с 216 живыми стерлядями. Бирон не смог удержаться от личного осмотра конюшни Мусина-Пушкина, однако не обнаружил там ничего интересного и распорядился передать 13 лошадей графа в Конную гвардию. Цесаревна Елизавета отобрала для себя оранжерейные («винные» и «помаранцевые») деревья, кусты «розанов» и «розмаринов». А вот библиотека Мусина-Пушкина в эпоху, когда чтение являлось подозрительным занятием, так и осталась невостребованной.
Прочее имущество по именному указу от 6 сентября 1740 года выставлялось на публичные торги «аукционным обыкновением при присяжном маклере», которым стал «аукционист» из Коммерц-коллегии Генрих Сутов за гонорар в две копейки с каждого полученного рубля. Распродажа проходила в несколько приемов в сентябре—декабре и привлекла множество покупателей. «Сщетная выписка пожиткам Артемья Волынского, которые имелись в оценке» рассказывает, как расходилась по рукам обстановка одного из «лучших домов» столицы{460}.
Вице-президент Коммерц-коллегии Иван Мелиссино приобрел яхонтовый перстень за 76 рублей, сенатор и генерал-майор И.И. Бахметев — 15 «лалов» за 227 рублей, тайный советник В.Н. Татищев — серебряные подсвечники за 88 рублей и щипцы за 45 рублей. Бриллиантовые перстень за 150 рублей и серьги за 234 рубля достались обер-гофкомиссару Исааку Липману; отечественные купцы Корнила Красильников, Афанасий Марков, Потап Бирюлин предпочли жемчуга министра.
Фельдмаршал Миних деньгами не сорил и брал по мелочи — три «цветника синих с каровками» за 4 рубля 40 копеек, две «польские чашки» за 2 рубля 80 копеек; чайник, сахарницу и две чашки за 3 рубля 20 копеек — но всё же и он приобрел для души приглянувшегося «китайского идола» за 12 рублей 50 копеек. А врач цесаревны Елизаветы, впоследствии знаменитый Арман Лесток, покупал всё, что нравилось: две трости, тарелки, «детскую шпагу», кортик, два ружейных ствола, серебряные часы, хотя и не самые дорогие — за 15 рублей 25 копеек. Брат фаворита генерал-лейтенант Карл Бирон купил пять чашек за 30 рублей, а камердинер герцога Фабиан просто шиковал — взял (по заказу хозяина?) шесть зеркал, английский и зеркальный шкафы и кабинет — всего на 226 рублей 50 копеек.
Вслед за важными персонами отовариться на распродаже старались офицеры, профессиональные ювелиры и торговцы-иноземцы. Последние интересовались драгоценностями и всякими дорогими вещицами; первые же охотно скупали обстановку, посуду, оружие, «конские уборы» и «съестные припасы». Капитан князь Волконский за 15 рублей стал обладателем дубовой кровати министра, бывший подчиненный Волынского по егермейстерской части полковник фон Трескау приобрел семь бочек английского пива за 14 рублей; мичман Хомутов за восемь рублей взял клавикорды, а капитан Тютчев — весь запас кофе (5 пудов 31 фунт) за 29 рублей 74 копейки; десять фунтов более дорогого чая за 15 рублей с полтиной купил ценитель китайского напитка прапорщик Насакин.
Императрица и здесь сделала поблажку верным слугам. Без наценки и торга шут Пьетро Мира получил большой кубок за 105 рублей 45 копеек, а обер-директор Сергей Меженинов — самый дорогой из имевшихся парчовый кафтан министра за 160 рублей и еще один, с золотым шитьем, за 120. Но найти нужные вещи можно было на любой вкус и карман; так, артиллерийский капитан Глебов разжился парчовым серебряным камзолом за 31 рубль, а капитан Выборгского гарнизона Филимон Вейцын, заплатив всего четыре с половиной рубля, стал носить зеленые «штаны суконные» Волынского. Господа офицеры скупали для своих дам «робы», юбки, «исподницы» и «балахоны» дочерей министра, а священник Никифор Никифоров приобрел (неужели для попадьи?) дорогую «парчовую робу с юпкою и шнурованьем» за 121 рубль.
Продавались нужные в хозяйстве инструменты, ведра, ножницы, чубуки; разошлась по рукам покупателей провизия — даже бочонок тухлых лимонов и «негодной» виноград. А вот живопись еще не нашла отечественных ценителей. Полотно с изображением «жеребца Волынского буланого, грива стрижена» досталось «торговому иноземцу» Ивану Гроссу; иностранцы купили и остальные картины. Выставленное на продажу имущество Артемия Петровича было оценено в 27 540 рублей, но в итоге казна выручила за него 33 524 рубля. Едва ли участники этой распродажи думали о судьбе опального министра.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Мудрый Василий Осипович Ключевский не слишком высоко оценивал интеллектуальный и нравственный потенциал «птенцов гнезда Петрова»: «Они учились делу среди самого дела, на ходу, без подготовки, не привыкнув вдумываться в общий план дела и в его цели. Теперь они почувствовали себя вдвойне свободными. Реформа вместе со старым платьем сняла с них и сросшиеся с этим платьем старые обычаи, вывела их из чопорно-строгого древнерусского чина жизни. Такая эмансипация была для них большим нравственным несчастьем, потому что этот чин всё же несколько сдерживал их дурные наклонности; теперь они проявили беспримерную разнузданность»{461}.
Ну чем не портрет Волынского — лихого охотника и лошадника, буйного и в гневе, и в припадке «административного восторга»? Его и взяточником-то в современном смысле назвать трудно: Артемий Петрович властью не «злоупотреблял» (для этого надо было ясно представлять ее границы) и не стремился нажить состояние (богачом-«олигархом» он не стал, да и вельможный образ жизни не предполагал накопление и расчетливое размещение капитала). Он, кажется, просто не ощущал пределов своих полномочий, умеряемых лишь царской волей и назначенным «сверху» следствием, которое, к слову, могло ничем и не закончиться по причине смены монаршего гнева на милость.
Но ведь и государь-реформатор Петр Великий был таким же человеком, не вмещавшимся в строгие рамки. Разносторонняя образованность и любовь к отечеству сочетались в нем с жестокостью и пренебрежением к человеческой личности. Царь, ни в чем не терпевший непрофессионализма, мог указать палачам на погрешности в их работе («ноздри вынуты малознатно», не до кости) или порадовать флорентийского герцога подарком — шестью отловленными в тундре «самоедами» «подурнее рожищем». Собственным примером он учил соблюдать светские приличия (объяснял, что нехорошо во дворце валяться на кровати в грязных сапогах) и рубить головы восставшим стрельцам, а в гневе был способен даже на убийство.
Артемию Волынскому повезло: потомок знатного, но клонящегося к закату рода, из рядового стольника стал солдатом и офицером петровской армии, сумел отличиться, оказался рядом с государем — и навсегда остался человеком государственным. Или, возможно, дело не в счастливом случае, а в вековых традициях службы человека «фамильного», но не закосневшего в привычном порядке чинопроизводства, открытого для восприятия преобразований Нового времени, что в нем почуял государь, умевший выбирать на всё способных помощников. Так или иначе, но молодой дворянин принял не только реформы, но и дух перемен — и стал их проводником, заводя школы или планируя новую «восточную политику» империи.
Повести Петровской эпохи рисуют образ такого «нового русского» дворянина, который мог сделать карьеру, обрести богатство и повидать мир от «Гишпании» до Египта. Герой появившейся в кругу царевны Елизаветы «Гистории о некоем шляхетском сыне» в «горячности своего сердца» уже смел претендовать на любовь высокородной принцессы, чья «изредкая красота» влекла его «подобно магнит железо». В этой дерзости («Как к ней пришел и влез с улицы во окно и легли спать на одной постеле…») не было ничего невозможного: в «эпоху дворцовых переворотов» этот литературный образ стал реальностью. Ведь теперь от личных усилий таких «кавалеров» в значительной степени зависело их поощрение чинами или «деревнями», не связанное, как прежде, с «породой» и полагавшимся «окладом».
А еще Волынский унаследовал от Петра масштаб: если организовывать конные заводы, то сотнями; если строить усадьбу или охотиться — так с размахом; если управлять — так уж предложить проект преобразований, который соперникам выдумать не под силу. А ведь могло быть иначе. Повесть П.И. Мельникова-Печерского «Старые годы» рисует такой вариант. Ее герой, представитель древнего рода князь Алексей Юрьевич Заборовский, человек горячий, сильный, яркий, тоже вступил в жизнь при Петре I, тоже принял его реформы, «умел наверстать и взять свое» не хуже, а даже лучше Волынского. «Подбиваясь» то к одному, то к другому временщику, он достигал того, что «чины и деревни летели к нему при каждой перемене». Восходя по карьерной лестнице, князь «с прекрасным аппетитом изволил кушать за роскошными обедами герцога Эрнста Иоанна Курляндского. Будучи знатоком в лошадях и проводя ночи в попойках с братом герцога, Карлом, был он в ходу при Бироне, достиг генеральского ранга и получил кавалерию Александра Невского» (Волынскому эту награду заслужить не удалось). Удаленный из столицы, Алексей Юрьевич «начал строить великолепный дворец, разводить сады и вести жизнь самую буйную, самую неукротимую»: «Не только в Заборье — по всей губернии всё ему кланялось, всё перед ним раболепствовало, а он с каждым днем больше и больше предавался неудержимым порывам необузданного нрава и глубоко испорченного сердца…» Князь ходил с рогатиной на медведя, устраивал великолепные праздники: «Начнут князя с ангелом поздравлять, “ура” ему закричат, певчие “многие лета” запоют, музыка грянет, трубы затрубят, на угоре из пушек палить зачнут, шуты вкруг князя кувыркаются, карлики пищат, немые мычат по-своему, большие господа за столом пойдут на счастье имениннику посуду бить, а медведь ревет, на задние лапы поднявшись». Он вволю куражился над соседями и на охоте, казнил и миловал, пока, наконец, дело не дошло до убийства непокорной снохи. По воле автора повести ее герой познакомился с Тайной канцелярией и от беспримерной дерзости тут же перешел к полному унижению. Явившихся к нему офицеров князь встретил во всем параде: в пудре, в бархатном кафтане, при кавалерии:
«Вошли те, а он чуть привстал и на стулья им не показывает, говорит:
— Зачем пожаловать изволили?
— Велено нам строжайший розыск о твоих скаредных поступках с покойной княгиней Варварой Михайловной сделать.
— Что-о? — крикнул князь и ногами затопал. — Да как ты смел, пащенок, холопский свой нос ко мне совать?.. Не знаешь разве, кто я?.. От кого прислан?.. От воеводы-шельмеца аль от губернатора-мошенника?.. И они у меня в переделе побывают… А тебя!.. Плетей!..
— Уймись, — говорит майор. — Со мной шкадрон драгун, а прислан я не от воеводы, а из Тайной канцелярии, по именному ее императорского величества указу…
Только вымолвил он это слово, всем телом затрясся князь. Схватился за голову да одно слово твердит:
— Ох, пропал… ох, пропал!..
<…> А майор розыск зачинает. Говорит:
— Князь Алексей княж Юрьев сын Заборовский. По именному ее императорского величества указу из Тайной канцелярии изволь нам по пунктам показать доподлинную и самую доточную правду по взведенному на тебя богомерзкому и скаредному делу…
— Не погуби!.. Смилуйся! Будьте отцы родные, не погубите старика!.. Ни впредь, ни после не буду… Будьте милостивы!..
И повалился князь в ноги майору. Велик был человек, архимандритов в глаза дураками ругал, до губернатора с плетьми добраться хотел, а как грянул царский гнев — майору в ножки поклонился»{462}.
Почти так же вел себя — и в жизни, и на последнем следствии — Артемий Петрович, переходя от горделивого сознания своего превосходства (вспомним его увлечение своей знатностью, своим родом и собственными дарованиями) к просьбам о милости. Литературный персонаж и реальная фигура — близкие типы Петровской эпохи, с сильным, до полной безудержности, характером и одновременно слабым перед высочайшей волей духом. Понадобится еще долгое и относительно спокойное правление Елизаветы Петровны, чтобы выросло поколение дворян более просвещенных и независимых, чем их отцы во времена «бироновщины». Современные исследования позволяют говорить даже об особом «культурно-психологическом типе» Елизаветинской эпохи{463}, у которого исчез, по выражению писателя второй половины XVIII — начала XIX века А.Т. Болотова, «рабский страх перед двором», но в то же время сохранился авторитет самодержавной монархии как высшей мировоззренческой ценности. Но, возвращаясь к мысли Ключевского, для людей вроде князя Заборовского «идея отечества была… слишком высока, не по их гражданскому росту». Волынский же при всех своих пороках — самодурстве, неразборчивости в средствах и честолюбии — не мыслил себя без большого государственного дела.
Истинные причины гибели Волынского и его друзей так и не были названы — и потому, что обвинения в подготовке дворцового переворота оказались несостоятельными, и потому, что привыкшие к рутинной работе служащие Тайной канцелярии едва ли могли их сформулировать.
Артемий Петрович не был диссидентом, бунтарем против режима; его проекты не содержали ничего революционного. Просто сам он был слишком яркой личностью на фоне «персон» аннинского царствования. В 1720—1730-х годах с политической сцены сошли последние крупные, самостоятельные деятели — старшие петровские выдвиженцы: Ментиков, Бутурлин, Макаров, Шафиров, Апраксин, Брюс, Толстой, старшие братья Голицыны, В. Л и В.В. Долгоруковы, Ягужинский. Одни из них умерли или отошли от дел, другие были сброшены с вершины власти и ушли в политическое небытие. Они выросли в атмосфере петровской «перестройки» и были способны на решительные и дерзкие действия. К тому же практика реформ заставляла учиться или хотя бы иметь ученых помощников, подобных В.Н. Татищеву.
Волынский был слишком масштабной фигурой, таковыми же были и все его начинания, будь то планы продвижения России на Восток или реорганизации императорской охоты. Они требовали много сил и средств, но и выдвигали «наверх» автора, что неизбежно порождало зависть соперников и их опасения быть оттесненными. При всей своей административной неразборчивости Волынский как государственный деятель был соразмерен так же масштабно мыслившему Петру I.
Однако при Анне Иоанновне востребованными были не реформаторы, а верноподданные, а главной политической наукой стали придворные «конъектуры». Соперничавшие «партии», включавшие как русских, так и «немцев», боролись за милости с помощью своих «клиентов» и разоблачения действий противников. В такой атмосфере сделать карьеру было легче людям другого типа — послушным, хорошо знающим свое место и умеющим искать покровительство влиятельного «патрона». На первый план выходил не способ осуществления преобразований, а то, чья «партия» будет в милости. Такие перестановки могли осуществиться либо путем интриг для получения соответствующего решения монарха, либо с помощью дворцового переворота. Планы Волынского именно так и были истолкованы следователями, а сам он оказался не слишком преуспевшим в науке придворных «обхождений», за что и заплатил жизнью.
Детям опального предстояло сгинуть в безнадежной сибирской ссылке, но в «эпоху дворцовых переворотов» победители и поверженные в придворных битвах быстро менялись местами. Ставший после смерти Анны Иоанновны регентом при младенце-императоре Иоанне Антоновиче Бирон окончательно отменил проект Волынского об учреждении конных заводов при монастырях{464}. Однако после трех недель правления главный виновник гибели Артемия Петровича был арестован гвардейским караулом во главе с фельдмаршалом Минихом. Допросы еще не начались, а приговор был уже предопределен. 30 декабря 1740 года на заседании Кабинета министры решили судьбу Бирона: ему сохранили жизнь, но он потерял всё имущество и даже имя (отныне его велено было именовать Бирингом) и отправлялся в Сибирь. Предъявленное «бывшему герцогу» обвинение звучало риторически: «Почему власть у его императорского величества вами была отнята и вы сами себя обладателем России учинили?» Заодно он оказался виноват и в болезни Анны Иоанновны, и в угрозах в адрес родителей императора, и даже в… безбожии.
Бирона, как и Волынского, осудили за обидные высказывания о своих противниках, из которых был сделан вывод об умысле на «государское здоровье» и попытке «Московским государством завладеть». «Бывший герцог» был вначале приговорен к четвертованию; однако ему, в отличие от его соперника, позорная казнь была заменена ссылкой в сибирский городишко Пелым. В опубликованном 14 апреля 1741 года манифесте регент сравнивался с цареубийцей Борисом Годуновым и представал фигурой демонической: Бог «восхотел было всю российскую нацию паки наказать… бывшим при дворе ее императорского величества обер-камергером Бироном». Подробно перечислялись и прочие «вины» курляндца (не подтвержденные на следствии): украл «несказанное число» казенных денег, «наступал на наш императорского величества незлобивый дом» и подавал «вредительные» советы{465}. Закончивший свою карьеру злодей отправился вместе с семейством в ссылку под конвоем семидесяти четырех гвардейцев.
Волынскому не суждено было вернуться, но его детям и уцелевшим «конфидентам» повезло. Через месяц после свержения Бирона, 9 декабря 1740 года, мать и регентша младенца-императора Анна Леопольдовна потребовала к себе дело Волынского, а 29 декабря Тайной канцелярии было предписано подать «экстракты» обо всех ссыльных в годы правления Анны Иоанновны{466}. В январе следующего года политический сыск получил указание, что все дела по государственным преступлениям подлежат пересмотру, а осужденные по ним — снисхождению{467}. Такой милости по отношению к государственным преступникам практика тогдашней российской юстиции не знала.
Одними из первых помилованных ссыльных стали дети Артемия Петровича: 6 февраля 1741 года Анна Леопольдовна повелела их освободить (а если девушки уже пострижены, то снять с них монашеский чин) и отпустить на жительство в Москву, в дом их дяди, действительного тайного советника Александра Львовича Нарышкина{468}.
Новый переворот в ночь с 24 на 25 ноября 1741 года привел к власти дочь Петра I Елизавету. Беззаконное воцарение сопровождалось широкой пропагандистской кампанией — надо было объяснить свержение законного императора тем, что Бирон и Остерман «насильством взяли» управление империей в свои руки. Церковные проповеди провозглашали, что «немцы», враги России, истребляли людей верных и «весьма нужных» отечеству и назначали вместо них иноземцев, обирали казну, а неправедно нажитые деньги «из России за море высылали и тамо иные в банки, иные на проценты многие миллионы полагали», а также подрывали истинное благочестие и не допускали к власти законную наследницу Елизавету{469}.
Началась и реабилитация пострадавших в годы «немецкого правления». Детям министра были возвращены доброе имя и права состояния; именным указом от 8 января 1742 года Елизавета повелела вернуть им отписанные в казну имения отца (те, что еще не успели раздать) «в вечное и потомственное владение»{470}. Ведавшему Конюшенной канцелярией старому недругу А.П. Волынского обер-шталмейстеру А.Б. Куракину пришлось выполнять указ о возвращении находящихся «в ведомстве той канцелярии… ис помянутых отписных имений и каких вещей» казненного министра, в том числе его лошадей{471}. Правда, императрица всё же отобрала у семейства загородный дом на Фонтанке для размещения собственных охотников и собак, но повелела заплатить за него три тысячи рублей{472}. Вернувшиеся из ссылки Мария, Анна и Петр Волынские весной 1742 года получили имения отца, за исключением деревни Анисимовой Балахонского уезда, о возвращении которой подали прошение 13 апреля 1742 года{473}.
Императрица была добра, но всё же не могла признать, что ее царственная предшественница приговорила к смерти или ссылке в Сибирь невинных людей — это подрывало бы авторитет монаршей власти. А потому в милостивом указе от 15 июня 1742 года специально оговаривалось, что вдову и детей соратника Волынского А.Ф. Хрущова не следует «порицать, понеже они винам его не причастны», то есть наказание главы семейства считалось заслуженным. Дети министра установили на месте захоронения казненных надгробную плиту с надписью: «Зде лежит Артемей Петрович Волынской, которой жизни своея имел 51 год».
Впрочем, Елизавета постаралась помочь дочерям Артемия Петровича пережить подневольное пострижение и утешить их выгодными брачными партиями — она любила устраивать личную жизнь своего окружения. Младшую, Анну, она сразу выдала замуж за своего двоюродного брата графа Андрея Симоновича Гендрикова. Молодая чета должна была блистать в императорском дворце. В 1744 году Гендриков был пожалован в камергеры и кавалеры ордена Александра Невского за «благородные и добродетельные при дворе нашем поступки»{474}, а его супругу Елизавета возвела в почетное придворное звание действительной статс-дамы, не связанное с обременительными обязанностями. Но счастье молодой пары было недолгим. Графиня, кажется, так и не смогла оправиться от постигших ее ударов судьбы. Любимица отца, Аннушка ненамного пережила его — скончалась, по сообщению ее сестры Марии, 19 августа 1744 года. При отсутствии у Анны детей ее имения были «полюбовно» поделены между мужем и сестрой: по заключенному между ними соглашению, утвержденному Вотчинной коллегией 28 марта 1745 года, графу достались вотчины Артемия Петровича в Вологодском, Дмитровском и Юрьевском уездах (всего 2208 четвертей пахотной земли), Марии — все остальные (4071 четверть){475}. 13 июня 1748 года внезапно умер и сам Гендриков{476}.
Еще раньше оборвалась жизнь единственного законного сына Волынского. Как свидетельствуют бумаги Герольдмейстерской конторы, пятнадцатилетний Петр Артемьевич, явившийся 26 марта 1743 года в Петербург на смотр дворянских юношей, доложил, что он и сестры являются владельцами трех тысяч душ крепостных крестьян, «а других братьев он не имеет»; сам же он «грамоте росиской читать и писать обучен, а ныне обучаетца другим наукам, когда ему бывает от болезни свободнее, ибо он одержим чехотною болезнию (туберкулезом. — И. К.), от которой свидетельствуетца данным от дохтора Гутберха аттестатом, понеже оной дохтур ево от той болезни ползовал и ползует». Приложенный врачебный документ врача удостоверял, что у его пациента «чехотка немалая и одышка, к тому ж происходит часто кровь горлом», отчего больной «весьма слаб и в службе быть неспособен». Юный Волынский просил о том, «чтоб отпустить в дом ево за показанною болезнию». Чиновники конторы отправили юношу на осмотр к собственному врачу и после того, как тот подтвердил заключение коллеги, решили предоставить больному длительный отпуск — он должен был снова явиться на освидетельствование через пять лет{477}. Но приступить к службе Петру Волынскому было не суждено: 25 ноября того же года юноша скончался.
Так единственной наследницей имений отца с двумя тысячами душ и московских хором на Рождественке осталась «девица Мария Артемьева дочь Волынская». Ей же в 1759 году были отданы конфискованная библиотека Артемия Петровича и прочие «отписные отца ее вещи»{478}. В 1745 году государыня пожелала выдать ее замуж за сына другого сподвижника Петра 1 — Петра Александровича Румянцева. Родители юноши были довольны, но жених отказался от завидной невесты — может, и к лучшему для нее, поскольку будущий фельдмаршал предпочитал свободу и разгульный образ жизни, и мать-графиня со слезами писала сыну: «Видно… ни страху божеского нет, ни жалости об нас… мы совсем от вас отречемся».
В феврале 1748 года императрица все же подыскала Марии достойного мужа — Ивана Воронцова. Как и братья Роман и Михаил, Иван Илларионович (1719—1786) с юности обретался при дворе. «В службу определен в 735-м году декабря 18 дня ко двору ее императорского величества государыни императрицы, а в тогдашнее время государыни цесаревны Елисавет Петровны камер-пажем. И имянными ее императорского величества высочайшими указами жалован в 742-м апреля 25-го лейб-гвардии в Преображенской полк в порутчики, в 744-м июля 15-го в капитаны-порутчики, в 751-м майя 26-го в капитаны, а в 753-м году апреля 25 дня ко двору ее императорского величества в камер-юнкеры. Жалованье получает по имянному ж ее императорского величества указу от придворной канторы в год по тысяче рублев. Детей у него мужеска полу: Артемей, по шестому году, обучается в доме ево российской грамоте читать и писать, а на смотр за малолетством еще нигде не объявлен; Петр, десяти месяцов. Дворовых людей и крестьян за ним мужеска полу собственных в Ростовском триста девяносто пять, в Танбовском двести дватцать, в Вологоцком уездех сорок, да приданых жены ево в Московском, Муромском, Пензенском, Луховском, Казанском две тысячи. Всего две тысячи шестьсот пятьдесят пять душ», — доложил он о своей службе и состоянии при переписи чиновников империи в июне 1755 года. Через год он добавил, что пожалован камергерским чином, «а ис показанных в прежней ево скаске детей сын ево Артемей, которой по силе указов в Геролдмейстерской канторе на первой смотр явлен минувшего майя 10-го дня, по высочайшему ж ее императорского величества имянному указу определен майя 27-го лейб-гвардии в Конной полк в рейтары, а июня 2-го числа в капралы»{479}.
Жизнь четы Воронцовых сложилась удачно. Иван Илларионович пользовался придворным счастьем старших братьев, но сам в большую политику не вмешивался и служебной карьере предпочитал спокойную жизнь московского барина. Мария Артемьевна стала ему достойной женой. Ее портрет кисти Федора Рокотова изображает не погруженную в домашние дела мать семейства, а спокойную и уверенную в себе светскую даму, сохранившую в глазах современников ореол мученичества отца.
К тому времени подоспела и его окончательная реабилитация. Ближайший советник императрицы Екатерины II министр иностранных дел Никита Иванович Панин, по совместительству ведавший делами политического сыска о выступлениях против нового режима, в октябре 1764 года рассказывал, что ознакомился со следственным делом Артемия Петровича «и чуть его паралич не убил; такие мучения претерпел несчастной Волынской, и так очевидна его невинность!». Отнюдь не все были согласны с его вердиктом: «На сие зачали описывать, какой негодной человек был Волынской и какого зверского нраву». Примечательно, что вспомнили о казненном министре во время беседы о турецких визирях, которые, «не взирая на то, что так часто их давят, всегда этого места добиваются». Но Панин гнул свою линию: «хотя и признавал, что он был человек свирепой и жестокосердной в партикулярной жизни, однако говорил при том, что имел многие достоинства в жизни публичной, был разумен, в делах весьма знающ, расторопен, бескорыстен, верной сын отечества»{480}.
Так считала и Екатерина II. «Сыну моему и всем моим потомкам, — писала она в 1765 году после прочтения материалов следствия, — советую и поставляю читать сие Волынского дело, от начала до конца, дабы они видели и себя остерегали от такого беззаконного примера в производстве дел. Императрица Анна своему кабинетному министру Артемью Волынскому приказывала сочинить проект о поправлении внутренних государственных дел, который он и сочинил, и ей подал. Осталось ей полезное употребить, неполезное оставить из его представления. Но, напротив того, его злодеи, и кому его проект не понравился, из того сочинения вытянули за волосы, так сказать, и взвели на Волынского изменнический умысл, и будто он себе присвоивать хотел власть государя, чего отнюдь на деле не доказано. Еще из сего дела видно, сколь мало положиться можно на пыточные речи; ибо до пыток все сии несчастные утверждали невинность Волынского, а при пытке говорили все, что злодеи их хотели. Странно, как роду человеческому пришло на ум лучше утвердительное верить речи в горячки бывшего человека, нежели с холодною кровию; всякий пытанный в горячки и сам уже не знает, что говорит. И так отдаю на разсуждение всякому, имеющему чуть разум, можно ли верить пыточным речам и на то с доброю совестию полагаться. Волынский был горд и дерзостен в своих поступках, однако не изменил; но напротив того — добрый и усердный патриот и ревнителей к полезным поправлениям своего отечества, и так смертную казнь терпел, быв невинен; и хотя б он и заподлинно произносил те слова в нарекание особы императрицы Анны, о которых в деле упомянуто, то б она, быв государыня целомудрая, имела случай показать, сколь должно уничтожить подобные малости, которые у ней не отнимали ни на вершка величества и не убавили ни в чем ее персональные качества. Всякий государь имеет неисчисленные кротче способы к удержанию в почтении своих подданных: если б Волынский при мне был, и я бы усмотрела его способность в делах государственных и некоторое непочтение ко мне, я бы старалась всякими, для него неогорчительными, способами его привести на путь истинный. А если б я увидала, что он неспособен к делам, я б ему сказала или дала уразуметь, не огорчая же его: будь счастлив и доволен, а ты мне не надобен»{481}. Она распорядилась установить на могиле Волынского гранитную колонну с урной из белого мрамора.
Семейство Воронцовых берегло память о предке: в честь знаменитого деда супруги назвали старшего сына — будущего действительного тайного советника и сенатора. И.И. Воронцов приблизил к себе архитектора Карла Ивановича Бланка, сына петербургского мастера Ивана Бланка, сосланного с семьей по делу Волынского; он жил постоянно в московской усадьбе Воронцовых.
Мария Артемьевна пережила супруга, скончалась 17 ноября 1792 года и была похоронена рядом с ним в их любимом Воронове. За старшего в фамилии остался Артемий Иванович (1748—1813). Как и отец, он начал службу при дворе камер-юнкером; к концу жизни стал камергером, действительным тайным советником и сенатором — но также предпочел карьере жизнь вельможного барина, каким его и изобразил знаменитый художник той эпохи Дмитрий Левицкий. В 1786 году Воронцов купил в Петербурге пустой земельный участок на берегу Фонтанки, и через год здесь был готов каменный дворец. Поселившись в нем, граф заказал Левицкому портреты членов своей семьи — сейчас они хранятся в Русском музее. Старая же усадьба министра на Мойке давно перешла в чужие руки, но сохранила имя бывшего владельца в названии открывшегося здесь Волынского питейного дома; затем имя кабака перешло на находящийся рядом переулок{482}.
Помимо столичной резиденции, граф отстраивал заново подмосковные имения (так, в Воронове появились дворец и конный двор с манежем на 100 лошадей по проекту архитектора Н.А. Львова), занимался литературными переводами с французского и латыни, любил верховую езду и фехтование. 8 июня 1799 года в московском Елоховском соборе Артемий Иванович выступал крестным отцом будущего поэта Александра Пушкина.
Под конец жизни внук Артемия Волынского разорился. Главный дом московской усадьбы на Рождественке перешел к владелице металлургических заводов И.И. Бекетовой, а в начале XIX века были проданы владения Воронцова, выходившие на Кузнецкий Мост. В 1809 году большая часть прежней усадьбы была приобретена казной. Там разместилось московское отделение Медико-хирургической академии. Парк Воронцовых был приспособлен под ботанический сад, в главном здании находились аудитории, кабинеты, библиотека, а в пристройках — больница на 200 пациентов, общежития для студентов и квартиры преподавателей. Затем академия слилась с медицинским факультетом Московского университета, и с 1846 года в помещениях здесь стали работать факультетские клиники, пока в 1890-м не переехали в новые здания на Девичьем Поле. Опустевшие палаты и флигели на Рождественке после реконструкции главного корпуса и пристроек перешли в ведение основанного графом С.Г. Строгановым художественно-промышленного училища, готовившего художников по дереву, стеклу, фаянсу, полотну, металлу, глине. В этих стенах учились будущие живописцы М.А. Врубель и К.А. Коровин, архитекторы Ф.О. Шехтель и И.В. Жолтовский. При советской власти в бывшей усадьбе Волынских и Воронцовых разместился Московский архитектурный институт (с 1995 года — Государственная академия архитектуры), и многократно перестроенный главный корпус здания до сих пор хранит остатки палат прежних владельцев.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А.П. ВОЛЫНСКОГО
1689 — рождение у стольника Петра Артемьевича Волынского и его жены Федосьи Яковлевны, урожденной Хрущовой, сына Артемия.
1704 — поступление рядовым в гвардейский Преображенский полк.
1708, 28 сентября — участие в сражении при Лесной.
1709, 27 июня — участие в Полтавской битве.
1711, июль — участие ротмистра Волынского в Прутском походе и мирных переговорах с турками.
1711—1712 — служба дипломатическим курьером.
1712, октябрь — 1713, апрель — заточение с персоналом российского посольства в Семибашенном замке в Стамбуле.
1713 — смерть отца.
1715—1718 — поездка подполковника Волынского во главе российского посольства в Персию.
77/7, 30 июля — заключение в Исфахане русско-персидского торгового договора.
1719, март — назначение астраханским губернатором.
7722, 18 апреля — женитьба на двоюродной сестре Петра I Александре Львовне Нарышкиной.
Июль—сентябрь — участие в Персидском походе Петра I.
1723, июль — рождение первенца, дочери Анны.
1724, август—сентябрь — поездка в калмыцкие степи для организации выборов наместника хана.
1725, 19 марта — рождение дочери Марии.
Июль — губернаторство в Казани.
1726, 25 июля — возвращение в Петербург.
24 ноября — производство в генерал-майоры.
1727, 11 ноября — рождение сына Петра.
1728, март — 1730, ноябрь — второе губернаторство в Казани, конфликт с митрополитом Сильвестром.
1730, 12 сентября — смерть жены.
18 сентября — отстранение от губернаторской должности.
1731, 28 сентября — указ императрицы Анны Иоанновны о прощении служебных злоупотреблений Волынского.
1732, январь — назначение в «комиссию о размножении конских заводов».
Май — возглавил Конюшенную канцелярию.
1733—1734 — участие в военных действиях в Польше.
1734, декабрь — производство в генерал-лейтенанты.
1736, 28 января — назначение обер-егермейстером двора в чине генерал-аншефа.
1737, июль—октябрь — участие в мирных переговорах с турками в Немирове.
1738, 3 апреля — назначение кабинет-министром.
1739—1740 — сочинение Волынским и его друзьями проекта о «поправлении государственных дел».
1740, январь—февраль — организация шутовской свадьбы в «Ледяном доме».
Апрель—июнь — отрешение от всех должностей, арест и следствие в Тайной канцелярии.
27 июня — казнь Волынского на Сытном рынке в Петербурге.
БИБЛИОГРАФИЯ
Анисимов Е.В. Анна Иоанновна. М., 2004 (серия «ЖЗЛ»).
Бушев П.П. Посольство Артемия Волынского в Иран в 1715— 1718 гг. (по русским архивам). М., 1978.
Готье Ю.В. «Проект о поправлении государственных дел» А.П. Волынского //Дела и дни. 1922. № 3. С. 1—31.
Из переписки А.П. Волынского // Памятники новой русской истории. СПб., 1873. Т. 2. С. 195—249.
Корсаков Д.А. Артемий Петрович Волынский: Биографический очерк // Древняя и новая Россия. 1876. № 1. С. 84-96; 1877. № 1. С. 84-96; № 3. С. 289-302; № 5. С. 23-38; № 6. С. 98-114; № 7. С. 214-234; № 8. С. 277-295; №11. С. 224-254.
Курукин И.В. Бирон. М., 2006 (серия «ЖЗЛ»).
Материалы для биографии А.П. Волынского // Старина и новизна. 1903. Кн. 6. С. 243-292.
Материалы для биографии кабинет-министра Анны Иоанновны, Артемия Волынского // ЧОИДР. 1862. Кн. 4. Смесь. С. 105-134.
Петрухинцев Н.Н. Дворцовые интриги 1730-х годов и «дело» А.П. Волынского // Вопросы истории. 2006. № 4. С. 30-47.
Филиппов Л.Н. А.П. Волынский как кабинет-министр// Исторический вестник. 1901. № 5. С. 552—568.
Чистович И.Л. Дело архимандрита казанского Спасского монастыря Ионы Салникеева из первой половины XVIII века //ЧОИДР 1868. Кн. 3. С. 1-125.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Герб рода Волынских
Предок Артемия Волынского воевода Боброк припадает к земле накануне Куликовской битвы. Миниатюра из «Сказания о Мамаевом побоище». XVII в.
Полтавская битва. Л. Каравак. 1718 г.
Такую форму носили солдаты гвардейского Преображенского полка (слева) и офицеры Драгунского полка во время Северной войны
Турецкий султан Ахмед III с сыном. Миниатюра. 1720 г.
Ахмед III принимает французского посла во дворце Топкапы. Ж. Б. ван Моо. 1724 г.
Глава русского посольства в Стамбуле Петр Павлович Шафиров
С октября 1712 года по апрель 1713-го Волынский вместе с другими участниками русского посольства был заточен в Семибашенном замке
Верный союзник России в персидских делах грузинский царь Вахтанг VI. Неизвестный художник. До 1737 г.
Персидский город Шемаха. Атлас И.Б. Хоманна. 1734 г.
Шах Султан Хусейн. Гравюра из книги К. де Бруина «Путешествие через Московию в Персию и Индию». 1711 г.
Персидская столица Исфахан. Гравюра из книги К. де Бруина
В 1719—1724 годах А.П. Волынский губернаторствовал в Астрахани, а в 1725—1726, 1728—1730 годах — в Казани
Вместе с Петром I астраханский губернатор отправился в Персидский поход. Ж. М. Натье. 1717 г.
Отправление Петра I в Персидский поход в мае 1722 года. Рисунок из рукописи Ф. Соймонова «Описание Каспийского моря». РГАДА
Низовая пристань на Каспийском море. Рисунок из рукописи Ф. Соймонова
При выходе русского флота в Каспийское море Волынский вместе с другими участниками похода царя принял «морское крещение». Рисунок из рукописи Ф. Соймонова
Взятие Дербента в августе 1722 года. Рисунок из рукописи Ф. Соймонова
Аллегория Российской империи с императрицей Анной Иоанновной на троне. Крайний слева — Бирон. Гравюра М. Энгельбрехта. 1730-е гг.
В течение десяти лет (1731 — 1740) жизнь и карьера Волынского были связаны с Петербургом. Зимний дворец Анны Иоанновны. Гравюра по рисунку М. Махаева. 1753 г.
Письмо Артемия Петровича детям. 19 сентября 1737 г.
Анна, императрица и самодержица Московская, Киевская, Владимирская, Новгородская… Гравюра И. Фогеля. Нюрнберг. 1738 г.
Эрнст Иоганн Бирон. Неизвестный художник. Между 1730 и 1737 гг.
Предполагаемый портрет А.П. Волынского. Неизвестный художник. Первая половина XVIII в.
Портрет неизвестного с камергерским ключом, традиционно принимаемый за изображение Артемия Волынского. Г. Хойзер. Между 1743 и 1748 гг.
Фасад и план «Ледяного дома». Буквами обозначены: a — ледяная решетка; b — крыльцо; c — задняя дверь; k, l, m, n — окна; P — сени; R — правая комната; Q — левая комната; f— главные ворота; g, h — задние ворота; r, s — пирамиды
Интерьер спальни
Праздничное шествие представителей народов, населяющих Россию, во время шутовской свадьбы в «Ледяном доме»
Интерьер гостиной
Анна Иоанновна с Волынским и Бироном на охоте в петергофском зверинце. А. Рябушкин. 1900-е гг.
«Конфиденты» Волынского: генерал-кригскомиссар Федор Иванович Соймонов и архитектор Петр Михайлович Еропкин
Московский дом Волынского на Рождественке, возведенный П.М. Еропкиным и впоследствии сильно перестроенный, ныне — здание Московского архитектурного института
Коллега Волынского по Кабинету министров князь Алексей Михайлович Черкасский
Граф Андрей Иванович Остерман — «душа» Кабинета министров
Волынский на заседании Кабинета министров. В. Якоби. 1875 г.
Жалоба поэта Василия Кирилловича Тредиаковского на рукоприкладство Волынского стала одним из поводов для следствия над министром. Ф. Рокотов. 1760-е гг.
Карикатура на Анну Иоанновну из следственного дела одного из участников кружка Волынского. РГАДА. Не позднее 1733 г.
Начальник Тайной канцелярии Андрей Иванович Ушаков
Протокол допроса Волынского с записью о применении пытки («было ему 18 ударов»), подписанный следователями А.И. Ушаковым и И.И. Неплюевым. РГАДА. 1740 г.
Дочь Волынского Мария Артемьевна и ее муж граф Иван Илларионович Воронцов. Ф. Рокотов. Конец 1760-х гг.
Имение Вороново, родовое гнездо Волынских, было сильно перестроено последующими владельцами
На могиле Волынского у церкви преподобного Сампсона. Странноприимца. Неизвестный художник. После 1835 г.
В 1885 году на могиле А.П. Волынского и казненных вместе с ним П.М. Еропкина и А.Ф. Хрущова на средства, собранные их почитателями по инициативе журнала «Русская старина», был сооружен обелиск
Примечания
1
Первые два пункта — «о каком злом умысле против персоны его величества или измены» и «о возмущении или бунте» — обвинения в наиболее опасных государственных преступлениях, на осужденных по ним не распространялись амнистии.
(обратно)2
Рынды — в XVI—XVII веках оруженосцы-телохранители при российских государях, сопровождавшие их в походах и поездках. Во время дворцовых церемоний рынды стояли в парадных одеждах по обе стороны трона с бердышами на плечах.
(обратно)3
Э'темад од-доуле (эхтема девлет) — канцлер, первый министр (перс).
(обратно)4
Вахтанг VI (1675—1737) был многоопытным политиком; к тому времени он уже дважды принимал ислам и возвращался в православие. Он сумел создать боеспособное войско, под его руководством был составлен свод законов («Уложение царя Вахтанга»), действовавший во всей Грузии. В 1709 году по его инициативе в Тбилиси была основана первая грузинская типография, в которой вместе с церковными книгами печатались учебники и была издана поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» с комментариями самого царя. Вахтанг был заточен в крепость за отказ вновь перейти в ислам, но в 1719 году сумел вернуть себе престол и рассчитывал с помощью России освободить Грузию.
(обратно)5
Собранные суммы оказались почти на порядок меньше ожидаемых. Волынский обещал Петру «доходов государственных, пошлин и откупных» до трех миллионов рублей в год, а общая сумма податей и пошлин с новых провинций, по мнению Коллегии иностранных дел, составила в 1724—1732 годах 1 703 021 рубль. Поданным главнокомандующего Низовым корпусом генерала В. Я. Левашова, все полученные к марту 1733 года доходы оценивались в 1 711 523 рубля, из которых 1 383 306 рублей пошли на обеспечение самих оккупационных войск (см.: РГАДА. Ф- 248. Оп. 8. № 439. Л. 1002-1003). Расходы же, по подсчетам фельдмаршала и президента Военной коллегии Б. X. Миниха, исчислялись суммой «около осьми милионов» (см.: ПСЗРИ. Т. 8. № 6097).
(обратно)6
Штоф (нем. Stoff — ткань) — гладкокрашеная ткань со сложным крупным тканым рисунком.
(обратно)7
Кабинет (от фр. cabine — закрытое помещение) — здесь: шкаф для хранения бумаг с выдвижными ящиками и дверцами, устанавливаемый на высоком подстолье или на полу.
(обратно)8
Коноват — азиатская шелковая ткань, шла на изготовление фаты, покрывал.
(обратно)9
Трип (от фр. tripe) — шерстяной петельчатый бархат, используемый для обивки мебели.
(обратно)10
Самоеды (самоядь, самоедины) — старое название народов, говорящих на самодийских языках, — ненцев, энцев, нганасан, селькупов.
(обратно)11
Тафта (от перс, tafta — ткань) — тонкая глянцевитая и плотная шелковая ткань полотняного переплетения с очень туго скрученными нитями, благодаря чему обладает жесткостью, топорщится.
(обратно)12
Камчатый — изготовленный из камки (дамаста) — шелковой ткани с обычно цветочным рисунком, образованным блестящим атласным переплетением нитей на матовом фоне полотняного переплетения, а также из льна, хлопка или шерсти с тем же эффектом.
(обратно)13
Портище — кусок ткани от четырех до восьми аршинов (1 аршин равен 71 сантиметру) для пошива одного кафтана.
(обратно)14
Красный яхонт (лал, рубин) — минерал, разновидность корунда; другая его разновидность — лазоревый яхонт (сапфир).
(обратно)15
Трясило (трясилка, трясучка) — здесь: женское головное украшение на пружинке.
(обратно)16
Бурмицкий (гурмыжский) жемчуг—крупный круглый жемчуг, добывавшийся недалеко от города Ормузд в Персидском заливе (в старину назывался Гурмыжским морем).
(обратно)17
Репеек — здесь: бантик, присборенная лента или полоска ткани.
(обратно)18
Обронная резьба— способ гравировки, при котором создается рельеф путем выбирания резцом углубленного фона, в отличие от штриховой гравировки, когда на поверхность металла наносят контурные линии или штрихи.
(обратно)19
Канфар (искаж. конфорка, от голл. komfoor— приспособление для разведения огня) — здесь: спиртовка.
(обратно)20
Епанча — широкий безрукавный круглый длинный мужской плащ. Казакин — полукафтан, присборенный на талии, с невысоким стоячим воротником, застегивающийся на крючки сверху до талии. Канифас (от голл. kanefas — канва) — плотная хлопчатобумажная ткань, обычно с рельефными полосками. Бешмет — одежда, иногда стёганая, заимствованная у жителей Северного Кавказа, кафтан со стоячим воротником, доходящий до колен, надевавшийся на рубаху и под халат. Камзол (от ит. camiciola — рубашка) — деталь мужского костюма, куртка с рукавами или без рукавов, надевавшаяся под кафтан. Сюртук (от фр. surtout — букв, поверх всего) — мужская верхняя приталенная одежда до колен, с воротником и сквозной застежкой на пуговицах. Шлафрок, шлафор (от нем. Schlaf— сон и Rock — пиджак) — просторная домашняя одежда, достигающая лодыжек. Гродетур — тяжелая шелковая одноцветная ткань, как правило, темных оттенков, в которой каждая нить основы закрыта двумя нитями утка. Получила название по первоначальному месту производства — городу Тур во Франции. Камлот (от фр. camelot — ткань из шерсти ангорской козы) — плотная грубая шерстяная или хлопчатобумажная темная ткань, поскольку нити основы всегда были черного цвета.
(обратно)21
Армяк — верхняя долгополая распашная одежда прямого кроя из толстой грубой шерстяной ткани, подпоясываемая поясом-кушаком.
(обратно)22
Роба (фр. robe) — платье.
(обратно)23
Каразея — шерстяная ткань грубой выделки с разреженной фактурой.
(обратно)24
Искаж. цуг (нем. Zug — движение) — упряжка, при которой лошади идут одна за другой по одной или попарно.
(обратно)Комментарии
1
См.: Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. М., 1949. Т. 16. С. 62, 64-67.
(обратно)2
См.: Абрамович С. Л. Пушкин. Последний год: Хроника: Январь 1836 — январь 1837. М., 1991. С. 454, 475; Записка об Артемии Волынском // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских (далее — ЧОИДР). 1858. Кн. 2. Отд. 5. С. 135-170.
(обратно)3
См.: Материалы для биографии кабинет-министра Анны Иоанновны Артемия Волынского // ЧОИДР. 1862. Кн. 4. Смесь. С. 105—134; Шесть писем А. П. Волынского к Елизавете Петровне. 1724—1725 // Русский архив (далее — РА). 1865. С. 337—344; Чистович И. А. Дело архимандрита казанского Спасского монастыря Ионы Салникеева из первой половины XVIII в. // ЧОИДР. 1868. Кн. 3. Смесь. С. 1-125; Из переписки А. П. Волынского // Памятники новой русской истории. СПб., 1873. Т. 2. С. 195—249; Материалы для биографии А. П. Волынского // Старина и новизна. 1903. Кн. 6. С. 243—292; Из времен аннинских: Переписка А. П. Волынского с Бироном // РА. 1906. № 3. С. 329—333.
(обратно)4
Соловьев С. М. Сочинения: В 18 кн. Кн. 10. М., 1993. С.653.
(обратно)5
Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. Т. 4. М., 1989. С. 233-234.
(обратно)6
См.: Шишкин И. Артемий Петрович Волынский // Отечественные записки. 1860. № 5. С. 89—118; № 6. С. 537- 606; Герман Э. Жизнь Волынского, его заговор и смерть // РА. 1866. № 7. С. 1351-1373; Корсаков Д. А. Артемий Петрович Волынский: Биографический очерк // Древняя и новая Россия (далее — ДиНР). 1876. № 1. С. 84-96; 1877. № 1. С. 84-96; № 3. С. 289-302; № 5. С. 23-38; № 6. С. 98-114; № 7. С. 214-234; № 8. С. 277-295; № 11. С. 224-254; он же. Артемий Петрович Волынский и его «конфиденты» // Русская старина. 1885. № 10. С. 17—54; Шангин В. В Кабинет-министр Артемий Петрович Волынский: Биографический очерк. Калуга, 1891; Юдин П. Л. Из дел об А. П. Волынском // РА. 1899. № 3. С. 41-45; Филиппов А. Я. А. П. Волынский как кабинет-министр // Исторический вестник (далее — ИВ). 1901. № 5. С. 552—568; Готье Ю. В. «Проект о поправлении государственных дел» А. П. Волынского // Дела и дни. 1922. №3. С. 1-31.
(обратно)7
См.: Бушев П. П. Посольство Артемия Волынско го в Иран в 1715—1718 гг. (по русским архивам). М., 1978; Глушкова О. А. Русский дипломат А. П. Волынский // Дипломатический вестник. 1992. № 17—18. С. 69—71; Плиги- на М. А., Липгарт Н. Р. Из истории усадьбы Артемия Петровича Волынского на Рождественке // Московский Архив. Вып. 3. М., 2002. С. 49—64; Документальные материалы по делу А. П. Волынского и о других событиях в России 1738—1740 гг.: Переписка А. П. Волынского 1729—1730 гг. Дипломатическая переписка фон Зума, фон Мардефельда, де ла Шетарди 1738—1740 гг. // Литературные источники XVIII в. (1726-1762). М., 2003. Вып. 2. С. 731-811; Петрухинцев Н. Н. Дворцовые интриги 1730-х годов и «дело» А. П. Волынского // Вопросы истории (далее — ВИ). 2006. № 4. С. 30—47; Крючков Н. Н. «Злого умысла не имел»: А. П. Волынский о своей родословной // Родина. 2007. № 7. С. 71—73; он же. Артемий Петрович и Виллим Иванович // Там же. № 11. С. 72—74; он же. В фавор — через конюшни: Артемий Волынский на придворной службе // Там же. 2009. №2. С. 81-85.
(обратно)8
См.: Серов Д. О. Администрация Петра I. M., 2007. С. 32—33; Областные правители России. 1719—1739 гг. / Сост. М. В. Бабич, И. В. Бабич. М., 2008. С. 256-258.
(обратно)9
См.: История России / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. М., 2008. С. 226; Черникова Т. В. История России. XVII-XVIII вв. М., 2000. С 75; Ис тория России. XVIII—XIX вв. / Н. И. Павленко, Л. М. Ляшенко, В. А. Твардовская. М., 2003. С. 62; История России. Конец XVII — XVIII в. / В. И. Буганов, Н. Н. Зырянов, А. Н. Сахаров. М., 2010. С. 49.
(обратно)10
См.: Пикуль В. С. Слово и дело: Роман-хроника времен Анны Иоанновны: В 2 кн. Л., 1974—1975; Каждан Я. Ш. Артемий Петрович Волынский // Московский журнал. 2006. № 3. С. 57.
(обратно)11
См.: Российский государственный архив древних актов (далее — РГАДА). Ф. 6. Оп. 1. № 191-281; Ф. 248. Оп. 110. №215-259,266-268.
(обратно)12
См.: Там же. № 281. Ч. 1. Среди уцелевших документов имеется опись бумаг Волынского (Там же. Л. 345—396), дающая представление об объеме конфискованных материалов.
(обратно)13
Там же. Ф. 210. Оп. 18. № 67. Л. 1. См. также: Антонов А. В. Родословные росписи XVII в. М., 1996. С. 119; Крючков Н. Н. «Злого умысла не имел». С. 73.
(обратно)14
Подробно гипотезы о происхождении Д. М. Волынского см.: Кузьмин А. В. Родословная князя Дмитрия Михайловича Боброка-Волынского // Дмитрий Донской и эпоха возрождения Руси: События, памятники, традиции. Тула, 2001. С. 111—136; он же. Князь Дмитрий Михайлович Боб- рок и род Волынских в XIV — середине XV в. // Вестник Литературного института им. А. М. Горького. М., 2002. Вып. 1. С. 182—188. Составивший первую научную родословную роспись Волынских Г. А. Власьев сомневался в истинности их происхождения от брата Ольгерда. Исследователь допускал, что Боброк был, возможно, очень мелким, но владетельным князем, поскольку на Волыни находится местечко Бобрка (см.: Власьев Г. А. Род Волынских. СПб., 1911.С. 2—3).
(обратно)15
См.: Русский биографический словарь. Т. 4. (Бетанкур — Бякстер). СПб., 1908. С. 125—126; Кузьмин А. В. Родословная князя Дмитрия Михайловича Боброка-Волын ского. С. 120—121.
(обратно)16
См.: Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. М.; Л., 1950. С. 22; Кучкин В. А. До говорные грамоты московских князей XIV в: внешнеполитические договоры. М., 2003. С. 162—164.
(обратно)17
Полное собрание русских летописей. Т. 15. Вып. 1. Пг, 1922. С. 138.
(обратно)18
См.: Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. С. 36.
(обратно)19
См.: Там же. С. 59—60; Власьев Г.А. Указ. соч. С. 8; Веселовский С.Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969. С. 286.
(обратно)20
См.: Повести о житии Михаила Клопского. М.; Л., 1958.
(обратно)21
См.: Янин В.Л. К вопросу о происхождении Михаила Клопского // Археографический ежегодник за 1978 г. М., 1979. С. 52-61.
(обратно)22
Цит. по: Кузьмин А.В. Фамилии, потерявшие княжеский титул в XIV — первой трети XV в. Ч. 1. Всеволож-Заболоцкие, Волынские, Липятины // Герменевтика древнерусской литературы. Вып. 11. М., 2004. С. 779.
(обратно)23
См.: Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. С. 406,410; Ивина Л.И. Внутреннее освоение земель в России XVI в.: Историко-географическое исследование по материалам монастырей. Л., 1985. С. 65— 66; Кузьмин А.В. Родословная князя Дмитрия Михайловича Боброка-Волынского. С. 130.
(обратно)24
См.: Власьев Г.А. Указ. соч. С. 10.
(обратно)25
См.: Антонов Л.В. Боярская книга 1556/1557 г. // Русский дипломатарий. Вып. 10. М., 2004. С. 113.
(обратно)26
См.: Богатырев С.И. Ближняя дума в третьей чет верти XVI в. // Археографический ежегодник за 1993 г. М., 1995. С. 103; Шмидт С.О. Российское государство в середине XVI столетия. Царский архив и лицевые летописи времени Ивана Грозного. М., 1984. С. 69; Разрядная книга 1475— 1605 гг. М., 1982. Т. 2. Ч. 2. С. 282.
(обратно)27
См.: Документы Ливонской войны (подлинное дело производство приказов и воевод 1571—1580 гг.) // Памятники истории Восточной Европы XV—XVII вв. М., 1998. Т. 3. С. 88, 176-180.
(обратно)28
Новгородские летописи. СПб., 1879. С. 468—469.
(обратно)29
См.: Кобрин В.Б. Легенда и быль о новгородце Петре Волынце// В.И. 1969. № 3. С. 217-219.
(обратно)30
См.: Первое столетие сибирских городов. XVII век. Новосибирск, 1996. С. 38-41; Белокуров С А. Разрядные записи за Смутное время (7113—7121 гг.). М., 1907. С. 121 — 122.
(обратно)31
См.: Шватченко О.А. Вотчинное землевладение в России в конце XVI в. М., 2008. С. 109.
(обратно)32
См.: Станиславский А.Л. Труды по истории государева двора в России XVI-XVII вв. М., 2004. С. 207, 212, 217, 218, 231, 241, 247, 249, 250, 253, 258, 264; Павлов А.П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове (1584— 1605 гг.). СПб., 1992. С. 110-111, 114, 133.
(обратно)33
См.: Народное движение в эпоху Смуты начала XVII в. 1601-1608: Сборник документов. М., 2003. С. 134, 135, 138, 140, 143; Станиславский А.Л. Указ. соч. С. 294, 296, 299.
(обратно)34
См.: Акты служилых землевладельцев XV — начала XVII в. М., 2002. Т. 3. С. 69-70.
(обратно)35
См.: Тюменцев И.О. Смута в России в начале XVII столетия. Движение Лжедмитрия II. Волгоград, 1999. С. 543; Сборник князя Хилкова. СПб., 1879. С. 27.
(обратно)36
Акты времени междуцарствия (1610 г., 17 июля — 1613 г.). М., 1915. С. 7.
(обратно)37
Земельные пожалования в Московском государстве при царе Владиславе // ЧОИДР. 1911. Кн. 4. Отд. 1. С. 95.
(обратно)38
См.: Черкасова М.С. Крупная феодальная вотчина в России конца XVI — XVII в. (по архиву Троицесергиевой лавры). М, 2004. С. 77.
(обратно)39
См.: Любомиров П.Г. Очерки истории Нижегородского ополчения 1611-1613 гг. М, 1939. С. 194.
(обратно)40
См.: Шватченко О.А. Указ. соч. С. 109, 138.
(обратно)41
См.: Барсуков А.П. Докладная выписка 121 (1613) г. о вотчинах и поместьях // ЧОИДР. 1895. Кн. 1. Отд. 1. С. 9, 11, 20; Прибыльные дела сибирских воевод и таможенных голов XVII—XVIII в. Новосибирск, 2000. С. 347; Писцовые книги Рязанского края XVII в. М., 2008. Т. 1. Вып. 3. С. 126, 398.
(обратно)42
См.: Акты Московского государства. М., 1890. Т. 1. С. 140, 143, 145.
(обратно)43
См.: Книга сеунчей 1613—1619. Документы Разрядно го приказа о походе А. Лисовского (осень—зима 1615 г.) // Памятники истории Восточной Европы (Monumenta His- torica Res Gestas Europae Orientalis Illustrantia). M.; Варшава, 1995. Т. 1.С. 117-119.
(обратно)44
Цит. по: Соловьев С.М. Указ. соч. Кн. 5. М., 1990. С 130-131.
(обратно)45
См.: Власьев Г.А. Указ. соч. С. 69.
(обратно)46
См.: Записная книга Московского стола // Русская историческая библиотека. СПб., 1884. Т. 9. С. 396,475,486,489, 496,507,514.
(обратно)47
См.: Боярская книга 1658 г. М., 2006. С. 26-27, 115, 125, 149, 156, 180, 184.
(обратно)48
См.: РГАД А.Ф. 210. Оп. 1. № 11. Л. 68, 70, 77 об., 85 об., 92, 99 об., 102, 199; №12. Л. 49 об., 65, 111, 187.
(обратно)49
Перечень фамилий дворян, упоминаемых в «сказках», поданных в 1700 г. на Генеральный двор //Дворянство в России и его крепостные крестьяне XVII — первой половины XVIII в. М., 1989. С. 46.
(обратно)50
См.: РГАД А.Ф. 10. Оп. 6. № 177. Л. 60 об.
(обратно)51
См.: Корсаков Д.А. Артемий Петрович Волынский: Биографический очерк //ДиНР. 1876. № 1. С. 47—48; Се ров Д.О. Указ. соч. С. 33; Столетие Военного министерства. Отд. II. Императорская главная квартира. История государевой свиты. СПб., 1902. Кн. 1. С. 70.
(обратно)52
См.: Захаров А.В. Государев двор Петра I: публикация и исследование массовых источников в разрядном делопроизводстве. Челябинск, 2009. С. 322.
(обратно)53
См.: Энциклопедический словарь Брокгауз и Ефрон: Биографии: В 12 т. Т. 3. М., 1993. С. 451; Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 г.: Энциклопедия. М., 1994. Т. 1.С. 447; Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия: В 3 т. Т. 1. Осьмнадцатое столетие. Кн. 1. СПб.; М., 2003. С. 198.
(обратно)54
Российский государственный военно-исторический архив (далее — РГВИА). Ф. 2583. Оп. 1. № 29. Л. 13. Благодарим Д.О. Серова, указавшего на этот документ.
(обратно)55
См.: Там же. Ф. 490. Оп. 2. № 10. Л. 52-65 об.
(обратно)56
Цит. по: Записки служебные Симеона Куроша капитана швадрона драгунского рославского же // Смоленская шляхта. М., 2006. Т. 1. С. 472-475.
(обратно)57
См.: РГВИ А.Ф. 412. Оп. 1. № 39. Л. 23.
(обратно)58
См.: Письма и бумаги императора Петра Великого (далее — ПиБ). Т. 11. Вып. 1. М., 1962. С. 580; Водарский Я.Е. Загадки Прутского похода Петра I. M., 2004. С. 116.
(обратно)59
См.: Серов Д.О. Строители империи: Очерки государственной и криминальной деятельности сподвижников Петра I. Новосибирск, 1996. С. 54.
(обратно)60
См.: Пи Б.Т. 11. Вып. 2. М., 1964. С. 354; Водарский Я.Е. Указ. соч. С. 173; Артамонов В.А. Россия и Речь Посполитая после Полтавской победы (1709—1714 гг.). М., 1990. С. 95.
(обратно)61
Цит. по: Николаев Н.Г. Столетие фельдъегерского корпуса. СПб., 1896. С. 116.
(обратно)62
См.: Пи Б.Т. 11. Вып. 2. С. 126, 557-558; Артемий Петрович Волынский (материалы к его биографии) // Русская старина. 1872. № 6. С. 936-937.
(обратно)63
Цит. по: Соловьев С.М. Указ. соч. Кн. 8. М., 1993. С. 378.
(обратно)64
Из переписки А.П. Волынского. С. 206.
(обратно)65
РГАД А.Ф. 9. Отд. II. № 17. Л. 87-88.
(обратно)66
См.: Пи Б.Т. 13. М., 1992. Вып. 1. С. 455; Вып. 2. С. 257, 391.
(обратно)67
См.: Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительствующем Сенате в царствование Петра Великого. СПб., 1883. Т. 2. Кн. 2. С. 106, 111; Т. 4. Кн. 1. С. 444.
(обратно)68
См.: Материалы для биографии А.П. Волынского С. 243—244; Сборник Императорского Русского исторического общества (далее — Сб. РИО). Т.И. СПб., 1873. С. 287. Обе челобитные и резолюцию царя см.: РГАД А.Ф. 248. Оп. 12. № 646. Л. 96-96 об., 97-97 об., 102-104 об.
(обратно)69
См.: Ш-ий А. Двухсотлетие приступа к петровским военно-разведочным экспедициям в Среднюю Азию // Военно-исторический сборник. 1915. № 2. С. 23—33.
(обратно)70
Артемий Петрович Волынский (материалы к его биографии). С.942.
(обратно)71
См.: Белевы путешествия чрез Россию в разные асиятские земли а именно: в Испаган, в Пекин, в Дербент и Константинополь. СПб., 1776. Ч. 1. С. 65; Бушев Я.Я. Указ. соч. С. 77.
(обратно)72
См.: Бушев Я.Я. Указ. соч. С. 24-27.
(обратно)73
См.: Там же. С. 214—211 \ Полное собрание законов Российской империи (далее — ПСЗРИ). Т. 5. № 3097.
(обратно)74
См.: Белевы путешествия чрез Россию в разные асиятские земли. Ч. 1. С. 105.
(обратно)75
Цит. по: Бушев Я.Я. Указ. соч. С. 186-187, 255.
(обратно)76
См.: РГАД А.Ф. 9. Отд. II. № 35. Л. 231-232.
(обратно)77
Цит. по: Алиев Ф.М. Миссия посланника Русского государства А.П. Волынского в Азербайджан (1716—1718). Ба ку, 1979. С. 75.
(обратно)78
Цит. по: Бушев Я.Я. Указ. соч. С. 228, 256-259.
(обратно)79
Цит. по: Там же. С. 155.
(обратно)80
Цит. по: Там же. С. 155, 171.
(обратно)81
См.: РГАД А.Ф. 248. Оп. 110. № 266. Л. 389-398.
(обратно)82
Цит. по: Бушев Я.Я. Указ. соч. С. 187.
(обратно)83
Цит. по: Там же. С. 228.
(обратно)84
Жалоба петровского коменданта Андрея Ивинского на астраханского губернатора Артемия Волынского // Р.А. 1865. С. 983-986.
(обратно)85
См.: РГАД А.Ф. 9. Отд. II. № 35. Л. 237 об., 240- 240 об.
(обратно)86
Сенатский указ о назначении Волынского от 15 марта 1719 года см.: Опись документов и дел, хранящихся в сенатском архиве. Отд. 1. Т. 1. СПб., 1909. С. 50.
(обратно)87
См.: Корсаков Д.Л. Артемий Петрович Волынский: Биографический очерк. 1877. № 1. С. 88—89.
(обратно)88
Астраханская губерния при Петре Великом. Донесение в Сенат в 1719 году А.П. Волынского // Астраханский сборник, изданный Петровским обществом исследователей Астраханского края. Астрахань, 1896. Вып. 1. С. 238—241.
(обратно)89
РГАД А.Ф. 9. Отд. II. № 45. Л. 166-167.
(обратно)90
Там же. №40. Л. 330-331.
(обратно)91
См.: Корсаков Д.Л. Артемий Петрович Волынский: Биографический очерк // ДиНР. 1877. № 3. С. 290-291; РГАД А.Ф. 9. Отд. II. № 40. Л. 333-346; Ф. 5. Оп. 1. № 17. Л. 6-8.
(обратно)92
См.: РГАД А.Ф. 9. Отд. II. № 45. Л. 168-170.
(обратно)93
См.: Корсаков Д.Л. Артемий Петрович Волынский: Биографический очерк //ДиНР 1877. № 1. С. 92-93; ПСЗР И.Т. 6. № 3622, 3668.
(обратно)94
См.: РГАД А.Ф. 248. Оп. 3. № 91. Л. 131-132, 282- 282 об.
(обратно)95
Цит. по: Соловьев С М. Указ. соч. Кн. 8. С. 507.
(обратно)96
РГАД А.Ф. 9. Оп. 5. № 1. Ч. 5. Л. 24-25.
(обратно)97
Цит. по: Соловьев С.М. Указ. соч. Кн. 9. М., 1993. С. 360-361,363,617.
(обратно)98
Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом. М., 1872. Т. 2. С. 128.
(обратно)99
См.: Столетие Военного министерства. Отд. II. Кн. 1. С.109.
(обратно)100
РГАД А.Ф. 5. Оп. 1. № 17. Л. 11-12. См. также: Корсаков Д.А. Артемий Петрович Волынский: Биографический очерк //ДиНР 1877. № 1. С. 94; Соловьев С.М. Указ. соч. Кн. 9. С. 360.
(обратно)101
См.: РГАД А.Ф. 5. Оп. 1. № 17. Л. 21, 22 об.
(обратно)102
Там же. Ф. 9. Отд. II. № 54. Л. 640—642 (доношение от 15 августа 1721 года).
(обратно)103
Там же. Л. 625 об.
(обратно)104
Цит. по: Гаджиев В.Г. Сочинение И. Гербера «Описание стран и народов между Астраханью и рекою Курой находящихся» как исторический источник по истории народов Кавказа. М., 1979. С. 230-234.
(обратно)105
См.: Там же. С. 234—235; Мамедова Г.Н. Русские консулы об Азербайджане (20—60-е гг. XVIII в.). Баку, 1989. С. 19.
(обратно)106
См.: РГАД А.Ф. 9. Отд. II. № 54. Л. 682.
(обратно)107
Там же. Л. 645-646 об.
(обратно)108
Там же. Л. 706.
(обратно)109
См.: Там же. Л. 661—662; Мамедова Г.Н. Указ. соч. С. 31,33.
(обратно)110
См.: Lockhart L. The Fall of Safavi dynasty and the Afghan occupation of Persia. Cambridge, 1958. P. 216.
(обратно)111
РГАД А.Ф. 9. Отд. I. № 30. Л. 404.
(обратно)112
Цит. по: Корсаков Д.А. Артемий Петрович Волынский: Биографический очерк//ДиНР. 1877. № 3. С. 294.
(обратно)113
См.: РГАД А.Ф. 9. Отд. II. № 54. Л. 656-659; Ф. 248. Оп. 7. №380. Л. 430-431.
(обратно)114
Там же. Ф. 9. Отд. II. № 54. Л. 640-642. См. также: Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 9. С. 361-362.
(обратно)115
См.: РГАД А.Ф. 248. Оп. 3. № 94. Л. 95-97.
(обратно)116
Там же. Ф. 9. Отд. II. № 54. Л. 664-666. См. также: Соловьев С.М. Указ. соч. Кн. 9. С. 365.
(обратно)117
См.: Сотовов Н.Л. Северный Кавказ в русско-иранских и русско-турецких отношениях в XVIII в. М., 1991. С. 42—43; Рахаев Ж. Я. Политика России на Северном Кавказе в первой четверти XVIII в.: Автореф. дисс. канд. ист. на ук. Нальчик, 2008. С. 23-24.
(обратно)118
См.: Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. 9. С. 364; РГАД А.Ф. 5. Оп. 1.№17.Л. 35.
(обратно)119
См.: РГАД А.Ф. 9. Отд. II. № 59. Л. 430-431.
(обратно)120
Цит. по: Семевский М.И. Царица Катерина Алексеевна, Анна и Биллем Монс. 1692—1724: Очерк из русской истории XVIII в. СПб., 1884. С. 300.
(обратно)121
Неистовый реформатор / Иоганн Фоккеродт. Фридрих Берхгольц. М., 2000. С. 383.
(обратно)122
См.: РГАД А.Ф. 9. Отд. II. № 59. Л. 442.
(обратно)123
См.: Юдин П.Л. Указ. соч. С. 41-45.
(обратно)124
См.: Барсов Н.И. К биографии А.П. Волынского // ДиНР. 1877. № 5. С. 91—93; Зайцев И.В. Западное христианство на восточном рубеже Российской империи в XVIII— XIX вв. // Восточный архив. 2002. № 8-9. С. 92.
(обратно)125
См.: Астраханские губернаторы: Историко-краеведческие очерки. Астрахань, 1997. С. 28.
(обратно)126
См.: История Астраханского края. Астрахань, 2000 // .
(обратно)127
См.: РГАДА. Ф. 9. Оп. 1. № 15. Л. 35 об.
(обратно)128
Цит. по: Петр Великий. М, 1993. С. 134.
(обратно)129
РГАДА. Ф. 9. Отд. II. № 60. Л. 373.
(обратно)130
См.: Там же. № 59. Л. 451-452 об.
(обратно)131
РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 276. Ч. 2. Л. 80-87. См. также: Соловьев С.М. Указ. соч. Кн. 10. С. 246—247.
(обратно)132
См.: Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 г.: Энциклопедия. Т. 1. С. 447.
(обратно)133
Цит. по: Голъденберг Л.А. Федор Иванович Соймонов (1692-1780). М, 1966. С. 42-43.
(обратно)134
РГАДА. Ф. 5. Оп. 1. № 32. Л. 1.
(обратно)135
Там же. Ф. 9. Отд. II. № 62. Л. 656 (донесение Волынского от 30 марта 1723 года).
(обратно)136
См.: Там же. Оп. 5. № 7 а. Л. 86-86 об.
(обратно)137
См.: Шереметев П.С. Владимир Петрович Шереметев. М, 1913. Т. 1. С. 347; РГАДА. Ф. 9. Отд. И. № 72. Л. 640- 640 об.
(обратно)138
См.: РГАДА. Ф- 9. Отд. I. № 30. Л. 261-263; Кистенев В.В. Создание казанской верфи и астраханского порта в Среднем и Нижнем Поволжье в первой четверти XVIII в. // Вестник Самарского университета. Гуманитарная серия. 2007. №5. С. 112-113.
(обратно)139
См.: Приказы и инструкции императора Петра Великого генералу Матюшкину // Русский вестник. 1868. № 4. С. 594; РГАДА. Ф. 9. Оп. 1. № 15. Л. 130-130 об.
(обратно)140
См.: РГАДА. Ф. 9. Отд. II. № 63. Л. 397-398.
(обратно)141
См.: Юдин Я.Л. Указ. соч. С. 47.
(обратно)142
РГАДА. Ф. 5. Оп. I. № 17. Л. 84.
(обратно)143
Там же. Ф. 9. Отд. I. № 30. Л. 408.
(обратно)144
Там же. Отд. II. № 64. Л. 329-330 об., 331-333.
(обратно)145
Русские повести первой трети XVIII в. М; Л., 1965. С.243, 246.
(обратно)146
См.: Марасинова Е.Н. Эпистолярные источники о социальной психологии российского дворянства // История СССР. 1990. № 4. С. 167—168.; она же. Социальная психология российского дворянства (по материалам эпистолярных источников 2-й половины XVIII в.) // Сословия и государственная власть в России: XV — середина XIX в. М, 1994. Ч. 1. С. 322.
(обратно)147
Из переписки А.П. Волынского. С. 196—197. Документ не датирован и опубликован по копии из собрания конфискованных при аресте бумаг А.П. Волынского (РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 276. Ч. 2. Л. 212-213).
(обратно)148
См.: РГАДА. Ф. 5. Оп. 1. № 17. Л. 102, 115; Ф. 9. Отд. II. № 62. Л. 735, 739-741, 765-767.
(обратно)149
Соловьев С.М. Указ. соч. Кн. 9. С. 612.
(обратно)150
Цит. по: Там же. С. 479-480.
(обратно)151
См.: Корсаков Д.А. Артемий Петрович Волынский: Биографический очерк//ДиНР. 1877. № 3. С. 301.
(обратно)152
Цит. по: Анисимов Е.В. Дыба и кнут: Политический сыск и русское общество в XVIII в. М., 1999. С. 344.
(обратно)153
Цит. по: Артемий Петрович Волынский (материалы к его биографии). С. 951.
(обратно)154
РГАДА. Ф. 9. Оп. 5. № 7 а. Л. 91—93 (письмо от 26 мая 1724 года).
(обратно)155
См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 3. № 94. Л. 23 об.-24.
(обратно)156
Цит. по: Семевский М.И. Указ. соч. С. 302.
(обратно)157
См.: РГВИА. Ф. 20. Оп. 1/47. № 3. Л. 142-143, 196- 196 об.
(обратно)158
Цит. по: Соловьев С.М. Указ. соч. Кн. 9. С. 346—349.
(обратно)159
См.: РГАДА. Ф. 9. Отд. II. № 59. Л. 428.
(обратно)160
Смирнов П. Путевые заметки по калмыцким степям Астраханской губернии. Элиста, 1999. С. 86—87.
(обратно)161
См.: Соловьев С.М. Указ. соч. Кн. 9. С. 349—350.
(обратно)162
Цит. по: Курапов А.А. Лама в политике (Шакур-лама и политические процессы в Калмыцком ханстве в 1719— 1735 гг.) // Востоковедные исследования в Калмыкии. Элис та, 2006. С. 14, 15.
(обратно)163
Цит. по: Соловьев С.М. Указ. соч. Кн. 9. С. 351, 353.
(обратно)164
См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 31. № 1936. Л. 66-66 об; Цюрюмов А.В. Калмыцкое ханство в 1724—1741 гг.: хроники династийных междоусобиц. Элиста, 2005. С. 52—58.
(обратно)165
Бакунин В.М. Описание калмыцких народов, а особливо из них торгоутского, и поступков их ханов и владельцев. Элиста, 1995. С. 49.
(обратно)166
РГАДА. Ф. 9. Отд. II. № 71. Л. 580 об., 596-599, 600- 601; Бакунин В.М. Указ. соч. С. 50.
(обратно)167
См.: Сб. РИО. Т. 56. СПб., 1887. С. 197.
(обратно)168
Цит. по: Цюрюмов А.В. Указ. соч. С. 67—68.
(обратно)169
Шесть писем А.П. Волынского к цесаревне Елизавете Петровне. С. 338—339.
(обратно)170
Там же. С. 340-341.
(обратно)171
Из переписки А.П. Волынского. С. 197—201. Ведомость см.: РГАДА. Ф. 9. Отд. II. № 71. Л. 640-640 об.
(обратно)172
См.: РГАДА. Ф. 9. Отд. II. № 71. Л. 600.
(обратно)173
Цит. по: Данков М.Ю. Неистовый гвардеец Петра I // Петровское время в лицах. 2004. СПб., 2004. С. 127.
(обратно)174
Из переписки А.П. Волынского. С. 203.
(обратно)175
Там же. С. 204-205.
(обратно)176
Опись высочайшим указам и повелениям, хранящимся в Санкт-Петербургском Сенатском архиве. СПб., 1875. Т. 2. № 1663; Соловьев С.М. Указ. соч. Кн. 9. С. 599-600.
(обратно)177
См.: Сборник РИО. Т. 56. С. 181-182.
(обратно)178
См.: Опись высочайшим указам и повелениям… Т. 2. № 1850.
(обратно)179
См.: Повседневные записки делам князя А.Д. Меншикова. 1716—1720, 1726—1727 гг. // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII— XX вв. Вып. X. М., 2000. С. 435, 439, 441, 445, 462, 465, 476, 482, 488, 492, 495, 498, 501, 506, 510-517, 521, 522, 528, 533.
(обратно)180
См.: Там же. С. 483.
(обратно)181
См.: Опись высочайшим указам и повелениям… Т. 2. № 2005, 2083; Сб. РИО. Т. 56. С. 365-366, 573-574; Т. 63. СПб., 1888.С. 90-91.
(обратно)182
См.: Повседневные записки делам князя А.Д. Меншикова. С. 483, 504.
(обратно)183
См.: Там же. С. 542-544, 546-550, 552-555, 561 — 563.
(обратно)184
См.: Сборник РИО. Т. 94. СПб., 1894. С. 272.
(обратно)185
См.: Там же. Т. 69. СПб., 1889. С. 3.
(обратно)186
См.: Петров П. Цесаревна Анна Петровна // Сборник исторических материалов, относящихся к новой русской истории XVIII и XIX вв. СПб., 1873. С. 118; Сборник РИО. Т. 75. СПб., 1891. С. 65.
(обратно)187
См.: Материалы для биографии кабинет-министра Анны Иоанновны Артемия Волынского. С. 134.
(обратно)188
См.: Россия и Испания: Документы и материалы. М., 1991. Т. 1. С. 140; Сборник РИО. Т. 75. С. 257; Т. 66. С. 44.
(обратно)189
См.: Сборник РИО. Т. 79. СПб., 1891. С. 204, 271, 350.
(обратно)190
См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 13. N gt; 702. Л. 207.
(обратно)191
Из переписки А.П. Волынского. С. 207—208.
(обратно)192
Переписка А.П. Волынского 1730—1738 гг. // Па мятники новой русской истории. СПб., 1872. Т. 2. Отд. 2. С. 209-233.
(обратно)193
См.: Троицкий С.М. О дележе феодальной ренты между помещиками и государством // Вопросы социально-экономической истории и источниковедения периода феодализма в России. М, 1961. С. 130.
(обратно)194
Татищев В.Н. История Российская. М; Л., 1962. Т. 1. С. 87.
(обратно)195
Марасинова Е.Н. К истории политического языка XVIII в. // Отечественная история. 2005. № 5. С. 10; она же. Вольность российского дворянства (манифест Петра III и сословное законодательство Екатерины II // Там же. 2007. № 4. С. 30.
(обратно)196
Из переписки А.П. Волынского. С. 213—214.
(обратно)197
Там же. С. 215-216.
(обратно)198
Цит. по: Чистович И.Л. Указ. соч. С. 71—102.
(обратно)199
Цит. по: Там же. С. 34.
(обратно)200
Из переписки А.П. Волынского. С. 236—237; Чистович И.Л. Указ. соч. С. 50—51.
(обратно)201
См.: РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 272. Ч. 1. Л. 124-125.
(обратно)202
Материалы для биографии кабинет-министра Анны Иоанновны Артемия Волынского. С. 124—126.
(обратно)203
Цит по: Чистович И. А. Указ. соч. С. 43.
(обратно)204
Опись высочайшим указам и повелениям… Т. 2. №3919.
(обратно)205
РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 272. Ч. 2. Л. 95-100.
(обратно)206
См.: Там же. Л. 101—102, 103, 106—107. О напрасном обвинении Волынский писал в «Оправдании», составлен ном одновременно с запиской о своем участии в Персидском походе (см.: Там же. Л. 88—89).
(обратно)207
См.: Там же. Ф. 248. Оп. 5. № 238. Л. 1-4.
(обратно)208
См.: Там же. Л. 31-38, 110 об.
(обратно)209
Опись высочайшим указам и повелениям… Т. 2. № 4050.
(обратно)210
Цит. по: Корсаков Д.Л. Артемий Петрович Волынский: Биографический очерк//ДиНР. 1877. № 6. С. 99.
(обратно)211
См.: Сборник РИО. Т. 104. Юрьев, 1898. С. 15, 85, 106.
(обратно)212
См.: Сборник РИО. Т. 104. Юрьев, 1898. С. 294, 429, 461; Описание документов и дел, хранящихся в Сенатском архиве. Отд. I. СПб., 1910. Т. 2. № 1151.
(обратно)213
См.: Описание документов и дел, хранящихся в Сенатском архиве. Отд. I. Т. 2. № 1559.
(обратно)214
См.: Крючков Н.Н. Следственная комиссия А.П. Волынского «по делу о беспорядках и злоупотреблениях по таможенным и кабацким сборам в Соликамской провинции» 1731 — 1733 гг. // Власть и общество в России: К 35-летию кафедры философии и истории: Материалы Всероссийской научной конференции 12—13 апреля 2008 г. Рязань, 2008. Т. 1.С. 332-333.
(обратно)215
См.: Опись высочайшим указам и повелениям… Т. 2. №4147; Описание документов и дел, хранящихся в Сенатском архиве. Отд. I. Т. 2. № 996, 997, 999.
(обратно)216
Подсчеты наши по: Высочайшие повеления по придворному ведомству (1723—1730 гг.). СПб., 1886. С. 41—43; 89-94; РГАДА. Ф. 14. Оп. 1. № 55. Ч. 1. Л. 89.
(обратно)217
См.: Сборник РИО. Т. 104. С. 272; Опись высочайшим указам и повелениям… Т. 2. № 4258; Крючков Н.Н. В фавор — через конюшни. С. 82.
(обратно)218
Материалы для биографии А.П. Волынского. С. 245— 247.
(обратно)219
Там же. С. 247-251.
(обратно)220
Там же. С. 251—261; Опись высочайшим указам и по велениям… Т. 2. № 4562.
(обратно)221
Сборник РИО. Т. 106. СПб., 1899. С. 123-126.
(обратно)222
См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. № 1086. Л. 30-34, 36-40, 48-49, 50-78.
(обратно)223
Там же. Ф. 1239. Оп. 3. № 34911. Л. 1.
(обратно)224
Из времен аннинских. С. 329—330; РГАДА. Ф.П. Оп. 1. № 331. Л. 4-5, 6-7 об., 8-8 об., 9-9 об., 17-17 об., 18-18 об., 19-20.
(обратно)225
Образцы таких «экстрактов» см.: РГАДА. Ф. 11. Оп. 1. №331. Л. 14-16, 17-17 об.
(обратно)226
Там же. Л. 22-23, 24-25 об.
(обратно)227
Из времен аннинских. С. 332—333.
(обратно)228
См.: РГАДА. Ф. 11. Оп. 1. № 331. Л. 26-26 об.; Из переписки графа С.А. Салтыкова 1733 г.//ЧОИДР. 1862. Кн. 4. Смесь. С. 135.
(обратно)229
См.: РГАДА. Ф. 9. Оп. 5. № 31. Л. 2-2 об., 303.
(обратно)230
См.: Сборник РИО. Т. 106. С. 320, 391; РГАДА. Ф. 11. Оп. 1.№331.Л. 35.
(обратно)231
См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. № 1086. Л. 85-89, 117- 122, 123-133, 134-138.
(обратно)232
См.: РГВИА. Ф. 20. Оп. 1/47. № 49. Ч. 1. Л. 33, 83.
(обратно)233
См.: Там же. Л. 143.
(обратно)234
См.: Атака Гданска графом Минихом 1734 года: Сборник реляций графа Миниха. М., 1888. С. 10, 12.
(обратно)235
Цит по: Соловьев С.М. Указ. соч. Кн. 10. С. 652.
(обратно)236
См.: ПСЗРИ. Т. 9. № 6350; Т. 44. Ч. 2. С. 26-33.
(обратно)237
См.: РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. № 175. Л. 746-746 об., 749-749 об.
(обратно)238
См.: Сборник РИО. Т. 117. Юрьев, 1904. С. 621; Зезюлинский Н. Историческое исследование о коннозаводском деле в России. СПб., 1893. Вып. 2. С. 56—57.
(обратно)239
См.: Зезюлинский Н. Указ. соч. С. 55—57, 90.
(обратно)240
См.: Сборник РИО. Т. 114. Юрьев, 1902. С. 151, 592; Т. 117. С. 302-303,367.
(обратно)241
РГАДА. Ф. 11. Оп. 1. № 332. Л. 9-11.
(обратно)242
См.: Там же. Ф. 1239. Оп. 3. № 34200. Л. 4-5 об.; Зезюлинский Н. Указ. соч. С. 67, 78—79.
(обратно)243
См.: Материалы для биографии А.П. Волынского. С. 275—277. Два опубликованных доклада Волынского не имеют даты, но находятся в делах 1734 года (см.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. № 1086. Л. 159-166 об.).
(обратно)244
См.: Сборник РИО. Т. Ш.Юрьев, 1901. С. 85-86; Зезюлинский Н. Указ. соч. С. 98—105.
(обратно)245
Цит. по: Зезюлинский Н. Указ. соч. С. 105—106.
(обратно)246
См.: Сборник РИО. Т. 114. С. 300.
(обратно)247
См.: Там же. Т. 111. С. 75, 109, 176, 178.
(обратно)248
См.: Там же. С. 41-42.
(обратно)249
См.: Там же. С. 115-116.
(обратно)250
См.: Там же. С. 444-445.
(обратно)251
См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. № 164, 166, 170, 171, 174, 175.
(обратно)252
См.: Сб. РИО. Т. 111. С. 29, 127.
(обратно)253
См.: Шишкин И. Указ. соч. № 6. С. 593-605; Корсаков Д.А. Артемий Петрович Волынский: Биографический очерк//ДиНР. 1877. № 6. С. 104-107.
(обратно)254
См.: Сборник РИО. Т. 114. С. 52-53. Копию патента, выданного Волынскому 2 сентября 1736 года, см.: РГАДА. Ф. 154. Оп. 2. №583. Л. 4-5.
(обратно)255
См.: Журнал придворной конторы на знатные при дворе ее императорского величества оказии 1736 году. СПб., 1736. С. 14.
(обратно)256
См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. № 1086. Л. 311 об.
(обратно)257
См.: Сборник РИО. Т. 120. Юрьев, 1905. С. 406-407.
(обратно)258
См.: РГАДА. Ф- 6. Оп. 1. № 281. Ч. 2. Л. 325-325 а.
(обратно)259
См.: Кутепов Н.И. Царская и императорская охота на Руси. Конец XVII и XVIII в. СПб., 1902. С. 45,75-76; РГАДА. Ф.248. Оп. 17. №1086. Л. 375.
(обратно)260
См.: Кутепов Н.И. Указ. соч. С. 58-59, 241-242; Примечания. С. 201, 205—214.
(обратно)261
Опись придворного охотничьего хозяйства от 4 сентября 1740 года см.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. № 1086. Л. 397- 407.
(обратно)262
См.: Сборник РИО. Т. 111. С. 29, 85, 127.
(обратно)263
См.: Там же. Т. 117. С. 9-10.
(обратно)264
Материалы для биографии А.П. Волынского. С. 278— 279.
(обратно)265
См.: Сборник РИО. Т. 117. С. 401-402.
(обратно)266
См.: Кочубинский Л.Л. Граф Андрей Иванович Остерман и раздел Турции. Из истории Восточного вопроса. Вой на пяти лет (1735-1739). Одесса, 1899. С. 212-218, 298-301, 305—309, 336—341; Шульман Е.Б. Вопрос о Молдавии и Валахии на Немировском конгрессе // Россия и Юго-Восточная Европа. Кишинев, 1984. С. 28—32; Уляницкий В.А. Из документов Немировского конгресса//ЧОИ Д.Р. 1894. Кн. 2. Смесь. С. 1-22.
(обратно)267
См.: Еропкина В.В. Один из птенцов Петра Велико го // И.В. 1903. № 5. С. 574; Рындин И. Ж. Генеалогия рязанских дворян Еропкиных // Материалы и исследования по рязанскому краеведению. Т. 11. Рязань, 2006. С. 98.
(обратно)268
См.: Иванова-Веэн Л.И. Новые данные к биографии архитектора П.М. Еропкина // Петровское время в лицах. 2007. СПб., 2007. С. 104.
(обратно)269
См.: РГАДА. Ф. 11. Оп. 1.№331.Л. 30.
(обратно)270
См.: Там же. Ф. 6. Оп. 1. № 211. Ч. 5. Л. 290.
(обратно)271
Там же. № 276. Ч. 2. Л. 80-81,82-83 об., 84-85,86-87.
(обратно)272
См.: Там же. Л. 354-354 об.
(обратно)273
Там же. Л. 88-91.
(обратно)274
См.: Тихонов Ю.А. Мир вещей в московских и петербургских домах сановного дворянства (по новым источникам первой половины XVIII в.). М., 2008. С. 200—201.
(обратно)275
См.: РГАДА. Ф. 19. Оп. 1. № 182. Ч. 1. Л. 64.
(обратно)276
См.: Там же. Ф. 6. Оп. 1. № 271. Л. 81об.; Ф. 1239. Оп. 3. №30693. Л. 103-103 об.
(обратно)277
См.: Там же. Ф. 11. Оп. 1. № 332. Л. 3-4.
(обратно)278
См.: Там же. Ф. 1209. Дела старых лет. Книги по Ярославлю. № 7857. Л. 577об.-579 об.
(обратно)279
Цит. по: Довнар-Запольский М.В. Материалы для истории вотчинного управления в России. Переписка Артемия Волынского с прикащиками (1735 г.) // Университетские известия. 1909. №7. С. 213.
(обратно)280
Цит. по: Там же. С. 213, 214, 218.
(обратно)281
Цит. по: Там же. С. 216, 219, 221.
(обратно)282
Цит. по: Корсаков Д.А. Артемий Петрович Волынский: Биографический очерк//ДиНР. 1877. № 4. С. 377-385.
(обратно)283
См.: РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. № 34208. Л. 51-61, 116; Ф.6. Оп. 1.№276.Ч.2.Л. 136.
(обратно)284
См.: Довнар-Запольский М.В. Указ соч. С. 215; РГАДА Ф.6. Оп. 1. №276.4. 2. Л. 118.
(обратно)285
См.: РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 250. Л. 2; № 238. Л. 12, 104-105.
(обратно)286
См.: Там же. № 276. Ч. 1. Л. 56-65.
(обратно)287
См.: Там же. № 228. Л. 65—66; Тихонов Ю.А. Указ соч. С. 200.
(обратно)288
См.: РГАДА. Ф- 6. Оп. 1. № 214. Л. 6; № 277. Ч. 1. Л. 14 об.
(обратно)289
См.: Там же. № 228. Л. 100; № 257. Л. 1075-1084.
(обратно)290
См.: Иванова-Веэн Л.И. Об открытии московских па лат А.П. Волынского // Петровское время в лицах. 2004. С. 140-144.
(обратно)291
См.: Плигина М. А., Липгарт Н.Р. Указ. соч. С. 53, 55.
(обратно)292
См.: Станюкович-Денисова Е.Ю. Дом графа С.А. Салтыкова на Крюковом канале работы архитектора Еропкина// Петровское время в лицах. 2004. С. 209—213.
(обратно)293
См.: РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 276. Ч. 1. Л. 27-27 об., 30- 30 об.
(обратно)294
См.: Государственная Третьяковская галерея: Каталог собрания. Живопись XVIII в. М., 1998. С. 250-251.
(обратно)295
См.: Марченко Н. П., Зеленой К.В. Лица и судьбы. Портреты XVIII — начала XX в. собрания Национального художественного музея Республики Беларусь. Минск, 2002. С. 12-13.
(обратно)296
См.: РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 276. Ч. 2. Л. 168.
(обратно)297
Подробное изложение содержания описи см.: Тихонов Ю.А. Указ. соч. С. 182-199.
(обратно)298
Переписку С.А. Салтыкова и А.П. Волынского по этому делу см.: РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. № 34946. Л. 25-34.
(обратно)299
См.: Там же. Ф. 6. Оп. 1.№271.Л. 130-152.
(обратно)300
См.: Там же. № 211. Ч. 3. Л. 140 об.
(обратно)301
См.: Там же. № 276. Ч. 2. Л. 100.
(обратно)302
См.: Луппов С.П. Библиотека Артемия Волынского // Памятники культуры. Новые открытия: Ежегодник. 1978 г. Л., 1979. С. 119—128; он же. Книга в России в послепетровское время. 1725-1740. Л., 1976. С. 169-180.
(обратно)303
Подлинный патент хранится в деле о родословной Волынского (РГАДА. Ф- 6. Оп. 1. № 278).
(обратно)304
См.: Там же. Ф. 286. Оп. 1. № 211. Л. 716 и далее.
(обратно)305
См.: Сборник РИО. Т. 120. С. 287, 293.
(обратно)306
Там же. Т. 80. СПб., 1892. С. 289.
(обратно)307
См.: Сборник РИО. Т. 130. Юрьев, 1909. С. 296-297,344.
(обратно)308
См.: РГАДА. Ф- 177. Оп. 1. 1739. № 7. Л. 1-7.
(обратно)309
См.: Филиппов А.Н. Указ. соч. С. 557.
(обратно)310
См.: Сборник РИО. Т. 130. С. 105, 155, 392, 476.
(обратно)311
См.: ПСЗРИ. Т. 10. № 7674.
(обратно)312
См.: Там же. №7889..
(обратно)313
См.: Там же. №7928, 7954.
(обратно)314
См.: Зезюлинский Н. Указ. соч. Вып. 2. С. 102-105, 111-114; Сборник РИО. Т. 111. С. 358.
(обратно)315
См.: Крючков Н.Н. В фавор — через конюшни. С. 84.
(обратно)316
Империя после Петра. 1725—1765 /Яков Шаховской. Василий Нащокин. Иван Неплюев. М., 1998. С. 246.
(обратно)317
Сборник РИО. Т. 130. С. 99.
(обратно)318
См.: ПСЗРИ. Т. 10. № 7581, 7989, 7990, 7992, 7993, 7994.
(обратно)319
См.: Сборник РИО. Т. 130. С. 80.
(обратно)320
См.: ПСЗРИ. Т. 10. № 7828.
(обратно)321
См.: Материалы для биографии А.П. Волынского. С. 280-284; ПСЗРИ. Т. 10. № 7147, 7188, 7561, 7575; Т. 11. №8141.
(обратно)322
Цит. по: Кутепов Н.И. Указ. соч. С. 76—77; Примечания. С. 39.
(обратно)323
Сборник РИО. Т. 130. С. 583, 630.
(обратно)324
Там же. Т. 124. Юрьев, 1906. С. 284, 477.
(обратно)325
См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 269. Ч. 8. Л. 44-44 об.
(обратно)326
Цит. по: Михневич В.О. Две невесты Петра II // И.В. 1898. №2. С. 597.
(обратно)327
См.: Черникова Т.В. «Государево слово и дело» во времена Анны Иоанновны//История СССР. 1989. № 5. С. 157— 158.
(обратно)328
Сборник РИО. Т. 124. С. 216, 382; Т. 130. С. 106.
(обратно)329
ПСЗРИ. Т. 10. №7907.
(обратно)330
См.: Сборник РИО. Т. 130. С. XXXV-XXXVII. На заседаниях Кабинета А.П. Волынский часто отдавал приказы совместно с А.М. Черкасским (см.: Там же. С. 140, 209, 211, 212, 226, 247, 250, 251, 263, 288, 318, 364, 403, 465, 472, 483, 500, 520, 521, 543, 554, 595, 620).
(обратно)331
Там же. Т. 126. Юрьев, 1907. С. 139.
(обратно)332
Там же. Т. 130. С. 2.
(обратно)333
Там же. Т. 124. С. 495.
(обратно)334
Там же. Т. 130. С. 269, 288.
(обратно)335
См.: Le Donne J. Ruling families in the Russian political order 1689—1725 // Cahiers du monde russe et sovietique. 1987. V. 28. № 3-4. P. 264-265, 274-275, 284, 292; он же. Absolutism and ruling class. The formation of the Russian political order. 1700-1825. N.Y., 1991.
(обратно)336
См.: Dixon S. The Modernisation of Russia 1676—1825. Cambridge, 1999. P. 137.
(обратно)337
Meehan-Waters B. Autocracy and Aristocracy: The Rus sian Service Elite of 1730. New-Brunswick, 1982. P. 159.
(обратно)338
См.: Orlovsky D. Political Clientelism in Russia: the His torical Perspective // Leadership Selection and Patron-Client Re lations in the USSR and Yugoslavia: Selected papers from the Second World Congress for Soviet and East-Europian Studies. L., 1983. P. 174—199; Патронат и клиентела в истории России: Материалы «круглого стола» // Источник. Историк. История: Сборник научных работ. Вып. 4. СПб., 2004. С. 255—287; Бекасова Л.В. Семья, родство и покровительство в России XVIII в: «домовое подданство» графа П.А. Румянцева: Автореф. дисс. канд. ист. наук. СПб., 2006.
(обратно)339
См.: БаггерХ. Реформы Петра Великого: Обзор исследований. М., 1985. С. 114; Meehan-Waters B. Op. cit. P. 61, 86.
(обратно)340
См.: РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. № 34946. Л. 15, 21, 42.
(обратно)341
См.: Опись высочайшим указам и повелениям… Т. 2. №5375,7221.
(обратно)342
См.: Там же. №6131.
(обратно)343
См.: РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. № 211. Л. 755.
(обратно)344
См.: Там же. Ф. 6. Оп. 1. № 211. Ч. 3. Л. 84 об.-85.
(обратно)345
См.: Сборник РИО. Т. 120. С. 376.
(обратно)346
См.: Опись высочайшим указам и повелениям… Т. 2. №5821,6629.
(обратно)347
См.: РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 262. Л. 30-30 об.
(обратно)348
См.: Там же. № 238. Л. 240-245 об.
(обратно)349
См.: Там же. № 215. Л. 56-58, 64-64 об.
(обратно)350
См.: Там же. № 250. Л. 2; № 238. Л. 11-13, 104-105, 136 об.-139, 248-249 об.
(обратно)351
См.: Там же. Ф. 6. Оп. 1. № 235. Л. 27 об.-28.
(обратно)352
См.: Там же. № 198. Л. 27; № 212. Л. 1-3.
(обратно)353
См.: Там же. № 216. Л. 83-84.
(обратно)354
См.: Там же. № 214. Л. 6 об.-7, 30 об.
(обратно)355
См.: Сборник РИО. Т. 126. С. 565; Т. 130. С. 138-139, 273, 372—373, 407; Опись высочайшим указам и повелениям… Т. 2. № 7357.
(обратно)356
РГАДА. Ф- 6. Оп. 1. № 276. Ч. 1. Л. 4, 6-7 об., 9.
(обратно)357
См.: Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в. М., 1962. С. 462; Kahan Л. The plow, the hammer and the knout. An economic history of eighteenth century Russia. Chicago, 1985. P. 110, 188.
(обратно)358
См.: Титлинов Б.В. Правительство императрицы Анны Иоанновны в его отношениях к делам православной церкви. Вильно, 1905. С.56, 64, 65, 188, 209, 231; Малышев М.Ю. Сословная политика правительства Анны Иоанновны (дво рянство, крестьянство, духовенство): Автореф. дисс. канд. ист. наук. Ижевск, 1997. С. 21.
(обратно)359
См.: Фаизова И.В. «Манифест о вольности» и служба дворянства в XVIII столетии. М., 1999. С. 57—74; ПСЗРИ. Т. 10. № 7503.
(обратно)360
См.: Романович-Славатинский А. Дворянство в России от начала XVIII в. до отмены крепостного права. СПб., 1870. С. 182-183,216,296,324.
(обратно)361
Цит. по: Литературные источники XVIII в. Вып. 2. С. 752.
(обратно)362
См.: Готье Ю.В. Указ. соч. С. 20.
(обратно)363
См.: Там же. С. 21.
(обратно)364
См.: РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 221. Л. 7.
(обратно)365
См.: Готье Ю.В. Указ. соч. С. 23—27; Петрухинцев Н.Н. Указ. соч. С. 38—41.
(обратно)366
См.: Петрухинцев Н.Н. Указ. соч. С. 40.
(обратно)367
См.: Новикова О.Э. Липсий в России первой половины XVIII в. // Философский век: Альманах. СПб., 1999. Вып. 10. С. 158; она же. Политика и этика в эпоху религиозных войн: Юст Липсий (1547-1606). М., 2005. С. 183-187, 193, 202.
(обратно)368
См.: Павлов-Сильванский Н.П. Суд над реформой Петра Великого в Верховном тайном совете // О минувшем. СПб., 1909. С. 7—9; О содержании в нынешнее мирное время армии и как оброчных крестьян в лучшее содержание привести // ЧОИДР 1897. Кн. 2. Смесь. С. 29—52; Нелипович С. Г Позиция Б. X. фон Мюнниха в дискуссии 1725 г. о сокращении армии и военного бюджета России // Военно-исторический журнал. 1990. № 8. С. 4—5.
(обратно)369
Готье Ю.В. История областного управления в России от Петра I до Екатерины II. М.; Л., 1941. Т. 2. С. 131.
(обратно)370
См.: Шмидт С.О. Проект П.И. Шувалова 1754 г. «О разных государственной пользы способах» // Исторический архив. 1962. № 6. С. 102.
(обратно)371
См.: Там же. С. 107-118.
(обратно)372
См.: Курукин И.В. Опыт административной истории России «эпохи дворцовых переворотов» // Архив русской истории. Вып. 8. М., 2007. С. 211, 218.
(обратно)373
Сборник РИО. Т. 130. С. 552-553.
(обратно)374
См.: Старикова Л.М. Театральная жизнь России в эпоху Анны Иоанновны: Документальная хроника. 1730— 1740. М., 1995. С. 672-678.
(обратно)375
См.: Успенский Б.А. Вокруг Тредиаковского: Труды по истории русского языка и русской культуры. М., 2008. С. 534-535.
(обратно)376
Империя после Петра. С. 258.
(обратно)377
Сочинения Тредьяковского. СПб., 1849. Т. 1. С. 242, 248.
(обратно)378
См.: Сборник РИО. Т. 138. Юрьев, 1912. С. 177.
(обратно)379
См.: РГАДА. Ф- 6. Оп. 1. № 210. Ч. 2. Л. 109.
(обратно)380
См.: Там же. № 196. Л. 1-6.
(обратно)381
Цит. по: Гольденберг Л.А. Каторжанин — сибирский губернатор: Жизнь и труды Ф.И. Соймонова. Магадан, 1979. С. 75.
(обратно)382
См.: Опись высочайшим указам и повелениям… Т. 2. № 6558,6626.
(обратно)383
См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 10. № 571. Л. 59 об., 75, 420- 421,533,536.
(обратно)384
См.: Петрухинцев Н.Н. Указ. соч. С. 31.
(обратно)385
Черновик указа см.: РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 210. Ч. 7. Л. 193 об.-194.
(обратно)386
Цит по: Петрухинцев Н.Н. Указ. соч. С. 32.
(обратно)387
См.: РГАДА. Ф- 248. Оп. 10. № 542. Л. 639-641, 699, 701-708.
(обратно)388
См.: Сборник РИО. Т. 126. С. 479-480.
(обратно)389
См.: Там же. Т. 130. С 138-139, 273.
(обратно)390
См.: Опись высочайшим указам и повелениям… Т. 2. №7187.
(обратно)391
См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 10. № 542. Л. 716-717, 903, 952-955; Сборник РИО. Т. 138. С. 125.
(обратно)392
См.: РГАДА. Ф- 248. Оп. 4. № 202. Л. 1-331.
(обратно)393
См.: Там же. Оп. 22. № 1507. Л. 39—45 об. За консультации приношу благодарность научному сотруднику Института истории и археологии Уральского отделения РАН М.А. Киселеву.
(обратно)394
См.: Там же. Л. 23 об., 37 об.
(обратно)395
Там же. Оп. 17. № 1136. Л. 131.
(обратно)396
ПСЗРИ. Т. 10. № 7600.
(обратно)397
РГАДА. Ф. 248. Оп. 22. № 1507. Л. 81-81 об.
(обратно)398
Сборник РИО. Т. 126. С. 127-129; РГАДА. Ф. 19. Оп. 1. № 77. Л. 44—46. «Мнение» не датировано, однако составлено до 9 февраля, когда произошло его обсуждение.
(обратно)399
Сборник РИО. Т. 126. С. 129-130; РГАДА. Ф. 19. Оп. 1. № 77. Л. 47-48; Ф. 271. Оп. 1. 1739. № 16. Л. 23-24.
(обратно)400
См.: ПСЗРИ. Т. 10. № 7766, 7767.
(обратно)401
Письмо М.Г. Головкина «милостивому патрону» Бирону от 11 марта 1739 года см.: Попов Н.А. В.Н. Татищев и его время. М, 1861. С. 202-203.
(обратно)402
См.: РГАДА. Ф. 19. Оп. 1. № 82. Л. 29-30.
(обратно)403
См.: Сборник РИО. Т. 126. С. 562-563; Опись высочайшим указам и повелениям… Т. 2. № 7055. Поручную запись Бирона от 22 июня 1739 года см.: РГАДА. Ф 19. Оп. 1. № 82. Л. 32. В бумагах Бирона сохранились записки и «мемории» Шемберга (см.:Тамже.№73.Л. 1-4,5-6, 17-18,27-30).
(обратно)404
См.: Сборник РИО. Т. 146. Юрьев, 1915. С. 369; Сенатский архив. СПб., 1889. Т. 2. С. 82, 183.
(обратно)405
См.: Опись высочайшим указам и повелениям… Т. 2. № 7030, 7029.
(обратно)406
См.: Захаров В.Н. Западноевропейские купцы в российской торговле XVIII в. М., 2005. С. 343—344.
(обратно)407
См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. № 1182. Л. 118, 125, 140.
(обратно)408
См.: Там же. Ф. 6. Оп. 1. № 210. Ч. 1. Л. 107.
(обратно)409
См.: Там же. Ф. 248. Оп. 22. № 1507. Л. 242-244 об., 247—248 об., 249—253 об.; Демкин Л.В. Британское купечество в России XVIII в. М., 1998. С. 101-102, 126; Захаров В.Н. Указ. соч. С. 52, 102, 341-343.
(обратно)410
См.: Сборник РИО. Т. 130. С. 515-516; Захаров В.Н. Указ. соч. С. 52, 102, 341-343.
(обратно)411
См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 22. № 1507. Л. 259, 294, 386-390.
(обратно)412
См.: Там же. Ф. 1292. Оп. 1. № 95. Л. 668 об.; Левин Л.И. Российский генералиссимус герцог Антон Ульрих (история «брауншвейгского семейства» в России). СПб., 2000. С. 50-51,60-67.
(обратно)413
Цит. по: Соловьев С.М. Указ. соч. Кн. 10. С. 657—658.
(обратно)414
РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 200. Л. 11 об.-12.
(обратно)415
Там же. № 195. Л. 2-8.
(обратно)416
Цит. по: Там же. № 304. Л. 31. См. также: Соловьев С.М. Указ. соч. Кн. 10. С. 655.
(обратно)417
Цит. по: Соловьев С.М. Указ. соч. Кн. 11. М, 1993. С. 132.
(обратно)418
См.: РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 304. Л. 192-192 об. Сохранилось недатированное послание Остермана Анне Иоанновне с жалобой на Волынского и предложением потребовать от того доказательств указанных в письме «бессовестных поступков» (см.: Там же. Jsfe 197. Л. 1—4).
(обратно)419
Перевороты и войны / Христофор Манштейн. Бурхард Миних. Эрнст Миних. Неизвестный автор. М., 1997. С. 161 — 162, 302. См. также: Польской С.В. Артемий Волынский и его «злодейские рассуждения и проект» // Известия Самарского научного центра РАН. 2008. Т. 10. № 1. С. 9.
(обратно)420
См.: Сборник РИО. Т. 86. СПб., 1893. С. 296-297; Перевороты и войны. С. 434.
(обратно)421
РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 217. Л. 14, 18.
(обратно)422
См.: Сборник РИО. Т. 138. С. 396; РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. №1196. Л. 143,146.
(обратно)423
Цит. по: Шишкин И. Указ. соч. № 5. С. 118.
(обратно)424
РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 199. Л. 79.
(обратно)425
См.: Там же. №211.4. 1. Л. 3; № 210. Ч. 1.Л. 1-4.
(обратно)426
Подлинники обоих указов от 13 апреля 1740 года с подписью Анны Иоанновны см.: Там же. Ф. 6. Оп. 1. № 210. 4.4. Л. 17-19, 20-20 об.
(обратно)427
См.: Там же. № 210. Ч. 1. Л. 90-91; № 199. Л. 55.
(обратно)428
См.: Там же. № 210. Ч. 1. Л. 92-95.
(обратно)429
См.: Там же. № 210. Ч. 1. Л. 97-102; № 199. Л. 62-63.
(обратно)430
См.: Там же. № 211. Ч. 1. Л. 26, 28.
(обратно)431
См.: Там же. № 199. Л. 85-88, 124-129 об., 161-167 об., 202-205, 206-209 об.
(обратно)432
См.: Там же. № 210. Л. 109; № 220. Л. 1-6.
(обратно)433
См.: Там же. Ф. 1239. Оп. 3. № 34569.
(обратно)434
См.: Там же. Ф. 6. Оп. 1.№ 198. Л. 1-16 об.
(обратно)435
Там же. Ф. 7. Оп. 1. № 269. Ч. 9. Л. 19.
(обратно)436
Там же. Ф. 6. Оп. 1. № 198. Л. 27 об., 47-48 об., 59 об., 60, 62, 64 об., 70-70 об.
(обратно)437
Указ о переводе Волынского в Петропавловскую крепость см.: Там же. Ф. 7. Оп. 1. № 269. Ч. 9. Л. 23. Недатированную копию указа, повелевавшего «разрушить» следственную комиссию по причине занятости ее членов другими делами, а «далнейшее над Волынским и по делам его следствие поручить Тайной канцелярии», см.: Там же. Ф. 6. Оп. 1. №210.4. 1. Л. 31.
(обратно)438
См.: Там же. Ф. 6. Оп. 1.№ 199. Л. 168об.-169,173,177 об.
(обратно)439
Там же. № 203. Л. 20 об.-21.
(обратно)440
См.: Там же. № 199. Л. 197 об.; № 211. Ч. 1. Л. 56 об.
(обратно)441
См.: Там же. № 211. Ч. 1. Л. 89-89 об., 90-90 об., 91- 92, 93-94, 95.
(обратно)442
См.: Там же. № 199. Л. 199. 213 об.
(обратно)443
Там же. Л. 220-223.
(обратно)444
См.: Там же. №211. Ч. 1. Л. 101-102, 106, 110.
(обратно)445
Там же. №200. Л. 6-7.
(обратно)446
См.: Там же. Л. 18 об.
(обратно)447
Показания Трубецкого и Новосильцева см.: Там же. №206. Л. 2-5 об., 7-14.
(обратно)448
См.: Там же. Ф. 6. Оп. 1. №211.4. 1. Л. 108-109, 111, 173; Ф. 7. Оп. 1. № 269. Ч. 9. Л. 32-33, 41.
(обратно)449
См.: Там же. Ф. 6. Оп. 1. № 229, 235, 256, 257, 262, 264.
(обратно)450
Там же. №214-217, 238.
(обратно)451
Там же. №213. Л. 48.
(обратно)452
См.: Павлов-Сильванский Н.П. Указ. соч. С. 8.
(обратно)453
См.: Сборник РИО. Т. 85. СПб., 1893. С. 39, 59; Т. 86. С 358.
(обратно)454
См.: Жизнь Волынского, его заговор и смерть. С. 1366—1367; Депеши прусского посланника при русском дворе барона Акселя фон Мардефельда 1740 года // ДиНР. 1876. № 1.С. 101.
(обратно)455
См.: РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 199. Л. 226-229 об.
(обратно)456
См.: Там же. № 211. Ч. 1. Л. 193-194; Записка об Артемии Волынском. С. 164.
(обратно)457
См.: РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 211. Ч. 3. Л. 19.
(обратно)458
См.: Сборник РИО. Т. 146. С. 320, 344; Опись высочайшим указам и повелениям… Т. 2. № 7853.
(обратно)459
См.: РГАДА. Ф. 248. Оп. 110. № 215. Л. 93-96.
(обратно)460
См.: Там же. № 234. Л. 1-329.
(обратно)461
Ключевский В.О. Указ. соч. Т. 4. С. 232.
(обратно)462
Мельников П.И. Старые годы: Рассказы и повести. М., 1986. С. 42.
(обратно)463
См.: Коваленко Т.А. Менталитет русского дворянства в контексте культуры середины XVIII в.: Автореф. дисс. канд. ист. наук. М., 1999. С. 21.
(обратно)464
См.: Опись высочайшим указам и повелениям… Т. 3. СПб., 1878. №8026.
(обратно)465
См.: Дело о курляндском герцоге Э.И. Бироне // ЧОИДР. 1862. Кн. 1. Смесь. С. 101-113.
(обратно)466
См.: РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. № 269. Ч. 9. Л. 113, 121.
(обратно)467
См.: Там же. Ч. 10. Л. 6.
(обратно)468
См.: РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. № 211. Ч. 5. Л. 401, 404-405, 407, 408.
(обратно)469
См.: Попов И.А. Придворные проповеди в царствование императрицы Елисаветы Петровны // Летописи русской литературы и древности. М, 1859. Т. 2. С. 5—6.
(обратно)470
Опись высочайшим указам и повелениям… Т. 3. № 8722.
(обратно)471
РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. № 34214. Л. 4.
(обратно)472
См.: Опись высочайшим указам и повелениям… Т. 3. № 8770.
(обратно)473
См.: РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. № 30587. Л. 31.
(обратно)474
См.: Графы Гендриковы и Ефимовские // Гербовед. 1913. № 12. С. 194-213.
(обратно)475
См.: РГАДА. Ф. 1209. Дела старых лет. Книги по Ярославлю. № 7857. Л. 590-591 об.
(обратно)476
См.: Дневник Николая Ханенка. Киев, 1884. С. 375.
(обратно)477
См.: РГАДА. Ф- 286. Оп. 1. № 269. Л. 443, 501, 596.
(обратно)478
См.: Луппов С.П. Книга в России в послепетровское время. С. 171; РГАДА. Ф. 286. Оп. 1. №479.4. 1.Л. 134 об.
(обратно)479
Цит. по: Писаренко К.А. Скаски елизаветинской России // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв. Новая серия. Вып. 15. М., 2007. С. 82-83.
(обратно)480
Цит по: Порошин С.А. Записки, служащие к истории его императорского высочества, благоверного государя цесаревича и великого князя Павла Петровича. СПб., 1881. С. 69.
(обратно)481
Цит. по: Соловьев С.М. Указ. соч. Кн. 13. М, 1994. С. 394-395.
(обратно)482
См.: История Петербурга в старых объявлениях. М., 2008. С. 380.
(обратно)

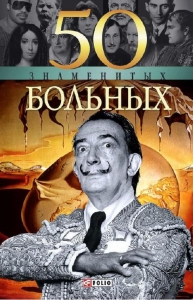

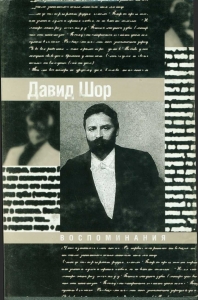

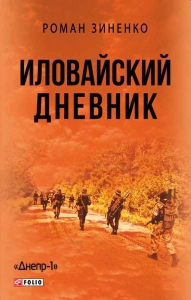

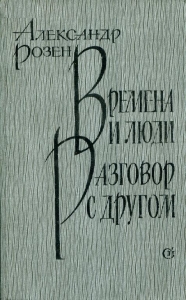
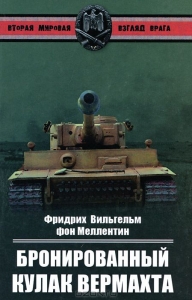
Комментарии к книге «Артемий Волынский», Игорь Владимирович Курукин
Всего 1 комментариев
Вера
26 мар
Прекрасная книга, которую я читала с гораздо большим удовольствием, чем знаменитый "Ледяной дом". Жизнь бывает удивительнее вымысла, а в книге И. Курухина добросовестность научной работы удачно сочетается с увлекательным изложением. Спасибо!