Посвящается моей жене Катерине и моему сыну Петру
В кругу приятелей я часто рассказывал разные истории из своей жизни, и многие говорили и убеждали меня: не ленитесь, записывайте — хотя бы на магнитофон, — чтобы осталось хоть что-нибудь!
Вот все эти обрывки памяти я и собираю к своим 80-ти годам. Поэтому все так и раздрызгано в этих строчках — «Рассказах старого трепача».
Тетрадь, обосранная голубями (Все вразброд, как вспоминалось, так и писалось.)
19-го XII 83 г., ФЕРРАРА
1996 г., 31-го октября
Я много лет вел записи. Когда появился Петр, мне шел 62-й год. Я все искал форму книги, чтобы он прочел. Трудно было мне представить, что я доживу до 79 лет. А очень хотелось, чтобы он вспоминал отца, хотя бы через эти обрывки.
Часто гуляя в саду у бабушки с Петром, показывая цветы, росу, игру света и тени маленькому жителю Будапешта, мы садились под дерево, посаженное дедом Катерины, где вызревали прекрасные грецкие орехи. Он играл, а я записывал в толстую зеленую тетрадь в клеточку, а голуби какали. Отсюда и название.
P.S. Это все Пикассо нарисовал своего голубя мира, и все умиляются, а вообще-то, весьма скверная птица. Вы когда-нибудь видели, как они заклевывают слабейшего или приболевшего — нет? — поглядите.
Иерусалим
Письмо Катерины, моей венгерки, твоей мамы к нашим друзьям
Дорогие Лева, Ирина!
Я никаких вариантах не верю! Не верю потому, что то происходит до сих пор; доказывает мое право сомневаться в каких-то изменениях по поводу работы Юрия в Москве. Ему не дадут то, чего он хочет, а за такое открытое поведение — если удастся им его заманить прозрачными обещаниями — его задушат!
Все, что Юрий сделал, я одобряю, ибо у него НИКАКОГО другого выхода не остался. Он это сделал по вынужденности дать им понять ситуацию, помочь некоторым людям, более умным, помочь самому себе. Для этого никакого доказательства Вам я не нужна говорить. Совесть тяжелая, если она не чиста, Юрий делает даже того, которое разумным людям кажется непонятным и лишним — чтобы сохранить самую ценную вещь в жизни — чистую совесть, без которого он не может существовать.
Жизнь и так не очень на помочь честным людям, которых я немного знаю.
Очень тяжело без Вас, а замену все равно нигде никогда не найдем, я в этом тоже уверена, так же как в добрых изменениях столь любимым его стране!
Обнимаю обоих Вас
КатяГОД ОРВЕЛЛА 84-й
21 ОКТЯБРЯ, ЛОНДОН. (1983 г.)
Молодой человек, поклонник Володи, хорошо про меня сказал: говорили про эмигрантов, печально, что они на радость всякой сволочи разбились на партии и как те, советские, грызутся и выясняют, кто правильней и главней, у кого верней путь, а своим делом не занимаются. Как паскудно все повторяется. А есть даже такие, как вы, — добавил авантюрный поклонник, — оттуда не уехали, а сюда не приехали, чудо да и только!
Но довольно общих рассуждений, пора начинать писать конкретные вещи, которые врезались на всю жизнь, а то придут какие-нибудь, лет через 500, и найдут везде только полные многотомные издания секретарей Союза писателей. Чаковских, Марковых, Грибачевых, Софроновых, вот какие тут жили, ну и ну!
Еще раз благодарю своего старшего Никиту, что вновь и сильно повернул меня к Вере! Физическое состояние, странное непонятное беспокойство, тошно от всего, один Петька не умывает. Сейчас заявил, что хочет быть девочкой, я люблю девочек, хочу играть с ними, хочу сиську. От него светлей, и не так все безнадежно видится. Бабы все время лаются, Петька повторяет.
В гостях у Делюсиных. 1981
Все это началось случайно. Я вышел на большую терраску в театре, очень усталый, рубаха была расстегнута и был виден мой святой Георгий и крестик Петра серебряный и мой медный. Мне говорили, что два креста носить нельзя — тяжело, но Катерина все не может купить тебе цепочку. Меня ждал корреспондент «Таймса». Сразу спросил: вы верующий? Я сказал — да. Он: вы член партии? Я — да; ну а дальше все пошло и поехало в этом духе. Хотя я сдерживал себя и старался о наших говорить корректно, но врать было противно, 5-го появилось интервью, а за ним скандал.[1] Все знакомые здесь заявляют, что у меня только 2 выхода: возвращаться с опущенной головой и покорно ждать расплаты или же оставаться здесь. Что никакого ответа от правителей не будет. Пока они дали мне согласие на лечение. Это был ответ на мое письмо, просят быстрей вернуться — думаю, для расправы. По слухам, продолжается возврат к сталинщине. Вот и лопнули все надежды на Андропова, в том числе и мои. Но удивительно, я все еще надеюсь и верю в чудо. Ведь должен же быть предел страданьям моего народа. Не устаю поражаться, откуда у них столько презренья к людям — вероятно, от чувства полной безнаказанности, верят же они только в силу, хотя и прикидываются атеистами. Вот и наступает 84-й год «Орвелла», правда, за ним 85-й Баха, опять надежда. Все мы живем надеждами.
Неуживчивы и странны. Люди моей страны. То ли отчаяньем доведены Бегают в поисках съестного, постного и мясного! Тихо ворчат, громко кричат, что положено, разрастается опухоль раковая, роковая для всех, для всего живого, но все идет своим чередом. И катимся прямо к «Орвеллу в дом» в 84-м.Катерина говорит, что как я только записываю, все у меня не по делу, а так один глупый лиризм получается. Поезд в Милан шатает и строчки кривые.
ДЕКАБРЬ, 10-го. (1983 г.)
Вена — Бургтеатр —120 лет ему. Директору под 49. Энергичный неконсервативный, вылитый Порфирий. Переговоры уважительны и вроде серьезные. Вернее всего, остановимся на Мастере, смотрю актеров в спектаклях, иногда очень трудно делать вид и не заснуть. Почему-то вспомнил разговор с академиком Арбатовым — все время мистика какая-то. Булат поет про Арбат, я учился и играл на Арбате и вот полуизгнанником говорю из театра в Болонье с Арбатовым по телефону. Спокойный полусонный голос мудрого госдеятеля с госдачей и пайком. Сразу всплывают полусонные от значительности, усталые от дум глаза. Смотрите, не наделайте глупостей, я, правда, не уполномочен, но не надо огорчать друзей. Так захотелось спросить, а что вы считаете глупостью, а голос поучительно: не надо доставлять радость вашим врагам, в общем, приезжайте скорей и будьте осторожней. Мертвый человек, ходит, вещает, поучает, даже иногда с добрыми намерениями, но мертвый, глаза совсем мертвые, и так скучно стало, но сдержался. А так хотелось вмазать, вообще надо начать писать, как говорят, разговоры на лестнице, люди часто сочиняют, как они остроумно и смело вели себя в разных ситуациях и как отвечали! как отвечали!. И я, грешный, частенько привираю, вот и надо это написать: где привирал, а где нет. А может, и не надо, пусть сам читатель соображает где. Федор Михайлович это, например, очень даже любил нарочно делать.
Как бы я был рад, если Петр когда-нибудь прочтет и вспомнит отца, как я часто вспоминаю своего. В этой гостинице останавливаются артисты, у меня N 102, у Ефремова N 422, спросил в Бургтеатре у Павла Когоута, чешский писатель, драматург, эмигрант, а ныне гражданин Австрии, где Ефремов, пошли смотреть в кино «Назавтра после атомной войны» — своевременно. Интересно, будет он бегать от меня или нет. Павел говорил, что после танков в Праге, когда он приехал, встретил, обнял, сказал: прости, старик, я танки к вам не присылал, потом напился и его, как Гамлета четыре капитана, вынесли официанты, а Москва-то надеялась, авось, хватит разума не пошлют.
Петя, Катя и я
Вспомнил, как Утесов и Райкин с эстрады все спорили, кто изобрел слово авоська. А чего спорить, должна была появиться такая удобная сумка, которую можно спрятать в карман и всегда носить как зонтик, с надеждой, пригодится авось, что-нибудь дадут, так мы все мужчины и женщины, кто заботится о своей семье, и бегают с ней до сих пор десятилетия, с надеждой достать съестное или фрукты, и мелькают запуганные обалделые лица с авоськами, наполненными иногда апельсинами, колбасой, чаще скверной картошкой.
P.S. Сейчас появилось новое изобретение: сумка с колесиками, и бывшие совдамы обозвали ее… «потаскухой».
Будапешт. 22.08.1999.
После солнечного затмения.
16 ДЕКАБРЯ. МИЛАН. (1984 г.)
Звонил Слава, у него был Андрей в Париже, говорил, что я тоскую, перезваниваюсь с театром, жалуюсь, одиночество, никому не нужен, а мне переводят 500 долларов, чтобы я мог вернуться, я так захохотал, что разговор прервался, он перезвонил, посмеялись, что Москва приказала разъединить, он говорит, что они все это делают нарочно и то же проделывали с ним.
Катькины венгры ведут себя по-скотски, им лень проехать 180 км и передать для Катерины и Петра теплые вещи. Очень разозлился. Мои друзья проехали бы шутя и 500 км, чтобы мне помочь. Что за блядские режимы, где дочь не может приехать к больной матери или наоборот. Проклятые лицемеры, и все во имя народа. Целое государство Польша — 12 миллионов Солидарности плюнули и сказали: не хотим ваш режим. Ввели военное положение, разработав все планы в Москве, назвали генеральной репетицией, и все только во имя нескольких тысяч бюрократов — партии, армии, КГБ, которым нужна власть и привилегии, и часть из которых к тому же понимают, что их проклятая система не работает, не кормит, не дает жить большинству людей. Катерина падает духом, трудно жить в чужой квартире, трудно примириться, что нельзя видеть мать. Она у нее одна дочь и больше никого нет, тоскует очень по тебе, Петр, даже наш брак простила.
Говорили по телефону, у мамы грустный безнадежный голос, как у моего брата, он плохо себя чувствует и безнадежно спрашивает, что же, браток, так мы больше на этом свете и не увидимся. А когда говорил я с директором театра, то понял, что он мне все врет, они ничего не репетируют, а на Запад дали сообщения, что все репетируется и т. д. Я сказал: «Вот когда закончите врать, то и будем говорить, когда я приеду». Он заявил с металлам в голосе: «Вы бьете ниже пояса». Интересно все это, как люди настраивают себя каждый на свою правоту.
СТИХИ В САМОЛЕТЕ ВЕНА — МИЛАН, 14 ДЕКАБРЯ. (1983 г.)
Давно я не писал стихов. Последние занес в меню, Когда летел в Болонию. За Вагнером и за контрактом Порвав с советским госконцертом Собственноручно подпись приложил И этим самым на советы положил. В роскошном самолете, где были Устрицы в меню, как бы в награду За вину, набор вина и виноград. Я написать об этом рад. * * * Ночь, огни, самолет, снег пушистый, Бетон прикрывает и слетает с него Словно пух тополей над Москвой. Сердце ровно стучит, на душе все ж теплей, Хоть и нет тополей. Дух мой странно спокоен, Хоть похоже на то, Не видать ни родных, ни друзей! Мне ни тех тополей. Разлетелось все в пух. Где положат мой прах? Я лечу в небесах… * * * Как я хотел предстать пред ним С своей судьбой, так изменившейся, Неведомой, одной, чужой, своей, другой, Такой же не известной никому. Хоть любопытно всякому узнать свою. Положено так на миру, И даже самому наместнику Петру. * * * Пошли актеры в гору, Рейган, Поэт Андропов в самодеятельности был. Стихами баловались многие двуногие. Екатерина, Сталин, Мао. Голодные ребята плачут, мама! Политики пугают мир войной — О! Боже мой! Как хочется домой.19-го XII 83 г., ФЕРРАРА
Каких сынов рожала Ты, рыжая Феррара О. МандельштамСтаринный маленький городок, красоты удивительной, странно, что здесь ходили Мандельштам, Цветаева и, может быть, Эрдман, он мне говорил, что Рим ему показывал Вячеслав Иванов, когда он был библиотекарем у Папы. Был туман, фонари. Фантастический рыжий кирпичный город. Спал в номере в той же кровати, где Верди. Кругом в спальне плохая живопись, подаренная хозяину дома Наполеоном, сны были странные — утром узнал, где я спал, и подумал, может, Бог поможет получше поставить «Риголетто». Удивительно, вот уже 10 лет судьба нет-нет да и закинет меня в эту Богом отмеченную страну. Едем во Флоренцию. Холмы кругом, тоже рыжие, снег стаял за один день, и сразу запахло весной, кой-где мелькает зелень — проезжаем много тополей.
Моя Катерина утром за чаем заявила со всем неистовством своего венгерского темперамента, что после смерти Володи она увидела, что после таких проработок меня надолго не хватит, ей бедной приходилось вызывать врачей, и она, когда могла оторваться от Петьки или когда отправляла его к маме, носилась за мной с врачами. «Все! я поняла, что тебе больше тут быть нельзя, они тебя нарочно доводят, дурак, мудак!» Для нее язык чужой, и наш мат она произносит, как бабы семечки щелкают. Читай, читай, Петенька, набирайся ума и папу вспоминай, может, человеком будешь. Пошел дождик. Хорошо, что у меня зонтик из королевского магазина, от английских артистов. Открываю зонтик, закрываюсь от непогоды. Ведь каждый человек достоин зонтика, — заявил Достоевский. Дождик — зонтик.
6-го
Приземлились в Вене. Вдруг увидел самолет доблестного Аэрофлота и важно надутые, полные самоуважения спины своих соотечественников страны Советов, величественно поднимающихся по трапу; ни один не повернул головы посмотреть на страну, которую покидает, — молча исчезал в черную дыру входа. Снова засосало: родные, театр, друзья, а я, как бродяга, летаю по Европе, заполняя остаток жизни беспрерывной работой, чтобы в календаре 3–4 лет не осталось свободных дней, — это называется вырвался на свободу. А дома «Таганка», какая-никакая, но своя, где я 20 лет вбивал всю свою энергию. И все это благодаря советским мудозвонам, с которыми работать просто нельзя. Прошу верить на слово, что это так, два десятилетия я пытался доказывать, убеждать, уступать, терпеть всю нелепость, чванство, глупость. Ничего не помогло. А я, дурак, все надеюсь, что как-то все образуется.
Бургтеатр похож на МХАТ — только без идиотизма советской идеологизации всей творческой жизни. Правда, и здесь свои пригорки и ручейки правые-левые, игры между ними, лавировки, вкусы весьма консервативны. Зрители любят покрасивей, понатуральней. Венский пышный стиль + пиво и сосиски. Как-то я тут уживусь, интересно. Выбираю актеров, спектакли безнадежно скучны, актеры демонстрируют свое мастерство, не беспокоя себя, все тихо-мирно. Упорно ищу живых артистов, показал английскую ленту, репетиции и сцены «Преступления». Вроде они забеспокоились и зачесались. Потерял свою красивую серебряную ручку, очки, очень жаль, так приятно было смотреть на ее изящные формы. Снова вспомнил отца, как он входил и кричал маме: «Анна! Парадно!» — это значило, что надо снимать все чехлы с красивой гостиной, зажигать люстру, ставить серебро и кузнецовский сервиз на стоп. Мать пугливо спрашивала: кто-то придет? Отец невозмутимо отвечал: никто, просто я хочу, чтобы все было красиво. Мне тоже хотелось, чтобы Катька ходила в красивой шубе, увы, шуба в Будапеште, а если Катерина туда появится, у нее отберут паспорт и оставят с Петькой заложниками, а в Европе холодно.
Дважды прекрасный чех, актер Ландовский, предпринимал попытки привезти теплые вещи, виду него располагающий, копия Лех Валенса, может, это и напугало венгров. Шубу ему не дали второй раз, когда он опять самоотверженно ринулся за шубой. Катерина заявила, что ее подруги не рекомендуют брать шубу, мама расстроится, она гладит шубу, плачет и вспоминает Катю, и если шуба уедет, она чувствует, что больше не увидит Катерину. Как трогательно, и глупо удивительно. Только бабы могут придумать такую ересь и еще умиляться. Хороши бл… подруги. Пусть эта дура мерзнет в Европе, а мама будет гладить шубу и плакать. Удивительная способность при своем упрямстве слушать всякий вздор, принимать его всерьез и в этот момент соглашаться всем существом своим. Потом мне подругам нужно долго внушать, что все это не так. Она ведет разговоры с тем миром, откуда мы приехали, и мы сами продукт того мира, но здесь постепенно учимся смотреть со стороны, в то же время понимая их законы. Ведь надо выдумать термины: управляемый художник, можно доверять. Неуправляемый — надо с ним работать, а уж как они работают, это всем нам из того ихнего мира известно, а несчастный Запад не верит, книг хороших не читает, а все восклицает — «не может быть» — и ручками делают так, как курицы крылышками. Был у меня начальник, в шахматы хорошо играл, у нас это редкость. Задумался один раз в минуту очередной серьезной проработки, вздохнул — ну неужели вот ты всерьез считаешь, что мы тебе не помогаем, столько с тобой работаем. Ведь если бы вы были даже Алехин и своей рукой вели меня к выигрышу, я же понял бы, что не я играл, так зачем же мне этим тогда заниматься. Тяжело вздохнул начальник и махнул рукой — иди, мол.
* * *
Никто не знает, что сохраняет память. Но страсть писать дневник и что-то сохранить Нас многих заставляет взять чистый лист. Последняя черта нам обрывает знаковую нить. А там Всевышний разберет, Кто перед ним предстанет. Возьмет Он нотный лист И знаками, как ноты, нас расставит. Получит каждый звук, что заслужил, Как на земле грешил и жил. Прости, Спаситель, нас! — землянин закричит. И данная нам Богом нота зазвучит. И хор тот будет страшен и многоголос! Над нами страшный суд из нас Нам приговор споет. То будет Божий глас. Он окончателен для нас. Фальшивый гимн орем-поем. Не думаем о нем. Все ноем: все не так. Уныние несем. Не видим красоты земли, Летят года, то Орвелла, то Баха. Видна последняя черта, За ней Его Врата.Мама, когда стала терять память и чувство времени, прожив сложную тяжелую жизнь, родила 4-х детей, младшая Ирина умерла совсем маленькой, я ее не помню, только вздохи и слова мамы оставили ее на всю жизнь в моей памяти. Мать очень переживала за нас всех, сложно жили с отцом… Жить, если ты не баловень судьбы, а таких всегда очень мало — всегда трудно и сложно. «Жизнь прожить не поле перейти», а при советской власти это вообще хожденье по мукам под куполом цирка без лонжи. Последние годы маме чудилось, что кто-то приходит за мной, расспрашивает о моей жизни, делах, о разговорах, которые я веду. Она очень реально и обстоятельно это все сообщала, тревожась замою судьбу. Один раз я застал ее на стуле, она сосредоточенно тянулась, снимала книги с верхних папок, освобождала их от картонных обложек. Я спросил: что ты делаешь, мама? Она уже с трудом ходила: Юрик, это надо обязательно сделать, а то книги задохнутся. Она слезала со стула и несла картонки под кровать, привыкнув всю жизнь работать и тревожиться, бедная мама не могла остановиться. А теперь, сын мой, в Лондоне, когда тебе было 4 ½ года, я позвонил твоему дяде Давиду, ему шел 71-й год, с трудом уговорила телефониста Анна (через Будапешт, обманув советских), которая работала с твоим отцом к тому времени 10 лет, и никто, кроме Бога, не может сказать, что будет с нами дальше. Твой старый беззубый дядя, спросонья наконец поняв, что говорю я, стал, хрипло шамкая, просить меня скорей приезжать, как артисты ждут меня, были у министра культуры, с которым твой отец не ладит 20 лет, а не ладить с министром, мой дорогой сын, в советской стране сложно и опасно; я звал его за глаза нежно Ниловна, по книге Горького «Мать», а также Химик, он учился в Химинституте, а старенькая учительница говорила о нем: «Как мы все ошибались, такой был неспособный мальчик, еле учился, а таких высот достиг». Так вот, достигший принял артистов и повел свои гнусные беседы, у него огромная практика доводить хороших людей до того, что они убегают из своего дома далеко, в другие страны, бросив все. Вот и мы сидим в доме Славы Ростроповича, которого лишили гражданства при помощи Ниловны, выгнали и Солженицына. Химик заявил: «Кто виноват? Вот мы сидим, работаем, а его нет». Свою лживую, пустую трепотню они считают работой. Наш идеолог и кокет косит направо, влево нет, носит дымчатые очки, у него седой перманент с легкой волной и лицо поблескивает ночным кремом, говорит очень тихо, всем приходится вслушиваться; изредка, что-то бормоча, делает вид, что записывает. Но когда надо, он даже орал и визжал на твоего папу, а однажды, когда папа после тяжелого разговора, где, напрягаясь и вслушиваясь в сурово-тихие наставления министра, половину не разобрал, что же с ним будет, уходя после аудиенции, уже взявшись за ручку двери, услышал внятный громкий голос Химика: «Так вот, никаких „Бесов“, никаких Высоцких, и никаких Булгаковых». Видимо, Ниловна рассчитывал, что папа упадет в обморок по ту сторону кабинета. А уж там помощники разберутся, что делать с папой. Бедные артисты сидят, а он тихо вещает: «Никто не отрицает его таланта. Мы его ценим, правда, он плохо управляемый. Кто вам сказал, что мы ищем замену, провокация». Бедные говорят: «Приезжайте, посмотрите сами, Петр Нилович». «Конечно приеду, репетируйте», — заявил авторитетно, год назад закрыв, а затем, сперва разрешив, запретил репетировать разрешенный спектакль. Бедный Пушкин. То Николай I, то Химик II. Меня там нет. Я, к счастью, с тобой, Петр, но я могу тебе точно сыграть всю сцену за всех. Со мной вообще, сын мой, приключалось множество всяких фантастических историй, в которые трудно поверить. По Москве ходил слух, что певица русских песен Людмила Зыкина — подруга умершей, царство ей небесное, (Фурцевой, любовницы премьера А. Косыгина, дочь которого делала много гадостей твоему папе и многим другим, а сейчас проживает на берегу Москва-реки в хоромах из отборного Кремлевского кирпича, напротив моего старого друга — академика Петра Капицы, который работал с Резерфордом и имеет пожизненную квартиру в Кембридже и предлагал папе твоему пожить в ней. Так вот, тут в Лондоне пристроился ко мне странный молодой авантюрный человек, называл себя по-разному, имел много паспортов и среди всего прочего объявил себя приемным сыном этой самой русской-разрусской Зыкиной; звали его Володей, как Высоцкого. Вспомнил я один давний вечер в Москве на квартире у другой замечательной русской певицы Максаковой, там Владимир пел свои песни, Зыкина — свои, она быстро, к ее чести, поняла, что ей при нем петь ни к чему, а потом они даже вместе попели дуэты. Она была в теле, бросала томные взгляды на Владимира, а когда он с гитарой трезвый да в ударе, редко какая дама могла устоять. А теперь приемный сын ездит по миру и собирает все материалы о своем тезке Владимире. Вспомнил, как Каганович в телевизоре тоном вождя воскликнул: «Наши идеи идут по́миру», — и одним ударением сказал всю правду.
Вот видишь, какие хитросплетения устраивает судьба.
ФЕВРАЛЬ, СРЕДИНА, ПЕРЕД АМЕРИКОЙ
Звонили старому мудрому Ене с бакенбардами, он стал одинок, Эдит, ее мать, оставила его, живет одна, о чем прощебетала томно Катьке и дала N его телефона, и старый Ене оказался у родной дочки от старой жены на раскладушке, правда, не русской, а венгерской, более комфортабельной. Делает вид, что не унывает, и, как студент, по утрам заваривает чай и пьет с колбаской и радуется, что она есть, что дочь его приютила. Боже! С какой любовью он искал, ждал, обставлял себе и ей квартиру, какой кафель подобрать к унитазу, какой коврик, какой тон для стен, какой интерьер. Она много занимается телом, наподобие старой Айседоры Дункан.
Вот и дозанимались! Бедный Ене! Я ему сказал о предложении Дежё, которое тот изложил старшему брату (одному из правителей Венгрии): чтобы я возглавил новый театр в Венгрии, тот милостиво согласился, сказав: ну что ж, пусть он спросит там… у своих. Это напомнило мой разговор с Микояном. В антракте, смотря «10 дней…» Рида, он, узнав о моих неприятностях по поводу «Павших и живых», заявил: «А вы спросите их, разве решения XX и XXII съездов отменены? Я, конечно, могу спросить, если кто-нибудь из них заинтересуется моим мнением, но не лучше ли, если бы Вы их спросили об этом», — и он первый раз внимательно и с интересом взглянул на меня.
Л. Максакова, я и Катя на даче у Максаковой в Снегирях, 1977
Перед смертью Брежнева появилось много анекдотов о нем, как он по бумажке, как они все, чокая и причмокивая челюстью, у него что-то с нервом, встречает Индиру Ганди, произносит: «Уважаемая госпожа Тэтчер», — ему шепчут: «Ганди, Ганди», — он возмущается: «Я сам вижу, что Ганди, а здесь написано — Тэтчер». Или он идет по коридору, видит Пельше. Зовет: «Пельше, поди сюда», — тот подбегает, говорит: «Простите, Леонид Ильич, я не Пельше». Он собирает Политбюро. «Товарищи, у нас полный маразм, вчера в коридоре Пельше сам себя не узнал, а Суслов с Косыгиным вообще не ходят на заседания», — они все уже были мертвы, когда остроумцы сочиняли все это.
Ночью в Неаполе перед отъездом мы, смеясь, все это рассказывали, а на аэродроме в Вене меня окликнул корреспондент: «Господин Любимов, вы не бойтесь, я друг Рахлина, вас там главный умер». Я не поверил, думал Кириленко, но он бежал за мной и все кричал: «Брежнев, Брежнев, нам ТАСС официально объявил». Мы сели в самолет Аэрофлота, сразу попросили газету. Прочли — ничего нет. Как бы невзначай спрашиваем стюардессу: «Ну как в Москве, что нового?» — «Все хорошо, все в порядке», — чеканят они. Садимся в такси. Спрашиваем у шофера: «Что нового». — «Ничего, — говорит, — вот все снег не убирают». Едем дальше. «Как с едой?» — «Да как всегда, погано. Вот концерт вчера хороший обещали в День милиции, потом отменили, стали эти симфонии играть, ну мы с женой сразу выключили, — после паузы: Правда, обещали потом дать». Мы переглянулись. Едем дальше минут 10. «Да этот Леонардо — умер». Забулдыги-шоферня почему-то звали его последнее время Леонардо. «Ну что, видел вчера Леонардо по телеку?» — «А как же, нормально ходит. „Дорогие товарищи империалисты, социальл. исти. ческий сраны…“» — и т. д. Шофер говорил безучастно, ругая, что не убирают снег. Так и живет народ, ничего не ожидая, суетясь весь день — добыть что-нибудь в магазине, выстоять в очереди, чтобы получить, сорвать что-нибудь где возможно, а главное — выпить при первом случавши начать бесконечные разговоры за жизнь, а правители, расстраиваясь разболтанностью всеобщей, все ожесточают свои бесчисленные зверские законы, инструкции, дополнения, разъяснения — это уже тайно, своим. Начальник тюрьмы, лагеря может удвоить срок без суда. Разглашение служебной информации — до 12 лет лагерей, тюрьмы. Значит, расскажи я, как у меня спектакли закрывают, можно и сажать. Все Сталина усовершенствуют, сукины дети, ни стыда ни совести. Вот и возвращайся тут в Москву, сын мой. Вот и второй Покровитель помер после двух анекдотов и ужесточения режима до того, что стали хватать из очередей, проверять, почему не на работе. Первый: брежневский Ренессанс окончен, второй: Кремль переименовали в Андрополь. И все врут с нарастающим бесстыдством. Самолет злосчастный сбили, сообщения приличного, даже лживого, составить не могли. Новый на Мавзолее текст о покойном прочесть толком по бумажке не мог, все запинался. Западные газеты написали: «Не знаем, как он владеет иностранными языками, но русским явно плохо.» Срамота. А «Правда» на последней странице расписывает, какая у него дочь — кандидат наук, в партийной школе, показательная семья во главе с Вождем, как у диких племен, и холуй нашелся и даже подписался, совсем одичали. По слухам, партбюро театра предложило меня выгнать из партии, значит, разоблачали, клеймили, приказали бедным — и пришлось каяться, как они не углядели и 20 лет с таким негодяем работали. Вот, сын мой. А если Бог даст, от чего я тебя избавил.
ЛОНДОН 20-го
Письмо Солженицыну.
ФЕВРАЛЬ 21-го, ЛОНДОН
Проработали день с новым моим сценографом Стефаном Лазаридисом — греком — над «Бесами». Хороший парень и все про них понимает, у него папа богатый был, а тут наши помогли установить в Эфиопии свои порядки — эфиопы проклятые. Пришел папа на работу, а черные с нашими автоматами сидят у него в кабинете, почему опоздал, спрашивают, тот говорит, пошли вон из моего кабинета, ну, они ему показали, как говорил Хрущ — Кузькину мать. Пришлось сыну все продавать и ехать выкупать папу, маму и двух сестер. В общем, понятно тебе, он про них понимает, можно работать. Так и к твоему папе трое вошли в кабинет, весь расписанный знаменитыми людьми мира от Кастро-бандита до Белля — хорошего писателя. Даже один член Политбюро с горечью сунулся внутрь и сказал: «Да, красить нельзя, вроде исторический кабинет», а потом строго ткнул пальцем на иероглифы: «Это кто, китайцы?» Я с гордостью: «Нет, все японцы, китайца ни одного (мы тогда с ними в ссоре были)». — «А, ну ладно! — помолчал и добавил: надо сделать переводы, а то не поймешь». Так вот, вошли начальники, ни здрасьте тебе, ни прощай, а один балбес мордастый здоровый, бывший артист плохой, зычно произнес в позе: «Сейчас вам приказ зачитаем», — это все они ярились за бедного Высоцкого на меня. «Не утруждайте себя, я знаю». Они грозно: «Не может быть! Только что составили». Нашлись добрые люди, говорю, предупредили. «Потрудитесь выслушать и расписаться в получении». Я говорю: «Ко мне люди придут, прошу покинуть мой кабинет». — «Это кабинет не ваш, государственный». — «Что ж, вы правы», — и вышел твой папа из своего кабинета, а строчки пишет на чужой квартире в Лондоне.
Я потом это рассказал по телефону теперешнему правителю, он так душевно: «Не может быть! Ну и ну, вот оказывается, до чего мы дожили. Позвоните мне, я разберусь». Очень меня всегда подмывало спросить: откуда? из автомата? Звонил я по особой вертушке от замечательного Капицы, который на свадьбе своей золотой, когда твой отец спич произнес о том, что я Кузькин — это неудивительно, а вот что Капице приходится быть Кузькиным в нашей стране, вот это потрясает. Анна Алексеевна воскликнула: «Ну что вы такое говорите, какой Петр Леонидович Кузькин!» А он поморгал детскими глазками, гениальными своими и синими, от старости потускневшими, и говорит: «Кузькин, Крысик, Кузькин». Он ее Крысик звал. Хотя она была очаровательная и умнейшая женщина, даже когда ей было под 80… Звоню правителю, все дни в надежде ходил. Слышу голос чужой, вроде делает вид, что не узнает. «Вы обратитесь к товарищу Зимянину, он этим занимается». Ну тот и занялся: 45 минут орал. Как будто ему жопу нашатырем смазали, у нас нашатырный спирт на ватке пьяному под нос суют, чтобы, протрезвел. Твоему отцу это часто приходилось делать с артистами «на Таганке». Даже с самим Высоцким.
«Все вы антисоветчики», — кричал советский Геббельс, так его называют в наших кругах, я же называл «недоделанный Абрамов» — говорок у них был похож, народный такой, с наскоком на собеседника, но Федор-то по сравнению с этим — Сократ, не меньше. Уходят мои сверстники и друзья, сын мой, в страну, откуда ни один не возвращался, как говорил печальный принц, а литтл Геббельс все орал. «Все ваше окружение антисоветское, а этот спившийся подонок — прямо как Жданов про Зощенко, — ну подумаешь, имел какой-то талантишко, да и тот пропил, несколько песенок сочинил и возомнил». «Да он умер, нехорошо так с покойным, зачем кричать, товарищ секретарь, а при ваших чинах это даже неприлично». Завизжал: «Вы у меня договоритесь», — и пошел сыпать угрозы. После смерти Володи стали они грызть меня, как по его песне «Охота на волков» его грызли. Слава Богу, похоронили мы вопреки их желаниям — по-человечески. На старом московском кладбище Ваганьково — там, где Есенин лежит, и я хотел там лежать, да вот, видимо, теперь неизвестно, где и похоронят. Говорили друзья, казенная молотилка их не работала. Лежал он на сцене, где играл Гамлета, где так легко и красиво за долгие годы прошел, наверно, по этим подмосткам, не одну сотню километров; удивительная была походка у него. Шли тысячи людей, шли день и ночь, и потом уже три года прошло, всегда у его портрета цветы. А могилы не видно, цветами засыпано все. Многое понял я на его судьбе. Женился он на Колдунье Марине, которая очаровала всю Москву, и увидел он другой мир. Он и свою страну чувствовал остро, без розовой пленки, которую с детства нам старательно напяливают на глаза слуги народа, проносясь в своих черных членовозах — так прозвал народ их машины, а когда один главный идеолог выходил, охрана как-то не заметила одного алкаша, и он столкнулся с Серым Кардиналом (М. Суслов). «Во! — говорит. — Выход мудака в открытый космос». Все он про них и про народ понимал, потому и был истинно народный поэт и положил Господь Бог его рядом с другим непутевым поэтом. Понимал Владимир, что жить он должен в России, а не в парижах, а жить уже было невтерпеж, больно глаз острый. Вот и загнал себя, как своих песенных Коней. «Ни дожить, ни допеть не успел». К счастью, допеть успел — спел про все, да еще как заглянул туда, куда никто из официальных поэтов не заглядывал, а еще снисходительно по плечику похлопывали. А ему очень хотелось, чтоб коллеги признали, хотелось, чтоб книгу выпустили, диск хороший записали. А управители искусства во главе с Химиком-министром все в обещанку играли и ничего не давали. Гамлета и то не хотели дать играть. «Какой он Принц — хрипатый такой и повадки не те». Им, конечно, видней там, наверху, тем более они каждый день даже с королями беседуют. Как он умудрился вопреки всему спеть и написать все, что хотел, одному Богу известно. Как обычно, лишь очень немногие поняли, кто он, многие любили, увлекались, но охватить его значенья не могли даже умные и понимающие искусство. На моей памяти точней Эрдмана, одного из самых близких мне людей, не сказал никто. Сам писал стихи, басни, сказки, пьесы: «В общем понимаю, — заикаясь говорил один из самых остроумных людей, которых я встречал, — могу представить, понять, как сочиняют Галич, Окуджава, а вот как Высоцкий — не могу понять, как возникает у него все это, откуда, приемы ремесла не могу разгадать». В МГУ одного чудака профессора, умного человека, освободили от кафедры — много не тех слов говорил ученикам. Друзья придумали ему должность, чтобы старик мог дожить свой век, — собирать записи уходящих интересных людей от искусства. Вот однажды от него ко мне пришел молодой человек расспросить меня об Эрдмане. «Вам надо к Вольпину идти, бегите, ему ведь 80». — «Был, не хочет». — «Понимаю, любил его очень, ему трудно. Я хитрость применю: я его разговорю, а вы и подоспейте». Дальше, если вам не лень прочитать, и идет наш разговор с дорогим моему сердцу Михаилом Давыдовичем Вольпиным.[2] Пленку я даже не правил и оставил всю корявость разговора, который не предназначался для рукописи: лучше бы тебе, Петр, слушать пленку, да не знаю, где она, может, с мамой поищешь.
МЮНХЕН, 20-го ФЕВРАЛЯ 82 г. — ДО ЛОНДОНСКОЙ ЭПОПЕИ
Летом всей семьей, ты, как всегда, с соской. Бросил ее в 4 года 5 месяцев, когда упал и разбил передние зубы, губа вспухла. Стал похож на перепуганного зайчишку, пошла кровь, как говорила мать, у тебя дрожали руки, ты очень испугался, но не орал, вел себя мужественно. Мать, наверное, испугалась больше.
ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ:
Тень самолета подбирала лапы. Счастливого полета, дети, мамы, папы.Лечу ставить «4 грубияна» по пьесе Гольдони, музыка Вольфа Феррари, к сожалению, средняя, либретто хорошее, будут петь на немецком. Переговоры длились так долго, что отказаться уже было неловко. Дело дошло до вмешательства министра ФРГ Геншера и нашего вечного Громыко, про которого Хрущ, когда стучал по кафедре ООН, сказал: «Нас поливал с трибуны какой-то фашист, я обернулся к своей делегации, говорю: свистать кто-нибудь умеет, они мотают головой, рожи наели, говорю, а свистеть не умеете, тогда я снял ботинок и стал им стучать, поворачиваюсь, гляжу, только один Громыко расшнуровывает ботинок».
Когда я лежал в Кремлевке от желтухи, со мной лежал один поразительный тип, я все слушал вражеские голоса, он требовал прекратить, а потом, напуганно озираясь, спрашивал: «Ну как там?» Я говорю: обосрались арабы и все наше оружие побросали. Я его спросил, видел он Брежнева. «Да, докладывал несколько раз». — «Ну и как?» — «Да как тебе сказать, знаешь, у него вид, ну когда нагнешься, ботинок расшнуруется, ну напружишься, разогнешься, а распружиться забыл. Солидный такой вид». Он не понимал, что городит, и, по-видимому считал такой вид достоинством. Не знаю уж, записывают там в палатах или нет, но он все время делал мне знаки, когда я говорил, или целые пантомимы разводил, чтобы я умолк. Видимо, считал, что записывают. Покойный Эрдман на эту телефономанию всегда говорил: «Бросьте вы, Юра, если у них и есть что-нибудь, все равно половина не работает, а остальные пьяные».
И горы камнем строго глядели в небо. А облака покорно окаймляли камень. Библейский вид. Реально виден из круглого стекла На землю опускался самолет. Окончив лет — он выглядел игрушкой, устав от дел. Петр, Катерина, я, Мы ждали сна.ПОНЕДЕЛЬНИК 13-го 83 г., ИЮНЬ
Посещение твоего сводного старшего брата, он на один год младше твоей мамы. Его мать при помощи Тишки Хренникова, как писал Шостакович — кровавого сталинского пса в музыке (у Злодея много было сторожевых псов — музыку сторожил пес по кличке Тишка), поместила Никиту в службу утешения — так деликатно она называлась, вот довелось и мне собственными глазами поглядеть на все это. Я попросил моего хорошего знакомого врача, он часто тебя смотрел и давал маме советы. Я знал нравы этих заведений, поэтому поехал со свидетелями. Представил его как близкого родственника. Он просил меня, что бы они ни творили, как бы ни провоцировали, быть спокойным и очень осмотрительным в ответах. Что, может, и меня оставят. Вполне возможно, я думаю, это их розовая мечта. Форман — чешский эмигрант нашего вторженья 68 г. создал фильм-шедевр «Полет над гнездом кукушки» — очень похоже на русский вариант. Грязь, вонь, вокруг корпуса, вид такой, будто только война окончилась, чего-то строили, потом бросили, все замерло.
Катерину мою как-то остановил милиционер, дала она свой заграничный документ, нарушенья нет. Он смотрел, смотрел, не знал, что сказать, и придрался к виду машины — ржавеет, говорит, машина. Она взвилась и с акцентом своим: «Что! Вы посмотрите вокруг. — Он, не понимая, стал оглядываться. — Ну что! видите! Вы все кругом засрали. Вы есть засранцы», — и уехала. Я думаю, он от растерянности не записал номер. И среди этого хлама в синих линялых застиранных грязных халатах бродили несчастные, которых еще выпускали погулять. А за решетками на меня глядели из окон другие, не дай Бог видеть это. После… ожидание. Здоровый, по виду сильно пьющий, санитар попросил проследовать в кабинет заведующей. В скромной, довольно чистой небольшой комнате с рукомойником и половиной куска розового мыла восседала, как двойная порция клубничного мороженого, дама в зеленом, вся в золотых побрякушках и в бирюзе. В доме скорби странно было видеть эту толстую наглую бабу, распираемую тщеславием и самодовольством. Она, видимо, тоже приготовилась к встрече и собрала обо мне сведенья. Гусыня восточная, играя руками в перстнях тысяч на 100, докторским тоном, с легким упреком в голосе: «Как же вы, такой знаменитый человек, я понимаю вашу занятость, упустили ребенка», — говорила она о 36-летнем мужчине. Все было как в театре: монолог продолжался долго, прерываясь приходом медсестры крепкого сложения, приходом тренированного санитара, она отдавала тихим строгим голосом распоряжения, они мрачно поглядывали на нас. «Можно мне увидеть сына?» — «Подождите, когда я сочту нужным, его приведут, сейчас придет доктор, который его ведет». Вошел вскоре симпатичный внешне доктор, входящие к мадам все были восточного типа, что как-то сгущало общую напряженность. Доктор тихо, как с больным, начал излагать течение болезни, употребляя термины, которые мне потом объяснил доктор, который был со мной. Он спросил, какие лекарства они применяют. Среди незнакомых я услышал — анемезин, — он спросил дозу, тот назвал, доктор встревожился. Мадам громко, с иронией, вызывающе спросила: «А что, ваш родственник и в этом понимает?» — «Да, он доктор». — «Ах вот как!» Обстановка накалялась, они явно тянули, видимо, приводили его в порядок. «Вы знайте, как это было. Мы с Ольгой Евгеньевной (это его мать) договорились, что она как бы случайно приведет его ко мне в гости. Вначале все было хорошо, он был вежлив, но молчалив. Мне надо было, чтобы он разговорился, я отвела его в комнату, где у меня собрано много икон. И тут он сразу раскололся. Во-первых, начал укорять, что иконы должны быть в церкви, стал объяснять, где какой святой, какого века икона, и все с таким ажиотажем! Прямо подменили человека. Так что дело очень серьезное, папа». — «Почему же мне ничего не сказали, я месяц не мог его найти. Вы что, взяли его насильно?» Но тут ввели сына. На нем, как на вешалке, он очень похудел, висела эта страшная одежда, видимо, только что со склада, все складки от долгого лежанья на полке выделялись, как на хорошо отутюженных брюках, они явно что-то вспрыснули, чтобы вывести его из апатии. И тут начальница этого страшного заведения, не знаю, какое у нее звание по другой линии, у нас это часто бывает.
Время разводок и лжи, попробуй выживи.Начальница неправдоподобно спокойным тоном плохой старой актрисы начала сюсюкать: «Никитушка, скажи папе, тебе хорошо здесь? — Он не то кивнул, не то просто опустил голову. — Успокой папу, скажи ему, как ты меня любишь». Он грустно посмотрел на меня. Пахло спиртом, я посмотрел на его доктора и понял, что он выпивши, я быстро сделал знак, щелчок по горлу — у нас это обозначает «под банкой» — все государство полублатное, вот и повадки у нас такие. Никита утвердительно кивнул. Бандерша увидела и приказала доктору выйти. «Могу я погулять с сыном вдвоем?» — «В сопровождении доктора, пожалуйста,» — и снова монолог: какие у нее связи, что заведение ее очень знаменитое, не менее, чем ваш театр.
Со старшим сыном Никитой на съемках «Кубанских казаков», 1950
6-го МАРТА 84 года в 11 ч. 40 м.
Ночь. Вот, мой дорогой младший сын, и выгнали твоего отца сегодня утром. Приехали чиновники, собрали весь театр и зачитали бумагу. Утром я говорил с англичанином Джоном, он летел из Москвы, передавал разговоры, сужденья, прогнозы. Мой друг встретил сына вождя нового — воспользовался и замолвил несколько слов в защиту твоего папы, а сынок изрек снисходительно и внушительно: «Пусть приезжает и работает, говорят, „на Таганке“ без него плохо». Менее важные тоже милостиво вещали: чего он там боится, пусть едет, с ножами встречать не будем. Кто поумней и посерьезней относился ко всему, что со мной произошло, советовали подождать и не ехать. Ну, вот к ночи все и прояснилось. В день смерти предыдущего вождя из полицейских, по приказу горкома во главе с орангутангом без клетки В. Гришиным, несчастное партбюро Театра должно было выгнать меня из партии. Видишь, сын, граница, как они любят говорить, на замке, а папа все знает, свет не без добрых людей. Заседали они, заседали, не хотели твоего отца выгонять, а тут вождь умер. Пришлось им отложить выгон. Ну а теперь они решили с другого конца начать — выгнать с работы. И замену нашли, а замена эта жила у твоего папы полгода дома, пока твоя бабушка не взмолилась: «Юрик, не могу я больше его терпеть». Интересно, сколько его артисты терпеть будут. Ладно, завтра утром надо рано вставать, допишу как-нибудь.
ЛОНДОН, 11 МАРТА, 10 часов утра
Вчера звонил в 12 ночи Слава из Парижа. Матерился, как всегда, грустно шутил. «Ну! безработный!.. уволенный… В расстройстве… плюнь… им же муд… хуже». Разумеется, все пересыпалось матом. Увидимся сегодня в 1 дня с ним и будем решать обычный «русский вопрос» — «Что делать?». Насчет Николая Губенко ошибся, это артисты просили, чтобы был он. Инстинкт самосохранения: свой сохранит репертуар. Но Булат в письме прав, у них много всяких штучек в запасе. Он бы сохранил мою афишу — репертуар, а Эфрос будет все ломать, и в этом было отказано. Много зайцев убили сразу негодяи, покончили с театром, назначили фигуру вроде прогрессивную, замарали его, он, дурак не понимает, думает быстро взять свою группу артистов, перенести 2–3 своих спектакля с Бронной и начать свой новый театр и покончить с «Таганкой». Интересно, ошибаюсь я или нет. Ты-то, сынок, если будешь читать горькие заметки отца, все уже будешь знать в подробностях, напишут Пимены-летописцы, а может, и я еще при жизни узнаю. Когда сам перечитывать буду, наверно, все буду задумываться: править или оставить, как писалось в горечи и лихорадке безрадостных дней тех лондонских. Умом понимаю, что историю «Театра на Таганке» этой шпане не зачеркнуть. Скольких они перестреляли, а они живы, а эти ходячие мертвецы мертвы, ну ладно, не надо злобиться, это сушит и лишает покоя, а в нервности трудно разумно оценить обстановку. Опять вернулось то состояние, которое было в Ольборо у Славы в доме, и сны пошли опять эмигрантские. Проснулся ошалевшим. Снилось, я там. В аэропорте объявили посадку, бегу, страницы служебного паспорта вылетают, я их собираю и все думаю, перескачу через границу или схватят. Я тебе, сын, напишу главу о снах.
ЛОНДОН, ВОСКРЕСЕНЬЕ 84 года
Великий пост перед Пасхой. Переводчица «Бесов» повела в собор Православный. Владыко прекрасно читал Евангелие, проникновенно и мудро, как Тихон, видимо, много страдал, потом узнал, что так и было. Тяжело и долго болел. Продолжу потом, сейчас надо бежать выбирать артистов.
11-го АПРЕЛЯ. ФЛОРЕНЦИЯ
Работа идет нудно и вяло. Вчера встретил Копелева с женой. Быстро, много, сбивчиво говорили, подарил свою фотокарточку с Папой — Павлом-Иоанном. Прощались грустно, ему 72 года, а он с надеждой спросил: а может, еще вернемся. А? Я ответил: непременно, и в это мгновенье верил в это абсолютно. Опять прожектерствовали, как бы здесь создать «Таганку».
13-го МАРТА 84
Опять появился бедный В. Сеченов. Его врачи приговорили — рак. Восклицал: «Ну что, говорил я вам, что Эфрос негодяй, безразличный ко всему, кроме своей особы, а вы еще заступались! Держится, как будто ничего с ним не произошло».
Помолчав, вдруг: «Знаете, я сперва много плакал, а потом стал думать, я ведь, знаете-с, должен был умереть в 17 лет. (Его вели на расстрел наши, захватив у немцев). Так что Бог подарил мне 30 лет жизни». Дал мне подлую статью московского корреспондента немецкой газеты «Де Гельбрэхт», штутгартской газеты. Явно заказанной нашими с подробностями, которые знают только они, подслушанные телефонные разговоры с родными, артистами театра и т. д. Навел справки: оказалось, что это известный советский провокатор. И хорошо сотрудничает с советскими 10 лет вместе с женой.
16-го МАРТА
Страстная неделя перед Пасхой. Понедельник, день тяжелый, поехали опять смотреть актеров, идет нудный дождь, и мне кажется, я бесконечно только и делаю, что смотрю актеров, неуютный новый театр, барабанит дождь, невнятно, на чужом языке лопочут артисты, очень неуютно, сыро, холодно, а вчера было так прекрасно на мосту Понто-Веккьо и даже в очереди, как в Советском Союзе. Только здесь довели Рафаэля. Вечером вернулись во Флоренцию. В комнате восседал князь Волконский и беседовал с Катериной. Он мало изменился, не виделись лет семь. Я встретил его в накидке со львами, выходящим из Гранд-Опера с палочкой. Он как-то очень неудачно еще в Москве сломал бедро. Проснулись, он опять в этой накидке, вспомнили многое, накидка, оказывается, английского полисмена, куплена на Блошином рынке. «Бросьте вы всех этих советских, оставьте там, выкиньте из головы, иначе очень трудно и отвлекают от нужных занятий, а вам нужно все сначала начинать». Договорились встретиться в субботу в церкви на Пасху. Знакомые, тоже в чинах — княгиня Алсуфьева, прелестная старуха, сохранившая в 80 лет ясный ум и обаяние, как Капица в 90 лет, — ума не приложу, откуда такая закалка, действительно: «Кровь — великое дело».
18-го МАРТА, СТРАСТНОЙ ЧЕТВЕРГ 84 г.
Год Орвелла, за ним год Баха — вот и утешение. Надо вытравить из памяти и забыть старух зловещих — это их жены, стариков-правителей, дряхлеющих над выдумками вздором, про их демагогию. Безумным вы прославили меня всем хором — это про меня, сын мой! «Вы правы, из огня тот выйдет невредим, кто день пробудет с вами. Подышит воздухом одним и в ком рассудок уцелеет». А Грибоедов.
Действительно, для меня год Орвелла: выгнали из России, лишили всего, родных, друзей, «Театра на Таганке» — к сожалению, часто все думаю обо всем этом, трудно отрешиться. Да и не выйдет у них ничего. Площадь Таганская останется знаменитой тюрьмой да театром, который выстоял 20 лет, а не их вшивыми заседаньями да постановлениями. Небось, когда немец подходил к Москве, благодаря мудрости пахана злодея по кличке Коба — над Москвой черный снег день и ночь летал — все жгли свои подлые бумаги, следы заметали. Забыли небось, как белье меняли засранцы — всю страну, могучую, прекрасную, богатейшую, во что превратили? Стыдоба да и только, чтоб им ни дна ни покрышки. Ну ничего, отольются им слезы горечью такой, какой их тупые мозги и вообразить не могут. Вот увидите, будут жить эти все начальники на общих основаниях. Впереди год великого Баха, а уж он им покажет — почем раки зимой. «Горе только рака красит» — так вот, может, и покраснеют их бесстыжие рожи. Ну ладно, хватит — излился, иззлился. Изругался — нехорошо. Вертеп в этом театре «Коммунале» немыслимый — все, все врут. Ничего нельзя задумать, исполнить, все равно обманут — звезды проклятые не едут. Но итальянцы, как грузины, не унывают и верят, что спектакль О горбуне и дочери — будет Мольто Бене! В субботу пойду к вечерне. В светлое Христово Воскресенье все поедем, Бог даст, в Сиену, один из самых красивейших городов мира. Площадь такая, что ахнешь. Неужели Катьке не понравится, впрочем, не удивлюсь. Надеюсь, погода будет хорошая. После Пасхи начнется выпуск оперы, это часов по 12 тяжелейшей работы и сплошных нервов. В общем, «на Бога надейся, а сам не плошай». Буду молить Бога, чтоб возродилась моя «Таганка» не в Европе, а там, Бог даст, вернусь и на свою Таганскую площадь.
23-го АПРЕЛЯ
ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ И СМЕРТИ «ТЕАТРА НА ТАГАНКЕ» и день моего Святого Георгия. Новый папа его не признал и отменил. Вот видишь, Петр, отменили моего Святого и меня сразу выгнали, и находимся мы все в Италии во Флоренции. Проснулся в 7 утра по итальянскому времени от кошмарного сна, по московскому в 10 утра, как и просил вспомнить всех в час репетиции, то есть в 10 утра, весь наш путь Кошмар сна навеял дикость одиночества, и я придвинулся к маме твоей. Снилось, что портфель мой черный с пупырышками из страуса, это тот, который прячет головку свою маленькую под крылышко от беды, упал в жидкую грязь, я поднимаю и все стараюсь стереть белым снегом, а рядом на черной тахте в костюме Гамлета лежит Владимир. Я говорю: как же вы не заступились, и все развалилось, а он махнул рукой — трус я, испугался, не поехал. Актеры чего-то репетировали наподобие «10 дней…» Рида, и очень громко кричала бедная Зинаида Славина.
Потом мы все встали и поехали в Сиену. День Пасхи — Светлое Христово Воскресенье — был прекрасен. Солнце, красивая дорога, город — ни в сказке сказать, ни пером написать. Раскованные, свободные люди — к сожалению, очень много туристов. Даже нашу группу видел: какие-то пыльные, серые, немытые, держатся кучкой, скованные, напряженные, но хорохорятся. Жалко их. И за версту видно — вон русские. Обратно вел машину сам, чтобы мама могла любоваться дорогой. В понедельник поехали к Алсуфьевым за машиной Воронцовых. Удивительно, вспомнил Пушкина, его слова: «В Библиотеке Воронцова окунулся в Шекспира. Какие бездны он открыл мне» — цитирую по памяти. На горе князей в сердце Тосканы старый дом. Прекрасно оборудован, с большим вкусом, но просто, уютно, удобно. Дочь пригласила погостить нас в июле недели на две. Ах, какой прекрасный день был, Петр, постарайся вспомнить.
24 АПРЕЛЯ 84 года, ФЛОРЕНЦИЯ
Явился знаменитый Каппучили, опоздав на неделю и 15 минут… Все ждали в зале, на сцене стояли декорации. Он маленький, злой человечишко на больших каблуках. Вышел на сцену с заранее заготовленным шоу. Гордо встал спиной к нам и долго играл, что рассматривает манекенов. Потом изволил все-таки повернуться и заявил: «Это не Верди! В таких декорациях я петь не буду». Я заметил: «Ты что, теперь стал сценографом?» — «Я 300 раз пел Риголетто, а один раз в Женеве в нечто подобном, это было ужасно». Наступила пауза: все ждали и уставились на меня. Я подумал и ответил: «Ничем не могу вам помочь». Неожиданно он заявил: «Давайте репетировать». Весь день работали, я нарочно просил Анну время от времени спрашивать, удобно ли ему, — он отвечал: «Проблем нет, все хорошо». Утром, не простившись, уехал. Полный скандал — никто не знает, что делать, да впрочем, как в Союзе, не к кому и обратиться. Берио — композитор, директор Флорентийского фестиваля, в Америке, дирижер где-то в Кельне. Совещаемся, что делать, жалко работы, весь спектакль вчерне сделан, и мне кажется, может получиться. Оказалось, он даже оставил вещи свои в гостинице, уверенный, что меня выгонят, а предпочтут его. В Италии опера, как у нас хоккей — партии болельщиков, вражда, кланы. В этом оперном мире такое же политиканство и подсидка друг друга, как в Политбюро СССР. Все газеты Италии обсуждают это событие на первых страницах. Будто в мире нет других забот — смешно и грустно. На пресс-конференции в набитом огромном фойе Флорентийского театра Коммунале словно войну объявили, гудели журналисты. Обступили меня и стали совать в рот микрофоны, я отбрехивался как мог, повторил все обстоятельства, благодаря которым разразился скандал. Паранойя звезд и их любителей делает невозможным создание приличного спектакля, все-таки это хоть и оперный, но театр, а их желания — используя популярность, голос и знание своей партии, в день-два быстро усвоить примитивные мизансцены, взять огромные деньги и порхать дальше — какие милые пчелки! Даже возят своих режиссеров, чтобы делали одно и то же. Словно меня кто-то дернул — я извинился, что поневоле стал яблоком раздора, поэтому не хочу обременять театр и город своим присутствием и удаляюсь, и все мотыльки слетятся и будут услаждать своих поклонников. Театр просил остаться. Директора фестиваля, композитора Берио засыпали вопросами. Когда я говорил, то сказал, что рано утром пришел в театр — пересчитал. Все манекены были на месте, но убежал дирижер. Правда, Муссолини, которого я поставил, исчез. Видимо, уехал за своим поклонником. Муссолини стоит, а Сталина — нет, потому что выгнанный из Советской России, я продолжаю и здесь свою компропаганду, — объявил в газете синьор Каппучили. (Никакого Муссолини не было.) Потом все убежали на «манжа́ре» — по-нашему, на обед, и остался я один среди красных кресел пустого модерного театра.
Я много раз в горькие минуты сидел вот так же один в пустых залах, когда тишина театра и одиночество заставляют много передумать, и мысли потоком проходят внутри тебя. Понимаешь, каких трудов стоит создать из пустого пространства что-нибудь путное. Плывут по бесконечной реке жизни воспоминания смешные, глупые, забавные, трогательные, нелепые, страшные, вроде Гамлета, когда все рухнуло и занавес похоронил с гробом Офелии всех. Говорят, я дико закричал, когда все падало, секунды растянулись в бесконечность, и в тишине неестественно спокойным голосом я спросил тихо: жив кто-нибудь? Актер по кличке Винтик ответил — живы, из занавеса выползали артисты. Всех спас гроб Офелии: конструкция проломила гроб, все остались живы. Премьеру перенесли. Прошли годы, теперь они раздавили театр, а я продолжаю драки уже здесь, во Флоренции. Против касты оперных мафиози, которые ведут себя точно как советские с «Пиковой Дамой» — ругают непоставленный спектакль. Когда Хрущев ругал Вознесенского на знаменитом разносе после Манежа, то говорили: а этот вышел в красном свитере, как не стыдно. Я спросил Андрея: вы были в красном? «Нет, в голубом. Вот в этом». Удивительно гнев застилает глаза. Свистопляска в газетах продолжается, глупость нарастает. Многие за меня заступаются. Штреллер и профсоюзы, например. Все заняты дракой, а на спектакль наплевать. Графиня Алсуфьева написала в местной газете: «Переменилась страна, город, а атмосфера вокруг Любимова осталась все та же». Аргументы против, как в министерстве, — те же. «Это не Верди». Наступила премьера 5-го мая, я решил не приходить — нет, уговорили. Облачился в пиджак, затянул галстук, белый платочек в карманчик, и двинулись с мамой, а ты остался с симпатичной старушкой, которая 20 раз колола твоего отца в жопу. Вообще, сын мой, меня кололи много и больно. Я пишу, ты дергаешь руку и мешаешь. Мама сердится, я, не удержавшись на выкрики идиотов на премьере этой дряхлятины оперы, где певцы и болельщики с куриными мозгами кричали твоему отцу: убирайся в Сибирь, снежный балбес! — свистели, топали, орали; я не удержался, старый дурак, и сделал интернациональный жест — пошли, мол, на… Все газеты назвали меня не элегантным. По сути дела, некоторые поняли замысел и дурное его воплощение. Мама шокирована, ругается и презирает. Хотя до этого кричала балбесу Риголетто: «Мердо! Мердо!» — по-русски, мой сын, говно. Перед премьерой позвонил Максимов. «Передаю вам небольшую радость из Москвы. Вчера шел „Мастер“, и на реплику Маргариты — „верните нам мастера“ — зал хлопал и кричал: „Вернуть Любимова!“ А на реплику — „этот тип с Малой Бронной“ — улюлюкали и кричали: „Эфрос, убирайся!“» Шутливый тон от горечи. Ладно, теперь целый год буду отдыхать от опер, заниматься прозой, как здесь говорят, то есть ставить спектакли. Надо готовиться к фильму и телевидению. Проектов много, но часто все упирается в деньги. Есть несколько предложений создать свой театр, надо выбирать и решать.
10-го МАЯ 84 г. МИЛАН. КЕЛЬН
Катерина с Петром отвезли нас с Анной на аэродром. Барахлило сцепление, надо поставить машину, вырванную у венгров, на стенд и проверить. Приземлились в Штутгарте. Холмы, зелень весны, шапки цветущих деревьев, сверху очень красиво. Вчера поздно обсуждали с твоей мамой причуды ностальгии — она вдруг объявила, что столько страдала в Москве, что частица осталась там, почему, когда счастливые дни и хорошо они проходят, не оставляют заметного следа. Я думаю, часть души остается там, где много страдал, это и назвали ностальгией, расколотая душа жаждет воссоединения, и человек страдает. Это приводит даже к катастрофам.
Звонил Берио, сказал: 2-й спектакль прошел с огромным успехом, попили кровушки и все довольны. Прямо коррида, а не спектакль. Мама твоя наконец получила шубу, привезла ее знакомая венгерка Марта, ее муж режиссер симпатичный и знает свое дело, говорит, что поступил я правильно и довел через весь скандал спектакль до конца. Для Италии, где все диктуют звезды, это очень важно не только для меня. Идем на посадку в Кельне. Твоему папе здесь тоже предлагают театр. А в Кельнском соборе будут петь Страсти по Матфею Баха. Осмотрели церкви, искали хорошую акустику, нашли церковь 10-го века. В огромном Кельнском соборе петь нельзя — эхо и давит громада, и не располагает слушать музыку. Высоко в небе, в черном от грязи Кельнском соборе в готических сетях каменных переплетов торчат белые мраморные святые, грязь не касалась их одежд. Они снисходительно смотрели на задранные головы людей, старающихся запечатлеть строгий черный собор. Тащимся к Стефану в Саарбрюкен, как будто в далекие времена в Москве дачным поездом со всеми остановками. Стефан интересно говорил об экспедиции к людоедам, племени, которое съело сына Рокфеллера. Они вышли сражаться, а он с оператором хотели это снимать, тогда они отменили бой и съели их. Потом неожиданно сказал, что если бы, я жил с ними, то тоже ел бы. Совсем нету них протеинов, и они болеют. После боя съедают убитых. Я спросил: страшно? — Один раз было, да. Он говорит, что когда показываешь фотографию, себя не узнают, а кто-то узнает ухо, нос. Нет восприятия целого. Они бы давно вымерли, если бы не миссионеры.
Был у мадам Мартини в «Распутине». Вдруг она тоже говорит о страхе. «Был Евтушенко, привел советского советника по культуре, а мне не сказал, я говорю, абсолютно уверена, что француз, потом узнаю, кто — мне стало страшно. Вот какие у вас работают, только приглядевшись потом к жене, увидела, слишком много красуется». Смотрели соборы. Боже, как красив Нотр-Дам. Будешь там, Петр, вспомни отца. Поставил свечи. Помолился за вас с мамой и всех оставшихся.
ВЕНА. МАЙ 26-го
Завтра приезжает твоя бабушка, она у тебя одна, очень к тебе привязана, не видела тебя 9 месяцев, очень тосковала. Твоя мама бушует, квартира старая, затхлая, грязная, плохая, но с садом, ей не нравится. Каждый день смотрит другие и все — плохие. Театр Бург тоже старый, величественный бюрократ-муравейник, все ползают, смотрят на часы, не переработать чтобы, и вяло отрабатывают зарплату. В общем, государственное учреждение. Вчера украли топор для «Преступления и наказания». Чувствую себя как дома. Только не думал, что австрийцы воруют. Ты, Петр, все спрашиваешь, где мы, в Италии, в Венгрии, часто спрашиваешь, когда поедем в Москву, а мама встречала вчера много венгров, очень расстроилась: «у них такой затурканный, обалделый вид, глазеют, смотрят витрины, суют шиллинги, даже не могут сказать „битте“, становятся похожи на ваших русских. Так что хорошо хоть пусть будет Петру, и он будет избавлен от всего ужаса вашей жизни и не будет таким». Встречая бабушку, ты сорвал очень красивый граммофон петуньи. Австриец строго посмотрел, ты ткнул в сторону проходящего поезда и гордо ответил: для бабушки. Конфликта не было.
ВЕНА 2-го ИЮНЯ
Замотался, давно не вел запись, репетиции и Марк с книгой о твоем отце, его театре, жизни, они должны выйти к спектаклю «Бесы» — приходится говорить на пленку 3–4 часа да 5 часов репетировать «Преступление». Устаю, прихожу, немного поиграю с тобой в футбол, поужинаем и ложимся спать.
Приехал носатый Горош поговорить. Видишь, как люди жаждут обмена мнениями, примчался из Будапешта, не побоялся опального твоего отца. У них все-таки посвободней, чем в этой несчастной советской России. Ее и Россией-то не назовешь. Сахаров голодает, они все врут, мир возмущается, а им плевать. Паранойя вместе с манией величия, издержки мнимой силы, бесконтрольной неограниченной власти, мозговой отсталости и комчванства, как говорил их вождь, на котором они стоят по праздникам и машут старческими ручонками массам, проходящим мимо злобных старцев, и равнодушно глазеют друг на друга. Может быть, радуются на свои портреты, плывущие мимо старческих глаз. Министерша Фурцева, как-то беседуя с твоим папой, стукнув ручкой по столу, заявила: «Вы думаете, только у вас неприятности, меня ведь тоже носили, а теперь, вот видите, сижу тут и с вами говорю». Вот до чего дошла. Дура, но хоть живая, не то что нынешний косой черт!
Ты очень нежен и внимателен к бабушке, она счастлива, даже лучше себя чувствует. Гуляй! Скоро пойдешь в школу — Лондон. Французский лицей для москвича-будапештца звучит шикарно. Мама показывает Вену бабушке, покупает подарки, папа с сердцебиением считает деньги. Все занимаются своим делом. Эфрос ставит «На дне» и пишет книгу — 2-й Театральный роман. Хочется поглядеть, чем все это кончится, особенно 2-й Театральный роман Эфроса с Таганкой. До него дошли слухи, что я выразил недоумение его решением взять театр вопреки артистам, которые просили его не приходить к ним. «Не понимаю, чем он недоволен. У него всегда был скверный, взрывчатый характер». Это он про меня, сын мой!
Горош — носатый венгр, был с сыном, женой и прекрасной фотографией маленькой дочки. Обнимал, целовал, оживленно говорил, что творится в Будапеште, он был у твоего высокопоставленного крестного, тот закатывал глаза-маслины, положил мое интервью в «Таймс» и восклицал: читай, читай, я подожду. Тот стал быстро пробегать, чтобы не задерживать столь важную особу. «Сколько раз я его предостерегал, просил быть осторожным, не давать никаких интервью, и вот! Надо его спасать, послать корреспондентов, и пусть даст другое: был в депрессии, шокирован, удручен. Ты, если узнаешь, что он приехал, сразу извести меня, где бы я ни был».
ГОРОШ. Тут я сообразил, что же он такое говорит, ведь ему сразу доложат, если вы вдруг приедете.
ОТЕЦ — ТО ЕСТЬ Я. Сразу. В наручники и в советское посольство, а там уж как Москва распорядится.
ГОРОШ. Вы думаете?
ОТЕЦ ТВОЙ. Уверен.
ГОРОШ. Я думал, знаете, ведь Венгрия всегда была вроде шлюзования для спада давления. Пока бы, говорю, он у нас поработал, а там видно будет.
КРЕСТНЫЙ. Нет! Нет! Подожди, торопиться не надо. Мама переводила, пили венгерский уникум, кофе, на веранде кругом зелень, очень красивый плющ, цветы, высокая заросшая стена, прекрасный вечер, пели птицы. Все было нелепо, грустно и смешно. Мы с комиком выглядели старыми дураками. Хотя он хитер, помог вырвать через своего друга замминистра внутренних дел твой любимый «Фольксваген гольф», правда, сильно потрепанный Мики, мужем маминой подруги Евы, работником общества венгеро-советской дружбы. Эти общества сугубо просоветские, и к тому же их обирают наши хамы. Мама твоя работала там же, но была редким исключением. Когда твоя бабушка узнала о нашем браке, ей стало плохо. Так они любили советских, особенно за слово «Давай!» Тут все — женщины, часы, еда, жизнь. В общем — давай, и все.
На отдыхе Катя и я, Венгрия, 1977
ВЕНА 4-го ИЮНЯ 84 г.
Вчера приехал Марью из Атера — объединения театров. Предлагает международный театр — типа театра Наций в Париже. В Болонье снова надо строить — переделать старый красивый архитектурный ансамбль, создать театр и школу. Буду думать, какой дать ответ. Италию мы все любим. Мама, ты, я. Город очень красивый, правда, не Париж.
ВЕНА 8-го ИЮНЯ 84 года
Все, разные сны, лица разные, смысл один. Проснулся, десна опухла под коронкой, а сон все к Дупаку и Глаголину, который, как всегда, отмалчивался и загадочно улыбался, до слез доказывал, как же можно все отнять, ведь я столько работал, обида была глубокая до слез. То с Владимиром лежим под одним одеялом, а публика, все больше молодые, забегают посмотреть. Театр похож на зал Политехнического в Москве. Репетиции идут иногда прилично, часто некоторые, самые знаменитые, конечно, капризничают. Все им кажется, что я их в марионеток превращаю. Уж я им и про Симонова рассказал, как он ко мне после Бенедикта — я за него быстро ввелся и довольно удачно — пришел, сел, говорит: «Молодец, хорошо, весь рисунок роли точно воспроизвел, и видишь, и публике и спектаклю на пользу». Я скромно так: «Ну что вы, Рубен Николаевич. Я только ваш рисунок повторил». Страшно обиделся: «Мальчишка! ему комплимент мастер делает, ведь какой рисунок сложный, суметь надо», а он — «подумаешь, что я сделал», — и ушел. Они не поняли, приняли как забавную историю. Мой помощник итальянец Руди тоже говорит «не поняли намека». Редактор у меня Руби, помощник Руди, я все путаю, и они оба смешно настораживаются.
Ты, Петька, все больше хулиганишь: мать говорит, вдруг сдернул штаны и с восхищением на стоящий крантик свой закричал: смотрите, какой большой! Говорят, возраст такой, по-моему, рановато. Мама и бабушка были в восторге.
Вестей из Москвы нет, даже брату не могу позвонить, не соединяют. Долго скитаясь, пришло письмо от Иры с Левой с оказией, печальное и трогательное, с большой горечью. Обязательно прочти, Петр, многое поймешь. Трудно в старости терять верных друзей. Письмо два месяца ожидало оказии, объехало полмира, появилось в Лондоне, куда попало из Америки, и наконец в Вене. Сейчас пойду репетировать. Постараюсь прогнать 1 акт в самом черновом виде. Прогон прошел ужасно, все всё путали, лишь кое-где проглядывало что-то живое — особенно у Сони, иногда у Порфирия. Государственный театр — ленивы, спокойны, нелюбопытны. Но все равно заставлю сделать все как надо, куда им деться. Часто в Москве, зажмурясь, глядя на солнце, как старый кот, я вспоминал свою работу в Италии, и казалось, что там был совсем другой человек. Теперь в Вене на веранде, жмурясь на солнце, все наоборот. Вся моя жизнь, особенно «Таганка», кажется нереальной, далекой, и я там существую отдельно от сегодняшнего меня.
Говорили с Марком о Достоевском, о снах, реальности и среднем полуреальном существовании, очень часто он прибегает к этому, конечно, сразу ярлык — фантастический реализм. Он просто, как гений, необыкновенно остро чувствовал коллизии, парадоксальность жизни. Страдал много, нервы обнажены, да еще падучая. Это все для книги к спектаклю «Бесы». Ты подбежал и спросил: «Почему бабушка старая?» Был обеспокоен ее здоровьем, ты с ней нежен, внимателен, ей это очень важно, она чувствует себя от этого лучше. Вырастешь, не потеряй по дороге доброты и сердечности, запомни просьбу отца.
ИЮНЬ 17-го, ВОСКРЕСЕНЬЕ 84-го
Снова Олимпиада, как в лето смерти Владимира. Футбол — полный разгром Югославии Данией. Игра азартная, датчане прекрасны, мастерство высокое. Это вчера, сегодня за завтраком объясняем твоей бабушке, почему пришлось пока всем нам жить на Западе. Вроде она согласилась, что если не дают мне работать, а тебя с мамой отправили бы в Венгрию, разъединив нас, то мы правы. Спросила, а когда вы проработали 50 лет, что неужели вам не дали даже медали, у нас благодарят в торжественной обстановке. Мама переводила, я ответил — в очередной раз дали с наставлениями по шее и так сильно, что я вылетел, прорубив башкой в очередной раз окно в Европу, по Пушкину и царю Петру.
«В Европу здесь нам суждено В Европу прорубить окно». «Медный всадник» — А. С. ПушкинМожет, медным всадникам и ничего прорубать окна, а вот живым очень даже больно. Недаром твоя мама в Москве заявила, что не может больше смотреть, как с твоего отца сдирают шкуру день за днем годами, поучая и приговаривая при этом. При последней проработке в райкоме партии проклятой очередной балбес заявил: «Вы, товарищ главный инженер, бракодел, у вас работу не принимают. (Это он о спектаклях „Борис Годунов“ и „Владимир Высоцкий“.) Вы подвели коллектив, а коллектив всегда прав, значит, виноваты вы один. Отсюда и вывод — не можете, не работайте». И моя приписка, в старой записи: «Больше на проработки к ним ходить не буду». Запись оказалась пророческой.
Единственно общая черта между кап. и соцлагерем у меня — это нетерпение, ожидание отпуска. Видимо, сказывается 52 года трудового стажа на трудовой книжке — главной книге жителей СССР. Утром после бурной перепалки уговорил всех, твою бабушку, которая собралась умирать, поехать в знаменитый Шенбрун — замок хорошей архитектуры, лучшей в Вене, стриженый парк пошли с тобой в Зоопарк В бассейне плавали бегемоты, один выплыл, уставился на людей выпученными глазами, посикал крупно, вымыл огромный зад хвостом, не как ты, тебе моет задницу мама, и уплыл. Постоя ли у орангутанга, грустно посмотрели друг на друга, он протянул лапу, дать нам было нечего. Напоминал Гришина, но тот, к сожалению, без клетки. Вспомнил фильм «Большой вальс», очень популярный в Москве, с певицей Милицей Корьюс, и как советские лидеры, посмотрев его, усмехаясь, приговаривали: да! не с теми спим. Когда были в Париже с Таганкой, Марина с Володей повели актеров в клуб Жерара Филиппа, встретил нас старый актер с удивительно знакомым лицом, он играл Штрауса, фильм наивный, а запомнился, особенно венский лес, и как под стук коляски у него в голове возникал знаменитый вальс «Сказки венского леса». Венцы довольно скучны, грубы, а стиль езды за рулем московский, кто первый высунет морду — стиль морды. Так же ездят неаполитанцы, но они симпатичны, оригинальны, город фантастический, веселый. В саду у графини, которая сдает квартиру нам, прием, говор, и ты подсматриваешь сквозь кусты, а я сижу и пишу тебе эти строчки. Интересно, что ты будешь думать, когда будешь читать книгу, специально написанную тебе. Ты был маленький Епиходов, в парке опять расшиб коленку, хорошо, у Анны был пластырь.
24-го, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ИЮНЬ 84 г.
Горечь по Таганке не проходит, видимо, будет лечить время. Грызет мысль, что там мы все нужнее, чем здесь. Рахлин передал поклоны от друзей, актеры жалеют, вспоминают, но что они могут сделать в таком государстве, где Миттерану «Правда» вырезает все острые места, а он, умывшись, молчит, а зловещие старцы, внутренне ухмыляясь, хвалят основной лозунг Запада: «Лучше быть красным, чем мертвым». По-моему, они сами и подбросили его Западу. Отец, а затем Николай Робертович Эрдман, мой большой старый друг (дай Бог тебе, Петр, встретить столько замечательных людей, твоему отцу повезло) — он часто говорил: я уж не доживу, Юра, а вы, может, увидите что-нибудь поприличней. Вот мы с тобой и попали на Запад, дружок ты мой маленький. Здесь больше шансов стать приличным человеком, труднее оболванивать людей, ты можешь получить хорошее образование без их проклятой идеологии. Не обрати во зло данное тебе благо, благодари Бога и отца с матерью. Бабушка от нас уезжает, а ты опять так к ней привязался, она успокоилась и даже здоровье стало лучше. Но поехать к ней ни тебе, ни маме нельзя. Такие у нас хорошие правители, злыдни, нелюди, по народному выражению. Их теперь два сорта: «вечно живые и еле живые». Москвичи унывают, но анекдоты все-таки сочиняют.
14-го ИЮЛЯ 84. ДЕНЬ ВЗЯТИЯ БАСТИЛИИ
Жду известий из Парижа. На старости лет вздумал поиграть с прибоем, вновь почувствовал себя щепочкой. Ты, Петр, со своим новым 5-летним другом Николой, с двумя кругами под мышками быстро убежали, наглядный быстрый урок. Давно не записывал, время закрутилось быстро. Второго июля приехали в Милан. Квартиру дал Аббадо руками его жены Габри, она удобна, красива, отдыхаешь душой и телом. Не успев расположиться, улетели в Париж к министру Жаку Лангу. После торжественного вступления в стиле Людовика XIV — «Я и Франция рады оказать вам гостеприимство, предоставить вам театр» — вывел меня на балкон. Говорил, какое значение имела эта площадь во времена Французской революции. Спросил: «Вы знаете?» Твой отец (большой дипломат) ответил: «Да, я здесь стоял с г-ном Мальро». Мы молча вернулись в кабинет. Кстати, для правды! Я перепутал, я стоял с другим министром. Мне передали из Москвы ответ нашего министра на вопрос артистов, смогу ли я работать у себя в театре с ними. «Нет. Мы подыщем ему работу, если вернется». Каков подлец. Посмотрим, сын мой, как Бог распорядится данной ситуацией. Надеюсь, что вы с мамой, а может, Бог даст, и я с вами доживу. Таганка, как и все мы, должна быть там, а не здесь. Но, сукины дети, дошли до того, что готовят Сахарова для выступления с самокопанием для проклятого ящика, по телевизору, как говорит твоя мама, «вымывают мозги». Надеюсь, Бог не допустит этого. Пошел на пресс-конференцию Андрея Тарковского, надеясь как-то помочь ему вернуть сына. Он с бабушкой больной и старой в Москве. «Бесы» его не отдают. А бедный Андрей все говорил о своих обидах, называл десятки фамилий чиновников, которые не давали ему жить. Ростропович шептал твоему отцу: «Вот и ты в Ольборо часами мне плел все это, а когда меня лишили гражданства, я утомлял окружающих той же музыкой». Он прав, мы все искореженные, больные люди. Здоровым там быть нельзя. Окружающие слушали. У них свои проблемы и так же много своих балбесов. В сумятице вопросов все забыли о его сыне, как и он сам. Урок твоему отцу. Ведь с малых лет знал поговорку: «Обиды мешают дело делать».
84 г. 16 ИЮЛЯ
В этот день, Петя, стал я человеком без гражданства. Пришла итальянская полиция. Сообщила, что звонил советский консул Турина, настойчиво просил позвонить. Сухо, твердо довел до моего сведения указ о лишении гражданства СССР. Потребовал встречи и сдачи паспорта. Оставлю как сувенир, а потом посмотрим, что будет через год-два. Спросил, кем же вы меня сделали: грузином, таджиком, французам. Я как был русским, так и остался. Совсем распоясались после смерти Андропова. Он снова потребовал встречи. Я не советский гражданин и с вами встречаться не хочу. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца — говорили древние. Вспомнил письмо Ирины: «Наверное, мы больше не увидимся». Письмо ее поразило грустью и безнадежностью. «В России нет закона, есть столб, а на столбе корона», А. С. Пушкин. Вот и закончилась 20-летняя тяжба с обалдевшим советским правительством. Камердинер Брежнева по партийной кличке Открывашка (открывал Брежневу боржом) — у них все вожди от Сталина до Брежнева пьют боржом, что пьет камердинер Открывашка, я не знаю — начал сталинщину, а кончится все быстро трагифарсом. Черненко начал черненкоизм с торжественного приема Молотова в партию. Надеюсь, что Бог не допустит сосовских, кобовских (сталинские партийные клички) кровопусканий. Может, мир откроет глаза, поймет опасность и поставит плотины против зловещих кремлевских старцев. Если перечислить все их преступления за 66 лет — цифры «Бесов», — потребуется многотомное сочинение, и сидят Пимены над письменами
И не уйдешь ты от суда мирского, Как не уйдешь от Божьего суда.И кончится последнее советское правительство страшным кошмаром истории. Можно подписаться: человек без гражданства.
Хотя днем чудесного избавления этот день не считаю.
Описание отлучения от советского стада передано мною, Петр, сухо, все было пережито мною и твоей мамой в Лондоне. Она не знала, что делать, как быть с бабушкой, с Венгрией. Я переживал потерю всего. При этой бесчестной, уголовной власти возврат невозможен. Надо начинать как бы заново. Вырастешь, поймешь, каково это в 66 лет. Проклятая пресса и болтливость людская (в том числе и твоего папы) осложняют сложности новой жизни. Я хотел работать «Страсти» с Манцу, растрепали раньше времени, все переврали, а я с ним и не говорил, боюсь, обидится — не захочет. Господи, сколько вреда приносит болтливость всему миру, недаром святые люди давали обет молчания. Пишу все это тебе на пляже, подходит гроза, и все зонты на километры закрыли и зачехлили, сразу получился странный неземной пейзаж. Напрасно — в горах погрохотало и унеслось дальше. Раскрыл зонт, продолжаю записывать. Купаюсь, лениво текут мысли, сильных чувств нет. Очень жарко, трудно пройти босому до моря, прыгаешь по теням от зонтиков, как мальчишка, можно сварить яйцо в песке. Средиземное море очень соленое, щиплет глаза, после купанья выступает соль и надо брать пресный душ, пойду возьму и примусь за «Бесов» не советских, а Достоевского, впрочем, они похожи, как близнецы.
19-го ИЮЛЯ 84 г.
Предложили стать руководителем АТЭРа[3]. Летает самолет с надписью: «Львами рождаются». Контракт на 2 года.
21-го ИЮЛЯ 84-го
День рожденья твоей бабушки, Петр. 71 год. Хорошо, что позвонили вчера ты и друг твой Никола, у него год назад умерла мать. Иногда он, пятилетний мальчик, отрешенно смотрит неподвижно вперед недетскими глазами, уйдя внутрь себя и не замечая никого, ему всего 5 лет. Бабушка его, жена моего нового итальянского директора Марио. Рассказала твоей маме. Поднял кулачок вверх и зло крикнул: «Ненавижу небо… Оно отняло у меня маму». Вот и вспомнишь Достоевского с его рассказами о детской судьбе.
ЛОНДОН, 19-го АВГУСТА
Тяжело идет работа над «Бесами». Рекомендованная мадам Кириллова сделала перевод на уровне школьного сочинения. Сидели, обложившись переводами. Я старательно убеждал, что надо сохранить и смысл Ф. М. Бесполезно. «Как с гуся вода», — уверена, что все прекрасно, — копия Н. Ржевский; досада, время истрачено, толку чуть. Нашли нового театрального человека. Буду начинать с ним все сначала. Ее возвышенное письмо с моими комментариями в записях. Очень сожалею, Петр, что с мамой не поведу тебя в лицей и не буду праздновать с тобой твое первое пятилетие. Я так привык в СССР к пятилеткам, одно радует, что не буду их больше строить. Выгнали твоего папу на старости лет советские проходимцы. Сколько размой отец, твой дед Петр, вот бы он порадовался тебе, говорил: Юрий, бойся этих мерзавцев — и иначе как «бандиты» их и не называл, а мы, молодые ослы, с твоим дядей смели спорить и дерзнуть мудрому отцу нашему, да еще заявлять — «правильно они вас сажают, вы отсталый тип и не понимаете всего величия их замыслов». Теперь поняли, я думаю, не только мы, но и многие, а им — «плюй в глаза все Божья роса». Какое упоение властью, а что! Ведь полная безнаказанность, все гениально, все орут: ура, играет музыка, и маршируют мудаки, да еще убеждают себя, как мы когда-то с братцем моим, что все правильно. Доиграются, злобные негодяи. Господи, хоть бы крови поменьше. За что столько страданий на бедную родину мою. Надо срочно искать где-то дом, очень трудно остаться жить на чемоданах. Бог даст, все образуется, и Катерина начнет устраивать нам с тобой, Петр, новый дом.
Все снятся странные сны. Чаще всего мой театр, я прихожу, все боюсь, что выгонят, спросят, зачем пришел, а сегодня ночью Галина Николаевна все водила и показывала, что они натворили. При входе стоял наш старый буфет с красивым кузнецовским сервизом, оставленный в московской квартире, а старенькая Вера все плакала и причитала: «Юрий Петрович, что же они с вами сотворили, все погубили, не узнать вам своего театра, ни Володеньки нет, ни вас». Потом вдруг надо бежать на аплодисменты, а я ботинки не могу найти. По утрам снова начат болеть голова, хоть и пью этот чеснок в западных пилюлях, уже скоро год. Мама пошла в консульство к своим венграм, надо менять паспорт, что-то они там преподнесут. Пришла — закрыто, праздник День Конституции, она такая же прекрасная, как в СССР, правда, к их чести кое-что они исполняют из обещаний, но под пятой Советского Медведя не разгуляешься. Придется бедной маме твоей еще раз переться к своим венграм. Не могу привыкнуть к мысли, что они прогнали меня и лишили всего навсегда.
Не дай тебе Бог это испытать.
22-го АВГУСТА 84 г.
Ночью. Снился Ленин. Ты, Петр, заболел, мама поила тебя лекарством, будила меня, охала, причитала: слушай, как он плохо дышит. Я снова засыпал. Являлся вождь, выражал мне солидарность по поводу изгнания и поручил составить предложения об улучшении театрального дела в России; во сне меня поразило, что он ни разу не употребил слово «советский». Это вселяло некоторые надежды, тем более, он заявлял, что несправедливость по отношению твоего папы они исправят. Был он в каракулевой ушанке и в зимнем пальто. Посмотрим, как сон обернется явью. Впереди полно перспектив, а денег реальных нет. Приходится считать и экономить. Проект «Бесы» идет нудно и долго. Продолжаю смотреть актеров. Надеюсь на интуицию и судьбу. Они прикидывают, выжидают, может, подвернется что-нибудь повыгодней. Их пугает длительность — полгода для нас вообще пустяк, здесь все идет стремительней, надо непрерывно учитывать, что находишься в другой жизни. Читаю Библию, готовлюсь к «Страстям…» Баха. Иногда смотрю телевизионную дребедень и однообразные телекомедии. Когда знаешь, что смех в них подставлен и даже с нюансами, то становится совсем грустно.
84 г. 28-го АВГУСТА. ЭДИНБУРГ
Полетели с Анной на международную конференцию по режиссуре. Надо было выступать. Теперь можно было говорить все. Странно, что собрать мысли и коротко изложить также трудно. Как всегда, никто не хотел говорить первым, пришлось мне. Договорились выступать как можно короче, чтобы затем перейти к обмену мнениями. Анна очень волновалась, но вроде переводила не плохо, судя по реакции зала. По их масштабам, народу было много. Коллега из Южной Африки сравнивал себя с тараканом. «Вырабатываю в себе политику таракана: найти теплую щель и чтоб не видело начальство, а я мог бы работать». Похоже на нас, только у нас хуже и щель не найдешь, выковыряют и ноги, а то и голову оторвут. Они наших проблем просто не могут понять. Как сказал африканец: «Политика бешеной собаки — кого укусит, не угадаешь». Наши ведут себя так бессмысленно, что они не понимают. У них трудно достать деньги, зависимость от продюсера и от публики. Прямо по Ленину — «Искусство должно быть понятно народу». Вообще, очень много общего в государственных системах, независимо от того, как они себя называют. Но наши, конечно, перещеголяли в жестокости и тупости всех. Забавно в старости начинать все сначала, и все из-за этих идиотов. Узнал от русских, что умер Тендряков. Жаль — много в нем было симпатичного, и талант был. Понемногу уходят все знакомые, трудно жить на чужой земле, но, думаю, там они бы, меня совсем доконали. Вести оттуда неутешительные. Господи, когда же начнется пробужденье этой несчастной страны, что натворили окаянные бесы, только бы поменьше крови. Одна надежда на Господа Бога. Город очень красивый — суровый, строгий. Пообедали с Пьером в семейном кабачке. Очень вкусно, рыба, старый порт, все по-домашнему и не очень дорого. Всегда с тоской думаешь, доживут ли мои соотечественники до нормальной спокойной жизни.
12-го СЕНТЯБРЯ 84 г. ВЕНА — БУРГТЕАТР
Дорогой мой Петр. Маленький пятилетний французский лицеист. Вчера говорил с тобой по телефону, потом просил маму говорить с тобой по-русски, ты стал забывать слова и спрашивать у Кати по-венгерски. Понимаю, как тебе трудно, хотя у нас с тобой небольшой разрыв возраста 66/5. Бедный, во-первых, ты не знаешь, где твой дом. Москва, Будапешт, Милан, Болонья, Лондон. Трудно тебе сориентироваться, на каком языке говорить, но не забывай русского отца, а то как же ты прочтешь книгу, которую я урывками пишу тебе. Ты с гордостью заявил, что многие мальчики плачут, а ты нет. Молодец, мой маленький джентльмен. Слава Богу, что тебе не надо ходить в советскую школу и с детства слушать белиберду, которую вбивают в маленькие головки бедных детей, и за это им воздастся по заслугам. Я знаю, что ты сидишь рядом с японкой, ее зовут Ки-Ко, как Анькиного зажравшегося кота, который выползает жрать, когда ему насвистывают интернационал. Вот я и не хочу, чтобы тебе с 5 лет насвистывали кровавые мелодии. Учись хорошо и сможешь говорить с Ки-Ко по-английски, не забывая русского. Целую тебя крепко, помогай и слушайся мать Бог даст, может, вернемся домой в Россию. Твой глупый старый папа все надеется на что-то. Видимо, так уж устроен человек.
15-го СЕНТЯБРЯ — СУББОТА — 84 г.
Вот видишь, написал «суббота», а пишу в воскресенье. Доносится перезвон колоколов. У нас там этого не услышишь, так что живи лучше здесь, пока там атеисты не задумаются над содеянным безобразием. Уму не постижимо, как огромная мощная нация с такой культурой поддалась пошлой демагогии кучки тщеславных проходимцев и держится 67-й год. Видимо, сумели нащупать слабые струны людей и постепенно расстроили весь душевный лад людей своих, и стали мы их полной собственностью. Вчера говорил с тобой и с мамой, без вас так скучно, что и передать невозможно. Рад, что тебе нравится школа. А мне нужно чинить зубы, снимать мосты. Видишь, Петр, все мосты сожжены, а я все надеюсь, разве не глупец. Теперь придется привыкать не только к новой западной жизни, но и к новым зубам. По зубам ли нам всем это будет. Один Бог знает. Главное, надо быть всем вместе и иметь наконец дом. Видишь, как все трудно и сложно на этом свете, а мы, русские эмигранты, все обижаемся на всех, а им не до нас, у них своих бед хватает, так что старайся, как подрастешь, свои дела решать сам. Семь раз примерь, один раз отрежь.
Надо идти составлять партитуру света для «Преступления и наказания» в старом Бургтеатре. Спасибо Ф. М. Достоевскому. Кормит нас всех.
22-го СЕНТЯБРЯ 84 г.
Бедный Петушок, у тебя заболели уши. По телефону ты все время переспрашивал. Маленькому я тебе пел и рассказывал сказки.
Петя, Петя, Петушок, золотой гребешок, ласкова головушка, выгляни в окошечко. Не ложися на краю, придет серенький волчок, Петю схватит за бочок.Так же нянька пела Пушкину, а отец поставил его пьесу. А. С. закрыли, как Николай, царь-государь. Только тот был умней, а эти дурашливей и злей, но ты не робей, выздоравливай скорей и набирайся сил, а что до дураков, то их не жнут, не сеют, они сами рождаются, и, к сожалению, часто. Так что уж ты старайся быть поумней, тебе через 3 дня 5 лет стукнет, а папе через 8 дней — 67. Вот какие пироги на сегодняшний день у нас с тобой, мой дорогой мальчик. Чаще обнимай маму, ей трудно одной в чужой стране.
Занимался утром гимнастикой, вспомнил Москву, как в лоджии всегда делал такие же движенья. Бегу на репетицию, а потом рвать зубы. У тебя будут новые расти, а я последние дорываю. Так что, сам понимаешь, настроение нервно-грустное. Но, Бог даст, скоро увидимся и будет легче.
23-го СЕНТЯБРЯ 84 г.
Завтра пошлю тебе телеграмму, поздравлю моего дорогого сына лицеиста с 5-летием. Поцелуй маму, что ты тут же и сделаешь. Береги ее, ты мужчина и защитник. Занимайся, как отец, зарядками. Когда ты должен был родиться, у мамы перед глазами все стояла моя фотография в роли Пятницы. Тебе еще предстоит прочесть эту книгу. Надеюсь на твою любовь к этому занятию. По телефону заявил, что хочешь еще говорить, ты категоричен, хоть и было мне после зубной экзекуции довольно больно. Мы обсудили ряд проблем, после чего трубка попала к маме. Надеюсь, что вы будете читать книгу вместе с мамой и вспоминать отца. А она тебе будет досказывать многое из нашей жизни, что я забыл или не успел тебе написать. Пишу в кабинете тренера по футболу. На телевизоре, который ты так любишь смотреть (Том и Джерри, авто-кар и др), стоят его кубки. Пишу на подоконнике. Светит солнце, из окна доносится органная музыка Баха, деревья зеленые еще, сказывается позднее лето. После вчерашней боли тихое утро. Так что спокойно пережидай непогоду. Тебя учу, а сам не могу переносить и мириться с участью, на которую обрекли меня ничтожные правители несчастной бывшей России. Очень много гадостей сделали для одного рода нашего. Деда моего в 86 лет выбросили на снег из своего дома. Он просто ничего не понял, думал, что хулиганы ворвались, и встретил кулаками, а оказывается, он сам кулак. Это они объяснили ему в снегу. Тут он и получил удар, по-научному — инсульт. Добрые люди доставили в Москву, где я встретил его с бабкой. Когда-то они были крепостные. Видишь, как все близко, а кажется, что далеко. Посадил на извозчика с медвежьей полостью, таскал тюки и привез к нам в Земледельческий переулок рядом с Плющихой. Отец не мог встретить. Его тоже власти гоняли, как зверя. Дал мне дед 1 рубль серебряный за доставку, а я очень обиделся, заявил: «Что вы, дедушка!» — «Людям за труд, голубчик, всегда плати, а то они работать не будут, и запомни это на всю жизнь, ничего у них не получится». Видишь, я запомнил. А советская власть помрет, так ничего и не понявши. Так что будь с пониманием, сын мой. Иначе будет хлестать тебя судьба, и Бог не будет помогать, с дураками трудней всего. Дед был замечательный и умер по-библейски, ночью в Малаховке, в Москве нельзя было ему жить. Приказал мне отыскать священника. Тот причастил его, дед успокоился, взял свечу в руки, дал наставления сыну Петру, мне и бабке, сложил сам руки и умер. Горела свеча в бледных руках деда, он походил на иконы Николая Угодника. Светил месяц, мне было очень страшно. Рано утром с первым поездом поехал в Москву сказать. Денег на билет не хватило, и я все хотел продать сырок в бумажке, как маленький кусок мыла. Какой-то дядька сказал, дай попробовать, но сырок оказался соленый, а не сладкий, и он не купил. Я всю дорогу дрожал, что кондуктор отправит меня в милицию как безбилетника. Дед был замечательный, грамотный, умный, все умел, научил собирать грибы. Мы бывали у него в деревне. Ходили с ребятами в ночное пасти лошадей. У деда был красивый рыжий жеребец «Барон», и двоюродные братья мои, как выпьют, таскали его. Залезут под брюхо и несут, кто дальше — силу пробовали. Как-то в сад зашла корова, дед крикнул: «Прогони!» Я вскочил на стол, стал кричать, она продолжала жевать ягоды, я соскочил и попал пяткой на стекло от керосиновой лампы. Мать закричала, заплакала: к доктору — в город. Дед цыкнул, положил меня на скамейку, вынул перочинный ножик, прокалил его на спичке и начал спокойно выковыривать стекла. Когда я вопил, он давал мне подзатрещину. Потом залил йодом, перевязал чистой тряпицей и отнес в сад положить. А перед смертью, уже в Малаховке, с палкой все ходил по лесу стремительно, сам не зная куда, а когда я все звал его домой, грозил мне палкой и шел дальше, был не в себе. Однако умирал в здравом уме, ясно, спокойно, величественно. Глубоко верил в Бога.
24-го СЕНТЯБРЯ 84 г.
Завтра тебе, дорогой мой лицеист, стукнет первая пятерка. Всей душой желаю, чтобы ты выздоровел и прошли уши и нос, а то мать просто с ума сходит. Боится, когда ты болеешь. Все как-то нескладно. Так хотелось быть вместе, нет, все врозь. Бабушка в Будапеште, я в Вене, вы в Лондоне. И все из-за проклятых советских правителей. Все отняли, из поколенья в поколенье преследовали всю семью. Да разве одну нашу: миллионы в гроб вогнали, чтоб им ни дна ни покрышки. Когда они кончат стоять на своем Ильиче и помахивать ладошками проходящим толпам, отгороженным своей верной сворой, феодалы проклятые 20-го века. Мне все представляется, что идут люди, а их вместе с Мавзолеем нету, пропали! Вот бы радость была для всех. Может, Бог догадается и произведет это чудо! Ради всех загубленных ни за грош! Верно, что у отца покойного, твоего деда Петра, другого слова как «бандиты» да «шпана» не находилось для них. А мы, дураки с дядей твоим Давой, заявляли отцу своему: отсталый вы тип, папа, правильно вас сажает советская власть. Ну, один раз он дал оплеуху старшему такую, что через всю комнату летел. Давид ушел из дома, а я, сопляк, конечно, за ним и, конечно, с гневом и гордостью. Вот, Петр, куда дурость может завести. А ведь, казалось, должны были что-то понимать. Один раз всех арестовали: отца, мать, тетю Дуню. И остались мы одни. Брату лет 13, мне 9, Наташе, тетке твоей, — 5. Как тебе завтра будет. Держали совет, кому маме передачу везти в Рыбинск, они отправляли по месту рожденья. Брат хотел; я говорю, нельзя, тебя тоже возьмут. Наташка маленькая. Поехал я. Сала достали, сахару, буханку черного хлеба, белье теплое. Помню только, долго стучал я в ворота, меня не пускали, отгоняли. Потом сжалились, открыли ворота и повели к следователю. Помню, стол с зеленым сукном, красивый, наверно, отобрали у кого-нибудь, лампу под зеленым абажуром, как у декабристов, и молодого ладного военного с малиновыми петлицами на воротнике перепоясанной гимнастерки хорошего габардина. «Ну что, мать приехал выручать, боишься? Вот и скажи ей, чтобы все отдавала». Привели мать, она громко заплакала и бросилась обнимать меня. Я утешал и все приговаривал: мама, не надо, не смей при них плакать. Па что тип заявил: «У-у-у! Гаденыш». Ведь такое прошли и посмели отцу городить мерзость. Вот на такой глупости и держится эта проклятая власть.
25-го СЕНТЯБРЯ 84 г.
Дорогой Петушок мой, с утра мы говорили по телефону. Я поздравил тебя с днем рожденья. Ты сказал: «Вот именно, сейчас у меня день рожденья». — «Именно сейчас», — ответил я. Ты закричал всем: «У меня сейчас день рожденья! Мне нравится день рожденья!» Конечно, еще бы, ты уже понимал, что будут подарки. Анна послала из Вены большой гараж.
К сожалению, репетиция была ужасной, разбили большое зеркало, упала дверь и чуть не покалечила артистов. Но, видимо, Бог все-таки помогает отцу твоему. Когда репетировали «Гамлет», упал занавес и вся установка: занавес ходил, летал, вертелся по всей сцене, был знаменит не менее актеров, кроме Высоцкого. И когда несли гроб Офелии, все рухнуло. Балка ударилась о гроб, проломила его, видимо, он и спас их от смерти. Конструкцию делали на лучшем вертолетном заводе. Слава Богу, все остались живы, отделались шоком и ушибами. Премьеру перенесли на осень и сделали своими силами, как просили мы с художником, тезкой твоего дяди Давида. Мы с ним проработали вместе 15 лет, а сейчас и его нет. Все друзья и родные ТАМ! И театра моего нет, Петенька. Вот, друг мой, какие невеселые дела у папы!
27-го СЕНТЯБРЯ 84 ГОДА
Театр Бург — плохо организованная казарма, так выражаются немцы. А отсюда все последствия. Но дело имеет глубокие корни. Социализм старого еврея Крайского, в какой бы форме он ни проводился, ведет к унынию, а уныние есть величайший грех. Безразличие. Как говорят в СССР, всем до лампочки, вероятно, имеют в виду первую лампочку Ильича, торжественно им зажженную (все символы антихристовы). Отсюда всеобщая электрификация — бюрократизация, уныние болота! Одна демагогия, ни телесной пищи, ни духовной — система эта не для людей. Как и весной, пришлось писать вежливые письма. Директору, что бесполезно, ибо он уходит — междуцарствие. Твой отец все время попадает в такие ситуации. Всех вызвали, и начался разбор, как там — что делать, кто виноват, с чего начать. Как в СССР. «Страшно, аж жуть», — как пел Высоцкий, пришлось сказать. Знайте, я чувствую себя как дома, даже кантана[4] похожа, тоже воруют и отвратительно невкусно. Ответ, как там: мы разобрались, всех сняли, назначили новых. Ну и что? — «Вы знаете, стало хуже. Социализм и люди — две вещи несовместные». Все представляется картина. По легенде римской, волчица вскормила близнецов Ромула и Рема. Волчица с головой Маркса, сосут Ильич, Сосо, а в очереди — Гитлер, Мао, Пол Пот и прочая шпана, а в отдаленьи Энгельс с «Капиталом» наблюдает. Все это мне напоминает Анну — она одновременно хочет двух вещей: худеть и есть — отсюда суди, мой сын, возможно ли это! Учись, мой сын, наука даст возможность реально познавать мир — суть вещей, а Бог поможет, если есть чутье. Ты делай же дела свои, как будто бы имеешь поручение от него, там заповеди крепки. И с малых лет настольной книгой для себя ты сделай Библию. Вот мой завет, не Ильича, вождя, а просто смертного отца.
СУББОТА 29-го сентября 84 г.
Вот, мой дорогой сын, какие дела у твоего папы. Завтра и мой день рожденья 30-го сентября. Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья, и я затесался. Так мечтал, что и ты родишься в этот же день, но мама не дотянула, и выскочил ты на свет Божий, как тебе известно, 25-го.
По традиции, с утра пойду репетировать с техниками. Свет, музыку, переходы. У папы твоего партитуры спектаклей всегда сложные, репетиций дают мало, деньги экономят, а весь мир разленился и работает лениво. Я думал, только у нас, а оказалось, за редким исключением, везде. Спал плохо, то снилось, будто я вернулся, и ребята показывают какие-то школьные озорные программы, и надо мне их доделать; то квартира в Москве и приходит такой странный в старой ушанке парень, вроде расположенный, расспрашивает, кто я, как здесь очутился и нет ли у меня каких-нибудь документов. Я спрашиваю у него, он показывает затрепанную книжку красненькую КГБ (уж я-то знаю эти удостоверения на любую фамилию, поверь мне). Недаром 8 лет плясал в органах под руководством Берии, как написал на стене кабинета моего С. Юткевич и смертельно испугался, но стирать неудобно, все смотрят. Кабинет твоего папы весь расписан был, как сортир, знаменитостями от Кастро до Белля, Куросавы, Берлингуэра, Миллера, Вознесенского, Можаева, Трифонова, Ноно, Аббадо, Вайгель, Абрамова, Евтушенко, Сикейроса, Гуттузо, Оливье, Солженицын — пестрая компания. Потом окунулся в свое детство. Папина квартира, уже заселенная жильцами. На мраморном щитке много фарфоровых пробок, счетчики мирно гудят тихонько с пломбами, чтобы жильцы энергию не воровали. Народ у нас жуликоватый. Я первые деньги на кино зарабатывал: пережгу пробки, потом починю, полтинник в зубы и в киношку. Потом на монтера выучился — детей лишенцев и служащих в десятилетку тогда не принимали. Советские до страсти любят всякие ограничения. Был у меня пес по кличке Дезик. Маленький, пестрый, беспородный, дворняга по-нашему. Он все в галоши писал соседям. Жили четыре сестры: Песя, Сара, Мери, Фаня — они все в домоуправление жаловались, хотя жили в папиной комнате с нашей мебелью. Требовали сдать бедную собачонку на живодерню. Вскоре она и пропала. Как плакал твой маленький отец и представить трудно. В отместку я им галоши гвоздями к паркету в передней прибил. Тогда они объявили меня антисемитом и сыном буржуя. Стали требовать выселения из квартиры.
Бегу на репетицию. После допишу.
ВОСКРЕСЕНЬЕ 30-го сентября 84 г. ВЕНА
Вот и Христово Воскресенье, а я тут как тут тоже родился, пишу на твоем рисунке, Петр, который ты соизволил назвать: автомобиль и дорога. Соблюдаю традицию, бегу репетировать с техниками весь спектакль. Господа актеры отдыхают, нельзя тревожить. Поговорил с мамой, ты спал. Актеры мои молодцы. Прислали телеграмму, не побоялись советской власти. Узнал новость. Мы все недоумевали, почему зритель становится другой, все просто: они организовывали свои активы, забирали билеты, готовясь громить. Да чтобы и мы сами впадали в уныние, мол, публика охладевает к нам! Видишь, сынок, сколько коварства и всяких штучек чертовых у коммунизма, учти! Не поддавайся на приманки антихристов. Бегу! Опаздываю.
1-го ПОНЕДЕЛЬНИК. ОКТЯБРЬ 84 г. ВЕНА
Техники вчера, Петр, устроили утром в 11 часов забавную встречу: включили все динамики и пустили тему Раскольникова — фортиссимо! На табурете стоял торт с 7-ю свечами. Я одним выдохом погасил, задумав предварительно желание, припас литр 55-градусной водки Смирновки. Разлили, как на поминках Мармеладова. Видишь, чужие люди, а почувствовали, что твой отец один на чужбине, и скрасили денек Свет не без добрых людей, помни это всегда, не держи на сердце злобу на людей, тебя же иссушит. Старайся всем помогать, особенно матери, она любит тебя безмерно. Получил карточки ваши, очень обрадовался.
3-го ОКТЯБРЯ 84 г.
Что, мой маленький, начались лицейские злоключения. Поколотили негры, унесли еду. Я тебе говорил, надо быстро есть, а то отнимут, а ты у меня созерцатель. Сделай дело, а потом созерцай. Говорил тебе отец, занимайся гимнастикой, будь сильным и ловким, мог бы убежать, а мог и сдачи дать. Ничего, не робей, воробей, пташечка моя. У папы тоже отняли перламутровый ножичек в свое время, мне тетя Настя привезла из Югославии. Притащили на свалку старшеклассники, человека четыре, и отняли. Приеду, мы с тобой обо всем поговорим, как взрослые. Оказывается, ты родился в один день с последним вождем К. Черненко, который прогнал папу. Вот отсюда все и неприятности. Один из их шайки заговорил о социализме с человеческим лицом, они сразу туда танки направили во главе с маршалом Гречко. Тот давай стрелять по музею Пражскому. Чехи так теперь и зовут фрески Эль-Гречко — в честь Эль-Греко. Был такой испанец. Подрастешь, узнаешь. Видишь, они сами поняли, что никакого человеческого лица у них быть не может.
4-го ОКТЯБРЯ 84 г.
Мой дорогой мальчик, приехал даже Гараш! В пол-лица у него нос, такой же и талант комический. Он заболел, приехал в Вену за диагнозом и привез для тебя альбом фотографий, как бабушка приготовила дам для своего Петерка, так она тебя зовет. Я не считаю себя очень сентиментальным. Листал и старался не плакать, ведь нам, мужчинам, не положено. Посмотришь сам, мне очень интересно, как ты будешь воспринимать. Поразила меня в альбоме любовь бабушки к тебе, огромный вкус, как она так сумела. Только большое чувство могло согреть бездушный предмет и сделать его произведением искусства. А еще обуревал меня гнев, что ты с мамой не можешь поехать к ней приласкать, утешить, скрасить старость твоей бабушки из-за глупых старых трусливых правителей. Виноваты, конечно, большие кремлевские проходимцы — это, Петя, те, которые проходят мимо жизни, равнодушно глядя на горе, которое они щедро сеют в подвластных им странах. Но поверь, сын мой, падет проклятие Божие на их старые безбожные тупые головы. Нельзя творить столько зла, ненависть людская соберется в такую силу, что исчезнут они и будут пугать ими непослушных детей. Мама сказала, что у тебя заболело второе ухо, чем меня очень расстроила. Скоро приеду, и будем мы смотреть втроем альбом бабушки, мой милый.
5-го ОКТЯБРЯ 84 г. — ВЕНА
Бегу на разговор с артистами через хорошего переводчика, чтобы выяснить все недоразумения, а они, Петя, возникают даже у людей, говорящих на родном языке. Ты часто спрашиваешь, где же дом и как мне говорить. Дома пока нет, мой милый, а хорошее образование постараюсь, если жив буду, дать, да имама очень этого хочет. Но главное, вспоминай, как я каждое утро носил тебя по саду бабушки, показывал, как раскрываются цветы, и ты лепетал — красиво. Да и гений наш говорил, что мир спасет красота. Ты и теперь говоришь — красиво или чюня («некрасиво» по-венгерски). Бог даст, и спасемся, мой дорогой. Бегу! После допишу.
9-го ОКТЯБРЯ 84 г. — ВЕНА — БУРГТЕАТР
Петя, пытался вам звонить, в ушах все время гудки, занято, у меня тут, как в Москве, телефон на несколько абонентов. Телекс министерства культуры СССР — это те, которые гноили твоего отца, Муза S. U.411 299. Я хотел послать им, что они не муза, а зараза и просто блядь. Но испугался твою мать. Видишь, папа слушает маму, и ты слушайся, у мамы рука тяжелая, а вообще, без вас в мои лета очень трудно. Все, что в моих силах, я сделаю, нам надо жить всем вместе, а не мотаться мне по миру одному, старому дураку. В ушах все время гудки телефонные, а во дворе грохочут, к счастью, не советские танки, а пустые мусорные баки, мусор здесь вывозят аккуратно, сын мой.
У меня был стих: «Танки грохочут, праздник идет», — где-то потерял. Твой отец грешил стихами. Извини, не осуждай, в наш век все пишут, кто доносы, кто стихи. Целую тебя, дорогой мой, и бегу. Сегодня придут в театр школьники, только старшие, а ты у меня младший. 12-го Премьера. Мама тебе объяснит все незнакомые слова: телекс, министерство, Премьера! — и много других: слова! слова! слова!
17-го НОЯБРЯ, БОЛОНЬЯ 84 год
Записки были, но на всяких листочках, в записной книжке. Писал в самолетах, на дорогах в машине. Ты пошел наверх в гости, тебя очень любят престарелые тети. Мы живем внизу, целый этаж. На горе вид прекрасен. Так красив, что нереален. Холмы, редкие виллы или старые дома, новых строить не разрешают, город внизу. В ясную погоду виден собор, центр Болоньи, одного из красивейших городов Италии. Нашли чудом. Архитектор Валере и его красивая жена через друзей помогли снять квартиру. Мама счастлива, наконец есть дом. Дай Бог, кончится чемоданная жизнь. Это очень утомительно быть бездомным, да еще с тобой, маленьким. Ты вечером и утром требуешь какао в бутылке и с соской в 5 лет, стыдоба, да и только. А где это раздобудешь перед сном, только дома. А твой отец все мотается между островом и полуостровом. От Англии в Италию, заезжая во Францию и Германию, конечно, не Восточную. Туда ни-ни, а то не видать тебе больше папы, кроме фотографий да фильмов. Поневоле придется записи читать. Что-то из тебя выйдет, Петька. Бог тебе в помощь. Ты в гостях, мама покупает продукты, я пишу. Все при деле.
В Вене, говорят, большой успех, хорошо пишут. Спектакль идет 4–5 раз в месяц. На Таганке, говорят, совсем плохо. Скоро и здесь премьера, 8 декабря. Как-то примут итальянцы. Спасибо Федору Михалычу, 2-й год кормит нас всех. Забот все прибавляется, подписал контракт на 2 года Артистическим директором, но, если все будет хорошо, можно и продолжить. Вот, слышу, входит мама, а мне пора на репетицию.
19-го НОЯБРЯ 84 г. БОЛОНЬЯ
Лежит желтая коробочка от пленки «Кодак». Оператор «Страстей…» эмигрант 68 года, очень располагающий к себе, с хорошим лицом, снимал прекрасный фильм «Железный барабан» по Гюнтеру Грассу. Будет работать со мной по Баху в год Баха, дай Бог, что-нибудь путное выйдет. В магазине он долго выбирал пленку, хозяин, разозлившись, сказал, сами не знаете, принесите камеру, и я скажу, что брать. Чем развеселил всю компанию. Он щелкал нашу квартиру, Петя, красоту вокруг, вечером репетицию. Хоть останутся хорошие фотографии, и на том спасибо.
Роль Сони не идет у актрисы, странное существо, порочное и холодное. Я попросил, чтобы хоть в церковь сходила и посмотрела на верующих. Она заявила: чего я там забыла. Все больше убеждаюсь, что актеров надо ставить в такие условия, чтобы им некуда было деться, что я и делал в «Пугачеве», «Матери», «Доме на набережной», в «Добром человеке…» Где точней — там прочней и дольше живет спектакль. В общем, как в балете, все до мизинчика, иначе все растащат, как собаки кости. И грызут в одиночку. Зато, когда одаренный да покладистый, какое удовольствие работать. Но это редко. В общем, все от компании зависит. Хорошая в радость, скверная — одна тошнота. Правда, один, как в Вене, Раскольников, может все отравить, и так бывает. С годами вырабатывается терпение, оно и спасает.
На веранде грохот от пустых синих пластмассовых ящиков от бутылок. Грохот производишь ты, Петр, строя разные комбинации и тараторя на разных языках, а то и просто мелешь абракадабру. Спишь ты, бедный, на доске из-за спины, благодаря воле мамы. Я бы не смог. Как-то я пролежал неделю, взвыл и перелез спать на диван. Маленький Епиходов, весь в происшествиях, даже в этом ты похож на меня.
С квартирой неизвестность, а нам она все больше нравится. Мастера исчезли. Похоже на Москву, но все-таки они все безобразия делают как-то симпатичней. На Пасху должен поехать в Иерусалим с оператором по святым местам, на всю Пасхальную неделю. Венгры расщедрились и дали маме новый паспорт, теперь у нее два, а у меня один недействительный. Я теперь никто: «нет документа, нет и человека». Видишь, поставил «Мастера и Маргариту», и пошла моя жизнь по Булгакову, только «Юность Вождя» я им не напишу, фигушки. «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь». Видишь, что значит бывший актер, все чужой текст произношу, как Куприн говорил: «Что есть актер — человек, произносящий чужой текст не своим голосом». А Павлов хотел после собак и обезьян опыты на актерах ставить. Вот, милый, кем был твой папа!
21-го ноября 84 г. БОЛОНЬЯ
Вчера утром полетели в Римский университет. Строился при Муссолини, был рассчитан на 15 000 студентов — теперь целый город 150 000, за древнеримской стеной уйма факультетов. Разумеется, я был на театральном. У них театр, где играли все великие артисты и читали все гранд маэстро свои соображения об искусстве театра. Профессор удивительно похож на Карла Маркса, но умный, в 17 лет стал учеником, великого Гордона Крэга. Тот жил на Лазурном берегу и выдумывал спектакли по Шекспиру. Радуясь жизни и людям, он искал похожих персонажей из пьес в жизни, говорил с ними часами и был доволен, когда встречал оригинального самобытного человека. Зал был полный, вопросы интересные, несколько ответов моих показались мне удачными, точными, они оценили. Анна переводила хорошо, старалась.
После подошел еврей лабух, работает в Римском оркестре. Разговорились. Ведь тоску по родине не выдумали, она существует. Он смешно сказал о своем раздвоении, слушая сразу на двух языках и понимая оба. Я все объясняю Раскольниковым причины расколотости персонажа и тут же встречаю в жизни, правда, по другим причинам. Прилетел в 11 вечера. Ты и мама ждали, очень трогательно восклицал на двух языках: «Где мой сладкий папа?» После чего тут же заснул. А мы с мамой обсуждали нашу расколотость. Мама Кати одна в Будапеште, мои родные и наши друзья в Москве, мы пока в Болонье, где твой отец Артистический директор «Арены дель Соле».
Петя — маленький Раскольников. Вашингтон Arena Stage,1985
В 4 часа поехал с графиками решать первую афишу театра. Строители накрыли в зале без кресел стол. Все весело, красиво, непринужденно. Потом твой отец вместе с архитектором вышли на сцену. Я поблагодарил их, открыл с треском бутылку и полил, как из огнетушителя, сцену шампанским, обычай как при спуске кораблей, гвалт был итальянский. В 11 вечера холод. Отопление не работало, и я отпустил артистов спать. Вот, милый, и закончились еще два дня трех изгнанников, все по Шекспиру идет. Хотелось бы, как в его комедиях, благополучного конца.
P.S. Пленку моего выступления в университете, подрастешь можешь послушать и сам оценить умственные способности папы. Когда я учился на актера (видишь ли, до этого я учился на монтера, и теперь электрикам трудно меня обмануть), мой первый педагог — старая носатая актриса, нос мог вызвать зависть самого Сирано. Сирано играл твой папа, выучив и сыграв за неделю. Надо было выручать театр, а папа смолоду и до старости привык быть ломовой лошадью. Носатую актрису звали Серафима Бирман, она пудрила свой огромный нос, громко говоря: «Ха! Вас ждут заводы!» — это значило, что актеров из нас не выйдет, а у советских всегда нехватка рабочей силы, у них один работает, а трое смотрят за ним. Конечно, всегда всего не хватает. Носатая, прекрасная, оригинальная актриса, как и многие, была влюблена в К. Станиславского, играла с такими гениями, как Е. Вахтангов, в театре имени которого долго играл и твой папа, играла с М. Чеховым, племянником писателя. Гениальный актер нарочно проиграл тогдашнему вождю Рыкову, народ водку называл «рыковкой». Водки в России всегда много, на ней держится советская власть. Вождь выиграл проигранную партию, которую потом проиграл Сталину, и отпустил великого артиста в эмиграцию и тем спас от уничтожения. Тот верил в Бога и не любил советскую власть. Так вот, носатая написала интересные мемуары, где было подробное описание конфликта Крэга со Станиславским. Все симпатии ее были, естественно, на стороне учителя, да и влюбленность помогала: парадокс в том, что когда читаешь, то жалеешь Крэга, весь замысел они ему разрушали, ссылаясь, дескать, не поймут в Москве. Хотя, принимая макет и слушая режиссерский план, все хлопали. Результат. В мороз 30 градусов он, бедный, убежал из этого театра в одном костюме. Теперь в Италии твоего папу тоже часто бьют этим же аргументам. Любопытно судьба выстраивает биографии и заканчивает новеллы жизни. Я начал учиться на Таганке на монтера. А в 64-м году создал там же театр, а в 84-м Орвелловском году был выгнан. И вот в Болонье на горе, в прекрасном доме в благословенной Богом стране пишу тебе книгу. А думал, на Таганке закончить жизнь свою. Человек предполагает, а Бог располагает. Молю его о расположении к тебе, мой мальчик. Жизнь у тебя разнообразна, мой дорогой. Родился в Будапеште, а в шесть недель в корзине прилетел в Милан, где я ставил «Бориса Годунова». А Пушкин большую роль играл в жизни твоего папы, менял ему страны и города, а ты бродил со мной и с мамой. Вот в понедельник пойдешь в прекрасный детский сад. А через 2 недели в Лондон, в лицей Фронсе, а через месяц опять в Болонью, маленький бродяга. Вот ты и учишь пять языков в 5 лет прекрасно. Дай Бог тебе здоровья.
P.P.S. Будапешт, 5.1998 г. Перечитал тетрадь, обосранную голубями. Тебе 18, мне 80. Вот уж не ожидал от Господа такой милости — дожить до такой глубины. Прочел фразу из письма тебе от 24-го ноября 84 г. Болонья: «Пушкин играл большую роль в жизни твоего папы». Задумался: теперь, уверен, ты прочтешь книгу по-русски и полюбишь Александра Пушкина. А я вспомнил, как в одно из посещений его квартиры на Мойке, где он бедный умирал от раны в живот и сильно мучился, меня директор провел в подвал, открыл сейф и показал его кольцо. Он носил его на большом пальце. Я с благоговением взял кольцо — он разрешил померить. Теперь будь внимателен, сын мой. Я смог надеть кольцо только на ноготь мизинца. Вот какая была маленькая рука у нашего гения, а сколько силы, умения, отваги, мужества. Полюби его, Петр.
27-го НОЯБРЯ — БОЛОНЬЯ 84 г.
Переводчица «Преступления» славистка Сирена — дама своеобразная во всех отношениях, битая советскими буквально, сделавшая много для русской поэзии, сумевшая вывезти уникальные материалы о Цветаевой, Ахматовой, Мандельштаме. О последнем рассказала, что я не знал, как он сел писать хвалебную оду усатому злодею Сталину. Написал в своей лексике прекрасные слова своему злейшему врагу, видя в этом единственный способ выжить, пропел и с отвращением уничтожил. По-моему, жена сохранила клочки, надо проверить. Удивительно, Булгаков, доведенный до отчаянья, сделал то же самое. Сталин дал, хотя ему и понравилась пьеска о нем «Юность вождя», на рецензию А. Толстому — толстомордому, таланту-проходимцу, а тот намекнул, с иронией, дескать, писал стервец. И Сталин запретил, и не спасся бедный Булгаков. А в «Мастере», когда писал о доле своей, сказал: «Он не заслужил света пойти за Христом, но заслужил покой». Маяковский, видимо, убедил себя, что пишет для них искренне, а потом пустил пулю в лоб, а может, и они убили. Есть и такая гипотеза. Трудно продавать дело жизни своей, даже для продленья ее. Да и толку нет, судя по вышеизложенному. Ой, как много таких примеров в горькой истории нашей. Надо попробовать сделать спектакль. Книга жены Мандельштама Надежды, особенно первая, да стихи его дают хорошую основу, много и других фактов. Это удивительно, до каких хитростей и самоубежденного вранья доходит порой каждый, надеясь на улучшение бренной жизни своей. «Суета сует и всяческая суета» — много думали древние о смысле жизни, но не пошли впрок нам, нынешним, ни страданья людские, ни глубина гениев земных, и мечемся мы по грешной земле, открывая открытые Америки, и не хотим видеть простоту колумбова яйца, усложняем ясное, наводим тень на плетень и плетем несуразицу, наслаждаясь словоговореньем. Уж и воздух заражен словоблудием и технической революцией вместе с большевистской. А Запад все с уважением произносит имена Маркса, Ленина и многих других злодеев. И даже радуются последователи, если изъявят желанье поговорить с ними.
28-го НОЯБРЯ — БОЛОНЬЯ 84 г.
Так я и не закончил «Театральный роман» по М. Булгакову в Москве, а здесь он вроде и не нужен, зато продолжается мой театральный роман. Сегодня последний период выпуска «Преступления». Как-то примут итальянцы? Вот бы никогда не поверил, что целый год буду с топором Раскольникова бродить по Европе. Предлагал мэру не ленточку ножницами резать, а разрубить Гордеев узел топором. Где разовьется, в какой стране, в каком городе мой театральный роман, не знаю. Видимо, мама тебе расскажет. Она поехала смотреть новый детский сад, где беленькие сестрички-католички, а ты у меня католик. В первом саду, куда ты ходил, они были голубые, меня мама посмотреть не взяла, а сейчас где ты учишься, так неуютно и директриса толстая и потная. Мама в раздражении, а она у нас серьезная, с ней не расшутишься. Вот, брат мой, какие у нас с тобой дела на сегодняшний день. Еще, слава Богу, Федор Михайлович кормит, а маме все кажется, что мне денег жалко. Ведь не мой, а его, вдруг перестанет, надо беречь. Конец ноября, сижу на веранде над гаражом. Солнце, вершины холмов, верхушки деревьев, поют птицы, но надо ехать репетировать в пыльную темную дыру, она называется театром «Арена дель Соле». Но солнца там нет, там надо все выдумывать, похоже, как ты играешь один. Какой-то ты у меня безответный. Вчера вечером твой новый дружок Симона так звезданул тебя по больной спине в позвонок, что со страху залез под кровать, боясь наказания. Ты безутешно рыдал, мама заявила, что она всегда давала сдачи, и ее даже мальчишки боялись. Отец его с ним всегда дерется, приучает на будущее. Не огорчайся, Петушок, меня тоже много били. Однако зарядками заниматься надо, пригодится, поверь старому отцу. После нашего севера благодать здесь удивительная. Там — грязь, снег, слякоть, здесь — зеленые холмы, солнце, а внизу, минут 10 на машине, — один из красивейших городов мира, где преподавал Галилей, учился Моцарт — в первом университете мира.
5-го ДЕКАБРЯ 84 г.
Осталось 2 репетиции. Попишу и поеду. Мать заедет за тобой, а потом отвезет меня. Политики, как везде, мешают работать, у них скоро выборы, шуруют и подсиживают один другого. Ополчились на моего директора Марио, с сыном которого ты купался и играл. Бедный мужик, не везет ему, характер крутой и своевольный, это не любят. Дочь у него год назад умерла единственная, теперь отнимают, как у твоего отца, работу, а он 20 лет создавал этот АТЭР в Болонье, где мы теперь и живем. Вчера предложили в прекрасном театре из дерева под Венецией, которому исполняется в августе 400 лет, поставить Эдипа, будут передавать по всему миру через спутники. Надо обдумать и находить время. В этом театре прекрасная акустика и чудесная форма. Древних я никогда не ставил, хотя много думал, как это делать. Хор решать так найти очень яркие индивидуальности, а может быть, пусть дети играют и один взрослый. Эдип, как хирург, моет руки перед операцией, чистым полотенцем завязывает глаза, затем выкалывает, через полотенце идет кровь — все медленно на тексте. Надо внимательно перечитать. Интересно, что лет 7 назад ездил в Рим к Гассману на конференцию о проблемах в решении хора в греческих трагедиях. Беседовал с Аверинцевым, большим знатоком древних, читал Софокла, Еврипида, Гомера, последнего очень Федор Михайлович любил. Может, судьба поставить. Перечитал послесловие А. Солженицына к ГУЛАГу, еще раз поразился силе порыва. Замечательный он человек. В газете два портрета Юрия Орлова до каторги и после. На первом мужчина уверенный, умный, озорной, с некоторой лихостью. На втором старик, глаза, полные скорби и страданья. Негодяи, придет и для вас час расплаты, увидите и очень скоро. А Запад все заигрывает с ними. Плюнуть и уйти, не обернувшись. Утрутся и побегут на переговоры, когда поймут? Это мудрецы западные не знают, а давно надо бы! Не обида это во мне говорит, знаю трусость, наглость и подлость полуграмотных правителей, наполненных злобою и страхом перед народом своим, хоть и считают людей своей государственной собственностью.
26-го ЯНВАРЯ 85 г.
Пишу тебе, дорогой Петя, один в Лондоне. Жду гостя Геннадия Рождественского, его вместе с твоим папой и Альфредом Шнитке заклеймили по доносу Жюрайтиса, дирижера Большого Театра, которого принимал Геннадий в стажеры…
Посвящается А. С. Пушкину — сопровождавшему меня всю жизнь.
Ночь. Звук обострен. Он бьет, как звон Тик, так… Тик, так… «Тут прошлое меня объемлет живо». «Жизни мышья беготня, Что ты хочешь от меня». Снотворное. Стакан. Таблетки… Пора вставать, работа. Прокормить, Петр, Катерина, мать Мне надо, новый театр достать. Таганки нет. Ну да, там — он Толя Эфрос Зачем в чужой пришел ты дом И врос? Вот в чем вопрос. «На дне» — как автобиография. Вам создана живая фотография. Простите рифмы. Ритмы. Все со сна. Не дерево! Бес-сон-ница! Мне не до сна.Обругали всех нас в «Правде», потом был создан гнев народа, потоки писем. Захочешь — разузнаешь, об этом много писали. В Москве был анекдот. В «Правде» нет известий, а в «Известиях» нет правды. Интересно, когда ты вырастешь, останутся эти растреклятые газеты или нет? Одному в квартире Славы без вас скучно невыносимо. Премьера «Бесов» все приближается. Сегодня первый раз прогнал спектакль и то не до конца. Но ты все равно… лучшее мое созданье!
2-го ФЕВРАЛЯ 85 года (в 6 часов утра)
Маленький Петр, внимай отцу. Ты носишь имя моего отца. И самого Петра, того, Который носит ключи от Рая! Понял. Если будешь издавать, Ритм строчек не менять.Пишу тебе рано, 7 утра! Цифра Библейская. Не волнуйся. Проснулся, потому что наверху живут над головой «бесы» — они с 4–5–6 утра двигают мебель и выясняют отношения: подрастешь — поймешь! КВАРТИРА СЛАВЫ! — Вы с мамой в Болонье — это в Италии — понял. Ростропович, он же Слава! Гений, как Казальс. Если, подрастя, не будешь знать, загляни в какой-нибудь словарь типа Даля, если к тому времени что-нибудь останется. Бесы активны, последний из вождей Леонид Ильич Брежнев, которого я, как бывший актер, хорошо копировал, надеюсь, меня к нему Отец! не пошлет. Ты маленький, Отец — это Бог наш. Понял. Ты католик. Я христианин, православный. Мать Катерина — католичка. Так вот, молю Отца — меня туда не посылать, к этим Ильичам и Сталиным. Извини за заповеди — заповедники всегда были и будут. Вчера вели запись — тайно в квартире Лизы — что напротив Славы, — я участвовал и даже помогал лабухам — не удивляйся, у них свой жаргон — сленг, как у блатных — смотри опять словарь. Слово — великое дело — читай Библию, надеюсь, многое поймешь. По исторжению звуков позвонили сверху и попросили прекратить. Звонили люди приличные, корректные — увы! Даже среди англичан осталось таких не много. Не гневайся и их прости. Островитяне, они народ особый. В 10.30 начнется генеральная репетиция «Бесов» — посвящаю постановку нынешним правителям Советской России, ничего общего с моей бывшей родиной не имеющей. Зову теперь себя БЫВ-СОВ-ЧЕК. Расшифровываю по «Бесам» — бывший советский человек! Понял. Голова болит, к сожалению, должен заканчивать. Ибо надо готовиться к генеральной! Теперь твой старый отец 67 лет.
(Это тебе не х… собачий, загляни в словарь.) Пойдет бриться, мыться. Крепко целую тебя и мать. Твой отец.
P.S. На этом сегодняшнюю запись и закончим.
Извини, решил продолжить запись.
Жру мало, хотя перебоев с продуктами здесь нет, как там. Нарушать режим дня и ночи научил меня мой старый друг Николай Эрдман, великий драматург, загубленный советской властью. Прочти его пьесу «Самоубийца», поймешь и сам. Надеюсь! Сел записывать, подкрепившись бокалом пива и авокадо. Или как я зову — адвокатом. Кстати, один (из них), как старая блядь, сильно надул твоего папу. Слава Богу, я не лопнул. Мама, если бы была рядом, сильно бы гневалась, она у нас с тобой строгая — венгерка, что поделаешь! Люби ее, другой у тебя не будет никогда! Понял. — Читай Лермонтова, он тоже Юрьевич.
Гори, гори, моя звезда. Звезда любви приветная. Ты у меня одна заветная. Другой не будет никогда.Чувствуешь ритм, сын мой. Учись музыке — если конечно Бог даст тебе дар к этому. Тут, я думаю, мама поможет, она у нас с характером, так что ты не отвертишься, друг мой. Утро проступает сквозь окна Славы! — Решетки, здесь тоже воруют, как и везде. Квартира уникальная. Полотна мудака Г. Гликмана. Символика: передо мной Распутин, Лермонтов, Архангел Гавриил, нервозный гений Шостакович, Радищев в кандалах.
Опять P.S. Наверху есть продолжение: Гамлет, Гоголь, за ним Прокофьев. Слава с виолончелью. Сбоку как будто выгрыз кусок и съел бедный Солженицын с фонарем — символика: приполз на звуки Славы. Ты должен знать, он приютил его, когда травили, как пел Высоцкий свою «Охоту на волков». Над ним Сократ и оба голы. Над ними всеми святой Георгий копьем (как все положено!) разит дракона. Мазня на удивленье всем. Галина, жена его, провозгласила, что без полотен Гавриила она не в состоянии жить. Все это правда — дальше полотно: рояль, сам Мусоргский, все как положено, он с красным носом за роялем. Вишневская поет, из глаз слеза, за ней Стравинский. Извини, ты это должен знать. На этом и закончим. Теперь всерьез, иначе не успею на генеральную, а это «Бесы». Сам Федор Достоевский, я думаю, меня благословляет.
7-го ФЕВРАЛЯ 85 г. ЛОНДОН
Дорогой мой сын, пишу 8-го, но почему-то сверху написалось 7 — цифра Библейская и переписывать не стал. Хочу тебе в книгу главу: Шарф, Королевский зонтик, правда, он скорей зонтище, очень большой. На нем много подписей артистов разных стран, с которыми работал твой отец. Вспомнил себя совсем молодым, когда к огорчению твоего деда Петра (к сожалению, ты даже фотографии не видел, все осталось в Кремлевской Москве; говорят, что я очень на него похож, как ты на меня), я вдруг решил вместо инженера-электрика стать артистом. Это, видимо, и есть судьба, она неожиданно поворачивает наш путь, и один Бог знает, откуда этот импульс. Одна мысль запомнилась до дня, когда я это решил тебе написать. Хорошо быть артистом, можно играть, пока ноги ходят. И вот, чтобы они дольше ходили, вышел на террасу в Болонье размять старые кости. Красота на удивленье. Сквозь туман очертания деревьев, холмы. Все таинственно и прекрасно. Лайка в вольере повизгивала, здороваясь со мной. Мы немного поговорили, она тоже уже старая по своему собачьему летоисчислению, затем она перевернула кастрюлю и лапой начала играть ею, как в футбол, производя страшный шум и требуя завтрака. Потом Тереза, которую ты любишь, объяснила, что она также отгоняет мальчишек, когда те ее дразнят. Интересно мне, когда будешь читать, вспомнишь ли все это? Пишу 15-го 85 года, а 18-го надо лететь в Лондон опять репетировать «Бесы» для телефильма. Всю вторую половину жизни, переменив профессию актера на режиссера, твой отец гонялся за гармонией в своих спектаклях, как за «Синей птицей». Есть такая прекрасная сказка, обязательно прочти. Сейчас ты возишь тележку с бокалами, рюмками, вазочками для «джелатто» — по-нашему мороженое, а я все боюсь, что ты грохнешь чужую посуду, имама будет гневаться, а ты тихонько просить меня (не говори маме). А я буду тебе внушать: если будешь заниматься гимнастикой и хорошо вести себя, не скажу. В час дня придут артисты прекрасные английские. Все считают, что они лучшие в мире. Эта компания играет прекрасно, и я с удовольствием их смотрю, что со мной бывает редко.
Катя и Петя в Иерусалиме, 1989. Фото автора
Трудно смотреть в большом количестве свое творчество. Но что поделаешь, иначе все расползается. И покойный Эрдман, тоже заикаясь от Советской власти, говорил: «И правильно, что с-с-стои-и-ите! и Мейерхольд стоял, иначе нельзя, видимо». Грустно стоять и смотреть, а это часто бывает, к сожалению, как артисты растаскивают спектакль, у них даже выражение есть — тянуть на себя одеяло. Которые придут, и весь итальянский дом, как в хороших фильмах неореализма, помогает маме принять артистов. Но ты требуешь прогулки, я кончаю запись, одеваю тебя в теплую спортивную красную куртку. Мне здесь только красненького не хватает. Мы выходим с тобой на прекрасную веранду в Болонье. Ария — воздух, идем, сын мой.
Много позже
22 АВГУСТА 92 года
Вот и кончились три дня праздника новой странной революции в России. Президента Б. Н. Ельцина спросили, чувствует ли он праздник? Ответ — нет, ведь погибли люди. Погибли, Петя, три молодых человека, их похоронили на старом Ваганьковском кладбище, где Владимир Высоцкий, которого ты знал. А твой сверстник написал в дневник. Не бойся, ты можешь перекувырнуться за секунду — запросто, а за полчаса? Попробуй-ка. Так и правители перекувыртутся и — дальше. Мальчик Петя прекрасно все понял, а президент, по-видимому, нет. Он, видимо, думает долго кувыркаться. По править и кувыркаться трудно. Пишу, сын, тебе, потому что надо ехать в Москву и точно ориентироваться. Тебе пока это неинтересно. А потом, как знать. Ряд моих знакомых страшно поглупели или делают новую карьеру. Например, писатели В. Белов, Р. Медведев, Распутин. Другие, малознакомые, просто рвутся к власти. Не дай Бог, если это случится. Я бы, Петя, очень хотел, чтобы ты не терял русский в память о папе. Я сам, дорогой, все решаю, что мне делать и как себя вести с театром и с властями: они «не мычат, не телятся». Наверное, сами не знают, что им делать в этой каше, стараются всем быть приятными, а это не бывает, сын мой. Мир понемногу, как всегда, сходит с ума. Но Бог даст, придет в разум и выживет. Умней, милый, пока не поздно.
Петя и я. Иерусалим, 1993
Петя, я и Катя. Афины, Акрополь — жара 40 градусов, 1995
92 год. 26-го АВГУСТА. НАДО ЛЕТЕТЬ В ХЕЛЬСИНКИ
Наконец, Петр, не прошло и 5 или 6 лет, как нашли тетрадь, где я писал тебе. Перечитал и в общем не жалею, что марал бумагу. Останется тебе на память. Ты даже стал выше бабушки. Хочется дожить до твоего поступления в Оксфорд или в Кембридж. Для этого занимаюсь 30–40 мин. — блюду форму. Думаю, что же тебе написать, мой дорогой. Видимо, придется все-таки написать о злосчастном «Театре на Таганке». Бывший мэр Москвы Г. Попов заключил с твоим отцом до конца 93 года контракт. С него и началась развязка 30-ти лет работы в этом моем — не моем, а по-прежнему государственном учреждении, с хорошей в прошлом вывеской «Театр на Таганке». Вернувшись, сын мой, я понял, что все переменилось. Дело не в их перестройке. Оказалось, что шесть лет разной жизни отодвинули нас лет на двадцать. Поэтому попытка наиболее сильных из них во главе с Н. Губенко приковать и впрячь меня заново в развалившуюся телегу вызвала в твоем папе совсем противоположную реакцию. Да и моя оценка их нововведений, перемен и их представлений о свободе «телеги и лошади» ничего хорошего не сулила твоему родителю. Я, мой дорогой, только одну упряжку признаю, нашу тройку — ты, мама да я. Вот и начал разваливаться окончательно площадной Таганский Театр. А как всегда, мой милый, толпа и кто вошел туда, лицо свое теряют, они часть скопища людского. А мое занятие сугубо дело индивидуальное. И вновь, Петр, как и до созданья этого театра, остался я один. Дома у тебя в Иерусалиме есть пленка, посмотри, как они орут на твоего отца. Пишу тебе немного серьезней, чем раньше. Ты стал взрослей, и мы можем беседовать на любые темы. У нас разные интересы, но взгляды часто совпадают. Может, правда, это происходит от возрастая, как принято думать, впадаю в детство, а ты взрослеешь. Давно, сын мой, у меня не было столь длительного, хотя и с перерывами, отпуска, но все хорошее кончается и 27-го улетаю, Бог даст, в страну, где много заключено соглашений о правах человека, а прав все нет. В Хельсинки. Работать на семейство мое. А 11–13-го в Москву, а потом опять — в Хельсинки. Так и шныряю по глобусу в поисках, где бы сработать получше и с пользой для семьи и для людей — вот и все мои права в последнее время, сын.
ВСЕ!
КАТЕРИНЕ
Не брани, пожалуйста, Россию, Очень странную страну мою. Бог сказал о ней: В снега запеленаю, Грустную молитву пропою. (Зачеркнутый вариант): Бог сказал: Терпи, присматриваюсь к ней.Я
Дедов рубль
Я помню, как меня крестили. Мне кажется, что первое мое впечатление от жизни — это купель под водой: меня окунули в чашу серебряную — ух! — и я вышел. Наверно серебряную, потому что уж очень она сияла. И вода в сиянии в сильном вибрирует… Меня ведь не маленького крестили.
И мне эта купель все время мерещится, преследует.
* * *
Я хорошо помню трагическую участь деда, как его глубоким стариком выгнали из дома, и он ничего не понял, он думал, что это просто хулиганье, бандиты пришли его грабить. Он был сильный старик, стал их прогонять из своего дома, взял коромысло, ему было восемьдесят шесть лет. Они его выкинули на снег, и с ним был инсульт. С трудом его все-таки родственники отходили, посадили в поезд, и он приехал с бабушкой в Москву. Отец в это время сидел, и встречал деда на вокзале я, мальчишкой совсем. Сколько мне было? Лет 11 — коллективизация начиналась, 29-й — 28-й годы — 10–11 лет. И я помогал носить вещи деду, он плохо ходил после удара, рука не работала, и я до сих пор помню, как за то, что я ему помог перетаскать на третий этаж все их нехитрые пожитки, он дал мне большой серебряный рубль. Я был удивлен и пролепетал:
— Что вы, дедушка!
Дед наставительно произнес:
— За всякий труд надо платить. Вот они не платят, и ничего у них не получится. Запомни, внучек.
* * *
Дед и бабка были крепостными. Когда отменили крепостное право в 1861-м году, они очень рано женились, и он очень умело вел хозяйство — по-советски, наверно, «кулак» назывался. Крестьянин. Он был грамотный, очень верующий, был церковным старостой, пользовался большим уважением в деревне. У него был великолепный сад, его руками сделанный. Дом стоял — хороший сруб в два этажа, крытая железом крыша, хорошо прокрашенная. Мы любили по ней бегать, а дед гонял.
Дед жил в деревне Абрамово, а я родился в Ярославле тридцатого сентября 1917 года — за несколько дней до революции все-таки я успел проскочить. Вера, Надежда, Любовь, мать их Софья и я. Никогда цветы нельзя было в этот день подарить — все разбирали для дам! С пяти лет моя семья переехала в Москву.
Ярославль — это древний русский город на Волге. И там первый театр — театр имени Волкова, при Екатерине Второй Великой основанный. С великим русским актером Волковым. Большой, классический театр, с колоннами, с портиком — очень красивый старый театр.
Отец потом привозил нас к деду. Он уже был довольно состоятельный. И все равно, дед оставался главой семьи. Все садились за стол, и только с разрешения деда, после молитвы, все начинали есть. И отец деда всегда называл на «вы», так же как я отца всю жизнь: «папа, вы».
Видимо, это было несколько лет — в деревню мы приезжали на лето. Сперва я помню, мы с братом приезжали, значит, еще Наташи не было, а потом мы втроем приезжали. Значит, это несколько раз было. И в ночное лошадей там гоняли, и на сеновале прыгали и спали. И помню еще всякие эпизоды такие — как двоюродные братья мои, здоровеннейшие — род был сильный — они, если выпивали, то жеребца — рыжий жеребец был прекрасный, звали его Барон — они подлезали под него и таскали, кто дальше пронесет, сколько шагов. Такие развлечения. В городки они очень любили играть — с коваными битами — одной лаптой вышибали фигуры. Лихо играли, деревня на деревню. Ну потом, конечно, и страшные драки я видел, деревня на деревню.
Мне врезались какие-то черты детства. Например, когда я прыгнул со стола. Дед сказал:
— Выгони корову из сада, — а я на столе танцевал, вроде своего сына Петьки. И я прыгнул и попал на осколки стекла от керосиновой лампы, и она у меня вся в пятку вошла. Ну, и мама стала кричать:
— Господи!.. Скорей… врача!
Дед ей сказал:
— Замолчать!
Мне дал хорошую подзатрещину, положил на колено, вынул перочинный нож, прокалил его на спичках, вытер и потом начал выковыривать все стекла из пятки. Я стал орать, он мне изредка давал подзатыльник, чтоб я прекращал орать.
Он все выковырял, посмотрел, что нет там стекол больше, залил йодом, перевязал ногу, отнес в сад и сказал двоюродной сестре:
— Сорви ему яблоко и ягод.
У него были прекрасные яблоки — антоновка, черная смородина, малина, — замечательный сад. И мне врезалось, что дед разрешил, а двоюродная сестра сразу стала воровать: набирать за пазуху яблок — и я это помню. Потому что мне было больно, и все-таки я ей говорил:
— Как тебе не стыдно, Прашка? Дед тебе разрешил взять яблоко, а ты воруешь и столько набрала яблок!
Это вот какие-то первые понятия, что плохо, что хорошо, что нельзя врать. Как можно не слушать деда! Видите, это врезается на всю жизнь.
И также он плавать меня учил. Взял в охапку и бросил в пруд — там карасей мы ловили — и я выплывал. Я выплыл с трудом — ну так, по-лягушачьи, он опять меня бросил. Таким образом я стал плавать.
Он замечательно собирал грибы, он их фантастически находил. Я смотрел за ним, и он меня научил, как собирать грибы. И когда он был уже не в себе, гонял меня:
— Уйди, чего ты за мной все ходишь.
А я боялся его одного оставлять. Я отбегал, а потом опять приходил, чтобы отвести его домой.
* * *
Дед носил окладистую бороду, имел иконописное лицо и мне всегда напоминал Николая Чудотворца.
В Москве дед был совсем мало, он был раскулаченный, и его надо было скрыть. Поэтому отец, видимо, и снял в Малаховке, по Казанской дороге, дачу, и дед там жил с бабкой.
Там он и умер, и я хоронил деда мальчиком и всю ночь смотрел на лежащего мертвого деда. Потому что никого не было, была бабка живая еще. Но он умирал совершенно как святой, ночью крикнул:
— Вставай, приведи священника!
Это было в Малаховке, и я бегал по этой не то дачной местности, не то деревне ночью. И отыскал священника, привел. Священник отпевал деда, свеча у деда горела, он сказал бабке свои наставления, потом мне сказал, что я должен передать Петру. Он так отца звал — Петр. И по библейски совершенно — закрыл глаза и отошел.
Папа увидел мою маму на балу в гимназии, она с лестницы спускалась, бежала. А он такой шкет был из коммерческого училища. И он влюбился сразу.
Мама была полуцыганка, и дед был очень недоволен этим браком. Мой другой дед — по линии матери — был чистый цыган, но оседлый. Он очень любил лошадей и на выезд держал двух лошадей всегда. Просто из любви к лошадям, хотя не был богат.
Отец был у меня коммерсант, довольно состоятельный и образованный человек. У него был такой вид, что нигде билета не спрашивали, даже советские. Очень импозантный был вид. Выше меня, шире.
Он кончил реальное коммерческое училище, еще что-то, я не помню. Очень любил историю, сам собирал книги, любил красивые вещи, очень женщин любил. Входил в комнату и говорил маме:
— Анна, парадно! Сними все чехлы с гостиной. Зажигай люстры. Поставь красивый сервиз кузнецовский.
Мама в испуге говорила:
— Кто-то придет? Ты не предупредил, Петр!
— Никто не придет, мы будем сами.
Мама, тогда еще Аня Бородашкина, май 1907 года, за несколько лет до того, как она вышла замуж за папу
Мама, Анна Александровна, в квартире на Фрунзенской, 1960-е годы
— Ну, а зачем нужно все снимать?
— Я хочу, чтобы сегодня было все парадно. Я люблю, когда все красиво.
Он очень любил это. Я всегда поражался и спрашивал:
— Папа, зачем так?
Он говорил:
— Ах, ты ничего не понимаешь. Это же красиво. Жизнь одна. Надо уметь жить.
Ну, его и посадили, конечно. Барин, нельзя было терпеть.
— Ну-ка, голубчик, обгони этот трамвай! — это он на лихаче катит меня из Сандуновских бань, — порадуй мальчика моего, давай, обгони трамвай!
Тот:
— Сделаем, Петр Захарович!
И тут же эту «аннушку» обходит — трамвай носил букву «А» вместо номера.
Он своеобразный человек был: независимый, властный — после смерти деда он стал главой нашей фамилии.
Очень любил историю. От него осталась библиотека прекрасная. Там и Карамзин, и Соловьев, и Костомаров, и много других хороших книг. Отец любил их читать и приучал и нас читать. Нам не всегда хотелось, но что-то, даже Карамзина, я помню.
Когда мама просила убрать Губенко из квартиры на Фрунзенской — ему негде было жить, и он жил у нас, — мама сказала мне, что он берет книги папы и продает.
После того, как меня лишили гражданства, часть книг осталась, а часть куда-то исчезла. У меня в квартире в Сокольниках было очень много книг — в два раза больше — многие еще от папы.
* * *
Папа работал в какой-то шотландской компании, которая торговала рыбой. Рыба, икра, сельдь. Это я по разговорам только помню.
Потом у папы в Охотном ряду был магазин. С купцом Головкиным. Соления: огурцы, грибы, сельдь — все мочености: яблоки моченые, арбузы, всевозможные капусты — магазин солений.
Я, конечно, там бывал часто. Очень чисто все. Это, где сейчас гостиница «Москва». Охотный ряд шел с двух сторон: где потом был Совет министров, Госплан (а сейчас Дума) и с другой стороны гостиница «Москва» — вот это и был Охотный ряд.
Если вы идете от Театральной площади, то слева, а если от Манежа, то справа.
Это сперва был магазин их вместе: «Головкин и Любимов». Я помню, что Головкин Сергей (Ионыч) жил за Плющихой в каком-то переулке, у него был деревянный дом с участком, там были склады. Я помню, что у отца были большие склады, огромные бочки-дошники, где солили капусту, и как сидели эти бабы, а мы ребятишки все туда бегали есть кочерыжки, когда капусты разгар, засаливали на всю зиму эти огромные кадки. У самого берега Москвы это было. Это был большой участок земли, наверно гектара полтора-два — там были большие склады для этого магазина и, видимо, для оптовой продажи.
В двадцатые — тридцатые годы папа работал — если по старым понятиям — коммивояжером. Он часто менял работы. Иногда его приглашали где-то консультировать. Потому что он был человек, видно, в коммерции сильный и в таком молодом возрасте уже стал довольно состоятельным господином. А потом, видимо, когда менее компетентные люди, которые пытались еще что-то в кооперации делать, — они к нему обращались за помощью. Он умел разговаривать с людьми, налаживать контакты, понимал в соленьях, в грибах, в рыбах, и так далее.
Во время войны было, конечно, как и у всех, жалкое существование. Он где-то работал, и мама работала, но, я помню, когда увольнительная у меня была, я приносил все, что мог, какой-нибудь пшенник или сухой паек, если мне удавалось получать. Нас посылали куда-нибудь — я брал сухой паек и скорее бежал к ним. Был комендантский час в Москве, поэтому я бежал к ним — бегом туда и обратно в казарму.
А это папа в реальном училище, даты на фотографии нет, по-видимому, около 1905–1907 гг.
Папа, Петр Захарович Любимов, Москва, 1960-е годы
Один раз куда-то нас отправляли под Москву, и я на лыжах поехал в какую-то деревню, куда поехала нас целая группа солдат, у которых были родители в Москве. Мы узнали, что в этой деревне еще можно что-то выменять. И мы поехали менять, а у меня под шинелью была какая-то курточка — козий мех, и она грела как-то. И я выменял эту курточку на картошку, и когда обратно мы до станции на лыжах шли, то я отморозил себе щеки. И потом это долго у меня было — многие даже десятилетия — чуть я попадал на мороз, как коркой становилось лицо, как замороженное белье, которое мы маме помогали зимой снимать.
* * *
После войны папа где-то еще пытался работать, а потом вышел на пенсию. И неожиданно очень — он никогда не пил и не курил, он видел братьев, которые сильно пили, у него какое-то отвращение было к этому — и такая сложная болезнь в старости, 72 года — туберкулез и диабет. Одно исключало другое. Лечили тогда плохо, как и сейчас, медицина у нас всегда была скверная, и он очень быстро сгорел. Он умер как раз когда я поставил «Доброго человека…», он даже не посмотрел, все интересовался. Помню, я его из больницы брал и не знал, что делать. Врачи говорили, что ему нужен уход, а он говорил, что нет, «я хочу умереть дома».
Я врачам сказал «нет, раз он хочет умереть дома, я его возьму». И я с Димой, мужем моей сестры, полковником медицинской службы, привез его домой, на Фрунзенскую. Помню, когда я подходил, он отстранял меня рукой — боялся, что я могу заразиться. Все измучились, мы маму отвезли к сестре. И брат измучился, я брату сказал:
— Ты все-таки поезжай поспи.
Мы остались с Димой, и он на наших руках умер.
Еще я немного прикурнул, ночью не спали, и вдруг Дима вбежал и сказал:
— Юрий, отец умирает.
И я видел, как угасает человек.
* * *
В Москве мы жили в Земледельческом переулке, дом 3, квартира 9, третий этаж.
Долго мы там жили, нас там уплотняли. Помню, четыре сестры были вселены в кабинет папы со всей мебелью. Я очень запомнил вертящийся такой стул венский — вертушка. На нем была стилизованная охотничья табуретка, какая-то на таких копытах… и письменный стол папин роскошный — большой, красного дерева. Стол-то он взял, а какие-то вещи остались, ведь раньше весь этаж был папин в этом доме.
И там поселились четыре сестры — Песя, Сара, Мера, Фаня. А у меня был пес Дезик, которого я очень любил, — маленькая собачонка. Типа овчарки, но полудворняга. И он постоянно «пысал» в их галоши. Были все время скандалы. И мама оправдывалась, извинялась. Потом, видно, этого Дезика они сдали в собачник. Тогда ездили по дворам, собирали бездомных собак.
Мы с братом бегали туда, где у них своз был, чтобы убивать, и искали нашего Дезика. Помню, это было большое горе. Но так этого Дезика и не нашли. И мы в отместку достали молоток, гвозди и прибили их галоши к полу. И был дикий скандал. Нас обвинили в антисемитизме, писали доносы. Хотя мы тогда не понимали, причем тут «антисемитизм» и что это такое.
Просто нас удивляло, и я говорил:
— Ну как же, мама? Там же вся наша мебель, мы там играли, в той комнате. Они же в нашей комнате живут. Почему же они и Дезика отняли?
— Ну потому что вы хулиганы, нельзя такие вещи делать.
Мы говорим:
— Но они собачку нашу сдали, там ее убили.
Я помню, что брата в милицию взяли и посадили, потому что тогда в газетах печатались уже списки лишенцев — людей, которых лишали прав, и мы как дети лишенцев уже подвергались остракизму.
* * *
Потом у нас была двухкомнатная квартирка на Фрунзенской набережной — маленькая очень. Иногда послы удивлялись. А они меня провоцировали — послы:
— Вы знаете, у вас все-таки странно: никто не приглашает в гости.
Я говорю:
— Что вы?! Это вам так кажется!
— Так пригласите.
— Да на здоровье. Поехали.
— Как?
Я говорю:
— Только вот я не за рулем сегодня.
— А вы не боитесь сесть в машину посла?
— Да кто вам все такие глупости говорит? Поехали. Я только не помню, есть у меня выпивка или нет.
Тот говорит:
— Ну, это мы захватим.
И потом, когда посол входил, он говорил:
— Простите, это ваша квартира?
Я говорю:
— А чего? Заходите. Сейчас все сделаем. Все будет нормально. — Балкончик, турник показывал, как я подтягиваюсь. Потом после нескольких таких визитов меня вызвали. Сказали:
— Почему вы не просите квартиры? Как вам не стыдно приводить иностранцев в такое жилье, позорите нас.
Это было, когда уже существовал Театр на Таганке.
В этой квартире умер и папа.
* * *
Мама была учительницей. Она преподавала в младших классах.
Однажды, когда мама была уже старенькой и больной, вернувшись домой, я застал ее стоящей на стуле: она снимала книги с полок, освобождая их от картонных обложек. Я спросил:
— Что ты делаешь, мама?
— Юрик, это надо обязательно сделать, — сказала она, — а то книги задыхаются. Но задыхалась уже мама…
* * *
Пожалуй, самое сильное мое первое театральное впечатление, это когда папа привел нас во МХАТ смотреть «Синюю птицу» Метерлинка.
Папа привел меня, старшего брата Давида и Наташу. Почему мне это запомнилось очень? Я был ребенком, Наташа совсем маленькая, и я помню, как там появился Огонь и начал махать языками пламени; там же персонажи все такие — Пес, Кот, Огонь, Ночь — и так далее. Там летали такие птицы. И она испугалась и под стул полезла, а старший брат стал ее успокаивать: «Что ты, это же глупости», — но она все равно забилась под стул и плакала. Мне тоже было страшно, но я сидел и делал вид, что я не боюсь. Я как старший смотрел спокойно, и я ее, позоря, вытаскивал из-под стула.
Мне запомнилось: вся атмосфера, как папа привез, в ложу посадил нас, все это чинно, капельдинеры — это совершенно другой мир, который сейчас потерян.
Он водил и в Большой, и в Художественный театр нас, детей.
Какой же это год? Раз была Наташа, а я пошел… не помню, в какой класс, значит, Наташа была совсем маленькой. У нас разница с ней четыре года. И между мной и старшим братом тоже четыре года. В 1914-м году он родился, а я в 1917-м. И значит, раз Наташе было, наверное, лет пять, могли уже пустить ее, значит, мне было уже лет девять или десять, а старшему четырнадцать.
Потом еще один спектакль я до сих пор помню. Когда я видел, как Станиславский играл «Горе от ума» — Фамусова. Там играл и Качалов — целая плеяда блистательных старых мастеров — Москвин, Качалов, Лужский, Репетилова. И важно, что я все помню детально: полукруглая печь дровяная, вокруг нее диван красного дерева, и Станиславский в сцене со Скалозубом просил его:
— Сюда, сюда садитесь, вам тут удобней. — И залезал на диван и открывал отдушничек — оттуда, казалось, вырывался жар. И меня поразило, какое все было натуральное: настоящая медная заслонка, которая открывалась, оттуда тепло шло.
Я до сих пор так и вижу начищенную до блеска медную эту штуку и как огромный, солидный человек лез, сажал, очень подробно все помню детали. Но это уже более позднее воспоминание.
Вот первые два воспоминания о театре: одно символическое, другое реалистическое. Интересно, что я запомнил детали и того, и другого. Я помню, мне очень понравились костюмы, как это сделано: Синяя Птица и Тиль, Митиль там персонажей и реальные, и сказочные. Я не перечитывал, а с тех пор помню: Огонь, Вода, Кошка, Собака, Тесто. Я все хотел такую же сказку сделать для детей.
Мама. Фотография подписана: 15 сентября 1919 года
Мой брат Давид и я. Примерно то же время
И в своем искусстве я ближе, безусловно, к Метерлинку. Я с удовольствием бы ставил «Горе от ума», но только совсем в другой манере. И — так странно судьба поворачивается — одна из моих постановок в Москве — в новом театре — это «Три сестры» Чехова. И, когда я его ставил, я снова столкнулся с Метерлинком — оказалось, что в письмах этого периода Чехов много говорит о Метерлинке.
* * *
Я все хотел быть писателем. И рано — давно — сочинял какие-то детские стихи. И потом почему-то стал их писать уже в старости — большой перерыв был в «поэзии» моей. (Не волнуйтесь, я никому не читаю.) Помню детскую книгу такую: «Му-му» Тургенева, про собаку, «Каштанку» Чехова. И я когда читал «Му-му» совсем маленьким, до школы, то я забирался в такой — стоял у мамы большой сундук и там печка была голландская, (как у Станиславского), только прямая. Там было тепло, и вот, старый мех какой-то был от дохи, я туда его забью, сяду и все читаю то «Му-му», то «Каштанку» и плачу — очень сильно переживал, даже температура поднималась.
* * *
У папы была своя ложа в театре, а может, он брал эту ложу. Это, наверное, еще до первого ареста, потому что после ареста вряд ли он мог ложу брать. 26-й год — это нэп и еще никого не брали. Когда мама сказала мне, что папу арестовали, — это я помню, потому что мне стало нехорошо и я упал в обморок. И мама очень строго сказала: «Встань! Мальчик не может так себя вести!» То есть — строгости, не то, что «Ай-яй-яй!» У меня действительно закружилась голова и я упал, но быстро пришел в себя. Вот это я помню. Потом маму арестовали в Москве и отвезли в Рыбинск, рядом с Ярославлем, у них такая методология была — по месту рождения, чтобы сразу оторвать от семьи. Ведь они специально это делали, чтобы дети остались… И был момент в жизни, когда вообще мы остались втроем: сестра, я и брат — взяли и мать, и тетку, и отца. У отца хотели забрать деньги — это еще был период не политический. А когда они деньги отбирали, тогда в Москве были созданы Торгсины — это есть в «Мастере и Маргарите» Булгакова. А мать взяли, чтоб повлиять на отца, мол, «дети остались одни — раскошеливайтесь, тогда вернем мать». Отец был гордый, сильный, он ничего не говорил им, и у него не было таких денег. Тогда мать не выдержала, конечно, и, когда они приехали к ней, отдала все свои драгоценности: серьги, кольца и так далее — она боялась, что мы останемся одни. А я возил ей, совсем маленький, передачу в тюрьму. А система была такая: ее брали и увозили в свой город — она родилась в Рыбинске, я совсем мальчишкой маленьким поехал в Рыбинск ей передачу везти. Мне было лет десять, наверно, не больше.
Она была в тюрьме несколько месяцев. Потом она вернулась, но я успел ей отвезти передачу. И мы втроем заседали: сестра, я и старший брат — и решали, кому везти передачу. И выбрали меня, что, мол, меня все-таки не возьмут. А я сказал брату:
— Тебе нельзя ехать, тебя могут посадить.
Вот такая школа. И несмотря на это, он был убежденный комсомолец, организовал какую-то коммуну, работал. Я у них мальчишкой даже поваром был, им кофе из желудей варил, тогда были карточки, жизнь была очень тяжелая, трудная. Но пропаганда сумела, видите, так мозги затуманивать людям бесконечно, что надо терпеть во имя их скудоумных химер.
Надеюсь, мой Петя будет умнее, чем я был.
Сейчас, спустя много лет, я понимаю, каким я был дураком. Ну, если мы с братом — брату было четырнадцать лет, а мне десять — могли говорить нашему бедному отцу:
— И правильно вас посадили, папа, потому что вы отсталый тип…
А я маленький щенок — за брата, конечно. Я боялся, но хорохорился и тявкал за старшим. Папа ничего не сказал, просто такую пощечину ему дал, что он покатился под стол, метров пять летел и застрял между тумбочек письменного стола красного дерева с зеленым сукном — туда как шар бильярдный — бух! Он гордо вылез оттуда, ну и мы с ним ушли из дома. Я ушел к приятелю, Преображенскому, как доктор в «Собачьем сердце», был замечательный детский врач Сергей Иванович Преображенский, который когда входил в квартиру, Володька — его сын — всегда разговаривал по телефону — телефоны были еще такие — тр-р-р! — с ручкой, которую вращать надо. И он входил с саквояжем, на пролеточке подъезжал — цок-цок-цок — и входя говорил:
— Владимир, положи трубку. По телефону полчаса разговаривают только кухарки.
От Сергея Ивановича я слышал очень нелестные характеристики Ленина, что нас, мальчишек, чрезвычайно удивляло. От него за чаепитием я слышал:
— Перестаньте при мне упоминать об этом злом скверном журналисте!
Для нас это был какой-то шок просто. Чтоб образованный интеллигентный человек так резко отрицательно говорил о самом Ленине! Это было мне лет семь.
И мой дорогой отец горько заблуждался: он ни секунды не сомневался в том, что это должно рухнуть. Он мыслил примерно как Бунин в «Окаянных днях». Но считал, что это должно рухнуть, поэтому он не уехал. Он мог уехать, как Бунин.
Это как у Эрдмана в его пьесе «Мандат»:
«Тамарочка, погляди в окошечко, не кончилась ли советская власть?» — «Нет, Сенечка, кажется еще держится». — «Ну что же… опусти занавесочку, посмотрим, завтра как».
Если бы я смог найти артиста на роль Преображенского, я бы поставил «Собачье сердце».
Потом через полгода взяли мать. Прошло тоже месяца три. Им показалось мало, они взяли тетю Дуню, чтобы мы совсем остались одни. Мы остались одни. Мы продавали очень хорошие книги, и взрослые нас обманывали. Там была уникальная книга «Горе от ума» — на слоновой бумаге и с такими иллюстрациями, мы все смотрели — замечательно — огромная книга. Видно, их вообще было выпущено сто экземпляров. И такие книги взрослые у нас покупали — за бесценок! Потому что нам не на что было жить.
Потом чекисты привели маму, и мама отдала все свои драгоценности: кольца, серьги — все отдала. Я помню, отец пришел из тюрьмы очень худой, по стенке он шел, но первые слова были очень строгие:
— Зачем ты все отдала этим мерзавцам, Анна! Это же жулье, шпана.
Это говорил человек, который еле пришел. Он ни минуты не заблуждался. Только почему-то не успел уехать. Все верил, что эта бессмыслица рухнет.
Им было мало того, что они все это взяли, они еще ломали паркет, искали под полом золото… раньше были такие решеточки медные везде — и сверху — была вентиляционная система в домах. Был старый хороший дом.
После этого, по-моему, отца еще трогали. Но в общем, они удостоверились, что таких денег, которые они требовали, у него не было. Они требовали какие-то баснословные суммы.
* * *
У меня была маленькая сестричка, которая умерла, а нас осталось трое — Наташа сестра и брат Давид. Его дразнили в школе: что еще за «Давид». Брат очень расстраивался, что его ребята в школе дразнят. А папа с фантазиями у нас был, он говорил:
— Просто ослы твои мальчишки. Я тебя назвал в честь победы Давида над Голиафом.
Он был очень вольный человек, но, видимо, не учел антисемитизма, за что брат дорого платил (много дрался в школе). Его били как еврея.
Мама меня пыталась учить на фортепьяно. Я сперва ногу сломал — нечаянно — и уговаривал маму, что мне трудно на педаль нажимать, она, бедная, согласилась с этим доводом, а потом я руку сломал. Тоже не нарочно. Я брата своего родного довел, бедного — замечательный был человек — до того, что он в меня утюгом запулил. И я от него бежал, и нога у меня попала в перила, в переплет — сломалась. А рука еще хуже сломалась. Я радиофицировал школу — у меня даже грамота была, но потом потерялась, «За электрификацию школы». И я полез вверху проводить, и шнур запутался за бюст Ворошилова, который высоко почему-то висел — я не знаю, почему, наверно, чтобы школьники не трогали. И я упал оттуда на планшет сцены — в школьном зале — и на меня грохнулся ворошиловский бюст медный и прошиб сцену. И пока я падал сверху, я сломал руку о сцену, о край планшета. Видите, значит, уже я был связан с подмостками при помощи товарища Ворошилова.
Конечно, мама от меня натерпелась. Со мной, как с Епиходовым из «Вишневого сада», все время приключения.
Сестра Наташа
Мама меня учила, как всех детей: и сестру, и меня, и брата — я учил немецкий и на фортепьано — танцам. Но потом стал монтером. Уже, значит, столкнулся с другой жизнью. Когда нас водили в ФЗУ в столовую, то там ложки были цепочкой привинчены к столам — чтобы не воровали (видите, на всю жизнь врезалось, ведь значит, их никогда не мыли!).
Брат у меня забавный был. Интересный очень, замечательный человек. Вместе с ним мы увлекались, читали все эти приложения к «Огоньку» — библиотека «Огонька»: Фенимор Купер, Джек Лондон. У него дар был большой к живописи. Он водил меня на этюды, приучил всматриваться в природу, я полюбил ее красоты, свет и тень, цвета, как они меняются, солнце и так далее. У него были прекрасные этюды. Он был старше меня на четыре года. Но когда ему шестнадцать, а мне двенадцать — это играет огромную роль. А он стал заниматься живописью очень рано. Он ходил на этюды всегда: осенью, когда листья падают, или весной, когда цветут сады, выбирал красивые пейзажи и всегда обращал внимание мое:
— Смотри, какой красивый свет!
Я, например, считаю, что поэтому у меня такая любовь самому ставить свет в театре — я всегда делаю сам свет, во всех своих спектаклях, то, что не принято на Западе — наверно, это где-то заложилось уже давно, в детстве. Это был замечательный добрый человек очень, трудолюбивый. У него все тетради школьные получали премии. Гербарии он собирал. У него был замечательный почерк. Ну, он просто имел дар. И я ему обязан многим. Так сложилась жизнь, что потом он ведал полиграфической промышленностью, много выпустил детских книг прекрасных. Сперва он работал на полиграфической фабрике директором, потом стал многими фабриками руководить, потом Косыгин назначил его ведать полиграфической и детской промышленностью — игрушек, был почти что на правах министра, больше чем начальник главка.
И не потому, что он мой брат, а может, и поэтому, но на таких Россия держится. То есть он беззаветный работник. Недаром Демичев сказал:
— Какой у вас брат замечательный! В кого вы такой злой?!
— Это только для того, чтобы оттенить вашу доброту, Петр Нилович!
Видите, даже сам Петр Нилович отметил брата, как и я. Значит, были же у нас общие точки! А тут никак мы не могли найти точки, что касается взгляда на искусство.
Косыгин отправил брата со ста тридцатью рублями на пенсию и отнял больницу. И я ему написал письмо:
«У брата моего никого нет, он у меня один. И я к Вам обращаюсь, уважаемый председатель Совета министров. Он ишачил на Советскую власть на износ всю жизнь, как лошадь. Благодаря таким и стоит ваша власть. Больницу хоть верните, прошу вас». И передал, конечно, через людей, которые могли положить ему на стол. И вот председатель Совета министров с барского плеча написал: «Вернуть больницу». И прибавил брату десять рублей.
Брат Давид
Кавалер
На заседаниях
С дочкой
Это очень смешно. То есть ничего смешного, это грустно, конечно. Ко мне ходил помощник Косыгина, который почему-то просил у моего знакомого хорошего, Делюсина:
— Юрий Петрович, может, достанет билеты.
— Ты же помощник Косыгина. Позвони, тебе же все сделают.
— Мне как-то неудобно. Юрий Петрович, может, как-то устроит.
Ну, я его устраивал. Один раз он пришел, а уже сидел у меня в кабинете разжалованный Шелест, который попал в кабинет ко мне случайно. Сначала пришел его сын — я оставил билеты.
Я спросил:
— А где же папа?
— Папа ходит внизу в фойе.
— Ну позовите папу сюда. Почему же он там один ходит?
— Ну сейчас все от него отворачиваются, все боятся с ним говорить, — после падения с таких высот.
Я сыну говорю:
— Пойдемте, я приведу папу, приглашу.
И он был так растроган, слезы у него были на глазах — у Шелеста. А этот бедный — помощник Косыгина — зажался, стал красный, я их угощал коньячком, чаем, конфетами. И потом Шелест мне сказал:
— Мы… можем еще посмотреть у вас?
А до этого он пришел на Маяковского, важный — ждали Гришина — грозно, и меня предупредили:
— Смотри, ничего хорошего не выйдет, закроют они театр, а тебя выгонят.
Но пришел один Шелест. Мы с ним спускались по лестнице, и он так небрежно бросил мне:
— Интересно, как вы выкрутитесь? Ведь он себя шлепнул.
Посмотрев, он одобрил, ему понравилось. Он пригласил театр в Киев на гастроли.
Я говорю:
— Да ведь нас не пускают никуда.
Он говорит:
— Если я скажу, пустят.
Ан нет! Не пустили! Гришин против был, и нас не пустили на гастроли в Киев. Но потом победил Шелест и мы поехали на гастроли. И когда второй раз пришел опальный Шелест, мы в очередной раз сдавали Кузькина.
И он спросил:
— Ну как?
Я говорю:
— Да знаете, тут сказал, что разрешает, потом доехал до министерства и закрыл.
Он говорит:
— Ну, вдумчивый человек. Задумался — и закрыл, — с нескрываемой иронией.
И я понял, не такой это простой господин, когда о нем анекдоты ходили, о его грубости — это было далеко не так. У меня бывали очень многие члены Политбюро, которых потом снимали. Потом, может быть, они заметили это совпадение и реже стали ходить на спектакли.
* * *
Я ходил в школу в Кропоткинском переулке, где финское посольство. Потом ее закрыли, и нас перевели на Крымскую площадь. Потом, по-моему, ее тоже развалили — вот где метро, в глубине была еще школа.
Из Земледельческого переулка я бегал в школу пешком. По Долгому переулку на кольцо «Б», тогда там бульвары были замечательные, ходила Букашка. А Долгий переулок соединяет Плющиху с Зубовской площадью. Я еще помню, когда ходил фонарщик и зажигал фонари газовые.
Рядом со школой церковь была, которую закрыли. И помню, первое мое упрямство проявилось, когда учительница сказала:
— Дети, давайте проголосуем, что они мешают нам учиться.
Ходили в эту церковь пожилые люди, на Пасху красиво, на праздники церковные, а моя парта была у окна, и часто я с большим интересом смотрел, как идут в церковь, так как дед водил меня в церковь, я даже мальчиком прислуживал.
Это в нулевом классе было. Учительница потребовала, чтобы мы проголосовали за закрытие церкви — дети.
И там я не поднял руки, чтобы закрыть церковь.
— А ты, мальчик, почему?
— А зачем? Мне они не мешают.
— Тебя родители научили?
— Нет, никто меня не учил. Это я сам, не хочу.
— Но ты же видишь, все подняли руки.
— А я не буду поднимать.
— Иди домой, пришли маму.
Я пошел домой, сказал маме, и мама сказала:
— Ну зачем ты так?
— Потому что они сказали, что это родители меня научили. Ты же меня не учила этому.
И потом, видимо, мама ходила, там чего-то говорила. И учительница сказала:
— Я говорила с мамой. Тебя плохо воспитывают родители.
Я сказал:
— Неправда. Родители меня воспитывают хорошо.
— Но это все-таки они тебя научили.
— Это неправду Вы говорите, они меня не учили.
— Твоя мама сказала, что тебя научили они.
P.S. Бедные родители!
* * *
Мы в детстве ходили играть к Москве-реке, где был храм Христа Спасителя, спуск там такой был… Это было прекрасное место, где любили люди гулять, сидеть, так же как ходили все по Китай-городу, там был букинистический магазин, очень много лотков с книгами. Это все старые московские уголки, москвичи очень любили бродить по ним.
Я ходил в Воздвиженскую церковь. Были какие-то годы, когда я менее соблюдал ритуалы, а последнее время я довольно часто хожу в церковь, причащаюсь. Там, где я жил, в Сокольниках, рядом хорошая церковь Иверской Богоматери. И был праздник чудотворных икон Иверской Богоматери. И вот когда кончился праздник, очень похоже было, как на Троицу, знаете, березы вокруг, и потом остались женщины и сами пели, уже после службы, молитвы. И я вдруг увидел такие прекрасные просветленные лица, они с таким вдохновением пели, что это мне очень потом помогло, когда я делал «Бориса». И это мне напомнило такое же сильное впечатление, когда в Милане рядом с Домским собором вся площадь была полна народа — провожали миссионеров, которые уезжали, по-моему, в Африку — в самые страшные районы. И поразили меня лица людей, очень много молодежи было, пели молитвы, это было просто вдохновение какое-то. Тысячи людей — вся площадь перед собором. И также мне поляки рассказывали, когда Папа был в Польше, они говорят, поразительно, вся Польша изменилась во время его визита, она стала другая.
* * *
Потом я перешел в школу на Крымской. Потому что тогда десятилетка образовалась. Сперва девятилетка, потом десятилетка. И хотя у меня прошлое было — «сын лишенца» и так далее, хотя отец и развелся. Понимая, что грозят такие вещи, он оформил развод, чтобы детей меньше трогали. Но это все равно не помогло. И я тогда пошел в ФЗУ, потому что меня научили люди, чувствовавшие политику советскую, что я должен зарабатывать стаж рабочий, тогда от меня отстанут, и мне будет легче жить. И у меня трудовая книжка, где идет рабочий стаж с 14-ти лет. В 14 лет я закончил семилетку и пошел в ФЗУ. И тем, кто шел в ФЗУ, поощрение было — сразу начинался рабочий стаж. А если я имел несколько лет рабочего стажа, то я мог уже поступить в институт. Ну, закончить быстро подготовительные курсы в вузы. Для рабочих были специальные подготовительные курсы — полтора года.
И я уже все эти курсы начинал проходить, чтобы поступить. Но я обязан был после ФЗУ отработать три года, что ли. Но тут я, окончив ФЗУ и получив высокий разряд, вместо того чтобы отрабатывать — поступил в театральное училище — к прискорбию папы!
У мамы была подруга Анна Степановна Троицкая, по-моему, она и советовала…
— Может быть, Юре начать с рабочего стажа. Потом ему легче будет дальше поступить в университет.
Я хотел поступать в Энергетический, поскольку я кончил с высоким разрядом ФЗУ, у меня были какие-то преимущества при поступлении. И я готовился поступать. У меня были какие-то грамоты, как я радиофицировал всю школу, проводку там делал. У меня к технике были склонности.
И вдруг ни с того ни с сего… Ну не совсем ни с того ни с сего, потому что я что-то в самодеятельности играл. В школе. Уже в той, на Крымской площади. Какая-то дама вела. Забыл. Почему я это помню, было у тети Насти, которая тоже жила с нами — папу же уплотняли и он дал большую комнату тете Насте, а у ней было чучело орла. И я тихонько выдернул оттуда перья и сделал себе наряд индейца. Читал какие-то стихи. Я не помню, кого же это стихи. Что-то:
Я индеец Эпиваха Никогда не ведал страха, На медведя я ходил И зверей без счету бил.Костюм шили коричневый из коленкора, брюки с бахромой, я соорудил себе перья — повыдергивал их из чучела орла тети Насти. И еще помню — такая большая книга была сделана, и мы вылетали из этой книги.
Потом я с увлечением бегал в кружок имени Айседоры Дункан. Айседора Дункан приехала в Москву и организовала ряд школ в Москве. И в одну из школ меня отдала мама учиться. И я с удовольствием там с ребятишками учился несколько лет. А отдала меня мама по такой причине. Мама пришла с подругой, а я оставался один, несколько часов играл, ну как все дети, мне, наверно, было лет пять-шесть. И мама спросила:
— Что ты, Юра, крутишься?
А меня звали «ртуть», я очень непоседливый был.
Я говорю:
— Я не кручусь, я танцую.
— Как? Что это за танцы странные какие-то?
— Как? Ничего странного, это танец волосины. Когда ты завиваешься щипцами, если взять один волосок выдернуть, между ногтями его зажать и сделать: тр-р-р! — он сворачивается в пружину. И выдернул волос из головы и показал ей: вз-з-з-з! и д-р-р-р! — вот я это и танцую.
После этого она и решила, что я одаренный ребенок. Подруга тоже удивилась, сказала:
— Какой мальчик! Ты должна… — Они учительницы обе были. И тогда я вот поступил в школу Айседоры Дункан. Это было тоже недалеко, к Воздвиженскому, к Москве-реке, в тех переулках: нужно было перебежать Плющиху и туда пройти. Тогда это модно очень было. Но мы занимались там главным образом ритмикой. Через ритмику, импровизации через ритмику. Ну и учил сольфеджио и учился играть на пианино.
* * *
Потом я часы очень красивые разобрал. Они были на байю. Байю — это такой шкаф с мрамором, с резной работой, с прекрасными инкрустациями по дереву. А на байю очень красивые часы стояли. Кругом зеркальное стекло, открытая эстетика и тогда была. Там столько колесиков красивых, механизмы, и вот я все любовался, любовался, потом решил, что надо их разобрать и снова собрать. Разобрать-то я разобрал, а собрать-то я не мог. Потом я Давида просил помочь, но ничего не вышло. Пришлось их в мастерскую отнести. Потом они опять ходили, так что, в общем, все детали-то остались. И остался страх, холодок, придут родители и будут корить… Через годы, когда собираюсь на спектакль, приходят те же чувства.
* * *
Я не могу сказать, что мы были элитарной семьей, потому что ведь это уже было после революции, и папа был какое-то время человеком состоятельным, но уже сразу он подвергся преследованиям, поэтому это не была такая спокойная семья, где так чинно было расписание: в воскресенье сесть на извозчика или на такси и поехать в театр — это делалось, но весьма нерегулярно, поэтому и запомнились такие походы в театр.
А в школе редко я ходил. В кино мы бегали с братом: Чаплина глядели и так далее. Мы жили довольно сложно. И уже благополучие семьи рассыпалось с каждым днем. Годы были голодные: то карточки, то еще какие-нибудь неприятности, то с папой неприятности.
* * *
Я помню, когда умер дед, я должен был поехать в Москву (надо было сообщить родителям), и у меня не было денег на билет, но был сырок, тогда сырки были в такой бумажке мокроватой. Причем опять мне запомнились такие странные детали — потому что у меня хватило денег только до Люберец, а все-таки, видимо, воспитали так меня, что как же без билета — нельзя. Я начал продавать этот сырок, и какой-то тип говорит:
— А что это за сырок?
— Ну, сырок.
По-моему, даже цена там была, не помню сколько, двадцать копеек, что ли. Он говорит:
— Ну дай попробовать.
— А как я дам Вам попробовать? Потом никто не купит.
— Да я куплю.
Он ковырнул пальцем:
— Да-а, он не сладкий!
А были кислые сырки и сладкие сырки. Значит, я понял, что никто не купит сырок, я завернул этот сырок опять в эту бумагу и ехал уже зайцем от Люберец и дрожал, что меня контролер сейчас схватит, а у меня нет билета. То есть страх какой-то, что нельзя так делать, внушенный родителями, дедом, оставался — что нельзя это делать. Это я к тому рассказываю, что сейчас же ничего этого нет.
Р.S. Кстати, нищих и хулиганья тогда тоже было много. Носили расклешенные книзу брюки, на верхние — здоровые! — зубы ставили золотую коронку. Мели тротуары клешами брюк, а чтобы они не обтрепывались, обшивали их молниями. Они носили финские ножи (финки). Их сторонились, боялись и старались не связываться. Шпана!
Рассказ моей сестры, Натальи Петровны
Маму арестовали тогда, когда мне было лет шесть. И я никогда не забуду эту сцену, как за мамой пришли. А у нас было две комнаты, но они были смежно-изолированные, но дверь из второй комнаты всегда была плотно закрыта и занавешена. И вот за этой занавеской прятался папа. И рядом стоял диван, на котором я спала, и висела изумительная фотография надо мной мамина.
В двенадцать часов ночи или в час я услышала, как за мамой пришли и как она говорила: «Ради Бога, скорей заберите меня. Я боюсь, что дети проснутся и начнут плакать». И вот я лежала и плакала, а вместе с тем я голоса не подавала, потому что я знала, что нельзя этого делать, что отец прячется, и его могут тоже забрать. И этот эпизод закрался в меня на всю жизнь. Я прямо вот ясно представляю, как я плачу в подушку, чтоб меня было не слышно, и как мама говорит: «Уведите меня скорей, пока дети не проснулись и не плачут». Это был где-то 28-й или 29-й год.
Ведь в общем, меня вот эти все преследования не коснулись, потому что я слишком маленькая была. Особенно страдал Давид, который был лишенцем, и которого выгнали из комсомола, и которому помог Сталин. Он писал письмо Сталину, что его сделали лишенцем, выгнали из комсомола за то, что он скрыл, что он сын торговца. И вот тогда приходил кто-то такой оттуда и беседовал с Давидом, и его реабилитировали, и он получил паспорт.
Но Юрий пострадал меньше, чем Давид, — его никто не лишал прав, но он тоже пошел в ФЗУ поэтому. И я никогда не забуду, как я слышала по радио, что «вот бывший электромонтер оказался настолько способным, что он попал в Училище Второго Художественного Театра». Я слышала это по радио. Он забыл, а я помню, в те годы, в 30-е.
Давид
Давид — самоубийца был. Он безобразно относился к своему здоровью. Он как проклятый работал. И у него очень рано начался тромбофлебит. И вот я помню, как во время войны он работал на фабрике и там и ночевал. Работал круглосуточно. И потом мы тоже у него на фабрике работали в период войны. И потом мы с моей приятельницей Тамарой на «Правде» работали в подсобном хозяйстве от Кожно-галантерейной фабрики. И мы там пахали землю, это вроде как трудфронт был, но это удачный вариант труд-фронта. Мы работали у Давида на фабрике в Москве. Мы обслуживали в какой-то степени фронт, делали какие-то коробки для зажигательных снарядов. Была фабрика на Люсиновской, сейчас ее там нет.
Кольцо
Это кольцо мама получила от папы при венчании. На нем выгравировано «ПЕТР». А потом она мне отдала это кольцо, когда я второй раз выходила замуж. И когда мы поженились, мы тогда не покупали кольца — мне мама дала вот это кольцо. И я с тех пор начала носить это кольцо. Но однажды вдруг я смотрю — у меня нет на пальце кольца, а накануне мы были у родителей на Фрунзенской. Моему сыну Вите тогда было лет пять, он родился в 51-м году, значит, это был 56-й год.
И когда я обнаружила, что у меня нет на пальце кольца, я позвонила родителям, чтобы они посмотрели, нет ли там где-то. И меня мама с папой стали еще успокаивать: «Что ты переживаешь, когда мы потеряли столько всего!» А я очень переживала. Я все белье перевернула, я думала, что где-нибудь упало оно, может быть, с пальца свалилось.
И вечером сидели мы дома, а сын в другой комнате ел рисовую кашу с изюмом. И вот вдруг он вбегает, держит в руке кольцо и кричит. «Мама! Я попал в сказку!» И причем его глаза расширенные, восторг и в руках кольцо. Оказывается, когда мыла рис и мыла изюм и потом варила кашу рисовую с изюмом, то там прекрасно варилось кольцо. Оно соскользнуло. И эта каша существовала два дня, и два дня это кольцо лежало в рисовой каше.
И вот я ношу его уже сколько лет, и я его никогда не снимаю, оно всегда со мной. А до этого носила мама. И вот мама сняла с пальца и отдала мне. Оно жало ей уже, это кольцо.
Крестик
Юрий просил, чтобы я рассказала историю с крестиком, потому что это семейная реликвия. Но она очень печальная для меня.
Это очень печальный эпизод из моей жизни. Когда я уезжала в Германию с мужем, я уехала 23 декабря 1945 года. А муж тогда возвратился с фронта и работал корреспондентом в местной газете «Тагероншауф». И когда я летела в Германию, я ждала появления на свет моей дочери. И перед отъездом мама мне вручила крестик с цепочкой. И сказала: «Родится ребенок, ты благослови его этим крестиком». Я его положила в сумку и приехала в Германию. И вот появилась на свет дочка моя, и как-то я забыла про этот крестик. А потом я разошлась с мужем моим, я уехала из Берлина в Дрезден, взяла девочку свою. И там жила в Дрездене. И когда девочке было два года семь месяцев, я вернулась домой в Москву, к родителям. И мама спросила меня: «А где же крестик с цепочкой?» И тут только я вспомнила про него. Вот когда я уезжала из Берлина в Дрезден, муж был на работе, я взяла свою дочку и уехала к приятельнице в Дрезден. И когда муж пришел домой, то меня не оказалось. Так у нас состоялся развод.
И я оставила сумку с крестиком и забыла про него. И только вспомнила, когда мама спросила, при моем возвращении в Москву. Ну, и крестик пропал. А девочка моя умерла потом. Она умерла, когда ей было около восьми лет. И я не думаю, что я потеряла родительское благословение, но получилось вот так. Так вышло. Я недостаточно серьезно восприняла родительское благословение, и судьба лишила меня моей дочери.
Несостоявшийся электромонтер
Это вообще удивительно — я учился в ФЗУ на Таганке. Там было много хулиганья, шпаны, меня там били на Коммунистической улице — ворье таганское. Били по ошибке — приметы сошлись. Они лупить должны были своего. Они ждали, а я выходил из ФЗУ, шел домой. И они меня избили до полусмерти, а ребята, кто со мной шел, разбежались, испугались. Нас шла компания человек пять. Они все убежали, я остался один. А потом я на трамвай вскочил. Они за мной — добивать, я перескочил на другой трамвай — убежал, короче говоря, ушел от них, а мама открыла дверь и упала в обморок, в таком я виде был хорошем. И я недели две лежал. Мне выбили они два зуба, пробили голову. Очень сильно они меня избили, зверски. Но я отбился. Я отлежался и пошел, уже вооруженный финкой, и монте-кристо у приятеля взял. Знаете, маленькие пистолетики с пульками как от мелкокалиберной винтовки, мы их звали монте-кристо. И я дал себе слово, что я уже не дамся в следующий раз, решил сам себя отстоять, ни к кому не обращаясь.
Потом они еще раз появились с тем, что, мол, ты там ладно… это по ошибке… мы не тебя хотели бить. Но я сразу ему по роже кулаком со всего маха. Он говорит: «Ну подожди, мы теперь тебя еще раз». Я ему сказал: «Попробуй только, прирежу!»
Это всегда было страшное место, там же тюрьма. Когда сломали тюрьму, то потом сделали театр. Так я в конце жизни вернулся опять на Таганку. В четырнадцать лет я туда поступил, а в сорок пять лет вернулся руководить театром.
Все у меня кругами идет, замыкается.
* * *
Я очень любил все время что-то играть, изображать, танцевать, участвовать во всяких кружках, маскарадах. Очень маленьким я садился перед зеркалом, надевал папину шляпу — поперек головы треуголка — накидывал пальто и изображал, что я Наполеон на острове Елены и что я уже старый. И все читал стихи Лермонтова:
Зовет он любезного сына, Опору в превратной судьбе. Ему обещает полмира, А Францию только себе.Читал, и у меня текли слезы, я был в упоении.
Но в цвете надежды и силы Угас его царственный сын. И молча его поджидая, Стоит император один.И так мне это нравилось, я был в восторге.
Отец, видимо, решил проверить мои способности и привел меня к Вишневскому, был такой актер в МХАТе. Я помню только комнату старой красной мебели, такую добротную, сидел старый человек — тогда мне казался глубоким старцем — в кресле. Папа говорил с Вишневским — видно, он знал многих актеров мхатовских. И я что-то декламировал. Что — даже я не помню. По-моему, я уже был в ФЗУ. Может быть, мне было лет пятнадцать. Я, видимо, приставал к отцу, что хочу в театр. Он очень огорчался и настраивал меня, чтобы я закончил университет. (Как я потом рекомендовал детям Андропова, не зная, что они его дети).
Потом Вишневский сказал:
— Мальчик, ну что ж ты так кричишь? Комната-то небольшая. Ты можешь и спокойнее. И ты очень много машешь руками. Ты меньше маши руками и расскажи мне спокойно. Ну давай еще раз.
Я прочел еще раз, и он говорит:
— Вы знаете, он совсем молодой. Трудно сказать, что из него получится. Но видите, он все-таки соображает. Я просил его, и он меньше стал руками махать. И потом, видите, стал спокойнее говорить и вразумительнее. Так что, видно, он у вас сообразительный.
И отец сказал:
— Вот видишь, ничего из тебя не выйдет.
Я говорю:
— Как же не выйдет? Он сказал, что я сообразительный.
— Ну, — говорит, — он же сказал: «Трудно сказать.» Значит, у тебя нет большого таланта.
* * *
Я стал работать и готовился поступать в вуз, в Энергетический — инженером-электриком. Так как рабочий стаж у меня шел, значит, можно было надеяться, что если я сдам, то примут, несмотря на подпорченную биографию. Поэтому и папа был доволен, что я работаю, учусь на каких-то курсах вечерних — тогда это было очень распространено. И вдруг я читаю в какой-то газете, что МХАТ Второй объявляет набор в свою школу. И что-то во мне проснулось, мои эти танцы, самодеятельность, вот индейца я играл, все чучело орла распотрошил у тети Насти.
Мой старший брат рассказывал мне, как играл Михаил Чехов, и я с ним мальчишкой пробирался во МХАТ Второй и видел «Петербург». В общем, брат был театралом. Он бегал и меня куда-то волок, даже приволок на похороны Ленина, за что ему попало очень от отца. Он кричал:
— Большой балбес! Куда ты потащил маленького! Он себе все щеки отморозил!
Дикие морозы были, все жгли костры. Брат же был такой идейный комсомолец.
Начали мы думать с братом — я поделился только с ним — а не попробовать ли мне свои силы. Он говорит:
— А что, попробуй, конечно.
Начали обсуждать, что же делать. Ну, там положены стих, басня и проза. Значит, какую прозу? В это время как раз шел Первый съезд писателей, где выступали и Пастернак, и Юрий Олеша, и Бухарин еще был жив — он выступал на открытии съезда. Это был 34-й год или 35-й год. И брат, конечно, читал, он следил за всем этим. Интересовался. Я говорю:
— Вот, мне очень нравится.
— Ну вот, нравится и читай, никого не слушай.
И я выучил кусок. Ну, и какой-то стих — кстати, забыл я, что я читал на вступительных экзаменах — и пошел я во МХАТ Второй, ныне Детский на Театральной площади.
Никто меня не готовил. Это меня и спасло. Если б меня кто-нибудь поучил, то было бы хуже, а так это было веселое недоумение:
— Почему речь Юрия Олеши?
Я очень молодым был, лет шестнадцать. И меня не хотели брать, непонятно было, что из меня выйдет. И я очень обиделся и ушел, потому что они очень смеялись. И потом я не увидел себя в списках и был так расстроен — хоть я и не думал, что меня примут, но все-таки решил: «А может, я невнимательно прочел?». Даже не понимаю, почему я так расстроился, потому что вроде я для себя определил идти в Энергетический институт, все были довольны. И тогда я второй раз вернулся, прочел списки, может, даже это на следующий день было, я не помню. И потом такое счастье меня обуяло. Мне все казалось, что трамвай идет медленно. Я соскакивал, бежал, трамвай меня догонял, я снова вскакивал, я ликовал.
А вот рассказ об этой истории в феврале 1997 года, когда она пришлась к слову на репетиции «Братьев Карамазовых» в Театре на Таганке
(Разговор идет о падучей у Алеши.)
Я видел один раз, когда человек за обедом упал в падучей. Ужас. Но просто мы знали умом, что надо салфетку в зубы засунуть.
(Актеру): Играй нервную дрожь.
Я помню, пришел я поступать в артисты мальчишкой, и меня начала бить нервная дрожь. Мальчишкой я совсем был — пришел во Второй МХАТ сдавать. Меня вызывают, а у меня вот так нога ходит, колотит меня. Я ее держу, тогда вторая начинает. Вот так сижу, а меня всего колотит. И я думаю, а как же я пойду сейчас? Бьет озноб, и я не могу ничего прочесть.
Вышел я — дрожь пропала. Вся труппа сидит — они себе же набирали. Значит, я вышел и первой объявил басню. «Из дальних странствий возвратясь, какой-то дворянин, а может быть, и князь, с приятелем своим гуляя в поле…» — дальше забыл. Они так… Бирман вообще скептически — мальчишка же я, длинная шея такая была — ну нелепый человек, непонятно еще, какой голос, знаете, когда ломается. И Бирман говорит; не надо, непонятно же, что из него выйдет. Нельзя ж только одного Керубино играть, — они же так: кого играть — иначе зачем готовить-то. Ну, и так они вроде подхихикнули на басне, и Чебан — или Берсенев — говорит:
— Юноша, а что же вы нам прочтете?
— Я прочту очень важное: речь Юрия Олеши на Первом съезде писателей.
Тут они как-то так очень повеселели:
— У-у! А вы что же, интересуетесь речами?
Я довольно мрачно сказал:
— Я многим интересуюсь.
Это мы с братом решили, когда думали, что бы такое взять. Мы речи читали на Первом съезде писателей, и мне очень понравилась речь Юрия Олеши, что вот он шел, шел, ничего он этого не принимает. А потом он вышел за город, там солнце светит на красный кирпич — мне это так запомнилось, что я в «Матери» сделал стену Таганки знаменитую красным кирпичом.
И, значит, я начал читать. А, видно, я обладал очень конкретным воображением. И поэтому, когда я начал говорить, от Юрия Олеши, конечно:
— И вот выхожу я в какой-то двор запущенный, там трава, коза какая-то ходит, — я так очень все конкретно, — и вот я увидел молодую кожу рук, — я начал сдирать кожу на ладонях…
Короче говоря, дикая ржа была. Видимо, с таким я увлечением сдирал кожу с рук, озирался кругом: «Солнышко всходит, заливает все», — заливался я. Очнулся я от своих грез от дикого хохота. Я, как упавший с небес, посмотрел на них и мрачно сказал:
— Ничего смешного тут нет.
Еще больший хохот. Я тогда сказал:
— Мне жаль вас.
И ушел. И участь моя была решена. Но я все-таки на следующий день приехал. И, видимо, я так был «свободен», что я не увидел себя в списке. Читал-читал, но я себя не увидел. Потому что я не верил, что меня возьмут. И так тихонечко на всякий случай вошел. И там уже ходили какие-то наглые: Юра Месхиев, из актерской среды, его, конечно, приняли — он меня догнал и говорит:
— А чего вы? Вас же приняли, а вы такой мрачный.
Я говорю:
— Меня не приняли.
— Так вот же ваша фамилия в списке. Вот вы.
И вот тут я вышел на Театральную площадь, а там ходил трамвай. Я вскочил на трамвай, чтобы ехать домой и сказать брату: «Приняли!»
Я же должен был работать монтером, уже лазил в мороз на столбы, долбил шлямбурами стены, гнул трубы — когда провода к моторам подводят — работал. И мне нужно было еще три года отработать. А если б я поступил в учебное заведение, то я мог продолжать учебу — такие были тогда правила — можно было и не отрабатывать. И я выскочил из трамвая, потому что мне казалось, он медленно идет.
Трамвай этот ходил по Театральной площади, где был МХАТ Второй, прямо на Плющиху, в Земледельческий переулок Мимо Гранд-отеля бывшего, где теперь гостиница «Москва», — взорвал Гришин — там был Дуглас Фэрбенкс, когда приезжал с Мэри Пикфорд. И вся Москва была там, и мы с братом были, чтоб поглядеть — он меня с собой брал. И вот там на балконе Мэри Пикфорд посылала воздушные поцелуи, все кричали — у нас же публика благодарная. Тогда шел «Багдадский вор», «Поцелуй Мэри» — широко шли фильмы — не так, как в более поздние советские годы. Чаплин шел. Я помню, как мы с братом ходили смотреть его комедии: «Золотую лихорадку». Я плакал от смеха. Я вставал, а там были откидывающиеся стулья, я садился мимо, падал на пол, и уже хохотал весь зал. Я хохотал до слез, рыдал и через пять минут я опять вставал от хохота, просто умирал. И уже публика шикала, потому что я опять падал мимо стула. Конечно, на меня очень сильное впечатление произвела совершенно другая форма, другой стиль, другая эстетика — вот то, что поразило меня потом у Брука в «Гамлете».
Но, видно, эта детская любовь к Чаплину, к гротеску, к условности осталась. Я до сих пор всегда в спорах с актерами, когда они начинают говорить, что это неудобно, что это они не могут понять. Я говорю:
— А вы это можете понять, что в Чаплина стреляют, а он уворачивается от пуль, — помните? Чаплину почему-то удобно!
А анекдот? Когда у нас рассказывали про покойного Микояна. Предлагают ему зонтик.
— Анастас Иванович, зонтик.
Он говорит:
— А мне не надо зонтика, я между струйками, между струйками, между струйками.
А при Сталине — ни-ни. Уже потом Чаплина никакого мы не видели. А уж о «Диктаторе»-то и помянуть страшно.
Жизнь была такая сложная. Даже Наташа моя мне теперь говорит:
— А ты помнишь, как мы карточки потеряли? — ветер унес у нее, что ли, — а ты помнишь, как ты маме не говорил? У нас же семья такая… никогда нас не били. И при этом какая была трагедия и как боялись сказать, что мы потеряли карточки.
Мама многие вещи в Торгсин носила. И, конечно, благодаря этому как-то нас кормила.
Важнейший документ: «в системе Мосэнерго использовать не можем»
Потом, у меня была с малых лет склонность ко всяким опытам — разобрать, собрать. Часто хулиганством я деньги добывал таким: пробки пережгу или выверну пробочку, соседи позвонят и скажут:
— А Юра дома? А то у нас свет не горит. — Я вверну пробочку, они тихонько, конечно, не при маме, говорят:
— Ну вот тебе на кино.
Добывал так несколько раз. Но потом, все-таки мама нас любила же очень. Да и отец не был жадным. Все-таки какое-то время он еще как-то выкручивался. Это потом, когда все хуже и хуже было, когда его стали сильно преследовать, то жить стало все тяжелей и тяжелей. Вещи все отнесли в Торгсин. А из Земледельческого переулка переехал я только тогда, когда Фурцева дала мне двухкомнатную квартиру. До этого все уплотняли-уплотняли, и потом мы остались в одной комнате. Брат женился, и ему с женой отдали вторую комнату, у них родилась девочка Люся, племянница моя, а мы остались в одной комнате: Наташа, мама, я и папа — то он уезжал надолго, то он жил с нами.
Наташа вышла замуж второй раз и уехала к мужу, полковник медицинской службы — замечательный человек был — Дима, фамилия у него была Руанет, какие-то французские корни — благородный очень человек, строгих правил, но советский человек. Поэтому много споров бывало за столом тогда. Даже они, которые ко мне хорошо относились, путались моей резкости.
Мама, бедная, страдала: ей очень нравилось, с одной стороны, но меня ругали все время, и она говорила:
— Ну Юрочка, ну раз тебя так ругают, ты же должен прислушаться, не бывает же просто так. Значит, правильно все-таки, ты подумай, исправь там что требуется.
Я говорю:
— Мама, ну а тебе-то как?
— Нет, мне понравилось, ты знаешь, я тебе честно скажу, я не понимаю, за что они тебя ругают. Да я смотрю кругом, и публика… — у тебя всегда же полно народу, к тебе так все относятся и всегда даже ко мне хорошо относятся благодаря тебе.
Вообще, мама была довольна детьми своими. Она всегда говорила, что «во всех этих горестях моих и сложностях дети меня радуют и утешают; я не могу жаловаться на своих детей».
Р.S. Бедная моя мама! Царствие ей небесное за ее страдания. Сколько она вынесла! Измены отца, его крутой нрав, деспотизм. Смерть маленькой сестры моей… Бесконечные заботы о нас — одеть, добыть денег… Аресты, страх за детей, семейные неурядицы… Она все понимала, что происходит, и изо всех своих небольших сил бесстрашно охраняла и растила нас.
* * *
Когда мне было лет восемь, брат протащил меня на «Петербург» с Михаилом Чеховым. Не знаю как меня пустили — может, утром шел.
Я очень мало в МХАТе Втором видел. «Двенадцатую ночь» я видел, когда уже стал студентом. Азарин играл Мальволио, но не Чехов. Чехова не было уже. Уже Берсенев был художественным руководителем.
Видел «Блоху». Все помню: и Бирман, и Дикого помню, и оформление блистательное. Очень сильное впечатление произвело. «Блоха» мне очень понравилась. Тогда я был студент, я уже играл. Например, там была такая инсценировка «В овраге», по чеховским рассказам, и я там «шумел» — приезжала телега, уезжала. Был такой замечательный человек Владимир Попов. Когда МХАТ Второй закрыли, он ушел во МХАТ и играл во МХАТе так же великолепно, как и во МХАТе Втором. Он ведал шумами. Замечательно он делал дождик — горохом сыпал в решете, горох пересыпали. Он изобретал все эти машины — ветер, «приезд телеги», «уезд телеги». И вот я должен был приехать на телеге и уехать за кулисы. Я приехал благополучно, а уезжать нужно было через минут сорок — долго шла сцена в конце. И я заснул. И не уехал. Вот это был ужас! Прибежал Попов…
— Как же вы можете! И так вы начинаете свою карьеру?! И вы думаете чего-нибудь достигнуть? Вам поручили такой ответственный момент — отъезд телеги.
А я действительно был напуган и очень переживал. Я уж извинялся и все. Он говорит:
— Нет. Только вот работой вы можете как-то исправить свое положение. Безукоризненной работой в «шумах».
Так что нас выдерживали. Выход на сцену считался большим доверием. А уж как я в «Мольбе о жизни» целый эпизодик играл — мальчишку, помощника парикмахера — это успех… Нужно было все это элегантно делать, ловко.
Был у нас замечательный преподаватель литературы Соболев — такой Шарик толстенький. У него есть книги интересные. Он был действительно влюблен в литературу. И когда мы сдавали экзамены, он спросил у Исая Спектора:
— Ну, скажите, кто такие Моцарт и Сальери?
Спектор (потом замдиректора Вахтанговского театра и муж Борисовой) подумал и говорит:
— Ливонские рыцари.
— Кто-кто?!
Тот перепутался и говорит:
— Выходцы из Ливонии.
Соболев ему и говорит:
— Ну вот, выходец, идите отсюда, идите, идите как можно дальше. В Ливонию.
А до этого мы ночи две учили эту литературу — у нас на квартире. Мы были во второй комнате, в первой все спали, а мы до утра учили, и утром у нас все перепуталось. Но я как-то запоминал, видимо у меня память была лучше, а Спектор, видите, как опозорился. Мы ведь как все студенты — лишь бы сдать экзамен.
Это же не по специальности — нам казалось, дуракам.
«Мольба о жизни» — парикмахер. Моя первая роль во МХАТе Втором
Мы сдавали экзамены по семестрам, а уже за полгода мы сдавали серьезно. Уже в первые полгода кого-то отчислили. Отчисляли очень жестко. И я боялся экзаменов — боялся, что отчислят. Литературу, «ливонских рыцарей», — я сдал хорошо. Потом у нас было фехтование, гимнастика — это я тоже хорошо сдал. Ну а больше всего, основное — это мастерство: как ты сдашь специальность. Какие еще предметы? Дикция была, голос был. Дикция преподавалась прекрасно: Юзвицкая такая. Она, по-моему, в Малом театре преподавала. И она была требовательная. Это она меня прозвала «флюгер на помойке», потому что я очень много вертелся и непоседлив был. И потом у меня это закрепилось, в моем обиходе — «флюгер на помойке». «На помойке» — это она подразумевала советскую власть. Она была старорежимная дама и в текстах не стеснялась. Так же как Серафима Германовна Бирман, когда сердилась на бездарность учеников, говорила:
— Вас ждут заводы! Осваивайте там программы, если вы здесь не можете.
Из знаменитых актеров со мной учились там Вицин Гоша и Леля Фадеева, потом она ушла в Ленком. В Вахтанговский я попал, Спектор попал, Месхиев попал. Потом была такая актриса Галя Григорьева, она у Охлопкова играла в «Гамлете» королеву.
Мы делали иногда самостоятельные отрывки сами, и вот тут я больше себя проявлял — в самостоятельных работах. С педагогом, правда, я неплохо сделал одну работу — с Лидией Ивановной Дейкун, которая работала с Вахтанговым, «Сверчок на печи» играла. Хорошо ко мне относились и Софья Владимировна Гиацинтова, Благонравов, Чебан Александр Иванович — видите, даже все имена-отчества помню.
Аркадий Иванович Благонравов — он у нас преподавал грим — добрейший был человек, милейшая личность. Он так умел располагать к себе людей и перед ним ученики раскрывались, не боялись, а вот Серафиму Германовну Бирман боялись. Она была странная женщина, и хотя она обожала Станиславского, но я считаю, что дара педагога у нее не было. Она была очень диктаторски всегда властна по отношению к ученикам. Но это очень все субъективно, это довольно сложное занятие — педагогика. В общем, с ней у меня ничего не получилось. Я только и спасался на экзаменах, когда она ругала меня и говорила, что меня надо отчислить, а меня не отчисляли на экзаменах, а, наоборот, ставили мне высший балл. Я даже получил две пятерки по мастерству, что очень странно, потому что Серафима Германовна им доказывала, что «он ничего не понимает, он выходит и все делает по-своему, я с ним работала, он совершенно не так должен все делать — как же так? Значит, он не усваивает программы!» Она была и против того, чтобы меня принимали. Потом уже, когда она приходила в Театр на Таганке смотреть спектакль, она всякие хорошие слова говорила мне. А там я ее боялся, как огня. Она на меня действовала, как удав на кролика. Я терял дар речи, был абсолютно зажатым — ничего не мог делать.
Но все это скоро кончилось: МХАТ Второй закрыли.
Мы собирались на грим, вошел Благонравов и прочел постановление в газете. Что делать? — оцепенели, как в бессмертной комедии Гоголя.
А бедный потерянный старый актер, убитый постановлением хамского правителя, безнадежно произнес:
— Давайте проведем урок. — Он так грустно сказал. А потом говорит: — Ну чего уж проводить. Уж раз они напечатали, они и закроют.
* * *
Когда МХАТ Второй закрыли, мой приятель старый, Боря Аврашев, был в студии Хмелева (потом он был актером в Ермоловском театре). И он с восторгом говорил о Хмелеве, какая там атмосфера в студии, как интересно работает Хмелев. И тогда он устроил мне показ. И я что-то читал, играл чего-то перед Хмелевым. Ну, и все время передо мной стоял Турбин, я очень волновался, как он играл замечательно эту роль. Вообще, он был великолепный актер, необыкновенный актер, один из лучших актеров мхатовских.
Я его видел в «Каренине», во «Врагах», в «Днях Турбиных», конечно… Те, знаменитые, где играл Яншин, где играл Прудкин, где играл Ершов Скоропадского, Хмелев играл, Калужский играл, то есть весь тот мощный состав знаменитых «Дней Турбиных».
Письмо, которое я получил от Серафимы Германовны Бирман 6 января 1973 года:
Юра!
Извините, я забыла Ваше отчество.
Так вас осмеливаюсь называть я, начинающая понимать ваши мысли и мечты…
Мне трудно писать после роково неудачной операции глаза, поэтому я кратко скажу, что меня удивило и тронуло то, что вы меня поздравили с Новым годом, а я понимаю, что мне Новый год мил потому, что выгнал омерзительный год старый. 1972 жаром летним сжег наш хлеб, не дай бог, чтобы этот «Новый» повел себя так же!
Я никак не думала, что вы меня поздравите, что вы мне напишете, я казалась вам богомолкой, защищающей старинные заповеди блаженства, хотя я люблю некоторые из них, как, например: «Не украдь! Не убий! Не наушествуй на друга своего свидетельства ложного» и тд. А я действительно нахожу в Евангелии прекрасные мысли. Но дело не в нем, а в ценности театра Драматического, в длинной, даже долговечной памяти навсегда нужных этому театру людей, — я открыла журнал «Театр» 11 и нашла слова, небезынтересные для вас, и вот вместо «С Новым годом» на открытке пестрой, я на белой бумаге шлю, что прочла, вам:
«Возникшая в результате эстетическая проблема актера-творца, актера, являющегося осью и основой, на которой создается спектакль, могла быть решена только с помощью системы Станиславского. Станиславский резюмировал то, что было сделано до него, развил это и внедрил в практическую работу актера. Однако решения, найденные Станиславским, естественно, не являются истиной в конечной инстанции. Система должна развиваться дальше. Сам Станиславский, явивший нам высочайший пример этики и художественной честности, считал так.».
Теперь самое для вас родное:
«Я не вижу антагонистических противоречий между методом Станиславского и методом Брехта. Их часто противопоставляют друг другу, ссылаясь на противоречия между методом перевоплощения и методом отчуждения.» [Это для вас я так увеличила буквы этих фраз.] Журнал «Театр», стр. 189, на третьей полоске страницы.
Но вы прочтите сначала об авторе этих строк, вы любите Брехта, которого я не люблю, не зная, а вы любите, зная, и я стала радоваться, что есть любовь к кому-то, к чему-то, заставляющая страдать любящего.
У меня катастрофически пропадает зрение — я со страшным давлением сыграла спектакль, но иначе поступить не могла. Я не верю в актеров бездушных, эгоистов, беззаконников — они убивают мечты художника.
Привет Вам!
Серафима БирманДля меня это было, конечно, событие, мне это очень понравилось, но я не знал закулисной стороны дела и не знал, как с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым обращаются советские власти, а руководители МХАТа учили его писать пьесы! Тогда я еще не читал его «Театрального романа».
Я был тогда, конечно, совсем далек от закулисной жизни и только старался учиться.
Хмелеву, видно, я не очень хорошо показался, и ответ затянулся, то есть ни «да», ни «нет». Тогда я стал снова сдавать экзамены — в Вахтанговский театр. Они были доброжелательно настроены, я, видимо, понравился, и меня приняли, но снова на первый курс. Так из-за закрытия МХАТа Второго и получилось, что я учился на один год больше, чем все.
После второго курса я стал играть роли. Были и свои трудности. Я с трудом сыграл на третьем курсе Клавдио из «Много шума из ничего» — умер Дима Дорлиак, такой был актер, брат Нины Дорлиак, жены Рихтера. А Дима был красивый очень мужчина, снимался в кино, и замечательный был человек. Он так прекрасно описан Юрием Елагиным, в «Укрощении искусств» есть целый набросок элегический о Диме. И после него, конечно, мне было очень трудно играть, его так любили, а я был студентом и, конечно, не имел таких замечательных данных, как он. И я сыграл этого Клавдио, голубая роль, и сперва вроде ничего. Потом я играл, меня никто с роли не снял, но, во всяком случае, как-то это было не очень убедительно.
* * *
Зато с большим успехом сыграл я эпизод в «Человеке с ружьем».
Это был такой сусальный, елочный, новогодний счастливый рассказ: солдат с фронта встречается с Лениным. Все было по рецепту: был солдат с фронта, крестьянин, был рабочий правильный, который как-то руководил этим солдатом. Был Смольный, как штаб революции, Ленин. Потом приказали туда ввести и Сталина. Потом во МХАТе поставили подобную пьесу, и началось в кино… Это родоначальня ленинианы и сталинианы. Сага для советского народа.
Целая серия пошла пьес, картин из жизни — Ленин-Сталин. И шли целые дискуссии: как поставить Ленина и Сталина. И все же Ленина ставили чуть выше… Если две ступеньки: кто должен стоять выше. Потом целая комиссия принимала спектакль, и уже она решала:
— Нет, ну давайте все-таки их ровно поставим. Не надо выше Ленина ставить. Все-таки Сталин — это Ленин сегодня, пусть они рядом.
Потом как-то приехал Сталин на какой-то спектакль и сделал замечание:
— Ну зачем же уж так Владимир Ильич вокруг меня все время бегает? Надо как-то это спокойнее делать. Мы часто сидели вместе, дружно разговаривали, решали проблемы, а что он так уж очень суетится. Он же руководил, я ему тогда только помогал.
«Выбыл — ввиду закрытия МХТ 2 (МХАТа Второго)»
Был такой замечательный актер Глазунов, который центральные роли играл при Вахтангове, старый вахтанговец, он играл там рабочего; Толчанов играл человека с ружьем, Борис Васильевич Щукин — Ленина, а я играл эпизод — мотоциклист влетает в Смольный к Владимиру Ильичу. Эпизод был проходной, актер то ли заболел, то ли куда-то делся, и меня пихнули. Мне сказали: «Борис Василич занят», — ну и показали мне, куда выскочить.
— Ты войдешь в дверь, Щукин будет вот тут стоять. Ты ему доложишь, он тебя отпустит, ты повернешься по-военному и уйдешь. Текст знаешь?
— Знаю.
Перед выходом я, конечно, очень волновался, костюм надел, измазался весь грязью, ведь я на мотоциклетке, а я любил все это, знал, как все это делается, понимал, что такое дороги в те времена, да они и теперь такие же, может, чуть лучше. Может, и хуже. Думаю, тогда еще не все развалили в Петербурге. Измазался, нафантазировал, как он летит, мотоциклетку оставил. Открываю дверь и, видимо, то ли Щукин был не на месте, то ли я не туда посмотрел. Во всяком случае, Щукина я не увидел. Растерялся я, но, видимо, обладал даром непосредственности, потому что, испугавшись, что нету, спросил:
— Где Ленин?
В зале хохот. Тогда актеры, смутившись, стали пальцем тыкать мне туда. Щукин, видимо, сразу все понял. Он же удивительный был актер в этом отношении, живой: все слышал на сцене, все видел, и с ним, по-моему, даже бревно играть могло бы неплохо. Он сказал:
— Я Ленин.
Тогда я повернулся и обалдел. Он говорит:
— Ну что ты? Докладывай.
Я, значит, доложил, потом мне нужно было повернуться и исчезнуть, но я от старания повернулся не на сто восемьдесят градусов, а на триста шестьдесят. Тут уже и он засмеялся, и все актеры засмеялись. Я сказал:
— Извиняюсь, — и бросился уходить в дверь. Ушел, а потом, не знаю, почему, взял опять выглянул и еще раз взглянул на Ленина — и уж тогда захлопнул дверь. Публика зааплодировала. И Щукин вдруг говорит в зал:
— Вот какая у нас пошла молодежь!
Вот таким связистом я потерял Ленина на сцене
Тогда Глазунов спросил:
— Чего это ты там такое делал, что тебе хлопали? — А его следующий выход, такая ревность актерская — потому что до этого в этом месте не было никаких аплодисментов. А я говорю:
— А я там сальто свертел.
Он:
— Что?! — и пошел на выход. Потом, видно, ему сказали, что я наврал, он вызвал меня:
— Ты что врешь! Когда тебя старший спрашивает, надо отвечать, а не врать.
Это мне запомнилось, потому что и до этого ко мне присматривался Борис Васильевич, а после этого случая он просто стал меня опекать. Ему очень понравилось, что живой человек на сцене, а не просто там ввели какой-то эпизодик.
А потом, когда Плотников играл, то вокруг создавали атмосферу — «цс!..ти-хо! сейчас Михал Сергеич выйдет, тихо, тихо!» А Щукин просто выходил, да играл.
Раза два я ходил к Щукину домой. Он меня позвал к себе, что-то хотел со мной репетировать, отрывок какой-то… И вот, когда я пришел к дверям Борис Васильевича в переулке Вахтанговском, — от кольца переулок, где дом вахтанговский, то я у двери волновался, прежде чем позвонить, и слышу, что он повторяет роль.
Ходит и все говорит:
— Шуро-ок! — так широко, куда-то далеко. Это из «Булычева» дочку зовет — там дом в разрезе, декорация. Я думаю, как же так, не по системе? Все-таки старались по системе Станиславского: задача, свободные мышцы и так далее — такие азы. Как Константин Сергеич их учил, так они старались нас учить. Но, конечно, по-своему. А тут меня поразило, что он вроде ищет интонацию, а ведь это нельзя по «системе». По системе-то только от внутреннего надо выкарабкиваться.
Даже актеры дошли до того, что я говорю:
— Ты что, текста не знаешь?
— Ну, я в процессе работы, а то получается выученный текст, — нельзя, опять не по системе.
Поэтому по полгода и сидели за столом, все рассуждали, что хотел автор. Я потом стал говорить, что то, что автор хотел, он написал, а вы давайте воплощайте, что написано, а не занимайтесь болтологией.
И вот Щукин искал интонации. Это мне запомнилось, что не по системе. И Остужев в «Отелло»: думаю, как он странно играет! так не говорят — говорит он нараспев, странно, совершенно по-другому, в другой манере, чем все артисты, а все в зале, затаив дыхание, слушают, плачут, мужчины плачут — что же это такое! Сколько лет прошло, я стал совсем другим, по-другому смотрю на искусство и понимаю, какой я был дурак, что я не мог оценить гениального артиста. Я тогда постигал «систему» и считал, что я умней всех. И я просто не понял, что я недостаточно эстетически образован, и я не оценил ни его замысла тонкого, ни блестящей его техники, необыкновенной красоты голоса и огромного диапазона. Все это прошло мимо.
Там были Качалов, Пастернак, молодой совсем Гилельс — элита, цвет Москвы приветствовал его… Немирович-Данченко кричал: «Браво, Остужев! Браво! Соло Остужев!» Ну, это был вообще замечательный человек — Остужев. Он, бедный, не мог играть советский репертуар и годами сидел без работы. Он вышел с двумя ролями: Отелло и Уриель Акоста — и действительно потряс Москву. Он был глухой, это было на старости лет. Вообще забавный был человек. Он любил токарное дело, у него был станок, он точил по дереву. И его пришли уплотнять — он один жил в двухкомнатной квартире, и его решили уплотнить. Пришли милиционер и дворник. Он в халате на голое тело точил там свои эти игрушки. И сказали:
— Вот мы вас, товарищ Остужев, будем уплотнять.
Он повернулся к ним спиной, задрал халат и сказал во весь свой «диапазон»:
— А это видели? — и снова стал точить. И его оставили, не уплотнили.
P.S. Как всегда, критикесса перепутала: В армию меня призвали перед финской войной, в день внезапной смерти Б. В. Щукина
* * *
Принимать «Человека с ружьем» явилась большая комиссия, Беспалов тогда был председатель. Но как же, первый раз на сцене такое! Тогда уже Штраух играл. Штраух и Щукин. Шли разговоры, что Крупской больше понравился Штраух, что он более точен, более похож на Владимира Ильича, а Щукин — Сталину. Это и решило все, конечно: ему и Народного СССР дали и так далее — впервые дали эти звания. Погодин был сильно пьющий господин, комиссия, которая принимала, сделала свои замечания, уточнения. И Погодина просто заперли в кабинет, чтоб он текст переделал, который сказала комиссия. Но потом комиссия второй раз приехала и разрешила. И когда Щукина после такого успеха, награждений всех, признания правительства начали расспрашивать, как он сумел проникнуть в такой гениальный образ — ну, обычная баланда советская — «кто вам помог создать?» — он задумался и говорит:
— Да, пожалуй, больше всего образ Тартальи из «Турандот», — ну и тут все, кто его расспрашивал, искусствоведы в штатском, все были возмущены. Но простили, потому что уж создал. А так, конечно, наказали бы.
Борис Васильевич Щукин: «Я всем обязан Тарталье»
* * *
До войны театр представлял собой скучную картину. Учеба моя как раз началась с закрытия театра. Происходила постепенная унификация, стирание театра, приведение полного, единого однообразия с образцом: вот МХАТ, вот лучший театр страны, равняйтесь по нему. Это был полный разгром искусства: закрыли Второй МХАТ, закрыли театр Мейерхольда. Стали сажать писателей. Они хотели иметь полное единообразие. Это было уничтожение. Это можно было видеть по выставке «Париж — Москва — Париж». Если вы были на этой выставке, вы видели, как все обрывается, весь расцвет обрывается, наступает так называемая эра социалистического реализма. Для искусства это пустыня Сахара. И отсюда анекдот знаменитый: как избавиться от Сахары — ввести там социализм и сразу там не будет песка. Эта система, куда она приходит, там дефицит сразу — ничего не хватает. И прежде всего эта система не терпит богатства духовной жизни. Это факт.
Почему я все привожу анекдоты, потому что это единственно, чем тогда была жива страна — она на все реагирует анекдотами: армянские радио бесконечные. Про Ленина цикл анекдотов, про Брежнева цикл анекдотов, про Чапаева. Я сам помню, мальчишки бегали продавали: «Шесть условий товарища Сталина — шесть условий победы — цена три копейки, каждому условию цена грош», — ребята бегали орали, даже при диктаторе. Как при Мао — то же самое: цитатник — «Шесть условий победы».
Сделали театральные институты: ГИТИС, при МХАТе училище, при Вахтанговском училище — всем им дали права институтов. Так же в республиках было. Все по системе, очень прочно. Программа художественного воспитания была утверждена одна и та же. Таким образом, уже с самого начала были запрограммированы серость, однообразие. Унылый пейзаж.
Вырывались иногда какие-то взрывы, потом их тут же… Возникали иногда интересные студии, их закрывали. Была студия Дикого — хороший очень артист, студия была у Симонова, студия была у Арбузова. Это старая форма: своя студия была даже у великого Шаляпина, и там учился Симонов. Студия Хмелева была…
Они немножко отличались, но довольно робко. Самая яркая, пожалуй, студия Дикого была, но потом его посадили, потом выпустили, и он сыграл Сталина. Он был прекрасный актер, хороший режиссер. Он был актер из МХАТа Второго, закрытого. Это один из блестящей плеяды артистов.
Станиславский был иконой и Немирович был иконой. Учение Станиславского превращалось в догму. Оно было канонизировано, как театр Брехта. То есть были очень сужены рамки и совершенно забыты были его заповеди: каждые пять лет переучиваться, все время развивать теорию сценического искусства, совершенствовать приемы театра, расширять их, использовать всю практику мирового театра, его тысячелетний опыт, который, как океан, безмерен, безбрежен. Это же древнейшее искусство, которое имеет столько направлений, столько традиций: возьмите японский театр, китайский театр, театр древних — любой театр — мистериальный театр, эпический театр, политический театр Брехта, пискатор и так далее. Театр арто. Комедия дель арте.
И все это было сведено к очень примитивному учебнику, основанному преимущественно только на психологической технике. Результаты получались разные, но, во всяком случае, резко упало мастерство актера. Ушли поиски формы, без которых искусство не может существовать. Искусство стало аморфно, бесформенно, однообразно, значит, перестали появляться произведения искусства. Потому что произведение искусства прежде всего отличает уникальность, неповторимость. И должна быть печать индивидуальности художника, а не клише, не тираж. В одном экземпляре настоящее искусство делается.
Но иногда были интересные спектакли. Самый ближайший ученик Станиславского Кедров сделал до войны хорошие два спектакля:
«Плоды просвещения» по новой методологии Станиславского — «метод физического действия». Все-таки Станиславский все время искал новые ходы.
Еще один «актер в роли». На обороте надписано: «Мещане» — пекарь — Ю. П. Любимов 1939 г. — дипломный спектакль
Его студия была от МХАТа независимая. Станиславский годами не приходил в свой театр. И действительно вроде их считают антиподами — Мейерхольда и Станиславского. Но Станиславский умел ценить талант. И когда театр Мейерхольда закрыли, единственный человек, который не испугался и взял его к себе в студию работать, это был Станиславский. И он сказал горькую фразу:
— В МХАТ я устроить вас не могу, я там сам почти не бываю, а вот к себе в студию могу.
Хотя Станиславский ведь очень боялся… Недаром про него этот полуанекдот, а в общем, это правда: как только актеры начинали вести очень откровенные разговоры на репетиции, он немедленно их прекращал:
— Немедленно прекратите, иначе нас всех отвезут в ГУМ.
Он путал ГПУ с ГУМом — с универмагом. Он был так оторван, что путал эти понятия, он жил в особняке: театр — особняк. Его не трогали, но и он с ними не связывался.
Один раз Сталин вызвал Станиславского в ложу к себе. Станиславский с перепугу сказал:
— Алексеев, — свою настоящую фамилию. Тот на него посмотрел и сказал:
— Джугашвили.
Черный юмор.
После этого Сталин сказал:
— Скучно у вас.
Вся свита стала говорить:
— Как же вы ставите? Скучно… Вы подумайте.
Сталин подождал, потом сказал:
— В антракте.
И все стали: га-га-га! — и поздравлять (попугаи в своем кругу).
Умер Станиславский, и тут же был арестован Мейерхольд. И Мейерхольд сидел на Лубянке, в тюрьме, когда шел парад на Красной площади, и дети побежали через всю площадь вождям цветы дарить — это придумал Мейерхольд. Но никто об этом Сталину не сказал. Потому что если б кто-нибудь сказал, может, его бы и помиловали. Сталину это очень понравилось, он был растроган и смахнул слезу!
Масса легенд, рассказов, и до сих пор они остались, хотя Мейерхольд расстрелян, а театр разогнан. Многие спектакли его подробнейшим образом описаны, написаны книги. Есть очень хорошие. Даже на Западе — вот «Темный гений» Елагина — очень хорошая книга о Мейерхольде. Он живет в Америке, он был скрипачом в оркестре Вахтанговского театра, я был с ним очень хорошо знаком — Юрий Елагин (умер американским чиновником с орденом).
На Вахтанговский театр Мейерхольд имел не последнее влияние… Это влияние осталось на всех — целая плеяда его актеров осталась жива: Ильинский, Гарин, Бабанова — наиболее яркие — осталась тоска по остроте и умению владеть искусством мизансцены, гротеска, музыкальности — синтеза театрального. Он оказал огромное влияние на Эйзенштейна, а Эйзенштейн оказал большое влияние на развитие мирового кинематографа, также как Мейерхольд оказал безусловно большое влияние на развитие мирового театра, а не только русского театра. На меня они оказали влияние скорее интуитивно. Я же ни один спектакль не поставил, который ставил Мейерхольд или Станиславский. Хотя нет, один поставил — «Тартюф», но абсолютно непохожий на спектакль Станиславского. Абсолютно другой по всему: по эстетике, по игре, по манере — по всем данным. Он идет 30 лет — до сих пор.
Я ведь о Мейерхольде мог знать только через своих друзей, по рассказам. И очень смутные воспоминания в раннем возрасте, довоенные. Я видел спектакли: «Ревизор», «Дама с камелиями», «Лес». Как, предположим, о Михаиле Чехове, гениальном актере, я слышал рассказы от старшего поколения актеров.
* * *
Был такой Зосима Злобин, который преподавал биомеханику. Лев Свердлин — актер мейерхольдовский, да и Эраст Павлович Гарин. Мейерхольд вел занятия эти, биомеханику. Это был ряд этюдов пластических: «Охотник», «Стрельба из лука», «Охота на зверей». Потом был просто ряд упражнений тренинга чистого. Но часто это были такие смысловые: «Метание камня» — это был какой-то сплав, и что-то от йогов, что-то от ритуальных танцев. Это был сильный пластический тренинг, но он был подкреплен конкретными актерскими задачами: хорошо видеть, слышать, правильное дыхание брать — потому что упражнения были трудные, и они требовали просто крепкого сильного тела.
Я учил биомеханику со Злобиным в училище. А потом когда я снимался, играл Пятницу в «Робинзоне Крузо», то с Зосимой мы сочиняли танцы для Пятницы. И там я у него все выпытывал про биомеханику. Даже сейчас я знаю несколько упражнений.
Мейерхольда я видел даже на репетиции.
Я помню его робеспьеровский срезанный лоб и нос как клюв.
Он имел огромный авторитет, одно время руководил искусством. На последнем выступлении на режиссерском совещании он сказал очень резко — против их указаний, направленных на разрушение театра и искусства. И это ему не простили. Был закрыт его театр, потом было написано трагическое письмо Щукина. Мой учитель написал в газету такое письмо, видно, под нажимом властей, и очень были огорчены все хорошие люди, что такой крупный актер и написал такое. Он обвинял Мейерхольда, как и официальные власти, в том, что тот оторвался от народа, что его театр не нужен, и так далее и так далее.
Станиславский — Фамусов, мальчиком видел во МХАТе
Михаил Чехов — Хлестаков
Михаил Чехов. «Петербург» А. Белого
Мансурова
Мейерхольд
Михоэлс — король Лир
Остужев — Отелло
Хмелев — «Дни Турбиных» М. Булгакова
Театр был в очень плохом положении. Он всегда находился под какой-то тройной цензурой. Надо было получать лит[5] на пьесу, разрешение на репетиции, потом всегда приходили комиссии приемочные.
Лучшая драматургия мировая не игралась, особенно новая. Начал я заниматься театральным искусством — это было сплошное закрытие театров и разгром театрального искусства. Потом был какой-то небольшой период между XX и XXII съездами «оттепели» так называемой. До XX съезда только отдельные спектакли появлялись то тут, то там интересные. Кедров сделал во МХАТе два хороших спектакля: Крона «Глубокая разведка» и «Плоды просвещения». «Егор Булычев» был прекрасный спектакль в Вахтанговском театре. У Симонова были спектакли неплохие, яркие, несколько спектаклей хороших. У Дикого вот «Леди Макбет Мценского уезда», у Охлопкова были интересные спектакли, у Акимова в Ленинграде. Это все было до XX съезда. Все-таки Россия — театральная страна. Такие богатые традиции — Станиславский, Вахтангов, Мейерхольд, Таиров — крупнейшие имена, которые знали во всем мире.
Станиславский приглашал Гордона Крэга «Гамлета» ставить, правда, это было неудачно для Гордона Крэга. Потому что они сломали ему замысел. Сперва его приняли на аплодисменты, когда он все это на макете с марионетками проиграл, вся труппа была в восторге, а потом, когда начал он выполнять замысел, они стали сопротивляться, не поняли. И спектакль не вышел. Но когда я читал об этом в мемуарах, моя симпатия была на стороне Крэга, а не на стороне Станиславского.
Это было очень подробно описано артисткой Второго МХАТа, у которой я учился когда-то, — Серафимой Бирман.
* * *
Станиславский, Мейерхольд, Вахтангов — это великие реформаторы театра. Потому что если Станиславский рождал вместе с Немировичем свой театр в борьбе с помпезными официальными императорскими театрами, то уже внутри рос, созревал Мейерхольд, которого не устраивал натурализм МХАТа, отсутствие поэзии, остроты. И это естественный процесс, который был нарушен закрытием театра, такой насильственной мхатизацией. Это погубило и МХАТ. Художественно Станиславский и Мейерхольд многому научились друг у друга. Так же как, например, Станиславский с уважением относился к Вахтангову. Когда он приехал смотреть «Принцессу Турандот». Спектакль совершенно ему чужд был по эстетике, по манере — по всему. Он же всей душой принял. И в нем была какая-то широта, и они все-таки умели ценить таланты. Все-таки, когда к Немировичу-Данченко пришли на квартиру, чтоб он подписал письмо, что он разоблачает Мейерхольда, что театр его чуждый, антинародный, формалистический, он попросил выйти из квартиры и сказал: «Видите ли, у нас в России есть такой неписаный закон: лежачих у нас не бьют. А теперь прошу покинуть мою квартиру», — а это были времена Сталина, времена террора, это было такое время, что за это могли ему бороду по волоскам выдернуть. Теперь уж нет такого страха, а никто себя так не ведет или очень редко, к сожалению. А он был осторожный человек. Но все-таки были какие-то традиции цеховые. Цеха. Солидарность.
* * *
Потом я стал играть «Много шума из ничего» — Бенедикта.
В «Соломенной шляпке» я играл слугу Феликса. И был отмечен Волковым, помните, который писал о жизни Мейерхольда книгу. Очень крупный театральный критик, такой вальяжный, красивый седой господин. По-моему, он был тогда мужем Зеркаловой, знаменитой актрисы. Ему я понравился. И он написал какую-то статью в «Правде»… И там, что «и в образах молодых людей, населяющих этот водевиль, особенно искрился такой-то в роли…» — я помню, что для меня это было тогда событие, что в газете в «Правде» какая-то фраза одобрительная.
В «Егоре Булычеве» я стал играть только после войны, потом я получил Сталинскую премию именно за «Булычева», но вписал меня не театр, а художники Кукрыниксы и еще кто-то. Ведь смотрит сталинская комиссия. И театр меня не выставлял. А они вставили, говорят; «А почему, вот замечательный актер Любимов»…
Помню, как меня вводили в «Турандот». Показали, как ходить. Там все стилизовано, поэтому это легче. Но мы перестарались и начали очень орать, когда пытали Калафа — молотками били, зубилами — в этих масках, которые надевали для фехтования мудрецы. И нам казалось, что нас учат очень строго по системе, а играем мы совершенно в каком-то, на наш взгляд, странном балагане. Ощущение такое. Все не всерьез, очень стилизованно сделаны каждый жест, шаг. И нам казалось, что это какая-то шутка. И мы все придумывали; как посмешней орать, когда пытали его. Один раз они меня разыграли: Спектор Исай и Юра Месхиев. Они вдруг замолчали на секунду, и оказалось, что я один ору — мой бешеный рев — а-а-а-а-а! — и они заржали. И Глазунов, как завтруппой, это узрел, он играл там капитана — и сразу мы получили нагоняй. Это был такой разнос, что мы не знали, куда деться.
Еще я помню, как мы хулиганили в доме отдыха. Мы жили втроем, три студента: Месхиев, Спектор и я — в доме отдыха в Плесково, в бывшем имении графа Шереметева. Николай Петрович Шереметев же играл в оркестре, муж Мансуровой. Он был прямой наследник Шереметевых. Его все вызывали, бедного, в КГБ — Мансурова где-то бросалась какому-то высокому начальству в ноги и его оставляли в Москве. Его ответы потрясающие были. Один раз его вызвали, что какое он имеет право жить в Москве, какие у него заслуги, чтобы жить в Москве, — хотели его выселить из Москвы. Он говорит:
— Ну, заслуги какие у меня? Ну, играя с детьми Николая Второго, я часто их бивал.
Он был милейший господин, милейший. Его всегда выпускал Рубен Николаевич, если иностранцы были — он мог и по-французски, и по-английски, и на любую тему: и о скачках, и о литературе, и об охоте — он и охотник был. И погиб он странно на охоте, Николай Петрович. Потом это со мной уже был случай, когда мы пошли в ресторан на Арбате, на Старом Арбате теперешнем, там был ресторан — от театра Вахтангова когда идешь к Смоленскому. Небольшой ресторанчик. А он любил очень выпить. И мы пошли с Николаем Петровичем, опять Юра Месхиев покойный, я и Николай Петрович. А хам-официант все не подходит. И Николай Петрович постучал вилкой по рюмочке. Тот подошел и говорит:
— Тоже мне, граф Шереметев.
И я помню, с каким я удовольствием сказал:
— А на этот раз вы не ошиблись — перед вами действительно граф Шереметев, а вы должны немедленно обслужить графа.
И подействовало. Мы были молодые, здоровые — побьют еще. А шпана всегда была. Также были и раньше — и фиксы золотые, и коронки, финки. Тоже периоды похожие, смешно, когда сейчас говорят: «Сейчас переломное время…» Они все 80 лет все перестраивают да ломают.
«Соломенная шляпка» — слуга. Роль, в которой заметили и похвалили в «Правде»
Все время, сколько я живу в этой стране, всегда там переломное время: вот пройдет пятилетка — будет перелом, пройдет вторая — будет перелом. Вот сейчас построим колхозы и все будет хорошо. Потом нужно было залечивать раны войны. До этого, перед колхозами, карточки были — вы же знаете, отчего торгсины-то: нечего было есть. Ночами писали чернильными карандашами номера на ладонях, передавали эти номера друг другу, потому что всю ночь холод, стоять тяжело было там за молоком для младшей сестренки, и так далее. Старший брат стоял для меня за молоком. Жизнь была суровая. Я никогда не забуду эти облепленные трамваи, на буферах, между вагонами — сколько раз срывались ребята и под колеса — это же страшные все времена — разбитые вагоны ходили, шпана, всюду драки, поножовщина — это же сейчас идеализируют почему-то. А тогда была отчаянная жизнь. Сейчас даже, в общем, при всех безобразиях теперешних, веселей как-то — времена, как говорится у Достоевского, игривые.
А тогда все-таки были мрачные времена — все одни посулы: вот переломный период, начнется улучшение. Во-первых, пропаганда была поставлена очень жестко и потом страх и… ну как у Бориса Леонидовича Пастернака: несвободный человек идеализирует свою неволю. Люди старались не видеть. Делали вид, что не видят это, когда пошел большой террор. Я не верю, что никто не знал, что каждую ночь арестовывают людей. Как не знали! Когда не было дома, в котором не взяли бы несколько человек. Знали, но боялись, делали вид, что не арестовывают. Но, может, от молодости, не было такого проникновения, потому что все-таки в молодости вы меньше заботитесь о судьбе… с одной стороны, вы более смелые — ведь я могу только опять-таки по себе судить — почему такое, не то что я уж такой отчаянно храбрый, но, видимо, уж такой характер. Потому что у брата был другой характер — более терпимый. Но с другой стороны, я же тогда уже не смог бы сказать отцу, что «правильно вас сажали, папа», что «вы отсталый тип». Я тогда понимал, что неправильно папу сажали и неправильно издевались над дедом. И неправильно брали маму и тетю. И поэтому, конечно, я был уже внутренне оппозиционно настроен к власти. Но, может быть, по молодости, опять-таки и по другим увлечениям: спорт, ухаживания всякие, дамы, и потом, мы жили вольной ватагой, такая богема артистическая — казалось, что все хорошо идет, экзамены я сдаю, роли я сразу получил. Но была травма — закрыли МХАТ Второй, обида, непонятно, и я видел и так же переживал, видя этих людей, которые казались мне уже старыми людьми, как они стоят на лестнице, идет эта несчастная «Мольба о жизни», публика кричит: «Браво! Браво!» — они стоят сверху, с верхних этажей уборных артистических шла прямо на сцену лестница, и вот они стояли на лестнице и плакали — закрыли театр. И это, конечно, действовало на меня, мальчишку. И безусловно это была травма и непонимание: почему, за что, чем это плохо. И кстати, я видел, что публика не очень боялась — милиция просила уходить, это было же демонстративное такое прощание публики с театром. Аплодисменты, которые длились полчаса. Выражала публика несогласие с решением. Значит, все-таки, видите, была открытая оппозиция в тот вечер правлению сталинскому. Это как-то все забывают. А это было, и это не могло не оставить след в душе. Так же как и арест отца.
* * *
Когда я увидел впервые «Турандот», спектакль мне очень понравился. Мне понравилось, как играют. Но я не очень смаковал форму. Может, я еще тогда не был достаточно заэстетизирован. Но все равно мне понравилось. Выдумка блестящая, и потом, уж очень все элегантно, красиво, маски шутят. И потом, они очень хорошо играли. Щукин играл лучше, чем потом, после восстановления. Намного лучше.
Сидящие мужчины: Юра Месхиев, Иосиф Моисеевич Толчанов, Исай Спектор и я
Но о том, что это другая эстетика, я тогда не думал. Меня поражало это внутренне, и я это как-то переваривал, но так же трудно, как грибы, если есть долго: что такое? — меня всё интересовало: вроде все не так, как в жизни, как в нормальных театрах, а почему-то публике нравится и мне нравится. То же самое произошло и с Остужевым, совершенно в другом аспекте, но то же самое: я все не мог понять — он же совсем не по системе играет, почему же они так хлопают? Почему так публика? И мне нравится, мне немножко кажется странным, потому что вроде меня учат совсем по-другому. Как же, вот он играет не так, как меня учат, и играет вроде неплохо.
У Таирова я видел меньше. Не производило такого на меня впечатления. Вот Мейерхольд произвел впечатление. Я запомнил какие-то такие неясные вещи в «Даме с камелиями», в «Лесе» — но я совсем был молодой — и в «Ревизоре». Это очень запоминалось, благодаря оригинальности какой-то такой. Гарина помню. Помню Райх, как все эти сцены были примерно сделаны. Очень смутно помню проход с толпой, когда идет Хлестаков. Но это была такая выдумка режиссерская, этого в пьесе нет. Это я помню, но очень смутно. Очень смутно.
«Даму с камелиями» я видел, это был ошеломляющий успех, и вся Москва бегала смотреть. Все говорили:
— Какие там вещи из комиссионных магазинов! — там были какие-то детали потрясающие. И потом Мейерхольд был близок к Вахтанговскому театру. И поэтому я расскажу случай, когда меня Рубен Николаевич познакомил, я играл в «Человеке с ружьем», и Мейерхольд меня приметил. Ведь это сразу приобретает мистический смысл. Симонов меня знакомит, я играю пантомиму: юнкера, которого убивают, срываю погоны, хочу спастись. Небольшая пантомима. Мейерхольду нравится это. Симонов кричит:
— Юра, идите к нам, Всеволод Эмильевич хочет познакомиться с вами.
Мейерхольд:
— Молодой человек, вы хорошо двигаетесь. Запомните, тело не менее выразительно, чем слово.
Видимо, он понимал, что пьеса эта — ерунда, поэтому он обращал внимание на такие вещи. Я-то думаю, не мог же он всерьез принимать эту белиберду. Он делал это, чтоб выжить, я думаю. Он сложный господин был, очень противоречивый, много о нем слухов всяких правдоподобных и неправдоподобных. Но документы в «Огоньке» о его последних днях, конечно, говорят об удивительной какой-то индивидуальности этого человека. Это характер очень странный, редкий. Ведь я верю, что он человек гениальный. Верю. И по рассказам Николая Робертовича Эрдмана и Эраста Павловича Гарина — я всему этому верю.
Я бывал в театре еврейском, которым руководил Михоэлс. Он дружил с Петром Леонидовичем Капицей, с которым мы несколько раз говорили о «Короле Лире» — как Михоэлс играл. А так не был я знаком. Я с дочерью Ниной, с семьей дружил и был в хороших отношениях, и мы с ней встречались в ВТО в нашем — Всероссийском театральном обществе, а потом в Иерусалиме.
* * *
Когда умер Сталин, мне позвонили из театра Вахтангова и сказали, чтобы я срочно приехал в театр. И я даже помню такую деталь: я вышел, поймал такси — это было три ночи, мне позвонили ночью. До официального сообщения. Я поймал такси, и шофер так удивленно говорит:
— Что это вы так торопитесь ночью?
И проезжали мы мимо Кремля, я жил на Котельнической набережной, в высотном доме этом угловом, вот где Евтушенко живет, Вознесенский, эту комнату мне ансамбль дал. Там много очень чекистов жило, и я встречал этих страшных людей: Кобулова, Мамулова. Там же в лифте, я не удержался… это когда Берию взяли, я начал что-то говорить, и у них такие физиономии были совершенно каменные, застывшие. Я говорю:
— Надо же, какая сволочь!
Они совершенно обалдели — видимо, не знали еще.
Я узнал раньше их, потому что позвонили тому человеку из ансамбля, который в свое время пропел «цветок душистых прерий» — это байка знаменитая моя, она ведь кончилась именно этим — ему позвонили в шесть утра и сказали:
— Товарищ Бучинский, «цветок душистых прерий» помните? — он спросонья перепугался, времена-то какие! — так вот цветочек-то посадили…
И он, бедный, оделся и выскочил, все бегал узнавал в шесть утра про Берию. Так что видите, такие вещи только так и передаются. Официально ведь не было сообщения, а слухи уже были.
А позвонил человек, который работал в ансамбле завлитом — Добровольский. Все уже на том свете.
Я тогда был кандидат в члены партии. И всех вызвали — такое было состояние или приказ был, что надо всех собирать. И, проезжая мимо Кремля, шофер говорит:
— А что случилось — ночью вы выскочили, ловите машину, — и мимо Кремля мы проезжаем.
Я говорю:
— Не знаю, срочно меня вызвали в театр. Видимо, Сталин умер.
И он, обалдевший, снял кепку, шофер. И потом не хотел брать с меня деньги.
— Такое, — говорит, — несчастье, я и деньги брать не буду с вас.
Вот это мне запомнилось. Видите, так что реакции были разные на злодея. И действительно, многие рыдали же — это было такое горе всенародное. Это ведь вы никуда не денете. Только в лагерях танцевали, зэки политические, конечно, понимали ситуацию. А простые смертные переживали: что-то будет страшное, все-таки царь-батюшка, Хозяин — как его называли. Я еще помню, читал речь Эйзенхауэра, помните, он был президентом, и была огромная речь Эйзенхауэра после смерти Сталина, такая программная, где он предлагал массу вещей: свободное передвижение, ну что наконец можно более широко установить общение, поднять наконец, как выражались, «железный занавес».
Потом, гонимый общим потоком, я пошел сдуру на похороны… Дошел через Неглинную с горы вниз, спуск этот страшный на Неглинной — и вот тут была Ходынка. Толпа шла огромными двумя лентами, и там был ряд грузовиков поставлен поперек дороги, поэтому все сворачивали влево после этого спуска, чтоб потом выйти к Дому Союзов. Здесь очень много людей подавили, потому что была страшная погода, грязь, это был март, шел снег — слякоть, скользко — ужас, сколько подавили людей. И вот я из этой каши выбрался и дальше не пошел. Там уже крики были, а народ все шел-шел-шел и не знал, что тут гибель и кровь.
P.S. Хозяин не успокоился и после смерти, сын мой!
Будапешт, 23.08.1999 г.
Ансамбль
Меня угораздило в армию до великой войны. Вышло очень строгое распоряжение: отменить все брони. И тогда в театре стали волноваться. Я уже кончал Вахтанговское театральное училище и после этого должен был загреметь в армию неизбежно.
Мне прислали повестку из военкомата явиться в армию. Я уже работал в театре, то есть я учился и работал. И Борис Васильевич Щукин спрашивал у меня:
— Как дела?
Я говорю:
— Вот, мне повестку прислали — нужно идти в армию.
Он говорит:
— Не ходи без меня, — а он уже Ленина играл, — пойдем с тобой вместе и там, может, тебе какую-то отсрочку на год дадут.
Ну я все и ждал. Мне еще раз прислали повестку. И я с этой повесткой решил идти на призывной пункт, но пришел в театр, как он сказал. В это время репетировали «Ревизора» Гоголя. Я вхожу в театр и чувствую, что-то стряслось. Ночью умер Щукин.
Помню, замечательная актриса Алексеева, родная сестра Добронравова, знаменитого актера МХАТа — кричала, выла, с ней просто истерика была. Она, видимо, очень любила Бориса Васильевича. И я постеснялся, такое горе в театре, чего я буду говорить, что мне нужно идти в армию. И я пошел в военкомат — и все. На другой день меня забрили.[6]
Но до этого в театре начали что-то зондировать, что вот забирают меня в армию, нельзя ли куда-нибудь пристроить. А пристраивать места было только два — театр Красной Армии и ансамбли, которые в это время только начали организовывать.
Я очень хотел похоронить Бориса Васильевича. И меня отпустили, к их чести — хороший командир попался — и я пришел на похороны в театр уже в форме. И пострижен наголо. И я помню такие ощущения, когда я себе все время голову трогал. Первый раз под машинку все сбрили, и было холодно голове.
Потом нас отвезли под Москву в какие-то деревянные казармы довольно страшные. Я попал на учебный пункт младших командиров — один сикель я получил — были петлицы тогда и треугольнички.
Помню своих сотоварищей по армии. И видимо, все-таки куда-то нас отдельно собирали, потому что было много очень музыкантов, еще кого-то, близких к артистической профессии. Видимо, все-таки сортировали. Но попали мы в жесткую школу, и почему-то в железнодорожные войска. Сперва меня хотели забрать во флот — по здоровью — на три года. Я отнесся к этому довольно спокойно, романтически даже как-то — флот. Но потом меня из флота перевели по каким-то соображениям, мне тогда непонятным…
Сперва комиссия же… голый стоишь, комиссия определяет:
— Здоровый, да. Вроде тренированный.
Один говорит:
— Во флот его.
Другой еще чего-то. Потом смотрю, никакой одежды мне флотской, сапоги дают, гимнастерку и говорят:
— Вы будете в железнодорожных конвойных войсках.
И потом — учеба, солдатские курсы. Вот там нас драили на всю железку. Был какой-то, видимо закрытый, приказ Сталина, потому что менялись очень внутри армии отношения, вплоть до того, что командир мог влепить вам по роже. И все эти демократические — якобы — установки: собрания, партийные ячейки — все это тогда было ликвидировано. В армии вводилась жесткая дисциплина. И были какие-то даны повышенные полномочия командирам. Еще оставались политработники, но дисциплина была очень суровая. Карцер за малейшее ослушание. Меня в него посадили, когда я табуреткой запустил в старшину.
Я раздобыл в солдатской библиотечке старый том Шекспира — «Хроники», потрепанная старая книжка издания Брокгауза и Ефрона. И если была свободная табуретка — мы сидели, потому что на кровать нельзя было ложиться — дисциплина. И все свободные минуты, которые там были, я все читал эти «Хроники». А уж командиры муштровали нас до потери сознания. И один, из украинцев — самые жесткие из них — подошел, полистал грязными лапами заскорузлыми и сказал: «Шекспёр!.. Устав надо читать!» — и книгу взял, и сунул мне устав. И у меня с ним как-то не сложились отношения. Но, конечно, я вскакиваю: «Слушаюсь!» — как положено, — но он невзлюбил меня — то сортиры чистить пошлет, то казармы мыть. Ну и вот я мою казарму — огромная казарма, а ребята ходят с улицы и грязь обратно наносят — туда-сюда. Ну и я выругался:
— Ты же завтра, зараза, убирать будешь. Я тряпку бросил, вытереть что ли ноги не можешь? Да пошел ты…
И, значит, вдруг он является как из-под земли:
— Что я слышу! В казарме нашей Родины мат! А ну, смирно!
Я говорю:
— Товарищ командир, да я вот мою, мою, а они…
— Руки!
— Да я!..
— Руки! Два наряда вне очереди! — И начал орать, орать на меня. И у меня какое-то замыкание произошло, я табуретку схватил и в него табуреткой. Ну, а это штрафной — все. По-моему, уже финская шла война. Короче говоря, приказ сразу последовал:
— Взять! — меня сразу взяли. — Скрутить! И отвести его к врачу психопату!
Скрутили меня два здоровых мужика, под руки взяли и повели. И отвели, к счастью моему, в санбат к совсем молодому врачу. И он понимал, чем мне это грозит. И написал, что я нахожусь в состоянии аффекта. Меня привели обратно и вручили командиру, ну и тот, видно, уже отошел от возбуждения и сказал:
— Точно. Бьет на аффект — я так и знал. А, артист, добьешься!
И получил я тогда высшее наказание. Не помню, тогда десять суток губы давали или пятнадцать. Это такая дыра бетонная, окошечко с решеткой, койка, которая пристегивается — в шесть утра подъем — и она прихлопывается к стене. А пол обливают водой, чтоб ты не мог лечь на пол. Но ребята во дворе работали и мне совали или хлеба кусок, или еще чего-нибудь. Даже когда начальники отворачивались, миску супа горохового. Так что ничего. Но в общем-то сурово. Чирьями весь покрылся от холода. Посидишь там — много передумаешь.
* * *
Я забыл, когда это было, до или после этого случая — когда нас по тревоге подняли ночью всех: «В ружо! В ружо!» — ну, все, кто служил, знают, что это такое, ночью. И по порядку номеров: не первый-второй, а первый-второй-третий-четвертый-пятый… и когда дошло до половины батальона: «Стой! Направо!» — их отвели в сторонку, и потом нам сказали: «Прощайтесь!» И как раз до меня это и дошло, и я остался, а вся часть до меня ушла на фронт сражаться — зима была — в финской войне. И никто из них не вернулся. Все там и замерзли.
Я помню, у нас были каски и вязаные подшлемники. И когда был бросок на лыжах, то ты весь мокрый, и каска примерзала к волосам от пота — бессмысленное было одеяние. Тогда еще не было ни ватников под шинелью, ни портков ватных. Это уже потом, после финской войны появилось, где такие потери были. И лыжи были ужасные — на каких-то ремнях, а финны же были прекрасно оснащены.
Меня поражало убожество и скверность обучения. Я удивлялся — всегда говорили: «Все со средним образованием минимум», а я увидел совершенно полуграмотных темных людей, забитых. Пастух с Алтая был в нашей части, он не выдержал и удавился в сортире на ремне — не выдержал просто. Его вынули из ремня, откачали и отправили в штрафбат. Хорошо я здоровый был, тренированный в училищах акробатикой. И на лыжах хорошо ходил. Со мной только никто драться не хотел, потому что я левша. И очень трудно драться, опасно в штыковых боях — все отказывались. И когда с цепочки стрелять — стрелял я хорошо, но всем портил вид, потому что левша, а с другого плеча я плохо попадал. Поэтому на меня махнули рукой — уже тогда эта показуха царствовала, как везде, по всей стране. А я портил показатели, и поэтому мне разрешили: «Черт с ним, пусть дерется с другой руки и пусть стреляет с другого плеча».
Стрелял я хорошо и удивлялся — как же они не дают всем выучиться как следует стрелять — дают три патрона раз в неделю. Как же можно так выучиться, что же они делают?! Шагистика, муштра, штыковые бои, как разбирать винтовку, пулемет — и ручной, и станковый «Максим» — этому учили. Это мы умели. Марши всякие, броски, в непогоду — зимой и летом.
На общих основаниях я, наверное, месяцев шесть был. Я только помню, что простудился, поэтому у меня было перевязанное горло, бритый и уже много прошедший стрельб, муштры, штыковых боев. Это было где-то под Москвой, в Реутове, что ли, — я забыл.
Время шло к зиме, потому что было холодно. Я помню тусклые лампочки и эти лекции идиотские, в шесть утра подъем.
— Что есть транспорт? Транспорт есть кровеносные сосуды нашей Родины.
И мы, значит, начинали засыпать с открытыми глазами. Тогда кричали:
— Встать!
Вскакивали, а кто спать оставался, тех будили и давали наряды — мыть сортир, на кухню и так далее. И продолжалось опять:
— Что есть транспорт? Транспорт есть кровеносные сосуды нашей Родины.
* * *
И вот вдруг неожиданно собрали нас, перекличку сделали. Один из нас был Ворошилов — однофамилец. Командир как-то подобрался и говорит:
— Не родственник, случайно?
Тот говорит:
— Дальний, — хитрец.
— Будешь старшим!
Дали пакет с документами и, ничего не говоря, посадили в грузовик и повезли. И смотрю, везут на Лубянку. Мы думаем, за что?
Потом водили-водили, привели в какую-то комнату и там сидит Юткевич, еще кто-то… а Юткевич был со мной знаком. И он говорит:
— Юра! — а я простуженный и охрипший был.
Я говорю:
— Так точно!
И начальник ансамбля говорит:
— Пусть почитает.
А Сергей Иосифович говорит:
— Ну, вы видите, он же простужен. Но я его знаю. Он способный человек, вы можете его брать.
Тот:
— Нет, надо послушать.
И вот я хрипатый начал Пушкина читать. Значит, голоса нет, повязка какая-то, грязные бинты… И я начал:
— Театр уж полон, ложи блещут. Партер и кресла, все кипит… и взвившись занавес шумит… блистательна, полувоздушна…
Сергей Иосифович говорит:
— Ну поверьте мне, он замечательный способный молодой человек, его стоит брать. И вот тогда я понял, что они куда-то нас берут.
P.S. Вот так через много лет Юткевич расписался на стене моего кабинета
И потом уже из казармы нас водили строем — репетировать. Юткевич ставил программу, Рубен Симонов ставил программу, потом нами руководили Тарханов, Белокуров. Мартьянова — замечательная дама была. На четырех артистов были три педагога — широкая организация. Не останавливалась ни перед чем. Там же команда была немыслимая, просто фантастическая. Все на том свете уже. Касьян Голейзовский — балетмейстер, знаменитый танцор Асаф Мессерер, Шостакович музыку и песни писал, Эрдман писал конферанс, а я вел программы. Такое было ассорти у Берии.
Нас из всей армии собрали тогда, поэтому был очень сильный ансамбль по составу.
В ансамбле не было руководителя. Был начальник ансамбля по прозвищу Полотер. У него всегда был красный нос и на нем чирей, потому что он любил, извините, волосы вырывать из носу. И собеседования с персоналом проводил таким образом: «Садись, прямо будем говорить… И запомни на всю жизнь. Иди, марш!» А дело было поставлено так: Юткевич ставил с ансамблем одну программу, Рубен Симонов — другую, Охлопков — третью. А всего три, кажется, программы поставили. Руководил нами Тарханов. Касьян Голейзовский танцы ставил, Шостакович музыку писал. В общем, ансамбль был — что надо!
Шостакович приходил за повидлом для детей. И робко делал круги с пустым бидончиком в руках, боясь это самое повидло попросить. Тогда вступал в дело Карэн Хачатурян.
Он, работая под бравого солдата Швейка, отправлялся к Тимофееву: «Товарищ начальник! Тут вот композитор Шостакович с бидончиком ходит, но стесняется. У него дети, а повидла нет. Прикажите наполнить бидончик повидлом?» И Тимофеев милостиво так «Ну, отлей ему…»
Привезли откуда-то, бедных — Вольпина и Эрдмана после их скитаний, когда чуть ногу не отняли у Николая Робертовича. С Вольпиным они чего-то рыли, в каких-то были третьесортных войсках, самых последних, и поэтому они последние и тащились, когда войска отступали. Их привезли в ансамбль, наверно, по совету Юткевича, который первую программу ставил большую.
Эрдман и Вольпин были солдатами. Но им отдельно выделили особое привилегированное помещение — комнатку. Вот где Эрдман и сказал: «Я сочинитель, вы хоть бы мне какую-нибудь шинель приличную принесли». И где-то мы ему достали генеральскую шинель. Он ее надел, и там зеркало было. И вот он себя оглядел в зеркале и сказал: «Ну вот, мне кажется, за мной опять пришли».
Сначала нас водили строем к казармам. А потом Юткевич, Тарханов начали говорить, что все-таки они артисты, нельзя так. И тогда разрешили в метро ездить в солдатской форме. Казарма была где-то в переулках за Курским вокзалом. Какая-то школа, что ли, была, огромный зал. Я помню, что по тревоге оттуда нас сгоняли в метро, но мы прятались и не хотели. Всех гоняли в метро, а некоторые из нас, чтоб поспать, тихонько прятались в сортире. И еще мне запомнилось, что то приказывали окна закрывать, а то приказывали окна открывать, потому что взрывная волна выбивала и ранила стеклами. Эти кресты на окнах клееные не помогали, от взрывной волны — все вылетало и еще хуже ранило, потому что более крупные стекла летели, скрепленные этой бумагой. Все время поступали какие-то инструкции, которые противоречили одна другой, часто совершенно бессмысленные.
* * *
Один раз нас даже посетил Берия и отбирал программу для Кремля. Дунаевский очень дрожал, брат «великого» Дунаевского. Наверху, в кабинете у начальника, сидели Шостакович, Юткевич, Тарханов, Свешников, Голейзовский — на случай, если Берия пожелает дать указания им всем, — все сидели и ждали. В зал, конечно, никого не пускали, только на сцене артисты. С трепетом все ждали. Вдруг все двери открылись, появились мальчики в штатском, руки в карманы. Потом распахнулась дверь, вошел Сам — в кепке, в пальто, не снимая. Никому ни «здрасьте», ни «до свидания». Крикнул с грузинским акцентом:
— Начинайте!
И все это завертелось, закружилось, заплясало, запело. Полчаса все это продолжалось. Потом пауза. И он сказал:
— В Кремль поедет: первая песня о Вожде, вторая песня обо мне: «Шары бары, верия, Берия», — на грузинском языке: там были грузины, они танцевали и пели — Сухишвили-Рамишвили, — потом молдавский танец поедет и русская пляска поедет, где бабы крутятся, и все красивые ляжки видны. Все!
И ушел. Все двери захлопнулись, мальчики скрылись. И в тишине начальник ансамбля сказал:
— Вот это стиль, будем прямо говорить! Учиться надо!
А почему я так это запомнил все? Потому что сначала начальник меня позвал и говорит:
— Будешь вести. С шутками, понимаешь… — ну, с эрдмановскими.
Потом что-то он занервничал, ходил, ходил и наконец приказывает:
— Ко мне!
Я подбежал:
— Есть, товарищ начальник.
Он говорит:
— Не надо никаких шуток. Ты садись тут, сиди.
И другого позвал и сказал:
— Князев, иди ты. Строго выйдешь. Военным шагом. Доложишь: танец такой-то, музыка такая-то и… никаких шуток, а то знаешь еще…
И я сел, притаился рядом в партере и все это видел. Это был черный мраморный зал за Лубянкой, клуб НКВД Черный мрамор с желтыми прожилками. И он был очень длинный и похож на гроб. Он и сейчас, по-моему, там.
* * *
Войну я встретил на границе. Нас с ансамблем послали обслуживать границу, мы приехали с составом своим и с этим же последним составом, уже под бомбежкой немцев, мы возвращались.
* * *
До этого еще были какие-то поездки. Но эта просто мне запомнилась. Мы проезжали Ригу — и выступали в гарнизонах. Нас посылали бригадами небольшими — Зиновий Дунаевский устраивал такие помпезные концерты. Его путали с братом, с Исааком, все принимали за брата и устраивали политические овации: «За великого Дунаевского! За великого Сталина!» и т. д.
Вечером мы играли в Таллине. Потом нас посадили в грузовики и послали дальше, к границе, и вдруг через час вернули. И нам сказали, что утром будет спектакль для высшего комсостава.
И когда мы пошли играть, то один переулок, который ближе всего к городскому театру, был перекрыт, но нас пустили — мы же чекисты. И была целая вереница грузовиков с ранеными солдатами. Я спросил:
— Что, ребята, случилось?
— Бои идут.
Значит, всю ночь шли бои, и я уже видел колонну раненых. Бои шли, потому что колонна была большая.
Я помню, мы начали играть, стали бомбить, и от страха все разбежались, публика уходила, а мы — солдаты, только по команде можем. И мы начали помогать эвакуации театра. Почему мне это так врезалось? Я все бегал чего-то выносил и, пробегая, видел портрет Шаляпина с надписью: «В этом маленьком театре я испытал минуты вдохновения, которые я не забуду». И я все хотел, честно говоря, спереть этот портрет Федора Ивановича. И жалею, что в этой панике забыл, все бегали, грузили, уже чего-то рушилось, взрывалось.
Из Таллина я уходил с последним составом.
Еще помню, как мужики ломились в этот состав, а мы оцепили поезд и сажали только женщин и детей. И какой-то коммуняга кричал и размахивал партбилетом:
— Пустите, я нужен нам!
Ну мы его под белы рученьки и вывели из поезда.
Или как мы, солдаты, выкидывали чемоданы в окно, чтоб посадить детей. И бабы нас били, потому что мы их скарб выбрасывали. Но паровоз не мог стронуться с места.
Пока мы погрузили все, уже город бомбили. Я помню трагический отъезд этого состава — он не мог тронуться, буксовал. И тогда пришлось выкидывать сперва мужчин, оставляли лишь женщин и детей. Матери кидали детей, ну хоть детей возьмите. Ну и мы тихонько брали. И на меня кто-то орал:
— Застрелю!
Мы бежали за поездом, потому что он еле шел, и люди бежали за поездом, чтобы уцепиться за него.
Это был последний поезд, который уходил из этого города, поэтому загружался он сверх меры, к нему чего-то еще прицепили. А уже бомбили станцию, но легко — чесали пулеметом, потому что они, видимо, берегли ее, чтобы входить. Они довольно быстро шли.
А «мессера» бомбили состав, обстреливали. Мы проезжали какой-то город, начался обстрел, и на глазах девочки, маленькой совсем, убили мать. Она высунулась в окошко и кричала.
И вот я помню чувство страха. Ребенок кричит, и я чувствую стыд, как же можно, а ноги не идут. Я пошел за ребенком, но вот это ощущение страшное — не идут ноги и все. Мне казалось, что я иду час, а, наверное, все продолжалось одну минуту. Я взял ребенка и ушел, пополз в рожь дальше. А там была комедия. Ползет довольно полная дама, и, когда самолеты пролетают, она от страха подолом закрывает голову, и вот такая задница в голубых трусах наших до колен. А пожилой человек в панике ее хлопает дрожащими руками и говорит:
— Закрой, десант высадят! — без юмора совершенно.
А мне все-таки чувство юмора не изменяло — я увидел эту сцену и заржал.
Мы взяли девочку с собой в вагон. А потом надо было ее сдать где-то. Отдали мы ее в каком-то городе. Не помню, где-то пришли и сдали в детдом. Нет, видимо, до Москвы я ее не довез, потому что в Москве я ее отдал бы своим родителям.
Мы добирались до Москвы несколько дней. Встречали много знакомых. Эшелоны идут с солдатами, мы выбегаем и все рассказываем, потому что мы-то оттуда. Они спрашивают:
— Ну как, как? Что идет? Остановили? Наши наступают?
Мы-то на себе испытали и понимали, что дело плохо. Мы так медленно продвигались, что видели войска, которые идут вперед. Просто в боевом порядке, тут фронт. Значит, так медленно ехал состав.
* * *
Первый раз в жизни я сделал сам композицию о Суворове со стихами и анекдотами о нем, когда нужно было ехать отдельными маленькими фронтовыми бригадами в ополчение и надо было сделать небольшую программу. И так как я любил стихи давно, то нашел книгу «Анекдоты о Суворове» — там очень забавные есть анекдоты и стихи замечательные: лермонтовские, пушкинские — и сделал такую композицию… Первыми шли лермонтовские стихи про Наполеона: «Москва… Он вздрогнул, ты упал». Композиция понравилась, и даже я записал ее на радио. Остужев читал стихи: «Пусть ярость благородная вскипает как волна. Идет война народная, священная война!..» — и еще что-то, а я читал свою композицию. Мы записывали это в доме ДЗЗ, в этом же переулке у меня теперь квартира. Такие вот фантастические совпадения. Читал я на радио в Москве, когда уже все бежали.
* * *
И когда я попал к ополченцам, уже шли танки, и нас поставили в окопы с «коктейлем Молотова», мы ведь были солдатами.
Вот там я узнал, что такое «коктейль Молотова» с инструкцией: «Танк пройдет, в задницу брось, и танк загорится». Я сел в окоп и сидел с бутылкой, ждал танковой атаки. А танки применяли очень простую тактику. Когда на окоп наступал танк, он одну гусеницу выключал и так крутился, чтобы сесть в окоп и размолоть солдат.
И я первый раз в жизни видел, как бледнеют люди, когда у человека вся кровь отливает от лица. Страх. Я бы никому не поверил, если бы сам не видел. Вот танки показались и пошли. И я вижу, как у некоторых людей вот так пол-лица совершенно белое, а остальное красное все. И потом дальше кровь отливает. В общем-то страшно, некоторые же не выдерживали и бежали. Медвежья болезнь начиналась. Страх. То же самое при бомбежках.
Вот эта двойственность мне очень помогала, как актеру и режиссеру. Видите, даже в такую минуту я запоминал детали.
Я еще помню, что я убежал и решил забежать домой, потому что грузовик шел, на котором мы ехали, прямо мимо улицы Станиславского. И я спрыгнул и приятелю сказал: «Если что, то ты за мной, тут в суматохе, в этом разгроме никто и не заметит. А я хоть забегу домой, а потом если что, ты за мной прибежишь», — ну, мы молодые, здоровые были — чего там от улицы Станиславского добежать через Горького прямо в ансамбль. Я спрыгнул на улице Станиславского, ехали мимо консерватории от Никитской, и я — раз — через борт и прибежал домой, отмылся. А утром рано, часов в пять утра — я жил напротив бывшего немецкого посольства, в таком чуть ли не в полуподвале, в маленькой комнатушке — парень один, звали мы его Крот, очень хороший танцор, в окошко стучит. И я выглянул, он говорит:
— Хана!
— Что хана?
— Все. Накрылось.
— Что накрылось?
— Все накрылось. Бежим в казармы. Всех вызвали в Клуб.
И я натянул амуницию и через окошко, даже не через дверь, а через это окошко выскочил и бегом — он меня спас — хватятся же, где? Правда, в этой панике, может, никто и не хватился бы. И мы побежали туда. И мне никакого не было наказания, мы успели. Но я видел, как пепел носился по всей Москве, метро было заминировано. И вот когда мы бежали, уже поднимаясь мимо КГБ к клубу, то открылись двери внутренней тюрьмы Лубянки и вышла какая-то часть особого назначения. И вел их знакомый парень, который потом стал генералом Крыловым и был один раз в Театре на Таганке. (В этот же вечер был и Грибов, его надпись на стене моего кабинета есть: «Благодарю за блез-стящее искусство».) А потом генерал застрелился, когда его Чурбанов[7] снял с должности.
И тогда в театре это была у меня с ним первая встреча, начиная с того момента, когда он выводил свой батальон или роту, был лейтенантом он тогда. И он шел такой подтянутый — ать-два — а я бегу и спрашиваю: «Ты куда?» Он говорит: «Защищать Театральную площадь», — и оттуда хорошо экипированные ребята с автоматами, подтянутые вышли, из внутренней тюрьмы Лубянки. И были ежи везде уже, мешки с песком… Какие-то типы раздавали сигареты, папиросы, шарашили магазины, какие-то длинные шли вереницы — были направления даны, как отступать из Москвы… А мы прибежали туда. Потом уже нас ночью подняли в казарме, зачитали вот этот страшный приказ сталинский «Ни шагу назад!» про заградительные отряды — расстреливать отступающих… И мы остались в Москве.
Потом мы выступали в Детском театре, где МХАТ Второй был, где я учился, и потом был Эфрос. И туда приходил Остужев, смотрел. Он остался в Москве и не убежал. Пришел в уборную, сидел и рассказывал нам всякие вещи своим голосом: «Если ты зачат на ложе страсти, не пил и не курил всю жизнь. В одном лишь грешен», — намекая на дам. И дальше: «Гарун бежал быстрее лани, быстрей, чем заяц от орла!» Ему было скучно, старику, и он грустно пришел на огонек в артистические.
Я помню, что меня поразило, что я в той же гримерной сидел, где Аркадий Иванович Благонравов учил нас гриму и куда он пришел читать постановление правительства о закрытии МХАТа Второго. И там же сидел Остужев. И по-моему, там же он рассказывал, как он сам себя спас — с ним было плохо, инфаркт или предынфарктное состояние — и он не позволил себя разгримировывать, он как сел и только говорил «не трогайте, не трогайте меня». И когда приехали врачи, то они сказали: вот тем, что он пересидел так, не сдвинулся, он себя этим спас. Если б его начали тут раздевать, разгримировывать, то он бы умер. Он рассказывал свои наблюдения над жизнью. Потом посидел, посмотрел, как мы выступали, и по-моему, даже это раза два было. Видно, ему очень было скучно и одиноко.
Программа в Детском театре была очень помпезная, с хорами, с танцами. И с интермедиями, которые писал Николай Робертович с Вольпиным. Там были очень остроумные интермедии, много смеялась публика. Интермедии репетировали Тарханов с Белокуровым и Мартьяновой.
Я вел все эти программы и играл во всех интермедиях Эрдмана, «главным артистом» был. Вот только начальник не доверил мне вести программу перед Берия.
Был такой актер Князев, был Шапиро, который потом режиссером стал, был Гитман. Были две артистки. Пригласили Зубова, знаменитого артиста, руководителя Малого театра, помочь что-то в интермедиях ставить. Ведь ансамбль мог любого привлечь. А он замечательный же артист. Такой барин. И он играл Наполеона. В Малом театре была инсценировка «Войны и мира».
И вот одна ансамблевская зарисовка: Зубов, Эрдман и я с ними поднимаемся в кабинет начальника ансамбля. И Зубов идет, висок теребит и говорит так:
— Ах, этот лак Наполеона раздражает, — еще не успел он разгримироваться как следует, от парика лак остался. — Ну что же, Николай Робертович, тут можно делать дело, можно, можно сделать. Это талантливо выглядит. Можно… вполне, вполне. Ах, этот лак Наполеона раздражает. Но артисточка никуда. Менять, менять артисточку надо.
А Николай Робертович говорит:
— По н-некоторым с-соображениям я бы не рекомендовал вам произносить эти слова т-там, в кабинете.
Зубов говорит.
— Понял, понял, — открывает дверь кабинета и говорит: — Артистка у вас просто прелесть. С ней можно делать дело. Можно, можно, можно…
И я остолбенел от такого гениального перехода.
Или другая зарисовка.
Команда ансамбля. Солдаты сидят, извините, в сортире, курят на сон грядущий и разговаривают. Так как ребята все довольно умные — кто консерваторию окончил, кто институт, кто училище, то разговор идет о литературе. Ну а лейтенант ищет с ними контакта — тоже зашел в сортир и слушает, что они говорят. Вот он послушал, послушал и говорит:
— Так, да. Точно. С литературой плохо. Да. Вот этот, как его, Алексей Толстой, написал «Войну и мир» — и заглох. А вот Лебедев-Кумач сильно выдвигается — получил батальонного комиссара!
Еще один случай.
Вечерняя поверка в ансамбле. Всех солдат выстраивают по линейке, и этот же лейтенант, согласно правилам, говорит:
— Так! Значит, так. Вопросы есть?
Здоровенный мужик отвечает:
— Есть!
— Так, товарищ Дубовик, задавайте вопрос.
— Товарищ лейтенант, а почему Земфира охладела?
Лейтенант смотрит на строй и не понимает — смеются над ним или всерьез. И так, озираясь, говорит:
— Так. Неважно. Будем тренировать этот вопрос. Разойдись!
В другой раз начальник ансамбля — маленький человек с пробором аккуратным — вызывает этого лейтенанта и говорит:
— Садись, будем прямо говорить. И запомни на всю жизнь, что я тебе скажу. В ансамбле непорядки. Наш ансамбль состоит из многих национальностей, понимаешь, а там раздоры, до драк дело доходит. Проведи с ними беседу о дружбе народов, что должны жить единой дружной семьей. Выполняйте!
— Есть, товарищ начальник! Все будет сделано.
Вечером всех выстраивают, и лейтенант говорит:
— Так. Согласно приказу начальника, мне поручено провести с вами беседу. Наш аса-асамбль является многоцимногоцициональным. У нас имеются армяне, грузины, один татарин имеется, — потом он оглядывает строй и говорит: Евреев полно! Должны жить в дружбе. Разойдись!
* * *
А через некоторое время нас перебросили — куда-то под Москву, я еще помню, что там я отморозил себе еще раз щеки — на лыжах мы ходили, для родителей что-то хотели поменять. Когда мы были в Москве, я всегда бегал к папе и маме, собирал им что-то из еды или еще что-то, что можно было раздобыть, и пользовался случаем, от тревоги до тревоги бегал, приносил им домой.
Потом мы выступали в метро «Маяковская», где был Сталин на торжественном заседании 7 ноября.
А потом, когда был первый раз пробит коридор между Ленинградом и Москвой — и тут же он захлопнулся — и вот нас направили в Ленинград.
Помню, когда мы туда ехали по этому коридору, я еще неудачно всех разыграл, схулиганил:
— Простреливают и уклон большой. Все ложитесь и лежите. А потом мы пройдем и скажем вам, когда вставать.
А потом вошел начальник и сказал:
— Вы что, с ума сошли? — не пройдешь же, все лежат. — Кто приказал?
Говорят:
— Любимов проходил, говорит, тут уклон большой, поэтому нужно всем лечь, чтоб равновесие было, чтоб вагон не перевернулся.
И тот сказал:
— Вот мы доедем, я тебе покажу уклон, я тебя положу.
Туда-то мы проехали, и коридор захлопнулся, и мы там накрылись на несколько месяцев. А обратно мы выбирались уже по Ладоге — я помню торчащие мачты кораблей, потому что много кораблей топили. Это было ранней весной. Ходили по улицам несчастные дистрофики, опухшие от голода люди, — а город ведь все время обстреливали — и мы видели, как они по стенке шли и уже не реагировали, а мы вздрагивали — все-таки снаряды летали. Можно одной фразой сказать: «Врите что хотите, и все равно, чтобы вы ни выдумали, реальность была страшней. Вы не выдумаете таких ужасов, которые были». Я видел, как мужичонка привез на какой-то кляче остатки еды из деревни. И он, извиняюсь, чуть отошел помочиться. И налетела какая-то дикая орда совершенно голодных людей и разорвали лошадь. И он стоял и плакал.
Выступали мы там в доме культуры, где совсем близко фронт был, на улице Стачек, там же один дом — фронт, а другой — Дом культуры. Электричество в нем включали только на то время, как мы выступали. Мы очень отощали, работать было тяжело. Танцоры уже насилу ноги волочили.
Потом мы где-то достали в городе бочки с полужидким мылом. И, так как я бывший монтер, на кирпичах сделал плитку электрическую. И когда включали свет, мы варили мыло, выпаривали из него воду и тогда оно превращалось в твердый кусок. Мы даже умудрились потом это мыло с собой привезти. И мы меняли это мыло, все же на кусок этого мыла можно было еще что-то выменять — пол-литра, например.
Или, например, спит человек — мы в одной комнате спали, где потеплей — и ногой все время придерживает свой чемодан, чтоб мы к нему не забрались и не украли, потому что у него была там сахару пачка. Он нам даже не верил, думал, что он заснет, и мы украдем у него сахар.
И это помню, как маленький кусок хлеба долго жуешь, чтоб было впечатление… запивая кипяточком, если удастся его согреть. Видимо, паек нам давали такой же, какой выделялся всем защитникам города. Голод был все время. Мне еще повезло — в меня повариха влюбилась. И она мне немножечко подкладывала, но так как на раздаче все смотрят, она очень боялась и только чуть-чуть больше какой-то картошки или каши пол-ложки больше. Уж очень я ей нравился.
Помню, когда мы вернулись, нас в Москве встречали родственники и, конечно, на лицах у них был ужас — видимо, мы были очень изможденные. На себя как-то не очень смотришь, а вот по реакции других… Мама меня встречала, по-моему…
Нас «цветок душистых прерий» Лаврентий Палыч (прерия — Берия: рифма!) посылал на самые трудные участки — показать, что его ансамбль самый передовой.
Потом мы попали в разбитый Сталинград. Это была такая библейская картина. Ночью мы в составе подползли поездом, и вот эта панорама разбитого города, танки — прямо в стену врубленные и остановленные. И она врезалась в глаза. Луна светила — и этот весь разрушенный город, выл ветер, и все пробоины бесчисленные: в крышах, в трубах дождевых — они свистели от ветра — получался дьявольский орган какой-то, необыкновенной мощи. Свистел ветер, уже было холодно, по-моему, даже снег. «Мело, мело по всей земле, во все пределы». Потом мы куда-то дальше поползли. Такие обрывки воспоминаний.
В это время Константин Симонов отхлопотал меня, и я начал сниматься в фильме «Дни и ночи» у Столпера. По-моему, он даже до Берии дошел, потому что был высочайший указ меня отпустить на съемки. Я играл капитана Масленникова. Мы на пароходе жили в разбитом Сталинграде. Помню, снималась сцена с пулеметом — из разрушенного здания я стреляю из «максима» холостыми, строчу, а из-за угла идет колонна пленных немцев, там уже работали пленные. И они с перепугу, увидя ствол и стрельбу, все полегли. Они-то ведь не знали, думали, их привели на расстрел. И это все вошло в картину.
Когда меня отпускали на съемки, мне врезались слова начальника. Я спросил:
— Ну, а как мне узнать, когда вы меня вызовете?
— Вы не волнуйтесь, когда будет надо, вас найдут и доставят на выступление.
Ну и вот я как-то моюсь в душе, вдруг нервный стук ко мне в каюту и взволнованный голос директора картины:
— Товарищ Любимов, за вами пришли.
— Кто пришел? Дайте домыться.
— Товарищи пришли. Срочно, срочно требуют. Должны вас взять.
— Кто взять, куда взять? — Группа съемочная, мне тут весело, и вдруг — взять. И действительно, стоит товарищ и говорит: «Срочно вас должны доставить туда-то». И меня сунули сперва на грузовик, он меня привез к какому-то пункту, а оттуда в Москву. Ансамбль тогда должен был выступать в Одессе. Ответственное выступление перед командующими какое-то было… И запомнился мне замечательный театр в Одессе.
И вот я помню, что сначала я на каком-то паровозе ехал, потом какой-то грузовик схватил… потому что срочно я должен был прибыть. Телеграмма была за подписью Абакумова, мощная такая. Но в Москве самолетов нет, рейсов никаких, только военные, и меня начальник аэропорта не принимал. Тогда я вышел и сметку проявил, позвонил и сказал: «Вам должны были позвонить, надо доставить такого-то. Сейчас придет наш представитель — взять». Позвонил и явился, показал телеграмму абакумовскую. Он куда-то позвонил, вдруг меня кто-то схватил, бах! — и в самолет какой-то транспортный, где сидел восточного вида генерал кгбэвский, вино стояло, свита — и меня туда: «Товарищ генерал, вот приказ от Абакумова», — и меня туда вбросили и полетели. И он меня вином напоил и все говорил: «Зачем тебе какой-то ансамбль? Сейчас полетим дальше. Тут знаешь, какие дела предстоят!» Кишинев уже был взят. Но я как-то смекнул, что мне все-таки лучше туда не лететь.
Я поспел к самому выходу — как в театре. Грязный, на каком-то грузовике я добирался, и — начальник начал сначала орать — я говорю: «Я еле добрался, вы видите, в каком я виде!» — рожу мне отмыли, напялили на меня костюм и я выскочил играть. Видимо, я ему все-таки как артист больше нравился, чем дублер: того раздели, меня одели и выпустили.
* * *
Я был в Москве, когда узнал, что кончилась война. Этот день я помню, как мы куролесили весь день и всю ночь. Мы с моим знакомым раздобыли где-то «виллис» и носились на «виллисе», на Красную площадь заехали. Все были пьяные, орали. шумели, лазили на крыши, стреляли из каких-то ракетниц, пускали автоматные очереди в воздух — что тут творилось! Все обнимались, целовались, думаю, большое пополнение населения было этой ночью.
Всех нас отпустили, дали увольнительную на сутки или даже больше.
После войны были какие-то тихие годы, нас куда-то возили, но не отпускали. Берия старался все сохранить, а не сохранялось… Я все это помню смутно, потому что я мечтал уже оттуда смыться любыми путями — сколько можно? Я попал в армию еще до финской войны, так что лет восемь я уже был в армии, а он все задерживал, задерживал. Других-то он отпускал. Но то приходил приказ расформировать ансамбль, то его опять не расформировывали. И потом все-таки его расформировали, и я должен был по законам вернуться на старое место работы.
В Вахтанговском театре
Я вернулся в Театр Вахтангова и сразу стал репетировать Олега Кошевого в «Молодой гвардии». Это был спектакль по книге Фадеева, о том как молодежь сопротивлялась немцам, как партизанами были школьники.
Тогда по глупости-то я мало понимал. Актеры любят успех. Меня хвалил Фадеев, меня выдвинули на Сталинскую премию. И как-то, если честно сказать, я не особенно мучился этой плохой литературой.
Единственное, что на меня угнетающее впечатление произвело, поездка в Краснодон зимой 1947 года, туда, где жили ребята из «Молодой гвардии». Поехал Захава, постановщик, поехал прекрасный актер Михаил Федорович Астангов и я — как артист, играющий главную роль. И когда мы вышли из поезда: ночь, пурга, то увидели, как солдаты с овчарками гнали стариков, женщин и детей в лагеря — они были у немцев в оккупации. И их высылали на север. Это первое, от чего защемило сердце и стало страшно, безнадежно и тоскливо.
Второе, когда собрали всех родителей убитых детей этих, и они спорили, чей умерший сын важнее, — это было и смешно и грустно, такой трагический фарс. И среди них мать Кошевого, самая авторитетная, обласканная властью, полная, упитанная — несмотря на дикий голод, когда в столовой там давали какую-то баланду, как в лагере, и рядом стояли голодные шахтеры, ждали объедков пищи, которая не лезла в глотку московских гостей, приехавших набираться впечатлений. И тот, кто вел совещание, говорил:
— Матери, успокойтесь! Где надо, разберутся. А при московских товарищах даже неприлично это выяснять.
Это все не анекдот.
Нас встретил молодой комсомолец, проводил к своему партийному начальнику и сказал:
— Вот товарищам бы переночевать где-нибудь.
А начальник говорит:
— Пятилеткин, не горячись, с койками у нас плохо. На всех товарищей можем выделить две койки.
Фамилия этого комсомольца была Пятилеткин. Как были имена «Владлен» — Владимир Ленин, «Элен» — Энгельс, Ленин, «Марлен» — Маркс и Ленин.
Олег Кошевой
Потом я пошел к отцу Олега Кошевого, а он, оказывается, развелся со своей женой, с матерью героя. И когда я явился, он так испугался, что выскочил и сказал:
— Я все платил, все алименты, все я платил! Ну что же делать, по взаимной договоренности разошлись, — начал справки показывать, доказывать, что он хороший отец, что он все платил.
А в пьесе отец вообще не выведен, как будто сын от непорочного зачатия произошел.
Трагический фарс преследовал всю эту, так называемую творческую, командировку. Единственная польза была, что эта поездка заставила меня трезво открыть глаза на все происходящее.
Кстати, я тогда понял одну вещь, полезную для своей актерской работы. Когда я сам стал ходить по этому маленькому городку, то мне стало понятно, сколько эти ребята бегали от дома к дому, друг к другу, чтобы просто договариваться, сообщать что-то, писать листовки, расклеивать их. Им приходилось обегать десятки километров каждый день. И как актеру мне что очень помогло. Я все-таки узнал, реальную обстановку. И там я узнал, что Олег Кошевой заикался.
* * *
Это довольно расхожая легенда, как вызван был Фадеев к Сталину. Он был в запое, его нашли, отмыли, привели в чувство, привезли. Сталин долго не принимал его, а потом Поскребышев сказал:
— Войдите, Ёсь Ссарионыч ждет.
Он вошел. Сталин листал «Роман-газету» с «Молодой гвардией», а рядом лежал Чехов — в знаменитом вишневом переплете. И он так с восторгом смотрел на Чехова и тут же с пренебрежением листал «Молодую гвардию». Потом сказал:
— Что ты тут намарал? Отвечай!
Тот начал, конечно, бедный, говорить:
— Я, Иосиф Виссарионович, хотел, как художник, показать энтузиазм молодых, хотел, как художник, подчеркнуть…
— Ты художник?.. Вот — художник, — поцокал: «ц-це-це» и снова — на Чехова. — Вот это художник! А ты, в лучшем случае, можешь намарать то, что мы тебе прикажем. Что ты тут намарал? Что какие-то мальчишки-девчонки чуть ли не войну выиграли? Пошел прочь!
И тот потом в слезах рассказывал Шолохову — на двоих они водяру глушили, — что первый раз видел в таком виде дорогого вождя и учителя. Но таких штук много рассказывали, и правда это или нет, трудно сказать. Поскребышев не оставил воспоминаний.
Твардовский рассказывал, что он как-то встретил Поскребышева — уже после всего — в доме отдыха высокопоставленном. И Твардовский ему говорит:
— Напишите, пожалуйста, — это ваш долг — как вы работали при Иосифе Виссарионовиче, просто день за днем. С чего начинался каждый день…
И вдруг тот зарыдал и говорит:
— Не могу я о ём писать! Не могу!
— Почему?
— А потому, что вот приходишь, — а Поскребышев был бритый, голова как бильярдный шар, — и вдруг он подманивает вот так пальцем указательным, ну бежишь, конечно, на полусогнутых. Вдруг он разворачивает чернила и выливает их на стекляшку стола, — стеклом стол покрыт у него, — и берет меня так и возит по этим чернилам, а потом говорит: «Пошел вон!» — так день начинался, и каждый день он что-нибудь выдумывал.
Не говоря уже об этой страшной новелле, которую все рассказывают, как он со списком во рту, в котором была его жена приговорена к расстрелу, вполз на коленях, плача. Сталин вынул изо рта список, подписал и сунул обратно. И тот уполз. А потом через неделю вождь сказал:
— Ну что ты ходишь с таким лицом, будто тебе жить не хочется? Бабы тебе не хватает? Придешь вечером, тебя будет ждать хорошая женщина, будет твоей женой. Лаврентий тебе подобрал.
И, говорят, что он пришел домой, и там была дама, которая сказала: «Я ваша жена», и что он с ней жил потом до самой смерти.
Может, это и выдумано все, но такие рассказы ходили. Они ходили и при жизни «вождя», но тихонько. Но, кстати, я не удивлюсь, если это правда. Страх действительно был, и все перед ним трепетали.
P.S. Я всю жизнь собирал о нем байки и хотел сыграть «корифея всех наук» на телевидении. Все обещали, восклицали: «О! Верим, это будет интересно!» — но этим все и заканчивалось.
* * *
Хотя «Молодая гвардия» так и не получила Сталинской премии, я все-таки удостоился этой «высокой» награды — перед самой смертью «вождя» — в 53-м году за «Егора Булычева», где играл роль Тятина. Интересно, что выдвинул меня не театр, а художники Кукрыниксы.
«Егор Булычев» — Тятин (Сталинская премия), 1952–1953
Примерно в то же время я репетировал пьесу «Крепость на Волге», где Ульянов играл Кирова, а я играл какого-то грузина. Потом я уехал сниматься к Пырьеву в «Кубанских казаках», и Рубен Николаевич был недоволен, что я ушел, потому что ему понравилось, как я хорошо сразу читал с акцентом с грузинским всю роль. Роль была средняя, но и пьеса кошмарная, конечно. А запомнилось мне это совсем по другому поводу.
Мы были где-то далеко, на гастролях, может быть, в Омске — я уже не помню. Мы всю ночь пели цыганские романсы и пили с Михал Федоровичем Астанговым, с Моновым, с Хмарой. Был такой актер Хмара, брат которого эмигрировал с первой студией МХАТа, организовал там цыганский хор, и жили они поэтому неплохо, выступали по ресторанам. И наш Хмара, который был в Вахтанговском театре, знал уйму цыганских романсов. Был с нами и другой артист, который прекрасно играл на гитаре.
Началось все роскошно: нам замечательно накрыл стол какой-то повар, когда мы пришли после спектакля, и мы начали свои певческие концерты устраивать: кто кого перепоет с цыганскими романсами. И вот под утро все уже разошлись, а мы с Михал Федоровичем Астанговым, уже окончательно «осовев и обсовев», допивали почему-то из каких-то стаканчиков для бритья — не знаю, почему — то ли унесли у нас все. И Михаил Федорович говорит: «Подожди, Юрихон, — он меня звал Юрихон, — подожди, сейчас мы Рубена позовем». И он позвонил, а уже надо было на репетицию скоро идти, через час, и вошел Рубен Николаевич, элегантный, подтянутый, и увидел всю эту картину. Михал Федорович бросился навстречу его обнимать: «Рубен, дупа моя дорогая!» — а он здоровый, большой был, обхватил его и, пока он его обхватывал, упал и заснул. И Рубен Николаевич очень рассердился и сказал: «Как вам не стыдно, молодой артист! До какого безобразия вы тут, понимаете, замечательного артиста довели, вот он лежит без движения, а у вас репетиция со мной через полчаса!» И потом сразу говорит: «А где коньяк-то?» — и гордо удалился.
Я с трудом оттащил Михал Федоровича на кровать и думаю: «Что же мне делать?» И встал под ледяной душ и простоял я, наверно, полчаса. И, конечно, пришел в себя абсолютно. Причесался, оделся и явился на первую читку с ролью в руках. А видимо, Рубен Николаевич предупредил:
— Вот посмотрите, в каком виде явится молодой артист.
А я явился как стеклышко. И он совершенно обалдевший был. Я вошел, ни на секунду не опоздав, причесанный, бледный несколько. И он сказал:
— Ну так. Прочтем давайте пьесу.
И я сразу начал читать с акцентом, чем опять поразил всех, а я уже насобачился говорить с грузинским акцентом, копировал всех, когда снимался Пятницей, и докопировался до того, что мне никакого труда не составляло читать роль с ходу и с небольшим акцентом. А она и написана была с небольшими оборотами грузинскими. И Рубен Николаевич сказал:
— Вот это старая школа! Вы меня покорили, Юрий Петрович. Первый раз видел… Как вы сумели? В таком состоянии вы были безобразном, но пришли и даже хорошо читали.
Я говорю:
— Под душем, Рубен Николаевич.
Он говорит:
— Вот, я буду приводить в пример, как нужно молодым держать традиции вахтанговцев.
И он приводил это как пример старых добрых традиций актерских — вот, молодой человек, а умеет себя вести: к репетиции пришел в форме, как полагается, и хорошо читал роль — молодец.
Он начал репетировать, потому что пьеса политическая, Киров! Но пьеса была паскудная, и ничего, конечно, не вышло. И когда к нему подходили:
— Рубен Николаевич, вы знаете, надо тут кого-то с ролей снять. Плохо уж очень играют.
— Да? А зачем их снимать?
— Ну, очень плохо получается.
— Да все равно бесполезно. Это все равно что при гангрене делать маникюр.
* * *
В спектакле «Все мои сыновья» я играл роль американского летчика Криса. Это была одна из лучших моих ролей. Мехлис, министр Госконтроля СССР, посмотрел этот спектакль, когда театр был на гастролях в Сочи. И он сказал: «А зачем это они вообще играют? Вот этот молодой актер — прекрасно играет, но зачем? Это же наши враги. Но я бы мечтал, чтоб у нас были такие летчики. Так он болеет за свои воздушные силы, что отца бьет». А там сюжет, что отец промышленник продал моторы бракованные и брат мой родной разбился. И там была целая партия этих машин. А они вместе летали с братом в полку: один прикрывает, а другой ведущий. И Крис видел смерть брата. И в сцене с отцом и матерью он понимает, что отец эту партию поставлял: «Без тебя были неприятности, чуть не расстроили все мои дела финансовые, это клевета, глупость, ерунда». И Крис говорит: «Как! Я же был в этой части, где случились эти катастрофы». В общем, слово за слово, он понимает, что это отец все сделал. И он в исступлении раза два ударил его кулаком по голове, чуть не убил. Отца играл Плотников — замечательный артист. И все он боялся, что я его убью. И поражались, что я когда с ним репетировал, все ему говорил:
— Николай Сергеевич, вы так сядьте, чтоб рядом была спинка дивана. Публика-то не видит, а я буду бить по спинке дивана. Во-первых, я кулак не отшибу, а потом и вас не убью. Да вы не волнуйтесь, я не ударю же вас по голове.
— Ну, ты в ажиотаже стукнешь чуть правее.
А я левша, я левой бил. А один раз я действительно так живо представил себе эту картину, как он меня обманул. И потом, мне было тридцать лет, я был как бык здоровый после этих армий. И я как на него пошел, и он испугался, побелел, бедный, думал, что я его убью. Ну, и я его лупил, и тут Мехлис и смотрел. И зал стал потом бурно аплодировать. И Мехлис сказал:
— Вот враг наш, отца родного не пощадил.
Ну и потом он мучается, конечно, что он ударил отца. В общем, лихо написана пьеса. И меня в райком потом в Москве уже вызвали: «Как же вы, кандидат в члены партии, так опустились, что врага нашего сделали героем?»
* * *
Я любил играть роль Бенедикта в «Много шума из ничего». Эта роль очень сочная, яркая. Там есть все. Ну и потом играть Шекспира чрезвычайно интересно. Как говорил мне покойный Борис Леонидович Пастернак: «Наверно, как приятно играть великих писателей! Вот когда вы играете Шекспира, он, наверно, прямо как… как на крыльях вам помогает лететь…» Он был своеобразный очень человек, но, наверно, это было наивно, потому что это помогает, если тебе удалось хорошо играть, а часто классические роли играются плохо и скучно.
«Много шума из ничего» — Клавдио, 1950
На «Много шума…» очень хорошо реагировала публика, а актеру всегда приятно, когда так реагируют. Перевод был хороший. По-моему, Щепкина-Куперник переводила. Шекспир — это традиция в русской литературе. Его безумно любил Пушкин, его очень любил Достоевский.
Но Толстой ненавидел его. Он считал, что это несерьезно, ерунда какая-то. Видно, его раздражало, что почему-то весь мир кроме Толстого еще занят и Шекспиром.
Зачем Шекспир, хватит одного Толстого. А Николай Робертович Эрдман называл его ласково — Чудила.
Меня срочно ввели в эту роль, когда Рубен Николаевич Симонов уже не мог играть, ему было трудно, а нужно было ехать на гастроли, по-моему, в Польшу, в Чехословакию. Рубен Николаевич ко мне благоволил и хотел, чтобы я играл. И в общем я имел успех в этой роли, публика очень хорошо принимала.
У артистов принято считать, что, подумаешь, ввод, надо свое создать, а вводиться в чужой рисунок… «не я же играл эту роль, значит, я должен по-другому все сделать». Я считаю это глупостью, ибо спектакль же не будет переделываться оттого, что приходит другой артист. Спектакль создается довольно сложно, у каждого спектакля, как и у человека, своя судьба. И свое рождение особое.
«Много шума из ничего» — Бенедикт, 1952
И вот на этом вводе я обидел Рубена Николаевича.
Я разгримировываюсь у себя — мы в одной артистической сидели — я был завтруппой театра, он был художественный руководитель — начальство, и вот артисты прибегают, говорят:
— Сам, сам идет к тебе. Смотрел спектакль, идет к тебе.
Я разгримировываюсь и у рукомойника моюсь мылом.
Он входит.
— Ну что я должен вам сказать? Я вас поздравляю. Очень вы хорошо это сделали. И мне понравилось. Молодец. Хорошо очень играете. Я рад, что я вам дал роль свою, — так торжественно все это объявляет, а я все моюсь — ну, вежливо, конечно, стараюсь быть в настроении данного торжественного момента передачи роли старого мастера молодому артисту. И вдруг меня, как черт за язык — это бывает со мной довольно часто, — и я говорю:
— Рубен Николаевич, ну подумаешь, чего особенного-то, исполнил ваш рисунок да и все.
И он вдруг рассердился:
— Мальчишка, понимаете ли! Я пришел сказать вам добрые прекрасные слова, а вы не поняли. Рисунок-то какой сделан! Это надо же уметь его исполнить! Это большую похвалу я вам делаю, а вы не понимаете! И даже просто охота пропадает растить вас дальше. — И ушел.
И только потом я понял, что он действительно прав, а я дурак. Потому что нехорошо так пришел старый артист, от души, так сказать. Ведь он должен был что-то преодолеть в себе, чтобы подняться и в своей любимой роли похвалить меня. В театре же очень всегда все ждут, что скажет Сам.
Этот случай я часто рассказываю актерам и молодым студентам. В 96-м году я хотел восстановить «Тартюфа» в молодом составе, также как и «Пугачева», и «Доброго человека…», чтобы играли молодые люди, студенты. И они тоже начинали мне говорить: «Но мы по-своему…» Я всегда говорил: «Что значит по-своему? Вы должны уметь владеть рисунком роли, исполнить такой рисунок, который делает с вами режиссер, — это входит в вашу профессию — вы должны уметь это делать». И приводил пример с Рубеном Николаевичем. Говорил: «Я такой же был дурак, как вы, и так же не понял это и обидел старого мастера. На что он совершенно справедливо мне и сказал, что так себя не ведут приличные люди».
P.S. Так что, видите, в этом шутливом рассказе есть смысл профессиональный.
* * *
Я играл по 25 спектаклей в месяц, по 30 спектаклей в месяц. И все огромные роли. Я играл Бенедикта, Сирано, «Два веронца». Один день Бенедикта, другой Сирано, третий день Шубина, четвертый день Кошевого Олега, пятый день Треплева в «Чайке». Иногда меня по ночам судороги сводили от перенапряжения. Тогда я еще не знал, что пить надо магнезиум, а не водку.
Но я всю жизнь играл в репертуарных театрах. А когда в Англии я ставил «Преступление и наказание», актеры шесть недель подряд играли каждый день один и тот же спектакль. И они изменились все физически. Они все похудели, какие-то воспаленные глаза у них были.
Это очень тяжелый труд. Тем более играть одну и ту же пьесу. Очень тяжело.
Но они держали уровень. У наших такой выучки, к сожалению, нет.
* * *
В «Турандот» я играл какого-то «мудреца дивана», потом мы пытали Калафа.
Калафа, по-моему, тогда играл Шахматов, уже не Завадский. А Юрий Александрович уже был в своем театре. Да-да, потому что совершенно неожиданно вдруг меня пригласили к нему, сказали, что с вами хочет познакомиться Юрий Александрович и пригласить вас в театр к себе. Он хотел, чтоб я играл Ромео у него, он ставил «Ромео и Джульетту». А я тогда был довольно-таки молодым оболтусом, и Завадский — он был рафинированный господин, убеленный сединами, его шутливо называли «седая девушка», тогда пьеса шла о дружбе с Китаем «Седая девушка», — говорит:
— Я бы хотел вас пригласить в театр.
Я говорю:
— Благодарю вас…
— Ну, я надеюсь, что вы будете успешно работать у нас.
Я говорю:
— Юрий Александрович, я, к стыду своему, не видел у вас спектаклей. Разрешите, я посмотрю и потом вам скажу.
И больше — все. На этом разговоры закончились. Бестактно. И мне говорили:
— Что ты так! Нельзя ж так разговаривать.
Я говорю:
— Но я действительно не видел, куда же я пойду?
Ну вот. А потом мы с ним подружились, с Юрием Александровичем. Он приходил на Таганку, и дальше у нас с ним были очень хорошие отношения. Мы с ним встречались много, а потом так сложилось, что перед смертью брата я все ходил к нему в Кунцевскую больницу, а Юрий Александрович умирал там же, в этой же Кунцевской больнице. Умирал он человеком, обеспокоенным судьбой и государства, и искусства. И мы даже с ним наивные письма сочиняли — должны же они наверху чего-нибудь понять. Видите, даже и он, умирая, ничего не понимал, и я, уже битый-перебитый, тоже думал:
— Ну все-таки, может быть, написать последний разок?
А Петр Леонидович Капица всегда говорил:
— Нет-нет, ничего писать не надо. Это бесполезно. Сталину я писал, и он отвечал. А эти даже не отвечают. Поэтому, Юрий Петрович, бесполезно писать. Вот по телефону позвоните, если уже совсем плохо. Может, помогут они.
«Два веронца» — Валентин, 1952
Я и с Марецкой много беседовал, и с Бабочкиным. Беседы были у нас — и серьезные, и шутливые. И многие мхатовцы ко мне хорошо относились: и Марков, и Зуева, и Грибов — то есть старики — именно за искусство на Таганке, казалось бы столь отличное от мхатовского. Видите, значит, это глубокие традиции, как вот, предположим, Станиславский принимал «Турандот» всей душой, искренне радуясь за ученика, так и у них, у стариков, было какое-то доброе отношение ко мне и уважительное.
* * *
Я познакомился с Борисом Леонидовичем Пастернаком. Привез меня к нему Рубен Николаевич Симонов. Просто взял меня с собой. В это время я репетировал «Чайку». Но в перспективе должен был репетировать Ромео в переводе Бориса Леонидовича. И это посещение на меня произвело очень сильное впечатление — его личность, как он читает стихи, как он разговаривает.
Он читал за столом свои новые стихи и читал заметки прозаические, как он мальчиком едет с отцом хоронить Льва Николаевича Толстого, отец его везет, и елочки, занесенные снегом, как крестики на простыне с меткой и так далее… И вот весь его облик, его манера вести себя и тот процесс, который все время, я вижу, происходил у него в голове, подействовали на меня очень сильно. А я все был неудовлетворен, как идет работа над «Чайкой», мне казалось, что это очень скучно, что это слишком как-то плоско, и на какой-то репетиции я попросил:
— Борис Евгеньевич, разрешите, я эту сцену — вот сейчас нам осталось всего десять минут, вроде вы собираетесь всех отпускать — можно, я проиграю и покажу вам, мне очень хочется по-другому показать, как мне хотелось бы сыграть.
— Все правильно, что вы беспокоитесь, вы репетируете хорошо, верно, зачем?
А актеры народ любопытный, Цецилия Львовна Мансурова, Астангов говорят:
— Борис, ну разреши Юрию, пусть он покажет, как хочет, пусть сыграет. Мы с удовольствием с ним сыграем.
Я играл сцену с матерью, еще какую-то сцену. И они начали говорить Захаве:
— Ты знаешь, это интересно, как за ним интересно смотреть!
А он так задумался, весь покраснел — такая привычка, когда он волновался, он краснел очень сильно — и сказал:
— Нет-нет, не надо. Вы хорошо репетируете.
И потом снова задумался и сказал:
— Он играет совершенно в другой манере, не как вы все. И поэтому нужно переделывать тогда весь спектакль. Он выглядит «белой вороной».
И как-то все тогда растерялись и замолкли. И потом уже время подошло, конец репетиции — все разошлись. А у меня осталась какая-то ну что ли ссадина, как сдерешь кожу.
И спектакль оказался скучным, шел он недолго, хотя он говорил, что «потом поймут, насколько это все замечательно», — никто ничего не понял. Спектакль сошел с репертуара.
«Чайка» — Треплев
Я под впечатлением личности Бориса Леонидовича, видимо, очень остро стал играть Треплева. И острота игры не совпадала с манерой других. И он, как опытный режиссер, понял, что ему надо многое менять в спектакле. И ему, видно, не захотелось, он считал, что это разрушит его спектакль.
P.S. Я думаю, что он был не прав. Ведь и у Чехова Треплев — «белая ворона».
* * *
«Ромео и Джульетту», где я играл Ромео, ставил Раппопорт, потом Рубен Николаевич вмешался, раза два-три он побывал на репетициях, подсказал какие-то красивые вещи — он же талантливейший человек был, Симонов, актер просто блистательный. И режиссер он был интересный. Он был одаренный человек.
Борис Леонидович был на «Ромео и Джульетте», и тогда произошел этот знаменитый случай, когда у меня сломалась шпага, отлетела в зал и проткнула ручку кресла, где он сидел, и он пришел на сцену. Но спектакль был плохой, «Ромео и Джульетта», неинтересный. Художник Рындин сделал пышные декорации, и я не мог понять, почему публика плохо слушает. А потому что, когда откроют занавес, пока публика рассмотрит декорации, картина кончилась. Это очень неприятно. Ты что-то стараешься, пыжишься, а чувствуешь, что не ты объект внимания. Зрительское восприятие так устроено, что если художник очень много чего-то там напихал, то в первую очередь глаза воспринимают визуальный ряд. Оказывается, визуальный ряд сильнее воспринимается в театре иногда, чем слово.
Шекспир мне во многом помог в понимании театра, который мне хочется создавать. Это поэтический театр, он более концентрированный, конденсированный и мощный, как очень сильная завернутая пружина. Он упруг, готов всегда к расширению. Он требует фантазии, требует решения пространства, он эпизодичен, дробен. И если вы начнете «всерьез» строить декорации, то зритель ничего не будет слышать, а только смотреть на декорации, он не поймет пьесы, потому что картины у Шекспира иногда очень короткие — по несколько минут, а число эпизодов иногда до сорока!
P.S. Пастернак показал кусочек отлетевшей рапиры и в своей манере заявил: «Вот! Вы меня чуть не убили». Этот кусок, по-моему, у Андрея Вознесенского. Он сидел рядом с Борисом Леонидовичем.
23.08.1999. Будапешт.
* * *
Достоевский говорил: «Ради Бога, не иллюстрируйте мои романы. Берите мои персонажи и играйте сколько хотите». Я играл, будучи артистом, много иллюстраций — ничего не выходило. Играл в «Накануне», играл «Кирилла Извекова» — две иллюстрации. И что я только не делал — даже обманывал тургеневедов. В «Накануне» мне не хватало — актерски — перехода, я взял и дописал текст в стиле Ивана Сергеевича. И так как это было мое, и я в это верил, я лучше всего это и сыграл. А тургеневеды сказали: «Вот артист — проникся Тургеневым, особенно этот кусок — это истинный Тургенев». Хотя ни одного слова тургеневского не было. Я играл скульптора Шубина. А режиссура была такая: «вы направо, вы налево», — и рассуждения о том, что хотел сказать Тургенев, а помощи мне как актеру никакой. Я пошел прежде всего в мастерские к скульпторам. И у них я подсмотрел, как они часто смотрят на людей. Скульптор очень интересно смотрит. Ты пришел, он разговаривает с тобой, но смотрит, как на натуру: отойдет, посмотрит один ракурс, другой. И я выиграл роль на этих штуках.
* * *
Когда я был актером, я не придавал театру политического значения. Единственный раз я имел столкновение, когда был председателем молодежной секции в ВТО (Всероссийское Театральное Общество). И вот там было первое мое политическое крещение. Я должен был выступать, у нас было принято проводить встречи всех поколений, и Черкасов вел это совещание. Совещание было всесоюзное, и поэтому были и партийные представители.
И я выступил и сказал:
— Вот я смотрю на зрительный зал, все говорят очень много речей об одном и том же, но так все однообразно и скучно; но я все-таки помню, мальчишкой, когда входил в этот зал Качалов, Остужев — великие актеры, какие это были яркие индивидуальности. А сейчас все как-то однообразно, скучно, и наши театры все подстрижены, как английский газон. Может быть, для газона это и хорошо, а для нас, по-моему, это очень плохо. Посмотрите, — и я показал на портреты великих русских актеров, — какие лица, а мы с вами… — и махнул рукой.
После этой речи начались мои первые крупные неприятности: меня сразу сняли с председателя секции, пожаловались в театр, что я политически недоразвит.
Это было, когда я играл «Молодую гвардию». Я все считался молодежью, хотя мне было за тридцать. Потому что годы в армии не засчитывались: скажем, молодежь считается до 25 лет, но если мне тридцать, то семь лет в армии мне не засчитывались, значит, мне 23. Такая была очередная советская глупость.
Я мало обращал внимания на политику — я много очень играл.
Второй раз я столкнулся, когда было какое-то партийное голосование и когда объявили: «единогласно» выбрали нового секретаря, я возмутился и сказал, что я голосовал против, как же может быть «выбран единогласно»? Тайное голосование.
— Юрий Петрович, как, что вы хотите сказать, что подлог тут? — шум, скандал…
— Я ничего не хочу сказать, я хочу сказать, что я бросил бюллетень против — вот что, а вы говорите: единогласно.
Это было в Театре Вахтангова.
* * *
Меня все-таки вовлекли в интриги театральные, и я стал защищать Рубена Николаевича, а не Захаву. А так как я был вроде актер Захавы, то это сочли предательством. А я не хотел участвовать никак. Но ведь это театр, он затягивает обязательно. Моя бывшая жена Людмила Васильевна Целиковская просила меня выступить на стороне Рубена Николаевича. И я тогда заступился за нее перед Поликарповым. Он был завотделом ЦК Ему было поручено разбирать этот конфликт высшими эшелонами власти, и пришла наша делегация. Там была Цецилия Львовна Мансурова, Целиковская, я — из следующего поколения Толчанов, Астангов — в общем, целая делегация, которую принял Поликарпов, и он был явно на стороне Захавы. И когда Целиковская стала заступаться за Рубена Николаевича, он довольно грубо ей сказал что-то, бестактно. Я как кавалер, тогда еще не был женат, сделал такой резкий выпад и сказал:
— Некрасиво так разговаривать с дамой.
Видимо, рыцарские чувства взяли верх над осмотрительностью совка.
— И имея такие чины, как вы, уж совсем некрасиво.
Тут я вызвал гнев всей делегации сперва на нее, потом на себя. А дальше уж я ввязался довольно активно и начал что-то доказывать Поликарпову, а тот стал говорить, что мне должно быть стыдно так себя вести, что Захава должен быть худруком, потому что он коммунист, человек, который более осмысленно ведет репертуарную линию без этих «Нитуш» всяких и так далее, а «Егор Булычев», «Молодая гвардия», «Кирилл Извеков», «Первые радости» — то есть более правильная линия, нужная нам и так далее. Но я уже ввязался в спор, что театр определяет талант человека, который его возглавляет, а Рубен Николаевич — человек более одаренный.
«Папа» — Рубен Симонов
В роли Сирано
А здесь в роли Сирано уже я
И странно. Сперва Рубен Николаевич был мне очень благодарен, а потом почему-то отношения у нас с ним испортились, хотя в ту минуту я сыграл очень большую роль, потому что это подействовало. Короче говоря, потом слетели с должности Андрей Абрикосов — он был директором, и я слетел как завтруппой. А Рубен Николаевич остался. Но я думаю, тут Микоян роль сыграл, потому что Микоян покровительствовал Рубену Николаевичу, потом Микоян был друг большой архитектора Алабяна, который был женат на Целиковской; наверно, Целиковская говорила ему, и это сыграло роль в конечном итоге…
Но я напрочь испортил отношения, конечно, с Захавой, этого он простить мне не мог.
* * *
Я помню, на москвичей сильное впечатление произвел первый приезд «Комеди Франсэз». Они играли «Сида» Корнеля — я забыл фамилию актера, красавца такого. Говорили, что он скупил в Москве женское нижнее белье и сделал выставку в Париже, написал: «Надо удивляться, что они еще размножаются».
Это было после войны, в новом помещении Театра Вахтангова, который разбомбили и восстановили… Сенье великолепно играл «Мещанин во дворянстве». И какая-то знаменитая старая французская актриса играла Дорину, и прекрасно ее принимали. А наше фойе превратили в такой буфет, которого мы никогда не видели. И всех актеров поражало, что Сенье в перерыве заходил туда, выпивал рюмку коньяку и уходил обратно играть. И все говорили:
— Ведь вот же, смотрите, и играет, и не напивается!
Это для нас было поразительно.
Тогда был большой успех. В последующие приезды не было такого успеха «Комеди Франсэз». Еще более сильное впечатление произвел Брук, когда привез «Гамлета» и «Короля Лира». И потом американцы привезли «Порги и Бесс» Гершвина…
После войны стали показывать трофейные кинофильмы, взятые у немцев. «Большой вальс», «Девушка моей мечты» с Марикой Рёкк, «Серенада солнечной долины», фильмы Фрэда Астера.
Позже, когда я приехал во Францию, я видел «Вестсайдскую историю», она шла в Париже. И был поражен, что сидело ползала. Правда они уже играли ее несколько месяцев.
И лишний раз я задумался о том, как мы отстаем в понимании театра: в его широте, в неповторимости диапазона, как мы сузили себя этим соцреализмом, системой, заковались в догмы и что действительно несвободный человек не может свободно работать. Все сковывается. Рамки, как прокрустово ложе. А они шалят — свободные люди. Они делают что угодно.
Я это видел и в фильмах неореализма, когда половина публики уходила, но потом, постепенно, это искусство завоевывало аудиторию и зритель стал ходить на эти фильмы. Я помню, «Похитители велосипедов» на Арбат я все бегал смотреть.
В первый приезд Брук привез «Гамлета» с Полом Скофилдом. Это был разительный перепад от охлопковского «Гамлета» с Самойловым, от которого все сходили с ума, помпезная декорация, музыка Чайковского, грандиозные мизансцены в Театре Маяковского.
Очень помпезно, оперно, но красиво.
Был большой успех, все ходили, смотрели, переживали, разговаривали, рассуждали в ВТО вечерами, за выпивкой.
А бруковский был очень условен в хорошем смысле, прост, хиповатый, перестановки очень быстрые, как в комедии дель арте — слуги просцениума, и все было сосредоточено на мысли, на сути пьесы. Ну и поразила простота исполнения, очень было все естественно и просто. Далеко не помпезно, в противоположность охлопковскому спектаклю. И вот эта суровость, аскетичность и точность мысли в исполнении главного героя Пола Скофилда: его походка, его манеры — они напоминали Битлз — я парадоксально свожу концы.
* * *
Я мало занимался теорией театра и не люблю это. Я человек практики. Хотя, будучи уже актером зрелым, играя все главные роли — я бегал на семинар к Михаилу Кедрову — это близкий и любимый ученик Станиславского. Он вел семинар с московскими артистами по последним поискам Станиславского: метод физического действия, метод действенного анализа, разбора роли и так далее. И я два года ходил учиться.
Преподавать я стал от какой-то неудовлетворенности. Последние годы, когда я играл, я почувствовал, что тупею, что мне очень не нравится, как я работаю. Я стал ощущать, что очень плохо обучен своему ремеслу. Ну и, может быть, это самомнение, мне стало казаться, что я все-таки могу помочь молодым своим коллегам — кто хочет заниматься этой профессией — все-таки на своем опыте я понял просчеты какие-то в образовании — в актерском, специальном. Хотя у меня были хорошие очень педагоги: Мартьянова, Белокуров, Чебан, Бирман, Гиацинтова, Тарханов, Толчанов, Захава, Щукин.
И я стал ходить на семинары к Кедрову.
Меня давно приглашали преподавать, потому что знали, что я бегаю на эти семинары, бесконечно разговариваю о недостатках театра, смеюсь на репетициях, издеваюсь над некоторыми спектаклями и над собой в том числе. За это я, конечно, получал много неприятностей. Обиделся Симонов:
— Что, вам недостаточно, что я вас учу, вы еще бегаете к этому Кедрову, понимаете ли? Зачем это, кому это надо? Он ревновал, обижался. И Захава, у которого я играл все главные роли, обижался. Ну, а я все-таки бегал, учился, уже зрелым актером, знаменитым довольно. Кедров был любимым учеником Константина Сергеевича, всегда был при нем, руководил МХАТом многие годы, и мне хотелось именно из первых рук, из уст ближайшего ученика Константина Сергеевича слышать всю ту методологию, которую Станиславский в последние годы своей жизни старался передать и оставить ученикам. Мне это было интересно: метод физических действий, метод действенного анализа и так далее. Ведь Константин Сергеевич призывал через каждые пять лет переучиваться и находить новые манки для своего развития в искусстве, а закостенелость всеобщая приводила всегда к печальным результатам. А я дотошно хотел понять, в чем же методология и как же она может помогать. И конечно, это помогает безусловно, потому что есть несколько приемов, как направить артиста, как его расшевелить. И мне помогали эти вещи в работе.
«Накануне» — Шубин
Потом это постепенно заглохло. Но я был самый терпеливый, я ходил очень долго. Постепенно разбредались, потому что люди наиболее экспансивные, непосредственные, как Сухаревская, говорили:
— Вы не обижайтесь, я лучше уйду.
Потому что то, что я умею, я после уроков чувствую, что это все не то, и я совсем разучусь играть. И я доживу как-нибудь так, без новых методов.
Конечно, в прошлом были и такие, как предположим, Стрепетова кричала, когда начались эти изыскания всякие Константина Сергеевича, то она кричала:
— Назад, к Мочалову! — И нам это тоже преподавали, что отсталая часть артистов, даже такие, как Стрепетова великая, не захотели вникнуть в систему великую.
* * *
Потом в Театре Вахтангова Рубен Николаевич дал мне поставить пьесу Галича «Много ли человеку надо». Это очень слабая пьеса, такая странная, поверхностная, полуводевильная какая-то… Но там были какие-то вещи режиссерские найдены — так мне казалось, для первой пробы; можно было понять, что человек этот чего-то будет соображать когда-нибудь…
Там главную роль играла Катя Райкина, дочь Райкина. Потом много умерших актеров: Осенев играл..
Ну и потом уже я попробовал в Щукинском училище сделать «Доброго человека» — как дипломный спектакль на третьем курсе — мне дали театр, и тут же я ушел из Театра Вахтангова.
«Первые радости» — Кирилл
«Иркутская история» — Виктор
«История одной семьи» — Вилли, 1962
«После разлуки» — Раймонд, 1957
«Двенадцатый час» — Улыбычев, 1960
P.S. Но все равно, эти годы остались со мной навсегда. Из этих лет и родился Театр на Таганке, и я стал осваивать другую профессию — режиссера.
P.P.S. И вот, мой сын, сейчас, когда я правлю (надеюсь, в последний раз) для тебя это шутливое сочинение и проглядываю свою сумбурную судьбу, убеждаюсь, что ремесло мое требует адова терпения! Беспредельного совершенствования техники. И каждый новый спектакль — экзамен. Ты уезжаешь в Англию, в университет, и очень доволен: тебе не надо сдавать. А твоему отцу осенью опять сдавать — «Хроники» Шекспира.
Дописано под тем же деревом, где началась «Тетрадь, обосранная голубями».
Будапешт, 16.07.1999 г.
Твой отец.
Кино
Сталин смотрел все фильмы. Я помню, снимался у Довженко на Мосфильме в фильме «Прощай, Америка!» про сбежавшую американскую журналистку. Это журналистка, которая вышла замуж за русского артиста, певца. У меня была очень приличная роль — американского корреспондента — циничного и развязного господина. Довженко делал фильм. И как раз тогда в одну ночь на Мосфильме по приказу Сталина закрыли несколько фильмов. Он взял список и сказал: «Если она изменила своей родине, то может изменить и новой», — и вычеркнул фильм. Хотя это снимали по его заданию. Потом он еще закрыл несколько картин.
— Вы сколько делаете фильмов?
— Двадцать пять.
— А сколько хороших?
— Ну, семь-восемь.
— Не надо двадцать пять, делайте восемь, но шедевров!
И съемки прекратились — в одну ночь. Только бедный Александр Петрович отхлопотал дополнительные два часа ночной смены, и вдруг начались повальные отмены съемок — никто ничего не понимал, думали, война какая-то новая надвигается.
* * *
До войны я снимался в «Снежной королеве». Сказочника там играл. Были дети, актер Ларионов и замечательный оператор Кириллов.
«Снежная королева» не успела выйти. Началась война — ее закрыли. Потом дети выросли. Очень жалко, потому что был хороший материал. По-моему, я снимался до самой войны. Это была центральная роль. Фильмы снимались медленно тогда. Меня пригласил Легошин, режиссер такой был. Может, видел где. Знаете, как киношники — всегда звонок, что вот вас хотят вызвать на Детфильм — тогда был. Ну, сказка прелестная, я был рад, поехал.
Был еще «Свинопас» — сказка Андерсена.
А до этого еще меня пригласил Довженко на «Тараса Бульбу». Он хотел, чтоб я играл Андрия. Но он со мной побеседовал и это ничем не кончилось. По-моему, он так и не снял «Тараса Бульбу». Он меня увидел на съемках «Снежной королевы» и, видимо, запомнил.
Во время войны я снимался у Столпера в фильме «Дни и ночи» по К. Симонову. Видимо, Симонов меня знал до войны. И потом, наверное, кто-то посоветовал, может, Юткевич — я не знаю.
Я помню, что я снимался в сапогах из ансамбля — они были поприличней, а я играл командира. И там была большая очень панорама, я спал, потом бомбежка, и я вскакиваю и сразу натягиваю сапоги и бегу. И пока шла эта длинная панорама, сперли сапоги. И я проснулся, ну как полагается по кадру, а это очень же сложно наладить все по киношным делам — бах! сапог нет!
Все следили за панорамой — как идет аппарат, а в это время кто-то сапоги-то и украл у меня. А сапоги-то не мои — казенные.
Столпер кричит: «Что ты не играешь?!» Я говорю: «Сапоги украли!» — и поднял такой ор, что мне дали какие-то сапоги — в казарму идти. Это было на Мосфильме.
Симонов мало бывал на съемках. На натуре он ни разу не был, в Сталинграде. Но он смотрел картину, и ему нравилось, как я играю.
По-моему, картину даже показали в ансамбле, когда в Москве мы были, привезли и показали — вот это я помню.
Потом Столпер снова пригласил меня сниматься в «Нашем сердце». Там была очень хорошая роль, я ее любил.
Я снимался у такого мариниста Брауна в фильме «Голубые дороги», где играли замечательные актеры: Романов и Кадочников. Я там играл матроса — такого непутевого оболтуса, который все на губу попадает. Замечательная роль, очень острая, и рисунок был.
Как-то на съемки, по-моему, фильма «Дни и ночи», пришел Эйзенштейн и хотел меня взять в «Ивана Грозного». Дважды меня великие кинорежиссеры хотели брать: это Довженко и Эйзенштейн. И я с Эйзенштейном раза два виделся, разговаривал. Это был очень своеобразный господин. Он пришел на съемки и долго сидел, и Столпер говорит: «Сергей Михалыч хотел вас куда-то брать». Но потом я с ансамблем куда-то исчез — и ничего не произошло.
У Довженко дважды я снимался. Один раз в «Прощай, Америка». А потом играл в «Мичурине» эпизод, но осталось там очень мало. И там я с ним подружился, несмотря на то что характер, конечно, у него был своеобразный, мягко говоря.
Рассказ о Довженко.
(Расшифровка магнитофонной записи 1964 года.)
Я не раз видел Александра Петровича Довженко в работе и мне хотелось бы вспомнить несколько случаев, когда он работал над фильмом «Мичурин».
Съемочная площадка на природе. У аппарата сидит седой человек, очень красивый, который безумно любит природу, который много посадил садов, красивых цветов, который очень любит цветы, сады и который даже считал, что самое полезное, что он сделал в жизни, — это то, что он посадил много садов, которые цветут и облагораживают душу человека.
Снимается фильм «Мичурин». Актер, играющий Мичурина, стоит в кадре. Снимается сцена «приезд американцев», корреспондентов американских, таких беспардонных людей, которые приехали за сенсацией к Мичурину. Снимается эпизод, что Мичурин показывает выведенный им интересный сорт какого-то ореха, которого нигде в мире нет.
Александр Петрович подходит и говорит:
— Тихо кругом! Тихо! Тихо кругом! Я попрошу, группа вся ко мне, полное внимание и тишины творческой настоящей. Григорий Акимбыч, знаете, я попрошу вас так. Вы, значит, берете этот орех, который вы вывели с таким трудом, большим творческим трудом, берете его и показываете этим американцам и говорите им: «Орех». Попрошу вот этот кадр, вот это слово так сказать — раздельно и точно, точно. Чтоб был неумолимый человек, такой, который ни на что, ни на какие компромиссы не идет! Попрошу повторить.
— Хорошо, Александр Петрович, значит, беру. Орех.
— М-да. Тихо, тихо кругом! Григорий Акимбыч, я попрошу еще раз, у вас это было, я бы сказал, насредине, понимаете, насредине пути между тем, что нужно, и между тем, что не нужно. Так. Значит, вы берете орех, я повторяю — попрошу вас сосредоточиться — берете и говорите: «ОРЕХ». Тихо кругом, тихо! Да. Пожалуйста, Григорий Акимбыч, простите меня, что я так резко. Давайте. Так, тихо, спокойно все. Давайте. Прошу вас. Прошу вас. Давайте.
— Э-э… Орех.
— Тихо! Тихо кругом! Григорий Акимбыч, я попрошу вас прочистить ушки. Да. Прошу вас собраться и сказать мне так: «Орех. Оре-ех». Тихо! Прошу повторить. Тихо кругом! Юлия Ипполитовна, вы со своими ассистентами мне все время ту-ту-ту-ту-ту… в мозги мне гвозди вбиваете своими глупостями, которые вы все время говорите и раздражаете меня пре-дель-но! Тихо! Тихо кругом! Отойдите в сторонку и там балакайте. Тихо! Прошу абсолютной тишины — торжественный момент творчества наступает и не может никак наступить, благодаря бедламу! Тихо! Тихо крутом! Тихо! Прошу прощения, Григорий Акимбыч, это такие свои неприятности. Вот прошу вас начинать.
— Эх… Орех.
— Перерыв. Актер в тупике.
(Входят костюмеры.)
— Александр Петрович, мы хотели вам показать новый костюм Мичурина вот для этой сцены. Будьте добры, посмотрите, пожалуйста. Мы все сделали так, как было в эскизе у художника. По-моему, все нормально.
— Хорошо. Так. Попросите ко мне актера. Да, Григорий Акимбыч, здравствуйте. Здравствуйте. Как почивали? Хорошо. Очень приятно. Я попрошу вас так, чтоб вас это не затруднило, пройдитесь немножечко туда. Не обижайтесь, что я смотрю на вас, как на лошадь, но это необходимо для точности искусства. Попрошу вас. Так. Так. Хорошо. Художников по костюму ко мне сюда быстро! Я хотел бы вас спросить, художник, он, значится, должен прежде всего быть наблюдательным человеком, я так полагаю. Я попрошу вас сказать, как вы находите этот костюм? Да-да-да. Вглядитесь вн-нимательнее. Не спешите, не спешите отвечать. Не спешите. Спокойно посмотрите и скажите ваше мнение. Готов ли актер к съемке в этом костюме? Прошу вас.
— Александр Петрович, согласно эскизу, все здесь намечено так, как в эскизе.
— Нет, я попрошу вас ответить, готов ли актер к съемке или не готов?
— Так вот я смотрю, согласно эскизу…
— Не «согласно эскизу», а на ваш художественный взгляд — готов он к съемке или нет? Прошу ответить.
— Готов.
— Тихо кругом! Слепцы! Слепцы вы! Обжить костюм немедленно, это же он в новой вещи, совершенно не органично сидящей на человеке! Тем более на Мичурине, который копается все время у себя в саду, годы целые копает. Обжить костюм быстро!
Тут подбегает группа ассистентов, стаскивает с актера костюм, начинает его обживать — мять ногами, грязнить, валять в тертом кирпиче — всячески, значит, приводить его в обжитое состояние. Минут через десять снова надевают на актера костюм, подводят актера к Александру Петровичу.
— Вот, Александр Петрович, все сделали как вы просили.
— М-да. Да. Тихо кругом! Юлия Ипполитовна, опять вы говорите все время со своими ассистентами и все время мне это как-то отражается на моей деятельности мозговой! Постановщика сюда ко мне быстро!! Поставьте вот здесь за мной щит повыше. А вы отойдите все за щит туда и там стойте и там балакайте своими разговорами и там ту-ту-ту-ту! Мебельщиками вам работать, гвозди забивать все время, понимаете. Тихо кругом! Прошу прощения, Григорий Акимбыч, бывает, это все так, знаете. Так. Прошу повернуться. Так. Ну что же, испортили вещь. Испортили. Все. Перерыв!
Александр Петрович разговаривает со своей дирекцией по картине на съемочной площадке. Стоит директор, его заместитель и Довженко.
— Александр Петрович, понимаете, какая штука, вы знаете, сегодня тридцатое, так с казать, конец месяца, ну это, конечно, неважно, но все-таки конец месяца и хотелось бы дать метраж некоторый. Тут это связано с выполнением плана, ну и в общем-то и премия, хотя это не очень важно, но все-таки, знаете, так. И как раз не хватает метров сорок нам. А тут у вас в сценарии, сейчас мы вам, вот как раз тут проходы Мичурина. Проходики Мичурина сорок пять метров. Вот бы нам сегодня их снять и все было бы в порядке. Как вы смотрите на это дело?
— Хм, так, так, так. Тихо кругом! Тихо! Это хорошо, что вы мне сказали. Да, сейчас я подумаю. Проходы Мичурина. Да, это необходимо сделать. Это будем делать так.
— Вот хорошо, Александр Петрович, значит, сегодня мы это дело так и фиксируем. Сегодня проходы Мичурина, да?
— Да. Тихо, не мешайте мне. Тихо, прошу тишины полной. Полной тишины. Будем снимать проходы Мичурина. Начнем так. Весна. Весна. Только что набухают почки, природа снова возвращается к жизни. И вот стоит этот молодой человек, тогда еще совсем молодой, неопытный. И вот он смотрит на эту распускающуюся природу и сам он тоже еще распускается, набирается полных сил, творческих сил. И он идет по этой природе, и он идет по весне, и расцветают цветы, лопаются почки, а он все идет, идет, гордый, неприступный человек, покоритель природы; идет, идет, идет. И потом уже, понимаете, так у нас будет лето, и уже листья кругом и сучья, все обросшие листьями, в полном соку жизни. И уже идет человек в зрелом возрасте. И он идет по летней природе, и все идет, идет с гордым лицом. И потом уже выведем так, из наплыва в наплыв — уже осень, желтеют листья. И уже седина серебрит его шевелюру. И он все идет, идет по этой природе. Потом уже начинаются голые ветки, черные голые ветки, как бы символизируя, что его жизнь исхлещет, а он все равно гордый и неприступный все идет по этим сучьям, расталкивая эти сучья. Они хлещут его по лицу, а он все идет, идет, идет, идет по природе. И потом мы уже видим седина, сучья в инее, все заиндевело, и он все идет, идет, идет, идет, гордый человек. Гордый человек идет, идет по природе. Вот так мы будем снимать полторы тыщи метров. И вот отберем для плана эти сорок пять. Вот. Так и будем поступать. И у нас будет выполнение плана. Все.
Он мог войти, вежливо постучав, к директору Мосфильма, во время какого-то заседания важного. На секунду все, значит, прерывают разговоры и так вопросительно на него смотрят.
— Я попрошу прощения за мое неожиданное вторжение. Разрешите, я посижу здесь с краешку так. Благодарю вас.
— Пожалуйста, Александр Петрович, пожалуйста.
— Спасибо.
Продолжаются разговоры о производстве, о том о сем. Значит, вроде заканчивается совещание, и директор обращается к Александру Петровичу:
— По какому вопросу вы пришли?
— Я прошу прощения, я хотел… Разрешите мне позвать моих художников по декорациям сюда.
— Пожалуйста.
Входят художники.
Я попрошу у вас полного внимания. Я вас просил сделать мне декорации, которые бы отображали полную бесхозяйственность и запущенность. Я вас просил, чтоб вы мне сделали такой кабинет и, знаете, такой потолок весь в таких подтеках, где ржавчина вся и капает так, капли, капли и разводы на потолке, как сифилитические язвы. И вы говорили, что вы это не понимаете. Так вот посмотрите на это заседание и вот на этот потолок. Вот теперь вы поняли, какой мне нужно кусочек сделать декорации, да. Прошу прощения за беспокойство. — Это он говорил этим заседающим. И уходил.
Вот что он позволял себе.
Или на съемках — директор картины суетится перед ним, а он ставит кадры. Он всегда долго ставил, потом говорит:
— Так-так, снимать будем вот тут — вот-вот… не отсюда, — и уходил на следующее место.
Потом директор что-то ему говорил:
— Надо план, план, Александр Петрович, ну немножечко снимите, метраж необходим, отчитаться надо.
Он говорил:
— Я прошу мне не морочить голову и не забивать гвозди мне в мозг, понимаете ли. И потом, помимо всего прочего, вы жулик. Вы провели вот этим несчастным людям, у которых вы арендовали на несколько дней съемок, водопровод, чтоб тек, вода мне была нужна, и потребовали с них огромные деньги, взятку они вам давали. Поэтому удалитесь отсюда, вы — жулик, вы обманываете честных тружеников. Так. Удаляйтесь, удаляйтесь.
Александр Петрович был человек чрезвычайно интересный. Ведь он посадил яблоневый сад знаменитый у Киевской киностудии. И когда его спрашивали:
— Что это, зачем, Александр Петрович, вы сад огромный сажаете?
— Я думаю, что это хотя бы немножечко облагородит души артистов, их цинизм сгладит.
Вот они будут ходить в эту студию, и когда они пройдут эти цветущие яблони, то, может быть, в их зачерствелых душах что-то дрогнет. Но думаю, что это идеализм мой глупый. Ничего у них не дрогнет.
* * *
«Мичурина» снимали под Москвой. Я тогда много снимался и все мотался взад-вперед. А чем я завоевал его расположение? Тем, наверное, что я приходил на съемку довольно подготовленный. Я играл американца, корреспондента какого-то, и говорил с акцентом. Я это сам сделал и поэтому в кадре я занимал меньше времени, чем другие, и он приводил в пример, что вот артист приходит, и он готов к съемке. «Мичурин» — это была небольшая роль, и потом картину без конца корежили: ее заставляли переснимать, переделывать.
Американскому акценту я у кого-то учился, как в свое время я учился у старой дамы француженки французскому акценту, когда играл в «Беспокойном хозяйстве».
«Беспокойное хозяйство» — французский летчик (с Л. Целиковской)
Эта роль осталась у многих в памяти. «Ромаши́шки, ромаши́шки, штучки», — я играл французского летчика. Это был большой успех. Особенно у дам.
И он до сих пор идет. Я помню, когда были наши успехи в космосе, шел все «Человек с планеты Земля», где Кольцов играл Циолковского, а я играл его друга — был такой фильм. Это роль большая и яркая. Друг Циолковского — такая гротескная фигура острохарактерная. Ты, Петр, даже можешь меня не узнать в гриме. Я считаю, эти роли были довольно удачные.
Потом в 1949 году я попал в «Робинзона Крузо». Меня взял режиссер Андриевский. Это был первый в мире стереофильм, который снимался года два, по-моему. Вот там я познал очень хорошо грузин, потому что мы снимали на Тбилисской студии, потом снимали в Сухуми, в Батуми.
Это было в Сухуми. Я замерз — там было ноль градусов, а я голый… Ну, и через пять часов я замерз как собака. А пришел кто-то из местных начальников и говорит: «Давай план, вторую смену. Чтоб перевыполнить, получить деньги, чтоб группа хорошо жила. Ты можешь это понять? Ты не знаешь наших обычаев, русский!» И я от отчаяния пульнул матом: «Идите вы к такой-то матери со своими…» — и они бросились меня убивать. Только кол спас. В пещере я вытащил кол и начал колом отбиваться. И вскочил на лошадь, и уехал в баню, потому что я намазанный весь, черный. Там линейка такая стояла, знаете, линейки раньше были, по горам туристов возили. Он не мог снести, что я его париком Пятницы отхлестал, потом говорил: «Ты меня унизил на весь Сухуми. Все говорят: „Вот этот тот Чичинадзе, которому этот париком Пятницы по физиономии давал“. Пожалуйста, оскорбил бы меня как угодно, но париком Пятницы — это не могу простить!» А я не стал бы, я не драчун был, я отбивался просто.
Но меня этот фильм тогда здорово подкормил.
И там, я помню, был случай, когда мы шли на съемки, и газеты были полны сообщений, что Сталин произнес тост за великий русский народ, который выиграл войну. Какая-то горечь была для грузин в том, что он выступил с панегириками в адрес русского народа, что русский народ «первый среди равных» — но все-таки первый. И тогда я и говорю грузинам, которые шли со мной рядом, я говорю:
— Ну вот теперь вы поняли наконец, кто тут самый главный?
И второй случай «политический» был: у нас с Кадочниковым был концерт в клубе в Батуми. И я бегу на концерт, опаздываю, и наш оператор мне с балкона кричит:
— Вы газету смотрели сегодняшнюю?
Я говорю:
— Да нет, когда я успел, мы с шести утра… — и бегом. Он мне кидает. Я схватил эту газету и бегу. Прибежал, там полно зрителей, Павел что-то начал, он знаменитый артист, а у меня были подготовлены только два рассказа Зощенко. И пока он вышел, рассказывает о своих киноподвигах, я сижу повторяю мысленно текст Зощенко. Разворачиваю газету — и там постановление об Ахматовой и Зощенко, а у меня в репертуаре больше ничего нет. И я думаю, чего же мне делать, потому что я как-то стеснялся трепаться о своей деятельности на этих халтурных выступлениях. И что делать? Но даже тогда — видите, сидит во мне глубоко озорство, я долго, минут пять соображал: «А может, мне выйти и сделать вид, что я ничего не знаю и прочесть Зощенко». Но подошел ведущий и говорит:
— Вы что будете читать?
— Я буду читать Зощенко.
Он на меня посмотрел так странно и куда-то убежал. Тут прибежал директор и говорит:
— А вы что будете, товарищ Любимов, читать?
Я говорю:
— Зощенко.
Он говорит:
— Вы что, не понимаете?
Я говорю:
— А что я должен понимать? У меня нет ничего другого.
Он говорит:
— Одну минутку.
Это было в Доме офицеров. Короче говоря, пришел еще кто-то и сказал:
— Вы знаете, у нас нет к вам никаких претензий, пожалуйста, не читайте. Мы вам заплатим, только не читайте.
И я с удовольствием отбыл. Выскочил Пашка на секунду попить воды и говорит:
— Ну брось ты! Конечно, Зощенко не надо, но ты расскажешь что-нибудь, какие-нибудь стихи прочти — ну что тебе стоит?
Это сейчас смешно, а ведь это был сигнал к разгрому. За этим вскоре последовала трагическая смерть бедного сатирика.
А читал я «Приключилась с Петькой Ящиковым „пшенная болезнь“, когда его глазной врач попросил носки снять, а он никак этого не ожидал, потому что у него ячмень был. Он говорит: „Зачем же мне ботинки снимать, когда у меня глаз болит?“» Вот этот и еще какой-то — забыл, это было так давно.
И потом запомнился еще случай, когда они арендовали цирк, уже была зима, и шел снежок, который, конечно, таял. А Павел страдал ангиной сильно, и мы решили закаляться. Но я-то всегда закалялся, и я ему сказал, что «ты докторов не слушай, а вот давай каждый день купаться», — а уже никто не купался в Батуми, холодно было. И вот мы такую игру с ним придумали: спокойно входить в море, кто первый дрогнет, не спеша, делать вид, что совершенно не холодно. И потом, кто дальше заплывет. А там не очень резко берег шел, а нужно было идти метров тридцать, а вода была 12–13 и даже, по-моему, поменьше.
Потом каких-то еще бедных чирков ловили — птичек этих диких, разновидность уток. Помню, пару наловили, Павел их потрошил, жена у него варила их, жарила — с едой плохо было.
Я часто просил режиссеров, предположим, Столпера снять несколько дублей как я хочу. В чем это выражалось? Ну, например, он меня просит: вот сцена — встреча двух летчиков. Там три летчика: Дружников, Кузнецов и я — мы играли этих трех летчиков. И он мне ставит кадр, и я говорю:
— Я не могу сыграть то, что ты просишь.
— Почему?
— Потому что невозможно на этом плане сыграть то, что ты говоришь.
— Ну, а что ты предлагаешь?
— Ну, сделай один дубль, как я тебя прошу. — И он делал, и этот дубль входил в картину. И так было несколько раз.
И отсюда я понимал, что все-таки у меня сильное видение результата, как должно быть в итоге. И таких у меня случаев было много. И в моих спорах с режиссурой я всегда говорил о том, что это не так надо выразить, как они требуют, что я не могу это сыграть как актер, потому что не та мизансцена, тут другие выразительные средства нужны. То, что вы требуете, это невозможно сыграть, это в программке надо писать, что с ним происходит то-то, то-то, а выразить это невозможно. И конечно, я был бедствие для режиссеров. Я понимаю, так нельзя. Но я все-таки довольно воспитанный, я считаю, человек. Во всяком случае, стараюсь быть более-менее приличным. И делал я это от чистого сердца, а не потому что я хотел досаждать. Но, видимо, опять характер сказывается. Я помню, один режиссер, покойный ныне, Раппопорт, милейший и умный господин, сказал на худсовете в Театре Вахтангова — он ставил «Много шуму…», где я играл потом Бенедикта и Клавдио — две роли, и он ко мне очень хорошо относился, но мы ставили какую-то белиберду какого-то польского великого, казалось бы, драматурга. Но он главным образом велик был тем, что был председателем союза писателей к тому времени — я забыл фамилию. И там про нашествие немцев новеллы были. И когда вывели немцы довольно плотного сложения артистку с веревкой на шее на сцену, а я изображал фашиста — то я рассмеялся. Все обиделись очень.
Он говорит:
— Что вы смеетесь, Юра, это неприлично.
А я тихонько ему говорю:
— Ради Бога извините, но неужели вы хотите после такой войны вывести на веревке даму довольно плотного сложения, особенно в нижней части тела, и вызвать сочувствие к несчастному ребенку — мне это смешно, потому что я кое-что в этих делах понимаю.
И он очень обиделся и как-то на худсовете сказал, что «видимо, Юрий Петрович понял изречение Владимира Ивановича Немирович-Данченко буквально! Что режиссер должен умереть в актере». Я помню этот худсовет, я был членом художественного совета же очень долгие годы и только потом, после случая с Поликарповым, я был удален со всех должностей. Также как потом после моего «неудачного» выступления в ВТО я был снят с председателей молодежной секции… Бедный Черкасов покойный, всеми силами старался за меня заступаться — он был милейший человек. Он острил всегда так, своим голосом странным: «Каждый кузнец своего счастья. Надо ковать, ковать, работай и куй, получишь… то, что нужно», — он остряк был. И многим старался помочь. Сергей Михайлович Эйзенштейн рассказывал, как его Черкасов привел просить прощения у Сталина… Сергей Михайлович рассказывал, что «я не могу понять, что со мной произошло; когда мы вошли в приемный зал, он смотрел в кремлевское окно вдумчиво, глубоко на заходящее солнце — такие отблески красные, кровавые, трубка — все в лучших традициях величия римских цезарей».
А Черкасов сказал Сергею Михайловичу:
— Вы только молчите. Рассказывать буду все я, а вы только делайте физиономию соответствующую и поддакивайте так, молча.
— Ну и вот, — говорит Эйзенштейн, — мы входим, никакого внимания он не обращает, — это был один из его приемов, — долго мы стояли, потом вдруг так невзначай взглянул на нас, оторвавшись от кремлевского окна и французской шторы в лучах заходящего солнца, и, что со мной произошло, — Эйзенштейн говорит, — я не знаю, я вдруг сделал земной поклон, — а он довольно тучный человек, — то есть до земли поклонился, и рукой коснулся земли, такой традиционно русский поклон земной. Не понимаю, почему, это же без умысла я сделал, но ведь сделал.
Черкасов буркнул:
— Правильно.
А у того не шелохнулась бровь.
Вот, видимо, это и вызывало восторг у определенной части коммунистов — вождь настоящий. Цезарь, Нерон, Калигула, так же как Калигула, изрыт оспой. Так что у Пастернака не случайно, помните, в начале «Доктора Живаго»: «У древних истории не было, а были только оспой изрытые калигулы и торжество бронзовых памятников», — так что Пастернак, видимо, не случайно это написал.
Я бы хотел поставить «Калигулу». Пьеса хорошая. И Владимир хотел играть. Она потому и классика, что она звучит. Ведь есть классические пьесы, которые как бы в данный исторический отрезок времени уходят в тень, а потом опять появляются на солнышке. Я, как Свидригайлов, который говорит: «Я мало лгу». Володя Высоцкий очень хорошо играл эту роль, замечательно. Потому что сам писал хорошие стихи, и чувствовал слово, а Достоевский, хотя у него часто бывает скоропись, у Достоевского, но все равно в этом неудержимом фонтане темпераментном есть поразительные прозрения, словесные сочетания замечательные. Отсюда и юмор такой своеобразнейший, как в «Бесах». Ведь там же читаешь и смеешься. Вслух я перенизывал, особенно когда делал инсценировку. Катя, жена, говорит: «Что вы смеетесь?» — потому что ситуация не до смеху, а я все вчитываюсь в роман и действительно смеюсь. Особенно мне приятно было, что у Достоевского это есть: «Чем больше я пишу, тем мне все становится смешней и смешней», — на Петьку Верховенского. А уж Федор Михайлович знал толк в этих делах, сам прошел через них.
* * *
«Каин XVIII». Был замечательный сценарий написан Николаем Робертовичем Эрдманом. Когда умер блистательный оператор Москвин, который снимал с Эйзенштейном вторую серию «Ивана Грозного», у его жены, Надежды Кошеверовой, остались три листочка какие-то от Шварца — «Каин XVIII». Там написано, по-моему, «Эрдман — Шварц». Я не знаю, как в титульном листе сценария это значится, но фактически Николай Робертович это делал сам, потому что он обещал Москвину как-то помогать жене его — они дружили. И когда я стал сниматься, то увидел, что они портят сценарий то ли со страху, то ли по недостатку дарования: Кошеверова со вторым режиссером Шапиро — вдвоем они снимали. И когда я приезжал из Ленинграда и встречался с Николаем Робертовичем, я ему говорил:
— Николай Робертович, приезжайте в Ленинград, помогите.
Он мне стоически всегда отвечал:
— Юра, но я же не могу Наде прибавить таланта. Я все написал. И она часто говорит со мной, я ей все объясняю.
— Но они на площадке не то делают.
Короче говоря, я его уговорил, и он приехал. Не знаю уж, как он там себя вел, что он им говорил, но он несколько раз приходил на съемки. Я там несколько дней жил с Гариным в одном номере — и он мне много рассказывал о Мейерхольде, Эраст Павлович. И Николай Робертович рассказывал часто. Например, Николай Робертович всегда утешал мою бывшую жену Целиковскую и говорил, что «вы зря на него сердитесь, Люся, что он все время проводит в театре и что он там часто стоит сзади и смотрит, как идет спектакль. И Мейерхольд также, бедный, все стоял и потом говорил: „Вот не посмотришь раза три и во что они превращают — артисты — спектакль“. Так что зря вы на него сердитесь. Постоит, глядишь, и стоиком станет.» — он же был каламбурист.
С Эрастом Гариным в «Каине XVIII»
В «Каине XVIII» было такое созвездие блистательных артистов, что нужно было в оба смотреть, потому что все растащат в кадре сразу: кто кого переиграет. И я считаю, что я экзамен выдержал.
* * *
Я не жалею, что снялся на телевидении в «Мольере». Это Эфрос пригласил. Это был, с моей стороны, еще и эксперимент: артисты стали на меня нападать, что я их стремительно гоню к результату, то есть к спектаклю. Это звучит очень странно, для западных это просто непонятно: вроде это само собой и разумеется, когда на репетиции восемь недель дают. На Западе трудно получить больше восьми недель.
Там канон: опера — шесть недель, драма — шесть-восемь — все. И поэтому, когда Эфрос предложил, я согласился. Я был очень занят — как всегда чего-то репетировал и поэтому снимался только с четырех, после репетиции — я всегда репетировал с десяти до трех каждый день, не считая вечерних репетиций. Но тут я пошел на это, потому что, думаю, может, действительно я забыл, как я был артистом, и слишком много требую — и я решил снова влезть в шкуру артиста. Ну влез, сыграл, и я остался при прежних убеждениях, и режима не смягчил.
Я снимался с четырех до семи там. Во всяком случае, к себе в театр на второй акт я всегда успевал. Но каждый день я не мог выстаивать, у меня терпения бы не хватило на свое искусство любоваться каждый вечер. Но, к сожалению, приходилось много стоять. И если я не смотрел спектакль, предположим, месяц, а ведь репертуар, который шел, был огромный, и была проблема, чтоб хоть раз в месяц шел спектакль, иначе трудно артистам играть. Суфлера у нас нет все тридцать лет, к счастью, как и гримов. Ну кое-какие гримы… дамы, к сожалению, как не усмотришь, обязательно намажутся, чтоб быть, как по простонародному выражаются, покрасивше — ужас. Я помню, сколько раз к той же Славиной подойдешь, скажешь: «Что ты там делаешь? А ну сейчас же иди разгримируйся, вымой лицо». То есть демократии в театре не может быть никакой.
Стыдно плохо играть.
Мы
С «Доброго человека…» все было не положено
Когда студенты спели «Зонг о баранах»:
Шагают бараны в ряд, Бьют барабаны,и второй зонг особенно:
Власти ходят по дороге… Труп какой-то на дороге. «Э! Да это ведь народ!»— эти два зонга я смонтировал, у Брехта они разные. Публика стала топать ногами и орать: «Пов-то-рить! Пов-то-рить! Пов-то-рить!» — и так минут пять, я думал, училище развалится.
Я перепугал всех и первым я перепугал Юзовского — он был одним из переводчиков «Доброго человека…». В свое время он был проработан сильно — как космополит выгнан с работы… И очень образно об этом рассказывал: «Первым умер телефон», — никто не звонил.
И тут он так испугался, что прижал меня в угол, весь бледный, трясется: «Вы ничего не понимаете, вы безумный человек, вы знаете, что с вами сделают — вы даже не представляете! Если вы не уберете эти зонги, то хоть снимите мое имя с афиши, чтобы не было видно, что это мой перевод!..» На меня это произвело очень сильное впечатление: человек старше меня, очень уважаемый — и такой страх. Так же был напуган властями и Шостакович — смертельно их боялся.
А Захава был просто предельно расстроен. Он испугался, что это антисоветчина, что сейчас закроют училище. И ему не понравилось… Хотя странно. Ведь до этого кафедре я показал отрывок на сорок минут, и кафедра хлопала, что бывает не так часто. Значит, что-то они почувствовали. Но когда я показал все, то реакция была — закрыть спектакль.
* * *
Потом начались проработки внутри училища и решили: «закрыть спектакль как антинародный, формалистический» — за подписью Захавы. Но, слава Богу, появилась хорошая рецензия в «Неделе» — и я ждал, когда она выйдет. Захава позвонил в газету и сказал, что училище этот спектакль не принимает и что рецензию надо убрать. Но он позвонил поздно, уже печать шла. А в это время началось долгое заседание по проработке, меня вызвали.
Но меня предупредили, что идет уже печать, и сказали:
— Ты можешь потянуть время?
Я говорю:
— Как я могу потянуть?
— Ну, пока печатают. Подольше там разбирайте все это дело.
По-моему, там работала Нателла Лордкипанидзе.
Потом был перерыв покурить, и мне принесли номер газеты горяченький. И, когда началось заседание, я стал читать. Меня одернули: «вас прорабатывают, а вы что-то читаете».
— Извините, — и пустил «Неделю» по рукам прорабатывающих. Тогда опять стали говорить:
— Теперь вы читаете, надо же прорабатывать, а не читать.
Короче говоря, газета пришла к Захаве, по кругу. Он говорит:
— Что вы там все читаете? Что там?
И кто-то говорит:
— Да вот тут его хвалят, говорят, что это интересно, замечательно. Получается, что мы не правы в проработке…
Это была комната, где собиралось партийное бюро в училище, класс какой-то. Там присутствовало человек пятнадцать-двадцать. Но они, бедные, пришли потому, что им нельзя было отказываться. Даже кто-то из театра был. Там были высшие чины: и Толчанов, и Захава, и Цецилия (Мансурова). Захава был против, Толчанов поддержал Захаву:
— Мы это проходили.
А я сказал:
— Вот именно! Вы и прошли мимо, поэтому и застряли в болоте своего реализма.
Да это никакой не реализм, а просто мартышкин труд.
Ведь получилось так, что спектакль был показан на публике, как это принято, а Москва есть Москва — откуда узнали, непонятно, но, как всегда бывает, — не удержишь. Сломали двери, сидели на полу. Набилось в этот небольшой зал в Щукинском училище в два раза больше людей, чем было мест, и боялись, что училище рухнет.
Я помню, первый раз я поразился, когда они нас всех созвали — еще был Рубен Николаевич, — чтобы закрывать «Современник». И все «Голого короля» разбирали: кто голый король, а кто премьер — это при Хрущеве было. И до того доразбирались, что закрыли заседание, потому что не могли понять — если Хрущев голый король, то кто же тогда премьер-министр? Значит, Брежнев?…
Ассоциативная галиматья довела их до того, что они испугались и прикрыли это заседание, судилище «Современника». Но хотели они закрывать театр нашими руками, чтобы мы осудили.
Б. Захава — учитель
И у меня было то же самое — первая-то проработка была на кафедре. Мои коллеги не хотели выпускать «Доброго человека…» и не хотели засчитывать это студентам как дипломный спектакль. И только потом появилась пресса благоприятная, и на спектакль позвали рабочих заводов «Станколит», «Борец», интеллигенцию, ученых, музыкантов — и они меня очень под держали. Рассчитывали именно руками рабочих меня задушить, а им понравился «Добрый человек…», там много было песен-зонгов, ребята очень хорошо их исполняли, рабочие хлопали и поздравляли тех, кто хотел закрыть спектакль, говорили: «Спасибо, очень хороший спектакль!» — и те как-то сникли. А в это время появилась в «Правде» хорошая заметка Константина Симонова.
Вот. Ну и отбивался я очень сильно. Так что у кого какая судьба. А у меня судьба такая: все время я отбивался.
И все-таки я считаю, что тогда Брехт по-настоящему до конца не был сделан, потому что студенты не осознавали, то есть просто делали как я сказал. Ведь этот спектакль вколачивался мной костылем, потому что у меня были порваны связки. И потом, были бандиты у меня на курсе, в буквальном смысле, которые на меня доносы писали — уж если говорить правду — что я их обучаю не по системе Станиславского. Потому что я ритм вколачивал костылем — я порвал связки и ходил с ним.
Строили новый Арбат. Меня толкнул самосвал, и я скатился в рытвину и порвал себе связки на ноге. И поэтому ходил на костылях, чтоб дорепетировать. И каждый раз думал: «Да пошли они… плюну, и не буду больше в это Училище поганое ходить!» Вот правда. Вот это правда. Остальное все приукрашено сильно.
До этого я как педагог ставил маленькие отрывки с разными студентами. С Андреем Мироновым я ставил «Швейка» — Лукаша-поручика, где он пьяный, его со Швейком дебаты. У меня и тогда была теория: нужно обязательно сделать отрывок студенту — минут пятнадцать — чтобы он мог показываться, чтобы его приняли на работу. Поэтому надо делать весело и интересно.
И это было легендой училища — его приняли во все театры с этим отрывком, кроме Вахтанговского. Я даже удивился, Рубену Николаевичу говорю:
— Почему же, Рубен Николаевич, вы его не приняли? — но он как-то так уклончиво ответил.
Так же как я делал отрывок из Чехова с Волковым, с Охлупиным — знаменитые теперь артисты. Почему я помню, потому что и тут меня тоже стали прорабатывать на кафедре, что Чехова так нельзя ставить. Я ставил рассказ о докторе, который приезжает к больному — одни капризы видит, — а у него дома умирает ребенок.
Я там даже один акт «Дней Турбиных» делал. Я сделал отрывка два-три из «Страха и смятения…». После «Доброго человека…» я больше не преподавал.
* * *
Я прочел в журнале перевод Юзовского и Ионовой. И мне это показалось очень интересным, трудным и странным, потому что мало знал о Брехте. Просто мало знал.
Потом я, конечно, стал читать, я же много ставил его. Получилось, что я поставил «Доброго человека…», «Галилея», «Турандот, или Конгресс обелителей», «Трехгрошовую…» — четыре вещи.
Для Москвы это была необычная драматургия. Брехт ставился очень мало, и Москва плохо знала его. Я не видел «Берлинер ансамбля» и был совершенно свободен от влияния. Значит, делал его интуитивно, свободно, без давления традиций Брехта. Я почитал, конечно, о нем, его произведения, его всякие наставления. Но все равно, хорошо, что я не видел ни одного спектакля. Я видел потом и «Артуро Уи», и «Галилея», и «Кориолана», «Мать» по-брехтовски, потом, «Покупка меди» — это такой дискуссионный спектакль. Очень интересно. Я даже хотел это ставить.
И потому что я не видел ничего Брехта, я был чист и получился такой русский вариант Брехта. Спектакль был таким, как мне подсказывала моя интуиция и мое чутье. Я был свободен, я никому не подражал. Я считаю, что все-таки я им принес новую драматургию в училище: я имею в виду Брехта. Потому что мне казалось, что само построение брехтовской драматургии, принципы его театра — безусловно театра политического, как-то заставят студентов больше увидеть окружающий мир и найти себя в нем, и найти свое отношение к тому, что они видят. Потому что без этого нельзя сыграть Брехта. Потом, я все-таки сумел поломать канон в том смысле, что обычно диплом сдается на четвертом курсе, а я убедил разрешить моим студентам сдать диплом на третьем курсе. Это было очень трудно сделать, мне понадобилось убедить кафедру. Они разрешили мне показать фрагмент на тридцать-сорок минут, и если их этот фрагмент удовлетворит, то они разрешат мне сделать диплом.
А сейчас это совершенно спокойно дают даже моим ученикам, уже Сабинин ставит один за одним дипломные спектакли, и все они профессора, доценты. А я был каким-то рядовым педагогом, получал рубль в час. Обучать в шоферы брали — я думал даже зарабатывать, обучая, — три рубля в час. И когда мне предложили Таганку после этого «Доброго…», то я так с улыбкой говорил: «Да ведь в общем-то вы мне предлагаете триста рублей, а я шутя зарабатываю и в кино, и на телевидении, и на радио рублей шестьсот, а вы так говорите: вот вам зарплата будет триста рублей», — сразу я в конфликт вошел с начальством. Я же им представил тринадцать пунктов перестройки старого театра.
* * *
Москва — удивительный город — там все все узнают по слухам. Разнесся слух, что готовится какой-то интересный спектакль. А так как всем скучно, и дипломатам тоже, раз что-то интересное, значит, будет скандал. Как говорил покойный мой друг Эрдман, что «если вокруг театра нет скандала, то это не театр». Значит, в этом смысле он был пророком в отношении меня. Так и было. Ну и скучно, и все хотят приехать, посмотреть, и знают, что если это интересно, то это закроют. Поэтому спектакль долго не могли начать, публика ворвалась в зал. Эти дипломаты сели на пол в проходе, вбежал пожарник, бледный директор, ректор училища, сказал, что «он не разрешит, потому что зал может обвалиться». В зале, где мест на двести сорок человек, сидит около четырехсот — в общем, был полный скандал. Я стоял с фонарем — там очень плохая была электрика, и я сам стоял и водил фонарем. В нужных местах высвечивал портрет Брехта. И я этим фонарем все водил и кричал:
— Ради Бога, дайте продолжить спектакль, что вы делаете, ведь закроют спектакль, никто его не увидит! Чего вы топаете, неужели вы не понимаете, где вы живете, идиоты!
И все-таки я их утихомирил. Но, конечно, все записали и донесли. Ну, и закрыли после этого.
И дальше была длительная борьба. Кафедра решила, что спектакль нужно доработать, переделать. Кафедра, а не чиновники. Что так его выпускать нельзя.
Они спасали честь мундира. Кончилось это плачевно, потому что пришел ректор Захава и стал исправлять спектакль. Студенты его не слушали. Тогда он вызвал меня. У меня было там условное дерево из планок. Он сказал:
— С таким деревом спектакль не пойдет. Если вы не сделаете дерево более реалистичным, я допустить это не могу.
Я говорю:
— Я прошу мне подсказать, как это сделать.
Он говорит:
— Ну, хотя бы вот эти планки, ствол заклейте картонкой. Денег у нас нет, я понимаю. Нарисуйте кору дерева.
— А можно я пущу по стволу муравьев?
Он взбесился и говорит:
— Уйдите из моего кабинета.
Так я и воевал. Но молодые студенты меня все-таки слушались. Ну, ходили некоторые на меня жаловаться, на кафедру, что я разрушаю традиции русского реализма и так далее, и так далее.
Мне было это интересно, потому что я ставил для себя все время новые задачи. Мне казалось, что иногда Брехт чересчур назидателен и скучен. Предположим, сцена фабрики мной поставлена почти что пантомимически. Там минимум текста. А у Брехта это огромная текстовая сцена. Я немножко перемонтировал пьесу, сильно сократил. Сделал один зонг на текст Цветаевой, любовные ее стихи:
Вчера еще в глаза глядел, Равнял с китайскою державою, В раз обе рученьки разжал, Жизнь выпала копейкой ржавою…А остальные были все брехтовские, хотя я взял несколько других зонгов, не к этой пьесе.
Декораций почти что не было, они потом остались те же, я взял их из училища в театр, когда образовалась Таганка. Там были два стола, за которыми учились студенты, — из аудитории — денег не было, декорации делали мы сами: я вместе со студентами.
Но был все-таки портрет Брехта справа — очень удачно художник Борис Бланк нарисовал. И сам он похож очень на Брехта — прямо как будто они близнецы с Брехтом. Потом, когда портрет стал старым, он пытался несколько раз переписать его, но все время выходило плохо. И мы все время сохраняли этот портрет: его зашивали, штопали, подкрашивали. И так он жил все 30 лет. Все новые, которые Бланк пытался делать, не получались — судьба.
* * *
Я занимался очень много пластикой, ритмом, а студентам казалось, что это идет в ущерб психологической школе Станиславского. К сожалению, система Станиславского в школьных программах очень сужалась, он сам был гораздо шире, и сведение системы только к психологической школе очень обедняет ремесло, снижает уровень мастерства.
Открывая для себя драматургию Брехта, я искал и новые приемы работы со студентами — я поставил дипломный спектакль на третьем курсе, чтоб они могли еще целый год встречаться со зрителем и играть. И они фактически весь этот год учились разговаривать с публикой. Потому что Брехт без диалога со зрителем, по-моему, невозможен. Это, в общем, помогло во многом развитию всего театра, потому что тогда это были новые приемы для школы и для студентов.
Новая форма пластики, умение вести диалог со зрительным залом, умение выходить к зрителю… Полное отсутствие четвертой стены. Но тут ничего особенно нового. Теперь каждый по-своему понимает знаменитый брехтовский эффект отчуждения. О нем целые тома написаны. Когда ты как бы со стороны… Вне характера.
У Дидро в «Парадоксе об актере» в каком-то смысле та же идея, но только у Брехта она еще оснащена очень сильно политической окраской, позицией художника в обществе. «Парадокс об актере» сводится к двойственному, что ли, пребыванию, двойственным ощущениям актера, его раздвоенности на сцене. А у Брехта еще есть момент, когда ему очень важна позиция актера вне образа, как гражданина, его отношение к действительности, к миру. И он находит возможным, чтоб актер в это время как бы выходил из образа и оставлял его в стороне.
Господи, как только начнешь вспоминать, так сразу идет целая цепь ассоциаций. С книгой «Парадокс об актере» умер Борис Васильич Щукин — мой учитель. Когда сын утром вошел к нему, он лежал мертвый с открытой книгой Дидро. Еще мне в связи с этим вспомнилась книга, которую я читал молодым человеком: «Актриса» — братьев Гонкур. Там есть очень хорошее наблюдение: когда она стоит перед умершим близким, любимым ею человеком, она испытывает глубокое горе, и в то же время она ловит себя на страшной мысли: «Запоминай, вот как на сцене надо играть такие вещи». Это очень интересное наблюдение. Я начинал учиться на актера и потом сам часто ловил себя на подобном же.
Работая со студентами, я всегда много показывал, всегда искал выразительность мизансценическую. И разрабатывал точно рисунок: и психологический, и внешний. Очень следил за выразительностью тела. И все время учил их не бояться идти от внешнего к внутреннему. И часто верная мизансцена им потом давала верную внутреннюю жизнь. Хотя, конечно, тенденция у них была сделать наоборот: идти от внутреннего к внешнему? Это главная заповедь школы: почувствовать, ощутить внутри жизнь человеческого духа. Но и я считаю, что главное — это жизнь человеческого духа, только надо найти форму театральную, чтоб эта жизнь человеческого духа могла свободно проявляться и иметь безукоризненную форму выражения. А иначе это актера превращает в дилетанта. Он не может выразить свои чувства, у него не хватает средств: ни дикции, ни голоса, ни пластики, ни ощущения себя в пространстве. Я считаю, что и сейчас очень плохо учат актера понимать замысел режиссера. Все основные конфликты между актером и режиссером происходят оттого, что актера мало интересует весь замысел. Но и режиссер обязан сделать общую экспликацию своего замысла. И мы знаем блестящие экспликации Мейерхольда, Станиславского, Вахтангова.
Может, я дохожу до парадокса, но я считаю, что любой знаменитый спектакль в истории театра можно очень точно описать, как он сделан, как решен: светово, сценографически, пластически. Я могу вам рассказать какие-то спектакли, которые произвели на меня сильное впечатление. Я помню все мизансцены, я помню трактовку ролей, пластику того же Оливье в «Отелло». Так же как мы все помним пластику Чаплина, его тросточку, котелок, походку.
Были конкурсы Чаплина, где сам Чаплин занял восьмое место.
То есть я люблю такой театр. И поэтому я и дохожу, что ли, до предела, когда говорю, что я не вижу особенной разницы в работе балетмейстера и в работе режиссера. Только хореографа хорошего слушают, а драматические артисты без конца дискуссии ведут с режиссером. Это, что ли, модно, — не понимаю. Они беспрекословно отдают себя в руки в телевидении, на радио, в кинематографе. Но вот где они могут, наконец, отвести душу, спорить, дискуссировать, все время говорить о коллективном творчестве и так далее — это в театре. Значит, берут реванш. Это как в замечательном фильме «Репетиция оркестра» Феллини, все время идет борьба между дирижером и оркестром. Оркестр все время провоцирует дирижера, испытывает его крепость, а дирижер ищет и старается поставить на место оркестр, испытывая уровень оркестра. Это такой взаимный экзамен друг друга. Так и происходит при встрече актера и режиссера всегда — такой идет happening, игра. Но до определенного предела. Потому что кто-то должен взять палочку дирижера и начать дирижировать.
* * *
«Добрый человек..» имел резонанс огромный. И потянулись все. Приходили поэты, писатели. Мы же умудрились сыграть «Доброго человека…», несмотря на запрет кафедры, и в Доме кино, в Доме писателей, у физиков в Дубне. В Театре Вахтангова пять раз сыграли. Нам разрешили, потому что спектакль шел с таким успехом, к тому же мой однокашник и старый друг по училищу, даже еще по Второму МХАТу, Исай Спектор был коммерческий директор театра, практичный человек, а Театр Вахтангова в это время был на гастролях. И там сломали двери. А меня послали играть спектакль выездной, хотя в нем был и другой исполнитель. И я не видел, как прошли эти спектакли на Вахтанговской сцене. Я пришел на последний, по-моему. И только потом мне передали, что был Микоян и сказал фразу: «О! Это не учебный спектакль, это не студенческий спектакль. Это будет театр, и весьма своеобразный». Так что вот видите, член Политбюро разобрался.
* * *
В первый раз в жизни я очень точно сформулировал Управлению культуры свои тринадцать пунктов, что мне необходимо для того, чтобы был создан театр. Я понимал, что меня старый театр перемелет, обратит меня в фарш — ничего не останется. Я погрязну в дрязгах старой труппы. И я понимал, что все надо делать сначала, начинать с нуля. И поэтому я дал им эти пункты, и они долго размышляли, утвердить меня или не утвердить.
Я привел с собой студентов с этого курса… Даже двух доносчиков, которые писали про меня, что я разрушаю систему Станиславского. И не потому, что я такой благородный. Мне просто не хотелось снова вводить двух артистов и терять время. Студенты были весьма разные. Это не была идиллия, что репетируют в упоении педагог и хорошие студенты.
Как я ставил «Доброго человека…»? — Я буквально вколачивал костылем ритм, потому что я порвал себе связки на ноге, и не мог бегать показывать, и я с костылем работал. Было очень нелегко добиться понимания формы. Студенты чувствовали, что что-то не так, то есть их не так учили, как я с ними работал.
Получив разрешение взять «Доброго человека…» и десять человек с курса в театр, я понял, что мне нужно. Я снял весь старый репертуар, оставил только Пристли одну пьесу, потому что она более-менее делала сборы, хотя спектакль мне не нравился.
Мы не могли каждый день играть «Доброго человека…», хотя он делал аншлаги. И поэтому я сразу запустил две работы — сначала неудачную «Герой нашего времени», потом понял, что он мне не помогает, — и сразу запустил «Антимиры» и «Десять дней…».
«Добрый человек из Сезуана» — спектакль, с которого начался театр на Таганке в 1964 г.
В. Золотухин в роли водоноса
Режиссерский показ. 1964
Боги — А. Граббе, С. Фарада, К. Желдин
Шен Те, Шуи Та — З. Славина, летчик Ян Сун — В. Высоцкий
Я тогда увлекался Андреем Вознесенским, его стихами и стал делать «Антимиры» как поэтический спектакль, который потом шел очень долго. И тогда меня порадовала публика Москвы. Во-первых, мне многие говорили, что не придет зритель на Таганку, — он пришел. Он пришел на «Доброго…», он пришел на «Павших…», он пришел на «Десять дней…», он пришел на «Антимиры». И таким образом я выиграл время. Советское начальство всегда дает год хотя бы… раз они назначили, они оставляли в покое на год. Просто у них были такие ритмы жизни, что пару лет пусть работает, а там посмотрим. А я как-то быстро обернулся очень. В год я миновал пороги и получил репертуар: «Добрый…», «Десять дней…», «Антимиры», после длительной борьбы «Павшие…» остались в репертуаре — уже четыре спектакля, и на них я мог опереться. Правда, я не думал, что так быстро меня начнут прорабатывать. Уже «Десять дней…» начальство приняло так… хоть и революция, пятое-десятое, но с неудовольствием. Но они все-таки были отброшены успехом — вроде революционная тема и такой успех. Ну, и пресса… «Правда» пожурила, но, в общем, одобрила. А уж потом-то они стали, ругая «Мастера», говорить: «Как мог человек, который поставил „Десять дней…“ — и так у меня все время было, — как мог этот человек, который поставил вот то-то, поставить это безобразие?» — «Дом…», предположим, или Маяковского и так далее.
P.S. Вот видишь, сын мой, папе те правители все-таки дали год на раскрутку, а царь Борис своих премьеров в один год раза четыре меняет!
Без даты.
Когда все было готово и можно было назначить премьеру, как-то так совпало, что день рождения Ленина, а следующий — день рождения Шекспира, наш день… И стал я провозглашать, что только благодаря XX съезду такой театр мог появиться. А до XX съезда — нет. А когда стали забывать XX съезд, то я очутился без спасательного круга и стал тонуть.
Но до конца не утонул. И я согласен с тем, как это объяснил Петр Леонидович Капица: «Я очень волновался за вашу судьбу, Юрий Петрович, — до тех пор, пока не понял, что вы — Кузькин. А когда я понял, что вы все-таки Кузькин в какой-то мере, то перестал волноваться».
У них была золотая свадьба, и была такая очень элитарная публика, ученые, академики, и все говорили, что-то такое торжественное — золотая свадьба, восседала Анна Алексеевна с Петром Леонидовичем, и я принес золотую афишу «Мастер и Маргарита» — там же по главам сделана афиша, и я к каждой главе дал комментарий про Петра Леонидовича.
Мне тоже нужно было какой-то спич произносить, и я сказал, что неудивительно, что я Кузькин, а вот что Петр Леонидович должен быть Кузькиным в этой стране, чтобы выжить, это удивительно. Анна Алексеевна очень обиделась:
— Как вы можете, Юрий Петрович, называть Петра Леонидовича Кузькиным?
И вдруг Петр Леонидович встал и говорит:
— Молчи, крысик. (Он всегда ее так называл.) Да, Юрий Петрович, вы правы, я тоже Кузькин.
Анна Алексеевна Капица с внуком, справа Л. Делюсин
P.S. Кузькин — герой прекрасной повести Б. Можаева, что-то вроде Швейка на русский манер.
Мы и они (до изгнания)
«Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова, 1964
Это был второй спектакль и неудачный. Поэтому говорили:
— Этот человек один спектакль сделал и больше не сделает. Случайно. Случайно вышел «Добрый человек..».
Как инсценировка, это было очень толково сделано. Здесь Николай Робертович впервые заставил меня засесть за бумагу. Потому что я ему все рассказывал свои идеи. А он говорит:
— Нет, Юра, вы мне изложите это на чистом листе бумаги. Тогда я посмотрю и, может быть, начну с вами работать.
Но нельзя было с молодыми людьми пытаться это быстро делать. И потом, нельзя было давать роль Печорина Губенко. Он вроде был самый сильный актер. И это была моя ошибка, что я дал ему эту роль. Он не понимал героя. Конечно, нужны были другие исполнители.
Потому что если не получился ни герой, ни Максим Максимыч — ничего не может получиться. По форме там, может, и были вещи приличные. Золотухин был приличный Грушницкий. Были какие-то выдумки неплохие, по-моему. А остальное там было все приблизительно… Во-первых, художник Дорер запил, недоделал как следует все. Потом, мы торопились. Нельзя было торопиться. Это глупость моя, что я согласился, поддавшись желанию начальства выпустить этот спектакль к юбилею Лермонтова.
К этому спектаклю был придуман световой занавес.
P.S. Инсценировка сама, благодаря участию Н. Эрдмана, была хорошая и наше содружество меня многому научило. Я всегда помню моего старого друга. Наши бесконечные разговоры о театре, о литературе, о поэзии. Освоишь как следует русский, прочти его пьесу «Самоубийца», Петр.
«Антимиры» А. Вознесенского, 1965
С «Антимиров» довольно осознанно начался путь театра к поиску поэтических представлений, которых было довольно много. Эта линия важна, потому что есть линия лиризма и музыкальности, ритма, стиля и так далее. Как она родилась? Андрей Андреевич Вознесенский пришел на «Доброго человека…» еще в училище. Наверное, ему понравилось, и он проявил сразу сметку архитектора: «Чем я могу помочь?» — это было на ходу, его куда-то волокли корреспонденты — он тогда знаменит уже был, и он так быстро мне это сказал. И я говорю: «Ну, скажите, чтоб это сохранилось». И он сразу сказал это корреспондентам. И тогда появляться стало в прессе и закончилось Константином Симоновым в «Правде» — заметка с фотографией.
Кстати, первым заставил меня обратить внимание на Андрея Николай Робертович Эрдман, а раньше, по-моему, я спросил Бориса Леонидовича Пастернака, кто ему нравится, к кому присмотреться надо? И он сказал: «Среди поэтов — Андрей, а прозаик — Казаков Юрий». И это мне запомнилось.
Я предложил Андрею: давай сделаем вечер стихов. Начиналось: «Театр и поэт» — сперва он читал, а потом театр играл. А потом, конечно, он ушел. И мы сделали «Антимиры», которые нас очень выручили. Мы же в это время были должны государству по тем временам огромную сумму — долги старого театра — мы играли по пятьсот спектаклей в год. А этот спектакль короткий, и мы играли его после вечернего спектакля. А по воскресеньям, иногда по субботам, мы играли четыре спектакля в день. Это ужас. Но все молодые, жить-то надо было.
Там была треугольная груша — у Андрея есть такое стихотворение. И от «Героя..» остался станок — ну как в «Павших…» три дороги, а там был такой угольник странный — то ли ромб, то ли треугольник. Денег не было, как всегда, и вот этот станок остался, световой занавес наш уже работал — он сперва ломался.
Были стихи молодого Андрея очень хорошие. И он имел успех. Там были и танцы, пантомимы много. Они были молодые, озорные. Владимир играл, Смехов играл, Золотухин играл, Славина, Демидова — весь костяк. Все играли, и это публике нравилось. Он же прошел… 400 мы праздновали, 500 мы праздновали, 600 мы праздновали. По-моему, даже 700 мы праздновали.
Художника здесь никакого не было. У меня это бывало.
«Десять дней, которые потрясли мир» Д. Рида, 1965
Я носился с идеей поставить спектакль по книге Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир» давно. У меня иногда какое-то упрямство: это книга, с которой ничего нельзя сделать, это какая-то шарада; как это можно сделать — совершенно непонятно. И в спектакле ничего общего с книгой-то нет. Этот спектакль — набор аттракционов.
«10 дней, которые потрясли мир», 1965
Пантомима — Ю. Медведев
Это был спектакль чисто полемический против театрального однообразия. Тогда же были лозунги: вот вам лучший театр мира — МХАТ, вот это образец — и вот, пожалуйста, отсюда и танцуйте все. И я решил в противовес показать всю широту театральной палитры. Почему обязательно так? Театр может быть весьма разнообразен, поэтому там все жанры: то ходоки — натуралистический театр, то буффонада, то цирк, то театр теней, театр рук — то есть все, что фантазия мне подсказывала, я делал. И в общем, странно, я не поставил тогда ни одной оперы, но я работал интуитивно по методу, как делают оперы — то есть камерно репетируют куски, а потом сводят вместе.
* * *
Я понимал, что что-то нужно создать, раз уж я получил театр, что бы нас укрепило. А тем более, вдруг я как-то так очень поверил, что обязательно нужно сделать такой полемический спектакль. И что я этим как-то завоюю себе хоть какое-то право спокойно работать. Ну, и действительно он имел огромный успех.
Ведь эту книгу вообще нельзя поставить. Там много было взято из других книжек. Байки какие-то — «Ходоки к Ленину», потом просто выдуманные «Руки отцов» — я хотел показать, что театр широк, что можно все делать: театр теней, цирк, бытовые сценки, «Ходоки» — то есть это был такой винегрет, коллаж, через свет, через все средства театра.
В фойе висели две урны: красная и черная: «Голосуйте. Кому понравилось — „да“, кому не понравилось — „нет“». И большинство, процентов 90 было положительных, а из отрицательных сперва мы даже переписывали то, что было написано на этих билетах, потому что ругань была ужасная: «Как можно! Давно пора вас вызвать куда-то, что это такое — так показывают революцию! Когда же, наконец, власти вас?.. Что это за издевательство такое! Возмущен! Конечно „нет“ — такому искусству! Я бы и театр закрыл. Как ни стыдно: где светлый образ Владимира Ильича при входе в театр. И что мы видим потом!..» — и так далее. Или там помадой губной на билете: «Мерзость!» — дама какая-то возмутилась, что это за балаган.
Каретников делал музыку, художник был Тарасов. Каштелян помогал, эстрадник. Я его привлек номера делать всякие. А потом он говорит: «А теперь вставьте меня в инсценировку… а то я в суд подам…» И я вставил. Потому что денег не было, и я вставил фамилии нескольких людей в соавторы инсценировки, чтоб заплатить им деньги. Я тогда еще не знал, что это прецедент и ему можно постоянно требовать деньги. Я говорю: «Позвольте, мы же договорились, что эту сумму жалкую, которую мы получаем за инсценировку, я вам отдам», — потому что он требовал за каждый номер деньги, которых не было в театре. Он технически помогал «Пахаря» делать, потом дрессировал «Решетки», потом чего-то показывал-показывал — упал со сцены и исчез. Но за деньгами приходил.
Но это один раз только, потому что когда уж чересчур сценограф висит у меня на шее, тогда мне не интересно с ним работать. Мне интересно, когда идет процесс, то есть он предлагает — я предлагаю, но все понимают, что примат все равно у меня, контрольный пакет акций, говоря деловым языком. Это кто-то очень мудро сказал одному молодому человеку — я не хочу называть фамилию, который на меня жаловался, что я мешаю ему проявить до конца себя, ему очень мудро опытная журналистка ответила, что «вы должны, видимо, себе выбрать плохого режиссера, тогда он вас будет слушать, а господин Любимов вас никогда не будет слушать, он никого не слушает. То, что ему кажется интересным, он охотно поддержит, а вот то, что ему не подходит, он, конечно, отвергнет. Тут сколько бы вы ни говорили неудовольствий, у вас ничего не выйдет с ним». И, видимо, она права, она была резкая дама, но она верно сформулировала.
* * *
В 70-м или 71-м году я помогал выпустить такой же спектакль в Чехословакии, в Брно.
А потом меня просили поехать поставить «Десять дней…» с кубинскими актерами в Гаване. Я дважды был на Кубе. В другой раз это был какой-то такой театральный фестиваль южноамериканских стран. Я был членом жюри.
700-й спектакль
Это давно, наверно, лет через пять после того как театр создался, когда Рауль Кастро — брат диктатора — был на «Десяти днях…» на Таганке и вскоре он меня пригласил членом жюри.
«Павшие и живые», 1965
Инсценировку я писал с Грибановым и с Дэзиком Самойловым. Материалы с ними собирал. Быстро мы написали, потому что образ у меня был: три дороги, вечный огонь. Это быстро я придумал и Юру Васильева позвал, он мне сделал быстро конструкцию всю и под конструкцию я уже собирал материалы. Грибанов был другом Самойлова. Дэзик говорил, а он записывал, чтоб быстро было. Быстро мы очень делали. Я поставил спектакль, и он уже был продан на весь месяц вперед. И тут нам его и закрыли. Пришлось заменять один спектакль другим, и потрясающе, что никто из зрителей не сдал билет на закрытый спектакль. Все второй раз ходили на «Антимиры», на «Доброго человека…».
Как раз когда «Павших…» закрыли, на «Десять дней…» пришел Микоян. Мы играли тогда в бывшем театре Охлопкова, теперь это Театр Маяковского (он же был Театром Революции раньше, у нас же все любят менять, чтобы ничего никто не помнил). Все меня покинули, «Павших…» закрыли, Высоцкий пришел пьяный — ужас. А эти входят, кэгэбэшники, и никого нет. И я сижу один в администраторской и мрачно соображаю: чего же мне делать. Никто не звонит — телефон умер. Тут дверь открывается и входит какой-то чмур:
— Вы кто тут?
Я пожимаю плечами, говорю:
— Что вам угодно?
— Вас спрашивают! Отвечайте, кто вы.
— Ну, Любимов, допустим.
— А, ну пойдемте с нами.
Идем. И вот он говорит:
— Приедет важный гость.
— А кто приедет?
— Посмотрите, когда приедет. Будете встречать. Если спросит, отвечайте, а так молчите. Вот где его посадить, пойдемте смотреть.
И мертвое время такое, никого нет, ни администраторов театра — никого. И они между собой:
— Ну, в партер, в первый ряд посадим.
— Не надо в первый ряд, тут артисты прыгают, могут заметь.
— Чего это у вас так? Они что, со сцены прыгают?
— Прыгают.
— Ну, а где же посадить?
— Ну, самое лучшее — пятый-шестой.
Они чего-то посмотрели-посмотрели и говорят:
— Нет, не надо. Вот в ложу посадим.
1965
Ряд ролей Высоцкого — поэт Гудзенко, Гитлер
Там царская ложа посредине. Я говорю:
— Вот тут хорошо.
— Вас не спрашивают!
И вот потом я вышел его встречать, подъехала машина, вышел Микоян, я пошел за ним. Он поздоровался. Потом его повели в какую-то отдельную комнату — они уже высмотрели, открыли, уже и чай накрыли. Я иду за ним, как они сказали, они — раз — дверь захлопывают. Меня не пускают. Я иду по фойе — ухожу, они меня хватают:
— Да идите же вы туда! Позвали вас.
Я — к ложе.
— Стойте тут!
Потом:
— Идите в ложу, садитесь за ним, как спросит — отвечайте.
А спросил он меня только, когда пантомима была:
— Это кто?
Я говорю:
— Черные силы.
— А вот эти руки, огонь?
— Это революционный огонь.
— Понятно.
Потом в антракте пошли чай пить. Меня опять у дверей остановили. Он позвал. А я тогда курил. Я говорю:
— Вы не разрешите закурить?
— А зачем вам курить? Лучше пейте чай. Хотите рюмку коньяку?
— Выпью, да.
— Что с вами, что вы такой мрачный?
И вот я ему рассказал про «Павших…» И он сказал:
— А что им там не понравилось?
Я говорю:
— Ну, видимо, фамилии их смущали.
— А почему, если еврей, что тут такого?
— Ну, это я не могу вам сказать. Им не понравилось. Они, видимо, решили по фамилиям, что это все евреи. И вот тут у них что-то в голове происходит, что — я понять не могу.
— Ну как не можете? Что они вам предложили?
— Ничего, они просто закрыли. Потом предложили заменить поэтов, но перепутали, кто еврей, а кто нет.
Микоян подумал и через паузу сказал:
— А вы их спросите — разве решения двадцатого съезда отменены?
— Я, конечно, могу их спросить, если они меня спросят. Но лучше бы вы их спросили?
И вот тут он единственный раз за всю встречу посмотрел на меня внимательно, на твоего отца, Петр.
P.S. А Микоян тогда был Президентом СССР.
* * *
Я в полном отчаянии сидел дома, когда закрыли «Павших и живых» с диким скандалом. Нависла угроза, что выгонят они меня. И телефон умер, как у Юзовского. И вдруг звонок, и больной слабый голос, а он был в театре раза два — Паустовский — выражал всякие благожелательные мнения по поводу увиденного. Слабый голос, а мне говорили, что он болен тяжело, это было незадолго перед его смертью.
— Юрий Петрович, я слышал, что у вас неприятности большие. Вы знаете что, мне тут сказали, что, оказывается, среди моих почитателей есть Косыгин. И вы знаете, я ему позвонил и меня соединили с ним, и я ему сказал свое мнение о вашем театре и о вас, что нельзя это делать, нельзя закрывать театр и нельзя лишать вас работы, что вы этим очень себе вредите, престижу своему. Я не знаю, что из этого выйдет, но он сказал, что будет разбираться и что он подумает о том, что я сказал, и постарается помочь. Но я дальше ничего не знаю, помогут они вам или нет. Кто их разберет.
Вот такой был разговор. А дальше, действительно, я не знаю, от кого это шло, но это как-то повернулось все. Пришел зам. завотделом культуры ЦК Куницын, который впоследствии чрезвычайно увлекся левизной, пострадал, бедный, и скорыми шагами стал уходить в диссидентство. Это был забавный господин такой, номенклатурщик партийный, который вдруг стал прозревать и очень удивляться всему, что он стал получать от книг, от бесед с людьми совершенно иного мира, чем партократия, и прозрение этого господина было, с одной стороны, наивным, а с другой — трогательным. Этот большой человек, бывший моряк, стал с удовольствием и с наслаждением открывать совершенно неведомый мир для себя. Наверно, у него было такое состояние, как когда я начал заниматься подводной охотой и впервые опустился под воду.
И он положительно участвовал в судьбе «Павших…». Пришел, смотрел и начал говорить, что «не так все плохо, Юрий Петрович, мы с вами побеседуем, подправим, направим, и все пойдет». И все пошло. Ну, с некоторым ущербом, но не безнадежно.
Кое-что, конечно, вырезали. По ходу действия возникали идиотские сновидения. Но так как я не любил киноэффектов, то я это делал через театральные средства. Например, там по этим трем дорогам шла первомайская демонстрация совершенно идиотская: на плечах у здоровенного мужика сидел маленький Джабраилов, изображал приветствие мавзолею: «Ура!!!»
От этого они просто белели и с опрокинутыми лицами говорили: «Вы что, с ума сошли, что вы делаете!» — и удивленно на меня смотрели, не могли понять: что такое?! Это, конечно, пришлось убрать.
Потом убрали «Зеленую лампу» и «Дело Казакевича». Он получал ордена, а СМЕРШ шел за ним, чтоб его арестовать. Они приезжают арестовывать, а он в это время в разведке.
Сперва они не разобрались. Думали, что я имею какие-то указания, что позволяю себе такие вещи. И поэтому растерялись: «или он что-то знает, чего мы не знаем, или же он просто идиот. Ему же хуже будет».
P.S. Все, что происходило с «Павшими и живыми», должны были бы описать Орвелл или Кафка. Передаю дальше, уважаемый читатель, разговор с одним из моих бесчисленных начальников. Очень неглупый господин был. Хорошо играл в шахматы!
* * *
Вызывает меня начальник Управления культуры РСФСР Б. Родионов и просит спокойно, без командного тона:
Он: — Юрий Петрович, вы бы не могли заехать для серьезного разговора?
Я: — Когда?
Он: — Да побыстрей, как вы можете.
Я: — Случилось что-нибудь?
Он: — Нет-нет, ничего. Это знаете, так, хотелось бы уточнить.
Я: — Хорошо, я приеду, будем уточнять.
Я приехал. Он ходит — он седой был, большой. Чай секретарша внесла, бублики. И он говорит:
— Отключи-ка ты все телефоны и никого не пускай.
Я думаю, к чему это он? Ну, сели, начали чаек пить. И он ходит — здоровый, грузный шахматист. И говорит:
— Ты можешь откровенно разговаривать?
— Да стараюсь понемногу.
— Ну давай с тобой поговорим откровенно. Я сказал, чтоб нас два часа никто не трогал. Но только ты говори откровенно. Или ты боишься?
— А вы?
— Я отключил все. И два часа не боюсь.
Значит, условились, как в партии: два часа ничего не бояться. Мрачно раздумывая, он говорит:
— Ну ты скажи мне, только ты не стесняйся.
— Да я не стесняюсь.
— Гм, я тоже. Скажи, ну вот за все руководство мое над тобой, ну неужели я тебе ничем не помог?! Ну мы же от хорошего тебе предлагали убрать, вставить. Ты не стесняйся.
Я говорю:
— Нет.
Он был озадачен. Глубоко озадачен.
— Ты что, серьезно?
— Как мы договорились — совершенно серьезно.
— Почему, — довольно растерянно, — почему, я же от хорошего тебе помогал.
Я говорю:
— Борис Евгеньевич, дорогой, я плохо играю в шахматы, вы — хорошо. Алехин еще лучше, как вы считаете?
— Алехин лучше.
— Ну вот даже если бы Алехин мне советовал, как вести партию, Алехин ведь выиграл бы, а не я. А тут, извините, ну как вы считаете, кто лучше в искусстве разбирается: вы или я?
— Да я не разбираюсь. Я так, с моей точки зрения, предлагаю посоветовать или как мне подскажут умные люди.
— Значит, как-то странно: вы считаете, что вы лучше сообразите итог моей работы с театром, выпуск спектакля?
Он походил, подумал, вызвал секретаршу, сказал:
— Включай телефоны. — А мне сказал:
— Идите, — без злобы. Так что вроде бы я его убедил, что они мне ничем не помогают.
* * *
И спектакль ведь очень долго шел и имел всегда успех. Потом пожарники хотели затоптать Вечный огонь, который был впервые зажжен мной в «Павших…» — еще не горел огонь у Кремлевской стены. Я сказал:
— Попробуйте, затопчите…
— Нет, вы сами погасите.
— Я не погашу. Погасите вы при свидетелях, что вы вот затоптали павшим огонь.
Потом генерал пожарной службы посмотрел спектакль и увидел, что весь зал встал минутой молчания, когда зажгли огонь на сцене павшим. И генерал сказал:
— Пусть идет, я беру огонь на себя.
И еще спросил:
— Есть у тебя коньяк? Пойдем помянем.
«Жизнь Галилея» Б. Брехта, 1966
Мне захотелось через пару лет вернуться к Брехту, чтоб просто проверить мастерство театра — как он сейчас звучит. И еще мне казалось, что ситуация в мире была острая — начались атомные испытания страшные, взрывы, первый конфликт Сахарова с Хрущевым, когда взорвали огромной силы водородную бомбу… И Сахаров умолял не делать этого. И я начал ставить «Галилея». Но это было не столько вызвано какими-то событиями… А это было опять интуицией. Моя интуиция мне подсказывала, что это надо делать, потому что мир все больше и больше скатывается к этому ужасу, и нужна какая-то — как присяга врачей — так присяга ученых. Так что это пьеса о присяге ученого.
«Жизнь Галилея», 1966. Галилей — В. Высоцкий
Эта трагедия развивалась во всем мире, и это подтверждалось конфликтом, который был у Сахарова с правительством.
У него был комплекс вины перед людьми. Потому что он дал им в руки страшное оружие, и так было с рядом крупных ученых: с Эйнштейном, с Бором — со всеми, кто был причастен к созданию этого страшного оружия.
Но и тут не обошлось без скандала. Сперва были только долдоны-монахи, потом пришлось их уравновешивать детьми, потом переделывать тексты. Пришел помощник Демичева, теперь академик, — у него была такая особенность, он все время краснел — так посмотрел и говорит:
— Не кажется ли вам, что «солнце всходит и заходит — ничего не происходит», не надо, чтоб «долдоны», как вы их называете, — монахи пели?
Получалось, что я их причислил к долдонам. Я говорю:
— Ну, можно и подумать.
И он пришел еще раз. А я переделал текст так: «Солнце всходит и заходит — очень много происходит». И вот тут он опять покраснел.
— Вы что, Юрий Петрович, нас совсем идиотами считаете или частично?
Я говорю:
— Ну, оставим эти рассуждения. Вы же меня тоже как-то считаете. Вы сказали — не нравится, мне хотелось найти взаимопонимание. Ну раз не нравится «ничего не происходит», я изменил.
* * *
Был в «Галилее» и такой случай. Я просил актера Высоцкого начинать спектакль, стоя на голове, и разговаривать. И когда пришло цензурное начальство, они сказали:
Они: — Это что за безобразие, немедленно это убрать! Великий Галилей, такой ученый, стоит на голове.
Я: — Почему? Только что был в Москве Неру, его так принимали. А вы знаете, что он каждое утро стоит полчаса на голове. Это знаменитое упражнение йогов, это очищает и просветляет мозги и изгоняет глупость из головы.
Они: — Ну ладно. Мы это проверим. Если так, то оставим.
Р.S. Не страна, а сплошная фантастика.
Люди нашей страны очень даже странны.
* * *
Один раз был и такой эпизод — они играли «Галилея», а меня в это время молотили. Молотили меня часов шесть — насмерть:
Они: — Вон!! Не место ему тут жить! Пусть катится, не отравляет атмосферу! — на полную железку, как в «старые добрые времена».
Я: — Разрешите быть свободным?
Они: — Идите!
Я пошел, а там панели кругом и в них дверь — и после шести часов я как-то не мог найти дверь и начал щупать, где дверь, — и они захохотали. А я дверь нащупал, повернулся и сказал:
— Что вы лыбитесь?! Я найду выход, а вы — нет! — И я так дернул дверь, что дверь заклинило. И они действительно ломились и не могли открыть дверь.
Но это я был уже, конечно, в невменяемом состоянии. И я приехал уже к концу спектакля, и мне сказали:
— А ваши так играли, как никогда в жизни не играли, — то есть все приобрело чрезвычайную конкретность — выдержит он там, или нет. «Ему покажут орудия пытки — он сдастся, не сдастся», — и так далее. И актеры это почувствовали и играли сердечно чрезвычайно. Играли так по существу, что зал понял, что что-то происходит другое — и затих и смотрел, затихший.
«Послушайте!» В. Маяковского, 1967
Ух, скандал был! Вот обсуждения-то были! И Сельвинский, и Кирсанов, и Брик — там много было народу. На Маяковском была битва насмерть. Потрясающее обсуждение, где Чухрай орал, что «у вас патриотизм штатных проституток, которые ложатся под клиента», — вот на эту комиссию. Что-то он зашелся — и тут такое пошло! Они говорили, что это не патриотический спектакль — ну, та же песня все время.
Там была поэзия, стихи, факты и легенды о Маяковском. Он очень любил публичные выступления и часто очень остроумно полемизировал. Есть крылатые его фразы, которые носятся до сих пор.
Я использовал такой театральный прием, прием для поэтического спектакля, когда Маяковского играло пять артистов. И некоторые артисты приходили ко мне и говорили:
— А зачем нам впятером играть? Я и один смогу сыграть…
Но там была главная мысль: как умирает по частям душа человека:
И мне агитпроп в зубах навяз, И мне приятней строчить романсы на вас, Доходней оно и прелестней. Но я себя смирял, становясь На горло собственной песне.Вот и донаступался, что застрелился. И там есть диалоги: «Разговор с фининспектором» или идет Маяковский и какой-то встречается писатель и говорит: «Маяковский, смотри, я купил „вечное перо“. Он говорит: „Дурак, вечное перо было у Шекспира, как ты мог его купить?“» — ну, когда появились ручки эти автоматические… Ручка появилась в Советском Союзе — это была диковина, очень трудно было ее купить. Ее назвали «вечное перо».
«Послушайте» 1967
В. Насонов, В. Смехов, Б. Хмельницкий, В. Золотухин, В. Высоцкий
Мы: И там мы мистифицировали. Например, сцена такая: мещане, чиновники — вечеринка, танцуют. Как в «Клопе», только более современно. И когда чиновники танцевали, один играл на гитаре и пел: «Очи черные, очи жгучие, очи светлые и прекрасные. Как люблю я вас…» — очень смешно делал артист Бортник, очень талантливый. Тогда Высоцкий, который играл Маяковского, говорил: «Дайте гитару», — брал гитару, начинал ее настраивать чуть-чуть, тогда этот чиновник говорил: «А! Ха-ха-ха! Перестраивается! Значит, понимает…» И тогда начинал Владимир петь, но как он мог петь: «Очи черные, очи жгучие, очи светлые и прекрасные! Как бы я вас всех в раз, да еще раз! Чтобы вдрызг разлетелись вы много-много раз!» — про них, но с настоящим темпераментом… И публика хлопала, конечно. И он говорил пушкинскую фразу: «Толпа имеет здравый смысл, но в отношении вкуса ни гу-гу».
И третий раз, когда чиновник говорил: «Ведь можете, если захочете». Что, мол, ведь можете, если захотите спеть так, как нам нравится.
Они:
ПРИЕМНЫЙ АКТ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ. 1967 Г.
Выбор отрывков и цитат чрезвычайно тенденциозен. Например, обыватель Калягин с торжеством заявляет, что В. И. Ленин похвалил только одно стихотворение Маяковского «Прозаседавшиеся», а вообще вождь ругал поэта, не любил его. Причем ленинский текст издевательски произносится из окошка, на котором, как в уборной, написано «М».
В спектакле Маяковского играют одновременно пять актеров. Но это не спасает положения: поэт предстает перед зрителями обозленным и затравленным бойцом-одиночкой. Он одинок в советском обществе. У него ни друзей, ни защитников. У него нет выхода. И в конце концов, как логический выход — самоубийство.
Нетерпимо и некоторое вольное обращение с текстом поэта, пародийное истолкование некоторых его стихотворений, — например, выступление «лауреатов 123 конкурса чтецов-маяковскцев ученицы 7 класса житомирской школы имени Маяковского сельскохозяйственного профиля Сони Скрипкиной и октябренка из-под Тулы Фили Винтикова» с чтением «Разговора с товарищем Лениным».
В целом спектакль оставляет какое-то подавленное, гнетущее впечатление.
Так, даже местами интересная и оригинальная форма спектакля вошла в противоречие с его пессимистическим мрачным содержанием.
P.S. Дается с большим сокращением, чего глупости печатать?
«Пугачев» С. Есенина, 1967
Николай Робертович Эрдман все время говорил мне:
— Ну поставьте вы, Юра, «Пугачева»!
Я отвечал:
— Николай Робертович, мне очень нравится поэма, но я не знаю, как это ставить. Не знаю.
И он мне грустно отвечал:
— Вот и Всеволод Эмильевич Мейерхольд тоже все Есенина просил дописать.
Я говорю:
— Вот почему он просил дописать, я понимаю, и почему Есенин отказался, понимаю. И только как ставить, понять не могу.
И только когда у меня в башке родился этот образ — плоскость, которая наклонена чуть ли не на сорок пять градусов в зрительный зал, а в конце плаха, тогда я понял, что можно играть. Потом я связал их одной цепью, потом всобачил им топоры, и, когда я понял, что они смогут прочесть эти стихи, тогда только попросил написать интермедии Николая Робертовича Эрдмана, потому что понимал, что они сдохнут, что сил не хватит, хотя пьеса короткая, в одном действии. Она вообще шла час тридцать пять — час сорок вся, я понял, что антракта не может быть. И мне стало ясно, как это делать. Поставил я очень быстро. Я заболел, они без меня ковырялись-ковырялись, я вернулся после болезни и пришел в ужас: чего они там ни творили — и лазили, и прыгали, и скакали — ничего не получалось. Хотя вроде я начал репетировать нормально. А, видимо, им казалось все это маловыразительно, и они, видите ли, обогащали беспрерывно, как во время восстановления «Высоцкого» в 1988 году. Я подумал, что я ошибся в оформлении, все уже стояло на сцене, а толку было мало. Но потом вдруг быстро все вправилось. Значит, замысел был правильный.
* * *
«Пугачева» я выпустил в месяц, репетируя по четыре часа, даже меньше месяца. Я пришел из больницы и в три недели выпустил спектакль. Это был такой интересный случай конкретный. Я придумал оформление, потом художник принес другой вариант, и все мои друзья на обсуждении были за другой вариант, он казался им разнообразней, динамичней, интересней, и когда все тебе говорят, а ты один, так трудно принять решение. И я не спал всю ночь… Я чувствовал, что как будто уже я что-то видел на эту тему. Там были такие два круга, которые как бы лобное место, но оно вращалось и меняло ракурсы. То есть вы имеете дорогу, завершение и поэтому все время меняется перспектива. А у меня просто помост и плаха все время. Но тут все решал дикий помост. На нем стоять было трудно. И потом, они еще были связаны одной цепью. И все-таки я решил свой вариант. И они понимали, что без тренинга невозможно просто сыграть это, можно упасть и разбиться. Потом, они понимали, что никакого бытового хода не может быть, когда вы не можете стоять просто так, вы можете только стоять с сильными мышцами и соответственно вы понимаете, что нельзя просто разговаривать. Сам стих настолько могучий, широкий, как орнамент азиатский. Хлопуша приходит и видит пугачевскую банду, а он сам бандит. — Высоцкий прекрасно играл. И он смотрит сверху вниз — на плахе сидит Пугачев — мизансцена — и он видит всю эту банду и цепи, которые преграждают путь, и Пугачев сидит, его охраняют все: цепи, цепи, цепи — к нему не подойдешь. И он раздумывает, что это такое, и кричит:
Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть! Что ты? Смерть или исцеление калекам? Проведите, проведите меня к нему, Я хочу видеть этого человека!Видите, какая мощь в стихе, он очень вольный стих. Он играл прекрасно. Я достал магнитофонную запись, как читал Есенин, он удивительно читал. Оказалось, у него глубокий баритон и бешеный темперамент. Это сразу взял и Владимир. И Есенин повлиял на всех очень сильно. Ведь это совсем не историческая поэма. Там бегают одни есенины, и каждый выражается… Есенин все время выражает свое отношение к природе, к миру, к жизни, к свободе — очень интересная поэма.
* * *
И опять начальство было недовольно. Они привезли бедных двух сестер-старушек Есенина, и те начали поддакивать, что это оскорбление Сережи. И вдруг одна старушка раскололась и говорит другой:
— Что ты говоришь! Он бы счастлив был, что это поставили! Тебя они напугали, что пенсию отберут, вот ты и ведешь себя так!
«Пугачев»,1967. Хлопуша — В. Высоцкий
И начался скандал.
— А! Вы шантажом занимаетесь, запугиваете старых людей! Уходите из моего кабинета, чтоб не видел я вас тут! — всю эту комиссию я прогнал. Но не тут-то было, они пошли к начальству жаловаться — хулиган.
Наконец начальство «смилостивилось» и поставило условие: снять интермедии, тогда спектакль пойдет…
И Николаша сказал, покойный… вряд ли кто мог так сказать: «Юра, спектакль получился, играйте без моих интермедий». Жена его обиделась, балерина. Ходила, бегала, говорила: «Вот и приятель, видите, как поступил. Другой бы снял спектакль».
* * *
Потом — видите, как все субъективно — пришел Захава, но, может, у него и осталась по отношению ко мне какая-то оскомина после всех наших раздоров с ним, он был возмущен, весь был красный после спектакля, так ему не понравился «Пугачев», а я любил этот спектакль. И я понял, почему он говорил:
— Как же вы, такой реалист, такой последовательный поклонник системы Станиславского, что вы сделали! — Он мне, уходя, гневно бросал фразы, это же какая-то опера, что же это такое, там же совершенно нет реализма. Он считал, что так нельзя читать стихи, — значит, видите, как вся его природа протестовала против условного искусства. Он, учившийся у Вахтангова, работавший у Мейерхольда — получается, что он ничего не понял ни у одного учителя. Видимо, его естество было совершенно другое, он не у тех учился. Очевидно, его природа была более близка к МХАТу. Только не к МХАТу тому — «Горячего сердца», «Свадьбы Фигаро» — таких спектаклей гротескных мхатовских. МХАТ же был разнообразен все-таки, а он был, видимо, весь в таких вот, ну что ли, если говорить о шедеврах, то «Дни Турбиных» в этой стилистике.
«Живой» Б. Можаева, 1968
«Жизнь мне ставит точку, а я ей — запятую, запятую…» — Федор Кузькин.
Можаев написал свою повесть «Из жизни Федора Кузькина» в 1964–1965 годах, в 1967-м ее напечатали в «Новом мире», мы сделали по ней спектакль, нам его закрыли. Меня сняли с работы. Потом восстановили. Это было весной 1968 года, во время событий в Чехословакии.
Незадолго до показа «Живого» нас приняла Екатерина Алексеевна Фурцева, министр культуры. Была она не одна — вместе со своими заместителями. Беседа получилась горячая, основательная. В конце концов нам удалось убедить ее, что спектакль должен идти. Она махнула рукой: ну ладно уж, репетируйте. Сделаете — мы придем, посмотрим. Мы продолжали работу, подошел момент сдачи, и тут приключилась история с Жаном Виларом.
Жан Вилар, знаменитый французский актер и режиссер, возглавлявший в свое время Национальный театр в Париже, прибыл в СССР по приглашению Министерства культуры. За обедом с ним я обмолвился, что спешу на репетицию «Живого». Гость выразил желание посмотреть ее. Как я мог отказать коллеге в такой естественной просьбе? Жан Вилар, не говоривший по-русски, пришел вместе с корреспондентом «Юманите» Максом Леоном. Вдруг в зале появляется взволнованный директор и требует вывести Вилара с репетиции. Унизительно и позорно! Репетицию я провел — Вилар смотрел.
На сдачу спектакля в апреле 1969 года никто не пришел, вместо этого нас с Можаевым вызвали в Министерство культуры. Фурцева нас не приняла, а ее заместители без обиняков объявили, что спектакль никто не разрешал, на каком основании мы его предлагаем? Мы напомнили о предыдущей встрече у министра, на которой наши собеседники присутствовали. Глядя нам в глаза, они сказали, что ничего не помнят.
(Март 1969 года.)
Вдруг с утра в театре звонок; едет министр! Вошла Екатерина Алексеевна, каракульчевое манто у нее с плеча свисает, свита из тридцати четырех человек. Из зала выставили всех, чтобы и мышь не проскользнула.
На прогоне не позволили присутствовать ни художнику Давиду Боровскому, ни композитору Эдисону Денисову. Случайно пробрался Вознесенский. Сидел заместитель министра Владыкин, еще кто-то. Был еще молодой чиновник Чаусов. И сидела уважаемая Екатерина Алексеевна.
От нас сидели директор театра Дупак, парторг Глаголин, я и автор.
Едва кончился первый акт, Фурцева хлопнула ручкой и крикнула: автора — ко мне!
— Послушайте, дорогой мой, с этой условностью надо кончать! Да что здесь условного? Все, все, все, все! Нагородил черт знает что. Режиссера — сюда! Режиссер, как вы посмели поставить такую антисоветчину? Куда смотрела дирекция? Дирекция — за. А партком?
Есть здесь партийная организация?
Встал белый Глаголин. Она посмотрела и говорит:
— Ясно! Нет партийной организации! Сядьте! Артист, эй вы там, артист!
Высунулся Джабраилов — он ангела играл в трико и с крылышками. Она ему:
— И вам не стыдно участвовать во всем этом безобразии?!
Тот маленький, клочки волос торчат, и он испуганно отвечает:
— Не стыдно.
— Вот видите, — обратилась она ко мне, — до чего вы всех довели. Весь театр надо разгонять. В этом театре есть советская власть?
Потом поэт Вознесенский пытался что-то сказать:
— Екатерина Алексеевна, все мы, как художники…
Она ему:
— Да сядьте вы, ваша позиция давно всем ясна! И вообще как вы сюда пробрались? Одна все это компания. Ясно. Что это такое нам показывают! Это же ведь иностранцам никуда даже ездить не надо, а просто прийти сюда (а они любят сюда приходить) и посмотреть, вот они все и увидят. Не надо ездить по стране. Здесь все показано. Можно сразу писать.
Тут вскакивает этот — Чаусов — и спрашивает:
— Екатерина Алексеевна, вы разрешите мне сказать от всего сердца?
Она ему говорит:
— Скажите, от молодежи.
Он ей:
— Екатерина Алексеевна, что же это такое они нам смеют показывать! Это же как крепостное право! Это же нельзя удержаться от гнева!
Она ему:
— Да, говори, говори им смело все.
И вот он возмущался, возмущался, но тут вмешался Можаев. Он зашагал по проходу и сказал Чаусову:
— Сядьте!
Тот сел. И Можаев ему так пальцем сделал:
— Ай-яй-яй-яй-яй, молодой человек, ай-яй-яй, такой молодой и так себя ведете, как жалкий карьерист. Что же из вас выйдет?
А министру:
— Как вам не стыдно, кого вы воспитываете, кого растите.
Те обалдели, а он ходил и читал им лекцию про то, что творится, что они себе позволяют, как разговаривают с нами. Он вошел в раж, стал весь красным. Вмазал целую речугу.
Случайно забыли выключить трансляцию, и весь театр слышал это обсуждение.
Потом Екатерина Алексеевна очухалась и сказала Можаеву:
— Ладно, с вами тоже все ясно, садитесь.
И тогда она обернулась ко мне:
— Что вы можете сказать на все это? Вы что думаете: подняли «Новый мир» на березу и хотите далеко с ним ушагать?
А я не подумал, и у меня с языка сорвалось:
— А вы что думаете, с вашим «Октябрем» далеко пойдете?
И тут она замкнулась. Она не поняла, что я имел в виду журнал «Октябрь», руководимый Кочетовым. Потому что тогда было такое противостояние: «Новый мир» Твардовского — и «Октябрь» Кочетова. А у нее сработало, что это я про Октябрьскую революцию сказал. И она сорвалась с места:
— Ах, вы так… Я сейчас же еду к Генеральному секретарю и буду с ним разговаривать о вашем поведении. Это что такое… это до чего мы дошли…
И побежала… С ее плеч упало красивое большое каракульчевое манто. Кто-то подхватил его, и они исчезли…
С ними исчез спектакль «Живой».
За «клеветнический» спектакль меня сняли с работы и исключили из партии. И тогда я написал письмо Брежневу. И он смилостивился, сказал: пускай работает. Недели через две меня вновь приняли в партию: ну, Юрий Петрович, ну, погорячились, вы уж извините…
Приказ 58 Управления Культуры Исполкома Московского городского совета депутатов трудящихся от 12 марта 1969 года.
Рабочая репетиция, проведенная 6 марта с.г., показала, что автор пьесы т. Можаев Б. А. ничего не сделал для исправления порочной концепции, заложенной в пьесе, а режиссеры-постановщики тт. Любимов Ю. П. и Глаголин Б. А. усугубили ее вредное звучание (ряд мизансцен, частушки, оформление и т. д.). В результате получился идейно порочный спектакль, искаженно показывающий жизнь советской деревни 50-х годов. На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директору театра т. Дупаку Н. Л. и главному режиссеру т. Любимову Ю. П. исключить из репертуарного плана и прекратить работу над спектаклем по пьесе т. Можаева Б. А. «Живой».
2. Произведенные материальные затраты в установленном порядке списать на убытки театра.
Начальник Управления культуры исполкома Моссовета Б. Родионов.Было еще три попытки возобновить «Живого», последняя — в 1975 году, уже при министре культуры Демичеве. Она была самой печальной. Спектакль посмотрели и предъявили нам 90 замечаний, дали два месяца на исправление. Как потом выяснилось, это было откровенное издевательство: мы исправляли, а решение закрыть спектакль уже было принято. И потом все-таки мы добились этого дикого обсуждения, имеется его запись. Там были такие перлы, что я думаю, это должно быть опубликовано.
Мы пригласили на него писателей, журналистов, актеров. Пришли многие — Трифонов, Тендряков, Бакланов, Солоухин, Яншин Михаил Михайлович.
Министерство культуры привело специалистов сельского хозяйства, чтобы их руками нас и прихлопнуть.
Это был спектакль в спектакле: кончился спектакль, а потом был их! Часа полтора. И вышли Мотяковы и Гузенковы, судьи, секретари, председатели, и стали закрывать. А вторая половина публики — это были писатели, приличные люди. Был остроумнейший разговор. Но с одной стороны, это было остроумно, а с другой — весьма грубо: кричали эти все, которых привезли — их специально привезли, оторвали от дел, готовили их: как их руками нас прихлопнуть. И получилась стенка на стенку. Одна стенка — товарищи из Министерства культуры СССР и Министерства сельского хозяйства, а вторая — это писатели, это журналисты, артисты и публика.
Причем это было прямо у сцены, тут же, поэтому действительно получился третий акт абсолютно, то есть характеры те же, только в зале.
И Можаев все порывался прочитать кусочек из сочинений нашего дорогого любимого руководителя (Леонида Ильича), и все с книжкой стоял: «Дайте мне прочесть». А ему говорят: «Хватит! Наслушались мы этого!» И я говорю: «Ну дайте хоть писателю несколько слов сказать». И он сочинение Леонида Ильича, всенародно одобренное, открывает и все хочет прочесть. Все-таки они ему дали, он зачитал, но не назвал, что это Брежнев, и кто-то из этих командиров вскормленных, героев соцтруда, сказал: «Довольно, наслышаны мы этой демагогии! Закройтесь, хватит». Ну, я все это отписал в письме Самому, что, мол, дорогой Леонид Ильич, хотели мы прочесть несколько убедительных доводов, но нам не разрешили и сказали, что не надо это слушать — как же так? И вот на этом мы частично выиграли, что меня не выгнали.
Фрагменты обсуждения спектакля «Живой» в Театре на Таганке 24.06.75
К. П. КАЛИНИН (Зам. министра сельского хозяйства СССР). (…) Могли ли среди них быть такие, которых вы видели на сцене? Да! Конечно могли. Они были. Были. Но типично это явление для нашего хозяйства? Да нет же! Нет!
(В зале смех.) Реплики:
Это правда, это было! Вы же начали с того, что так было. А кончили — наоборот.
ВОРОНКОВ (Зам. министра культуры СССР.). Минуточку, минуточку. Где эти репльщики? Я еще раз обращаюсь с просьбой и еще раз хочу подчеркнуть: мы пригласили сегодня деятелей сельского хозяйства — я подчеркиваю — мы хотим в аудитории сельского хозяйства обсудить этот спектакль. Понимаете ли? Поэтому я обращаюсь к деятелям сельского хозяйства высказать свое мнение. Пожалуйста.
ЦАРЕВ (газета «СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ»). (…) Были эти самые Мотяковы? Были. И может быть, их много было. Были ситуации вот сходные с этой, которая представлена в спектакле? Да, были.
И в связи с этим, я должен спросить, надо ли нам такой спектакль показывать молодежи, которую мы хотим научить, как было?
Так так-то не было, товарищи дорогие. Не было так! Я думаю, что… так было, но так не было. (Смех, аплодисменты в зале.) Напрасно, напрасно вы смеетесь, смотрите немножко глубже. Когда поют песню «Это было недавно, это было давно», — правда и в том, и в этом. Вот и так. Так и было и так и не было, представьте себе.
ВОРОНКОВ. Слово предоставляется товарищ Перфильевой, секретарю партийного комитета министерства сельского хозяйства РСФСР. Пожалуйста.
ПЕРФИЛЬЕВА. Дорогие товарищи! Что бы я хотела вам сказать о своем впечатлении по спектаклю. Ну прежде всего, конечно, очень хорошая игра актеров. Это все очень хорошо и можно только пожелать, чтобы пьесы на сельскохозяйственные темы играли так же хорошо, как сегодня играла труппа театра. Но главный герой… Могли ли исключить Федора? Вы посудите. У него было 840 трудодней! Ну-ка посчитайте, если даже он каждый день работал, без выходных и праздничных дней — это было б 360, а он-то выработал 840! Так что ж, разве кругом были, извините меня, олухи? Правление колхоза, партийная организация, районное руководство — прямо-таки все были слепцы и никто ничего не понимал!
Если уж вы хотите Федора исключить, так пожалуйста, сделайте так, чтоб он меньше все-таки работал в колхозе, чтоб его действительно было за что исключать! (Смех в зале.)
ВОРОНКОВ. Спасибо. Слово предоставляется товарищу Звягинцеву Петру Ивановичу из Министерства сельского хозяйства Советского Союза.
(ГОЛОСА. Опять из министерства сельского хозяйства? А где ж колхозники? А колхозники где?)
ЗВЯГИНЦЕВ. Ну товарищи, позвольте тогда мне как колхознику сказать. Потому что когда меня из колхоза отпускали, колхозники говорили, что я буду находиться в отходничестве. Так вот я — колхозник-отходник, отпущенный из колхоза на другую работу.
Товарищи! Я хотел сказать, что необъективно преподнесена нашему зрителю жизнь этого периода. Сатира тоже имеет предел.
Я думаю, что специалисты нашего министерства — мы так обменялись, здесь товарищи с большим стажем и с опытом находятся, они безусловно помогут доработать, но чтобы тема пошла на сцене. В том виде, как она сейчас преподнесена, — это не вина артистов, а только их беда, прекрасно артисты играли — конечно, массовому зрителю, мы считаем, наше мнение, специалистов сельского хозяйства министерства, в таком виде преподносить пока нельзя.
МОЖАЕВ. Я, товарищ Воронков, довожу до вашего сведения, что здесь я написал пьесу и театр поставил спектакль не по надоям молока, не потому, на какую глубину мы должны пахать или на какой высоте срезать колос — я могу поговорить со специалистами сельского хозяйства и на эту тему, но в другом месте. Здесь мы обсуждаем спектакль, и пожалуйста, товарищ Воронков, дайте возможность высказаться и не только представителям сельского хозяйства, но вот Михал Михайловичу Яншину, народному артисту СССР, известному писателю, написавшему не одну книгу о сельском хозяйстве, Солоухину Владимиру Васильевичу. Прошу вас, Константин Васильевич, предоставить и им слово.
ВОРОНКОВ. Минутку, минутку. Обязательно предоставлю слово всем, кто хочет. Я в самом начале сказал, что этот спектакль неоднократно обсуждался писателями, деятелями театрального искусства, но понимаете ли в чем дело. Нам очень важно послушать сегодня, товарищи ведь прибыли к нам из области, из министерства и так далее.
ЛЮБИМОВ. Но им тоже важно послушать.
СОЛОУХИН. (Из зала). Дайте агроному сказать.
ВОРОНКОВ. Обязательно, обязательно, Юрий Петрович. Слово предоставляется товарищу Залыгину.
ЗАЛЫГИН. Я кончал сельскохозяйственный техникум, работал агрономом, потом кончил сельскохозяйственный институт инженером-мелиоратором, потом заведовал кафедрой сельскохозяйственной мелиорации, защищал диссертацию и отсюда можно видеть, что как-то я связан с теми проблемами, которые здесь обсуждаются. И кроме того мне удалось все-таки кое-что написать из жизни деревни, на сельскую тему, как у нас не совсем точно называют. Потому что в общем-то тем нет, а есть одна тема — о людях, об их чувствах, об их жизни, переживаниях и так далее. Мне совершенно не хотелось как писателю противопоставлять себя работникам сельского хозяйства.
Но, товарищи, это же жанр, это сатира. Как же мы можем забывать это при обсуждении? Если мы будем все точно сопоставлять с фотографией, тогда давайте прямо скажем: сатира нам не нужна, ее не должно быть. Тогда давайте скажем, что Салтыкова-Щедрина не должно быть. Я больше того скажу — не должно было быть Пушкина. Потому что такой жизни красивой и гармоничной, которую изображал Пушкин, в конце концов тоже ведь не было. Ведь есть еще фантазия авторская. Потому что мы воспитываемся не на одних фотографиях и не на одних учебниках истории. Мы воспитываемся на характерах людей, которые живут в литературе. Вы возьмите любой характер, выверенный в классической или в советской литературе, и где вы его встретите без каких-то заострений? Если мы перейдем на такой путь, то надо просто отрицать тогда роль искусства всякого.
Теперь дальше. Мне кажется, что этот спектакль — очень примечательное явление искусства. Современного искусства. В чем я это вижу. Прежде всего, это очень интересно, потому что Театр на Таганке делает это впервые и самым существенным и серьезным образом, вы знаете, он научился миновать, по существу, драматургию, он берет прозу и переносит ее на сцену. И это новое явление и в литературе и в драматургии, которому у нас будут учиться, может быть, многие другие драматурги и прозаики.
Второй пункт, который меня как-то особенно привлекает в этом явлении искусства, которое мы сегодня наблюдали. Мы знаем, и у Театра на Таганке есть такая даже репутация театра слишком модернового. Вот он там все переделывает по-своему и так далее. Но вот что любопытно — сегодня мы видим спектакль, в своем роде неповторимый. Неповторимый в том смысле, что мы видим разговоры о хлебе, о пахоте, о бревнах, о сплаве — и все это самое реальное, проза жизни — мы вдруг видим все это, переданное в необычайно условной форме. И нечто самое консервативное сочетается с чем-то самым современным в смысле постановки. И если мы будем пренебрегать и зачеркивать те истинные достижения, которые нам сегодня дает наше театральное искусство и литература — мы ведь тоже далеко не уйдем.
БАКЛАНОВ. Возьмите простую вещь: здесь выступал довольно молодой человек, работник сельскохозяйственной газеты, и говорит: «Было? Было. Но не было!» В вашем «но не было» повелительное наклонение. Было! Но искусству запретили писать, что было — вот что в вашем «но не было».
Мы очень уважаем тружеников сельского хозяйства, тем более увенчанных высокими наградами. Но давайте задумаемся на одну секунду, если бы «Война и мир» Льва Толстого была поставлена на суд только военных специалистов. Вы же знаете высказывания военных того времени — они были все целиком против этого величайшего достижения мирового искусства, национальной гордости. Ведь мы же не стесняемся сказать, что мы что-то не понимаем в любой отрасли специальной. С уважением надои к нашему труду отнестись, колоссальному труду.
ЯНШИН. Всякий раз, когда я бываю в этом театре, я упрекаю себя в том, что я редко бываю сравнительно. Не потому, что я такой яростный поклонник Любимова, то есть это не верное выражение. Я поклонник его, но это не моего вероисповедания — вот это отсутствие драматургии, его некоторая увлеченность формальными приемами, она меня иногда пугает. Может быть, на старости лет я к этому никак не могу приучиться. Но я всегда получаю здесь огромное удовольствие от того, что это не так, как везде. Это совершенно по-новому, всегда интересно, поучительно, всегда с определенной направленностью, мне очень близкой. Потому что в этом я вижу большую гражданственность, очень большую откровенность, смелость взгляда художника. Это так, к сожалению, не часто встречается у нас.
ВОРОНКОВ. Товарищ Осипова. Вы учительница? Пожалуйста.
ОСИПОВА. Только одно слово. Товарищи, я ведь патриотка деревни не меньше, чем автор этот. Но я еще и историк. Так вот. Нельзя 40-е годы путать с 50-ми годами. И нельзя даже 40-е годы представлять без коллективизации, без борьбы. Не был главный герой одиноким.
Появляются руководящие товарищи. Секретарь райкома, он умный человек, но вы заметили, он промелькнул только. Хороший был председатель колхоза Долгов. (Переходит на истерический тон) Но колхозник колхозника не бросал в беде. Делили последнюю корку хлеба! Как же это так могли колхозники!.. (Продолжает истерически неразборчиво кричать)
ВОРОНКОВ. Товарищи, вас призвали все-таки к спокойному обсуждению. Я думаю, так обсуждение вести нельзя.
ГОЛОСА. Солоухина! Солоухина! Солоухина!..
ВОРОНКОВ. Юрий Петрович, ваши гости ведут себя нехорошо.
ЛЮБИМОВ. А мне кажется, ваши это. Зачем вы опять антагонизм устраиваете? Зачем вы все время стравливаете?
ВОРОНКОВ. Вы не кричите только.
ЛЮБИМОВ. Я не кричу, но я отлично понимаю все ваши нюансы!
ВОРОНКОВ. А я ваши!
СОЛОУХИН. Я посмотрел здесь уже два спектакля на, так сказать, деревенскую тему. Я имею в виду «Деревянные кони» по повести Федора Абрамова и вот теперешний спектакль по повести Можаева. И я вижу, что произошло какое-то чудо. Потому что этому глубоко московскому, таганскому театру эти два спектакля удались лучше, чем все остальное. Мне 51 год — у меня дрожали губы, у меня в горле ком стоял. И вы знаете, я не знаю, при чем здесь сельское хозяйство. Какими технологиями сельского хозяйства можно мерить эти категории?! Это искусство. И я буду жалеть всю жизнь, что вот я посмотрел, я воспринял этот спектакль, а другие тысячи москвичей останутся обездоленными и не увидят этого замечательного спектакля. Ну и не только москвичи.
Да, нельзя в одной пьесе отобразить все, как говорится, «закрыть тему». Тем более, что речь идет о сатире. Надо же помнить о законах жанра, о законах гротеска, о законах преувеличения. Правильно здесь говорил Бакланов — таких ревизоров-прощелыг, как Хлестаков, в чистом виде, может быть, и не было даже в России. Ну сколько можно было насчитать таких случаев, что приняли прощелыгу за ревизора, ну, один случай мог быть, но сто не было же, это не типично же было, если с арифметикой подходить-то! А пьеса гремела и гремит.
Я не знаю, что стали бы говорить на обсуждении этой пьесы, если бы туда пригласить городничих и ревизоров.
Я не знаю, как пошло обсуждение бы. (Смех. Аплодисменты.)
У Кузькина речь идет о равнодушии и столкновении живого человека, души живой человеческой с тупым равнодушием. А это будет всегда. Пьеса, спектакль будет злободневен и сегодня, и через десять лет, через двадцать лет. Потому что мы не можем жить в бесконфликтном совершенно обществе. Если б не было проблемы, полемики, то мы здесь, наверное бы, не обсуждали бы сейчас эту пьесу, если бы все было ясно.
ЛЮБИМОВ. Она бы шла. Восемь лет не идет.
СОЛОУХИН. Если бы этот спектакль вышел десять лет назад, на него могла бы появиться реакция. И появились бы другие пьесы о деревне, под другими углами зрения, понимаете ли? Может, кто-то написал бы в противовес этой пьесе. То есть был бы живой процесс театральный, драматургический процесс шел бы в стране. А вот она не вышла десять лет назад, и мы сейчас ее опять обсуждаем, а оглянемся вокруг, и душа наша уязвлена будет, потому что пьес-то нет о деревне.
Нету! Потому что сразу все в одной пьесе написать нельзя. А требуется, чтобы было сразу все в одной пьесе. Как по притче: один кричал: «Пожар!!» — но перестраховщик был и тут же добавлял: «А в других районах не горит, ребята.» (Смех, аплодисменты.)
ВОРОНКОВ. Так что? Будем заканчивать, да? Товарищи, будем заканчивать тогда, потому что…
ЛЮБИМОВ. Все-таки есть писатель, который это написал, есть режиссер, который поставил. Разрешите сказать им. Вы говорите так сурово, дайте и нам сказать. Оправдаться хотя бы.
ВОРОНКОВ. Обязательно, обязательно.
МОЖАЕВ. Сегодня мы обсуждали спектакль перед нашей общественностью и перед специалистами Министерства сельского хозяйства. Мне очень хотелось бы надеяться, что следующее наше обсуждение не будет перенесено в колхоз или совхоз, чтобы обсудить еще этот спектакль один раз перед колхозниками уже рядовыми. Я полагаю, Константин Васильевич, это будет последним обсуждением, которых было, в самом деле, очень много.
Дорогие товарищи! Товарищи представители Министерства сельского хозяйства! Я, писатель, говорю вам совершенно искренне — ни на рабочую тему, ни на сельскохозяйственную тему я ни повести, ни пьес никогда не писал и писать не буду. Потому что в литературе словом «рабочая тема» ничего еще не сказано и не заявлено. Точно так же, как и словом «сельскохозяйственная тема».
Писатель, если он писатель, сегодня пишет о Петре Ивановиче, который живет в деревне, завтра об Антоне Ивановиче, который живет в городе не просто потому, что ему хочется описать того или иного Федора Фомича, которого вы здесь видели, а только для того, что описанием жизни этого Петра Ивановича или Федора Фомича автор желает сказать обществу о тех достижениях или недостатках, которые оно переживало или переживает. Как говорил Лермонтов, «достаточно и того, что порок указан, а как излечить его, Бог знает».
ЛЮБИМОВ. Я расстроен, Константин Васильевич, уважаемый. Зачем создана такая атмосфера и столкнули людей. Это неправильно. Это абсолютно неправильно. Ведь дошло до того, что вроде насильно выходили писатели. А делаем мы с вами одно общее дело.
«Живой», 1968. В. Золотухин, Н. Ковалева, А. Цуркан (справа налево)
Вы опять поделили зал на «ваших» и «наших». Извините. Вы устроили просмотр. Товарищ министр спектакль разрешил. Товарищ министр сказал, что политически спектакль правильный. Он политически звучит правильно. Посоветуйтесь с товарищами, выслушайте их замечания. Учтите, что-то может, где-то соленого много — имелись в виду частушки народные… Вы учтите, дорогие люди, мы же 8 лет это сдаем. А получаем только по шее… Что нами движет? Выгода? Что, мы с Можаевым вредители, хотим вредить, записываем Кузькина в советское общество насильно? Да если бы было много таких Кузькиных, нам было бы значительно легче. Верю, что это глубоко честное произведение.
Ведь здесь происходит очередное беззаконие. (Аплодисменты.) Мало того, что издано 300 тысяч экземпляров, нас заставили специальную пьесу писать. Мы дали пьесу. Поставили «Лит». Кого-нибудь это убедило? Нет. Пришел Можаев, я. И сугубо городские люди после каждой страницы учили Можаева, как нужно правильно писать о деревне. На каждой странице выбрасывали, вставляли другое. Цензура разрешила, а вы запрещаете.
РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА. Можно по существу?
ЛЮБИМОВ. Спектакль может идти по всем советским законам, а он не идет, поэтому я чувствую, будет другая инстанция. Но мы это делаем и будем делать. Тут я приложу все усилия, как и во все 8 лет, чтобы он пошел. Я оптимист… Успокойтесь. А спектакль пойдет, очень скоро пойдет! (Продолжительные аплодисменты.)
* * *
Спустя несколько дней нас с Можаевым вызывают в министерство культуры СССР. В разгар разговора в кабинет вошел Кухарский: «А чего это вы с ним разговариваете здесь? — удивился он. — Все ясно. Надо это дело заканчивать». А Можаев не понял и спрашивает у меня: «А это кто такой?» Я ему говорю: «Извини, Борис, это вот у нас такое министерство. Это первый заместитель Петра Ниловича». А тот сказал Можаеву: «А вы вообще свободны». Можаев ответил: «Так я и без вас освобожусь», а мне говорит: «Юрий, я пойду, я у них не служу, а тебе, бедному, конечно, надо сидеть». Можаев ушел, а текст пошел уже почти что нецензурный…
Этот спектакль видели несколько тысяч людей. Театральная Москва вся перебывала. Несколько тысяч видело. Мы же трижды сдавали, трижды. Мы же и проводили публичные репетиции. Как и «Бориса Годунова» несколько тысяч видело. За это меня и выгоняли, за эти нарушения. Я не мог примириться с этим аракчеевским режимом.
Причем к тому времени «Кузькин» вышел во Франции на французском языке, в Германии на немецком, в Польше на польском, в Чехословакии печатался в журналах, у нас печатался огромными тиражами. Значит, начальство сочло, что наш спектакль более вредный, чем повесть. Он ее заостряет. Но таково свойство сцены. Значит, характеры созданы правильно. Я считаю, что сейчас редко в каком театре была такая галерея создана характеров, и чтобы в центре стоял такой народный образ, про который можно говорить, что он такой же по характеру и силе, как Швейк у Гашека.
Когда в 1989 году мы восстановили этот спектакль, на пресс-конференции мне задали вопрос, нет ли у меня ощущения, что эти проблемы ушли, что это уже поздно. Мне эти вопросы были странны, и я их не понимаю. Если это произведение искусства, оно устареть не может. Может устареть злободневная статья, может устареть какая-то гневная публицистика по конкретному вопросу. Но как может устареть произведение искусства — вы мне объясните. Театр не блокнот агитатора, не газета, не публицистика, театр старается создать произведение искусства с глубокими характерами, неповторимое по форме, по эстетике своей, по манере — как это может устареть?
Конечно, были какие-то изменения в чертах характера образов. Прошло двадцать лет. Золотухин сам изменился. В его игре гораздо больше зрелости, больше понимания каких-то вещей. Тогда он был совсем молодой — 25 лет, а сейчас он кузькинского возраста.
Начальство того времени решило, что спектакль еще вреднее, чем повесть. Он ее заостряет. Но таково свойство сцены, значит, характеры созданы правильно. Я видел, что судьба Кузькина, человека из народа, на котором стоит земля, и все мы до сих пор не можем опомниться от этой трагедии, что миллионы таких людей были вырублены. А что меня поражало, что я видел, что разнородный зал — от академика до простого человека: работяги, колхозника, шофера — живет этой судьбой, значит, у этого спектакля широкая аудитория, которая под стать Чарли Чаплину — он создатель гениального образа маленького человечка, который всеми способами старается выжить в этом страшном и неустроенном мире. И поэтому так важно, что мы спектакль восстановили.
Жаль только, что нет Жана Вилара, что он не может порадоваться вместе с нами.
21 год афиша «Живого» висит в моем кабинете, даже след от нее на стене остался — на улице она не висела ни разу.
Вообще, это редкость, чтоб спектакль пролежал в театре 21 год и выскочил опять на публику живым — это редко бывает. Это скорее бывает в кино, когда коробки с картинами лежат на полке.
Нам тогда сказали, что в финале огород надо вернуть Кузькину, а мы решили сейчас изменить финал. Так как все так плохо идет — мы решили, что землю Кузькину под огород не дают. И публика это как-то живо очень воспринимает. Казалось бы, недоумение — ведь сейчас все дают — нет, только дают опять по блату, и опять только номенклатуре. А фермеры, бедные, говорят: «Вот если бы сейчас мне предложили взять — я бы не взял», — то есть душат опять — другим способом, но все равно душат. Иначе они не умеют, потому что правят по-прежнему коммунисты, та же номенклатура. Только перетусовались. Поэтому и демократия у нас на коммунистический манер.
«Мать», 1969
Я сам не предлагал ни «Что делать?», ни «Мать». Они предложили: хотите работать режиссером, тогда поставьте «Мать». Потом начались с ней скандалы.
Я пригласил художника Юрия Васильева, и он сделал оформление: такие клетки, клети меняли ракурсы. А я ему и говорю — мы с ним дружили, он замечательный господин, прекрасный человек, независимый, ему тоже доставалось. Был грандиозный скандал: какой-то иностранный журнал напечатал его… И после этого его выгнали из Союза художников, но у него были друзья, по Эрнсту Неизвестному, «зелененькие». И они часто бывали у него в мастерской, и кстати, там мы с ними и познакомились. И они помогали мне передавать письма к Брежневу.
И я сказал: «Юра, откроется занавес — клетки. Ну, и конечно, сразу это закроют». Он мне сказал: «Я вот верю в эту конструкцию, а в ваших солдат я не верю».
А мне было интересно взаимоотношение толпы и солдат. И опять они стали придираться и требовать переделок.
Но тогда уже мной была сказана фраза: «Если у вас прямые аллюзии, что ничего не изменилось и что солдаты имеют то же значение теперь, как тогда, то я вам посоветую лечиться. А я разговор перенесу в другие инстанции».
И получился очень сильный спектакль. Он и в Париже хорошо прошел, и в Испании прекрасно, где мы назвали нашу встречу с родным театром после семи лет разлуки «Мадрид твою мать». Они играли весьма сочно, но главным образом, конечно, сила толпы и солдат. Он был мощный спектакль. И он гораздо сильней, конечно, чем «Десять дней…». Даже парижская критика это отмечала.
Но сейчас он не идет. Сейчас никто тут не хочет смотреть ни «Мать», ни «Что делать?» Но публика ходила, и кто приходил, принимали очень хорошо. Но все равно его можно было играть раз в месяц. Раньше он два раза в месяц шел, а потом один раз в месяц. Но в Мадрид их выпустили только с «Матерью» — уже перестройка, Горбачев, а они с трудом выпускают театр с «Матерью». И там был огромный успех. И в это время сбежал артист Маслов, но уже было как-то легче: не было такой паники, что это ЧП, тем более я сразу заявил этим руководителям: «Ну что вы волнуетесь: один сбежал, другой приехал — значит у вас баланс». Сразу я стал репетировать.
И встреча была, как будто ничего не изменилось.
Наши люди живут по пословице: пьяный проспится — дурак никогда. А окружающим тяжеловато.
ОФИЦЕР. Я театров не выношу! Цирк — другое дело, там ловкость, сила! Я, знаете, консерватор, в Европы не верю. Вы понимаете, что такое Россия?
СОЛДАТЫ. Так точно, ваше благородие.
ОФИЦЕР. Что же такое родина, Шевцов?(Молчание.) Шевцов?
ШЕВЦОВ. Так точно, ваше благородие.
(…)
ОФИЦЕР. Соприкоснешься с народом и станешь фаталистом. Эй, ты, фаталист, подбери живот. Первый взвод налево, второй взвод направо. Шагом марш!
Когда я узнал, что наши танки вошли в Чехословакию, я не пошел на митинг. Мне приказано было проводить митинг в театре. Я должен был собрать весь коллектив и объявить, поддержать это. А я сказал: «Пусть это делает директор Дупак Он был назначен до меня, в старый театр». Как только они собрались, я вышел из театра и уехал. Но потом я договорился с приятелями, и когда они мне стали говорить: «А где вы были, вас просили…», я говорю: «А меня вызвали в ЦК». И на этом все заглохло. Ну, я принял контрмеры и не строю из себя героя-смельчака. Александра Матросова не изображаю.
Я всегда вспоминаю Рубена Николаевича: «Я ни разу не поднимал руки, а выходил покурить».
P.S. Не смейтесь, в те времена это было геройство!
«Берегите ваши лица» А. Вознесенского, 1970
Я сам делал себе все композиции. Как-то Эрдман сказал:
— Странно, Юра, у вас нет драматургов вокруг вашего театра. И я подумал, что это не может быть, театр должен иметь драматурга, это кончится крахом. Но вы как-то сумели существовать без драматургии. Сперва я удивлялся, а потом увидел, что да, это такой театр, что вы можете обойтись без драматурга, что вы сами создаете себе свою драматургию.
Его это поражало.
Я сделал два спектакля по поэзии Вознесенского — «Антимиры» и в 70-м году «Берегите ваши лица».
Это был странный спектакль. Это был спектакль с открытой режиссурой. То есть я сидел за режиссерским столиком и говорил вступительное слово зрителям, минуты три. Смысл слова был такой: что если художники имеют право на этюды, и даже есть случаи, когда, на мой вкус, этюды Иванова в «Явлении Христа народу» интереснее, чем сама картина, и этюды Репина к «Государственному совету» тоже интересней, чем сама картина.
Это был такой театр импровизации. Я считал, что театр имеет право, как и художник, этюдно набрасывать, не думая о дальнейшей судьбе, что может из этюдов сложиться что-то интересное. И была замечательная реплика Николая Робертовича — это последний спектакль, который он посмотрел и на обсуждении он мне сказал:
— Юра, по-моему, спектакль получился, но господин поэт мог бы сделать больше для театра. Ведь театр вам делает уже второй спектакль, а вы как-то для театра, извините, совсем не постарались, — то есть он имел в виду, что поэт не потрудился сделать какую-то драматургию, помочь театру сделать пьесу. Вот Маяковский — поэт, но писал же для театра.
Я публике говорил, что «это не спектакль, — потому что пьесы не было, — это такие этюды, заготовки, полуимпровизация, поэтому я постараюсь вам не мешать, уважаемые зрители, но мы договорились с актерами — если они будут, с моей точки зрения, плохо импровизировать и не так, как мы с ними договорились, — то я буду останавливать, и поэтому это открытая репетиция». Договоренность актеров со мной была очень твердая, мы не играли в поддавки перед зрителями… А потом, я действительно останавливал. Один раз я остановил, там такая была сцена: картины, шедевры, они падали, их надо было поправлять, и они, действительно, очень грубо уронили, и я сказал: «Осторожней надо обращаться с искусством, звери!» — и публика захохотала и зааплодировала. Все это принимали в адрес властей.
На последнем спектакле я раза два остановил эти этюды и говорил с Владимиром — он читал стихотворение Вознесенского знаменитое довольно, в «Новом мире» оно было напечатано:
…Погашены мои заводы, (…) Не пишется, душа нема. (…) Я в кризисе — в бескризиснейшей из систем Один переживаю кризис. Но ничего, пять тысяч поэтов Российской Федерации напишут за меня, они не знают деградации!И публика очень хлопала и реагировала на этот стих. И Владимир его прочел так зло и вызывающе. Я говорю:
— Володя, подожди, зачем ты так, ну зачем, скажи это более мягко, по-доброму и легко, с иронией. Стоит ли тебе, на кого ты злишься? Возьми выше, где тебе удобно.
И он действительно, читал второй раз по-другому. И публика хлопала. Ну, и дохлопались мы до того, что закрыли все. Это было на последнем показе. Действительно, он начал слишком читать резко, с нажимом, и я остановил и сказал: «Не надо», — то есть остановил, действительно желая, чтоб было более интересно и более художественно, что ли. И они знали, актеры, что я остановлю — мне это еще было важно, что все-таки тогда они понимали, что если они или будут делать очень плохо, или начнут уходить не туда в этом набросанном спектакле, то я остановлю, и я предупреждал публику, и поэтому предлагал, что кто не хочет смотреть на такую открытую репетицию, могут пойти и сдать билеты в кассу. И один случай был, кто-то сказал:
— Очень мне надо еще какие-то репетиции ваши смотреть! — и ушел, сдал билет в кассу. Но очень смеялись все, потому что многие люди жаждали попасть, и поэтому билет не пропал.
«Берегите ваши лица…» Энар Стенберг оформлял. Там в конце поднимали с земли зеркало, и зал видел себя в зеркале — «Берегите ваши лица». Но мы не уберегли — нам дали сыграть три раза, был скандал. «Лица» мы не уберегли. Он прошел три раза. И бедный Родионов, начальник Управления несчастный, когда вызвал меня и Вознесенского, за голову схватился и прочел почти что целиком монолог Городничего. «Как я, старый дурак, просмотрел?! Я же три раза смотрел и не увидел, не услышал. И вот сейчас правильно поправили. Сколько же там издевательства над нами! „А Луна канула“». Это он сделал выворотку: прочитайте так и прочитайте по-другому — слева направо, справа налево, «а Луна канула». Я замучился и все Андрею говорил: «Андрей, ну зачем это? Я не могу придумать, чтоб это было логично на сцене, появление этой ерунды». А он говорит: «Ну что вы, боитесь, что ли? Вот это в „Литературке“ опубликовано». Я не мог понять, что именно тут будет нанесен главный удар, что я издеваюсь над нашими неудачами в космосе. Американцы высадились на Луне как раз. Я помню, я отдыхал у Можаева в Прибалтике, и мы услышали по радио, что высадились люди на Луне. И это была радость за человечество, что оно шагает. А у наших было гробовое молчание. И мы все очень расстроились: ну когда же мы будем нормальными людьми!
«Берегите ваши лица», 1970. Впервые публично исполнена «Охота на волков»
Андрей привел Мелентьева — бывшего министра культуры РСФСР. Публика очень хорошо принимала, Николай Робертович смотрел. Это был последний спектакль, который он смотрел. И Вознесенский мне сказал: «Вот это свой человек, он нам поможет», — про Мелентьева. Мы выпили, все радостные, прием прекрасный у публики, и я начал говорить. «Ох уж, — я говорю, — эти люди странные какие-то, не ждать ли от них удара сильного», — потому что был же скандал, как только спел Владимир «Охоту на волков», хоть это и относилось к Америке, публика стала топать ногами и кричать «Повторить!» И Людмила Васильевна сказала: «Ну вот, теперь дома будешь забавляться». И я это сказал, и мне господин Мелентьев сказал: «А вот я и есть, как вы называете „те люди“». А потом мы к нему на квартиру поехали и там разлаялись окончательно — его жена нас растаскивала. Мы выпили крепко, он мне начал свои взгляды на жизнь рассказывать, а я ему возражать начал. И он считал, что если он со мной вот так поговорит, он убедит меня, что он прав — ну во имя человечества-то прогрессивного сейчас не время это ставить. Выпил он, наверно, один пол-литра и всерьез начал дальше это долбить. Откровения. Как по анекдоту: «Надо, Федя, надо». Помните, с Кастро был анекдот: он снимает бороду в Политбюро и говорит: «Не могу я больше, ребята!» Они говорят: «Ну надо, Федя, надо!» — и снова ему бороду наклеивают.
Но это была уже вздрючка себя. Видите ли, среди «зелененьких» тоже были такие, которые говорили, что с нашим народом нельзя давать много свободы, потому что они все разнесут. То, что и сейчас говорят. Это обычное. Это на многие тысячелетия столкновения. Это разные отношения и разный взгляд на человека.
Мелентьев написал на меня донос, что я издеваюсь над нашими неудачами в космосе, и это вызвало гнев.
Это как товарищ Сталин сказал, зал встал, когда Ахматова вошла: «Кто организовал вставание?» — «Наказать.»
P.S. Так я чуть не дошутился и не стал безработным.
«Час пик» Е. Ставинского, 1969
У меня был ряд вынужденных спектаклей. Я бы никогда не ставил «Час пик». Это было в трудное для театра время. В «Иностранной литературе» появился рассказ поляка Ежи Ставинского. Это не пьеса. Это рассказ — довольно поверхностный, но все-таки там была острота.
И не ошиблись мы. Я делал это с увлечением, мне кажется, хороший очень дизайн у Давида Боровского был, и я не жалею, что этот спектакль вышел. Он был легкий, но там было и содержание.
Там было найдено много игровых интересных вещей. Во-первых, полифония была хорошая мизансценическая: многоплановость в сценографии в пространстве. И это было все довольно забавно сделано, и ряд людей театра считали эту работу интересной. Эта работа многим нравилась, и публике очень нравилась, она имела успех и долго шла.
«Час пик», 1969
«Тартюф» Ж.-Б. Мольера, 1968
Меня в это время помиловал Брежнев — меня выгнали после «Живого», а он меня оставил на работе. Я ему писал, и он оставил меня милостиво работать.
И в новый спектакль «Тартюф» я ввел документы истории закрытия «Тартюфа» — документы подлинные, которые были напечатаны. Начало XVIII века, конец XVII.
Король и кардинал, оба были куклами. Мне не хотелось, чтобы был живой Людовик и был живой кардинал.
Сперва был только один Людовик, потом мне было сказано, что надо усилить антиклерикальную линию. И тогда я поставил на другую сторону кардинала, и бедный Мольер бегал от одного к другому. Так что «критика мне помогла», потому что лучше стали мизансцены и композиция стала стройней. А когда они пришли, я сказал: «Усилить? Пожалуйста, я усилил.»
Но я получил уничтожающую советскую критику. Они очень рассердились на этот спектакль, потому что приняли все на свой счет. Потом забыли и послали его во Францию. И мы играли его в Лионе и в Марселе.
Конечно, какие-то аналогии были, а как же иначе? Иначе это будет музей. Если художник не будет так ставить, то… как они не понимают! Это так элементарно, что стыдно говорить. Это будет мертвый спектакль, и я просто буду преступником — я убью прекрасного комедиографа. Скажут, что это скучно и никому не надо. И, наверно, классика потому и классика, что она вечно живет.
И вообще, конечно, всегда весьма трудно что-нибудь сделать новое. Люди по природе консервативны — они хотят устойчивости, и поэтому они с тревогой смотрят, если на сцене что-то такое непривычное. А ученые даже говорят, что есть какой-то закон отторжения: если что-то непонятное, невиденное, то какие-то инстинкты в человеческом организме, какие-то рефлексы дают враждебную отталкивающую реакцию. Ну, как вот этот страшный случай с многоголосьем. Когда запели первый раз многоголосье в соборе, то молящиеся бросились из собора, а монаха сожгли как еретика.
* * *
Я репетировал «Тартюф» перед вторжением в Чехословакию. В это время Волконский, который писал музыку, а потом эмигрировал, и сказал фразу знаменитую: «Извините, Юрий Петрович, я уезжаю. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца».
А потом Слава Ростропович искал фразу, чтобы распрощаться с дамой. Звонит:
— Ты чего делаешь вечером? Мы можем увидеться? Очень важно!
Я говорю:
— Ну, Слава, конечно. — Это было в Лондоне.
Он пилил, пилил, к его чести, готовился к концерту, у него был вечером ответственный концерт, и мы поехали вечером его слушать, я его давно не слушал. Мы поехали в какой-то замечательный собор английский на его концерт баховский. И оказалось, что ему нужна фраза, он должен был расставаться с дамой. И все не знал, как же сказать ей исчерпывающе и душевно. Я говорю:
«Тартюф», 1968 — идет более 30 лет
— Ну, фраза избитая, Слава.
— Ну и говори. Если избитая, я скажу, избитая. Да и все.
— Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
— Я не слышал. Беру, беру. Так и скажу. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
P.S. Видите, как фразы путешествуют. Берите!
«Что делать?» Н. Г. Чернышевского, 1970
Это был забавный спектакль. Декорации были сделаны таким амфитеатром, как студенческая аудитория в том же Политехническом или в любом другом амфитеатре. И начиналось со сцены в библиотеке: они ругают этот роман, что «как же можно такую белиберду, нужно еще и экзамен сдавать», — и там музыка была Юрия Буцко, и были прекрасные зонги на стихи Некрасова, великого нашего поэта. Зонги были очень сильные. Это был такой странный кукольный театр, потому что эти трибуны давали возможность исчезать, высовываться. И были выжжены портреты великих на деревянной трибуне. Он имел очень острую форму, этот спектакль. Но, конечно, книга тяжелая, мягко говоря, но там есть высказывания самого Чернышевского, что он не считает себя романистом, он другие цели ставит.
Мы этот спектакль любили играть. И в театре его любили. Ведь бывает так, что иногда в театре не любят, а публика ходит — играют. А здесь этот спектакль был любим населением спектакля, артистами то есть.
И опять был скандал — они мне все цитаты Ленина вымарали. Они ведь часто правили и Маркса, и Ленина — говорили: «Сейчас не надо нам эту цитату».
Они вообще все свели к треугольнику, и все высказывания Рахметова и цитату Ленина, что «раб, смакующий свое рабство, есть холуй, хам…» и т. д. — у Ленина есть такая очень резкая цитата. Но так уж Ленина помарать они не могли, поэтому они начали требовать от меня, чтоб расширить цитату, а расширяя цитату, действие уходило, и так это очень сложное произведение, и они все хотели снять всю остроту. И поэтому этот спектакль с трудом вышел в свет — они его закрывали беспрерывно.
«Что делать?.», 1970, Л. Филатов
«А зори здесь тихие…» Б. Васильева, 1971
Были их бесконечные приставания. А моя защита была в том, что «господи, я делаю по школьной программе — и это вам не нравится. Идет „Мать“, идет „Что делать?“» — вот это их настойчивое желание. Идут «Десять дней…». Это все сделано, для того чтобы театр мог жить как-то. И «Зори…» я прочел, хотя я понимал, что это не такое сильное произведение, как баклановские «Июль 41-го» или «В окопах Сталинграда» Некрасова. Ведь мы знаем же другие книги о войне: мы знаем книги Ремарка «На западном фронте без перемен», мы знаем хемингуэевские рассказы. А это, я считал, как-то облегчит жизнь театра. Но они и это не хотели давать ставить..
Мы пришли в правление с писателем Васильевым, и они сказали, что это пацифистское произведение, пускай погибает старшина, а женщины остаются. А у меня с собой была статья в «Правде» — случайно, где было написано, что это произведение получило первую премию от ПУРа и от министерства. А тут вся когорта была созвана в Управление — возглавлял Родионов. И даже на меня потом одна комдама кричала: «Уже табличка была, что он замминистра СССР! И вот что вы сделали!» — это по поводу «Берегите ваши лица». Ну и когда они начали меня прорабатывать, писатель бедный побледнел. А они, видимо, «Правду» не прочли. Ну, я им доложил, конечно!
И Родионов вдруг встал — он с юмором был — и говорит: «Вот видите, товарищи, мы тоже иногда можем ошибаться». А мне говорит: «Извини, вот я им дал, чтоб они прочитали и мне высказали, что не надо. А я, конечно, не читал, к сожалению. А теперь прочту». И спектакль был принят и даже выставлен на Государственную премию. Но все равно Катерина Алексеевна объехала всех, чтоб они не проголосовали за меня. И кто-то болел, и она ездила и говорила: «Нельзя этому человеку давать, он не заслужил, у него столько ошибок. Пусть работает, исправляет ошибки, успеет получить». И когда я узнал, что она проявила такую активность, я сказал, когда она меня вызвала: «Я вам благодарен, что вы проявили такую заботу обо мне». Она говорит «Какую заботу?» — «Да ведь мне и не надо, у меня Сталинская премия есть». Но она перевела разговор на другое.
«А зори здесь тихие», 1971
Гришин смотрел «Зори…». Ему оторвали пуговицу. Но уже был сигнал от Брежнева, что надо помочь художнику. И он пришел с пуговицей ко мне в кабинет и сказал: «Что ж, у вас даже нельзя пройти между рядами». И тут же ходил Шопен [8] без квартиры. И я ему говорю: «Вот главный артист, такой мужчина, а жить негде, хотел семейством обзавестись». — «А он мне очень понравился — старшину прекрасно играет».
И Гришин дал ему квартиру и Заслуженного артиста. И, кстати, весь цех актерский и режиссерский этот спектакль очень любил. И есть заметка Бабановой, где красиво сказано, что «я не смогла сдержать слезы, и в то же время понимала, что ж это такое, зачем я плачу?» Вот это раздвоение психики актерской.
«Гамлет» В. Шекспира, 1971
Ну что можно сказать о «Гамлете»! Все ставят. Каждое поколение его ставит и правильно делает. Значит, это чудо какое-то, которое привлекает каждого человека, занимающегося театром. Значит, любой театральный человек может сказать этой пьесой все, что он хочет. Но чаще всего она идет плохо и скучно.
Есть уже какое-то понятие: «шекспировский театр», как «мольеровский театр». И это, наверно, не случайно: такое понятие подразумевает эстетику театра Шекспира, манеру игры, стиль.
Наверно, нам еще помогло и то, что мы играли «Гамлета» в переводе Пастернака. Может быть, он был очень личным, хотя есть хороший подстрочник Шекспира — у меня была даже мысль играть по подстрочнику, настолько сильный подстрочник Морозова, внука тех знаменитых Морозовых-купцов. Он преподавал, вел курс Шекспира в театральном институте, он прекрасно знал английский, и он сделал прекрасный подстрочник Шекспира, «Гамлета» подстрочник точный. И мне было очень интересно читать. И я удивился, что, в общем, образы Пастернака — точные шекспировские. Но еще уж очень был стих прекрасно сделан. И он какой-то был настолько острый, ясный, мудрый…
Рассуждая и думая над «Гамлетом» и очень много говоря с Владимиром, я старался, чтобы он все время глубже шел в роль, потому что он поначалу очень плохо понимал всю христианскую линию, что вот Гамлет первый настоящий интеллигент. Это во многих книгах я читал. Ведь о «Гамлете» литература, которая в эту комнату не войдет. Во-первых, все переводы перечитал, подстрочники. Но почему-то потом, когда я работал — очень трудная работа была, еще с такой трагедией посредине, когда все упало и чуть не убило всех. Еще меня поразило, что никто не обращал внимания, как там очень сильно действует линия христианской веры, и рассуждения о Боге и о религии.
Нет такой другой пьесы у Шекспира, где так влияет на развитие пьесы религия. Там нет сцены, чтоб не было разговора о вере. Начинается роль с этого: «Если б Всевышний не запретил самоубийство как самый тяжкий грех, то я не стал бы жить» — первый. Второй — сейчас грубо бегу по пьесе. Его отношения с Офелией: «ты погибнешь здесь, иди в монастырь». Разговор с матерью: «покайся в содеянном и воздержися впредь, только это тебя спасет» — поэтому я и антракт сделал на этой фразе: «Покайтесь в содеянном и воздержитесь впредь».
И этой фразой после антракта опять Гамлет продолжает: «Покайтесь в содеянном и воздержитесь впредь». Король пытается найти прощение у Бога — не может, потому что он говорит, что «я должен покаяться и отдать, но я не могу отдать ни Королеву, ни корону — значит, мне нет прощенья»; Гамлет не убивает Короля потому, что тот молится, а «отец мой умер без покаяния», — говорит он. Могильщики говорят о религии, что «вот наш брат верующий и не думай вот так чтоб похоронили, а эту самоубийцу Офелию все-таки хоронили по обряду».
Гамлет — В. Высоцкий, 1971
Монолог главный «Быть или не быть» — о религии: «что нас ждет там, в той стране, откуда ни один не возвращался». И Гамлет себя корит, что он недостаточно верит, и он все-таки боится и винит себя: «так погибают замыслы с размахом…» — весь монолог об этом, «а если б не было этого страха смерти, то кто бы вынес все несправедливости мира, все бы ушли». С Полонием об Офелии опять он говорит цитатами из Библии: «О старый Иеффай, единственную дочь растил и в ней души не чаял, а погибла она, нету, и плод как воск растаял.» И так вся пьеса пронизана до конца.
И я с ним много говорил, с Владимиром. Он стал задумываться над этими вопросами — они в его стихах последних.
Занавес был придуман до репетиций. Он казался огромным, хотя был девять метров на пять с половиной. Таганка же — маленький театр. Он очень многозначен: просто театральный занавес — он так и начинался — он стоял сбоку, потому что Гамлет сидел у стены, а они все выходили с траурными повязками: как бы сразу после смерти отца. Потом он шел вперед, отделяя от всех Высоцкого и могилу на авансцене. Тут меч стоял очень большой кованый, на котором они клялись потом. И Высоцкий пел пастернаковские стихи: «Гул затих, я вышел на подмостки…» Но мне важны были очень строчки: «Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку».
Потом была такая трагическая музыка сильная, занавес шел к задней стене. И начиналась тронная речь Короля, как на Красной площади — занавес шел вперед. «Хоть смертью брата полна душа…» — тронная речь на всю площадь. Вот, медленно, медленно, потом занавес поднимали все участники спектакля, выходила королевская чета и Гамлет в сторонке. Потом Король всех с поклоном отпускал, из занавеса выдвигались мечи, и они садились в занавес на мечах, а Гамлет садился на старый гроб, из старых досок гроб. Доски были такие старые, старые, вот когда ломают здание. И могила была укреплена досками, чтоб не осыпалась, вроде могильщики ставили. Потом очень старое дерево было орнаментом сделано, как шекспировские дома. И через всю стену, на задней стене огромной, шел — крест. Через всю стену и по центру. И начинался диалог Гамлета с Королем — первая сцена.
Когда бесконечные анализы «Гамлета» идут, бесконечные сочинения об этой пьесе, все ищут, почему он все время бездействует, что вызывает это. И тут нагорожены и фрейдизм, и раздвоение личности, и меланхолия Гамлета, и делают из него фигуру, которая неспособна к действию, а только к рассуждению, к созерцательному мышлению и так далее, когда сама пьеса все время очень сильно насыщена действием. И там все очень точно сделано — это удивительная пьеса, такой нет другой у Шекспира. И она очень стройная. У Шекспира часто же они очень разбросаны, их трудно собирать. Она очень сконцентрирована и очень хорошо построена, помимо просто размышлений гениальных. Во-первых, он все время мучается: может, это бес подсказывает ему — «а если тот дух был дьявол?». Он же ищет все время доказательства вины Короля. Как у Порфирия — нет доказательств. У Порфирия нет доказательств, и Раскольников на этом и держится, что доказательств нет, что он сумел убить тихо — нет следов. Гамлет считает, что он обязан отомстить за отца, что он должен вернуться из Англии.
Говорят, что во времена Шекспира рядом с его театром был зверинец, где зверям кидали сырое мясо. И зверинец составлял конкуренцию театру.
Я где-то пошутил — меня одолели вопросами — почему я вымарал Фортинбраса. И я с умным видом заявил, что найдены документы, разъясняющие, почему Шекспир дописал вход Фортинбраса. Когда все умерли и лежали на сцене, то актеры, естественно, продолжали дышать. А наивный зритель кидал в них помидоры и тухлые яйца. Что, мол, вы за артисты? Плохо притворяетесь! И тогда Шекспир дописал вход Фортинбраса, чтобы убрать трупы.
«Бенефис» А. Н. Островского, 1973
Этот спектакль мы делали к юбилею Островского. Бенефис. Как актерам устраивают бенефис. Я сделал пролог, что сидит Островский, вся труппа, и актеры для Островского играют его бенефис — сцены из трех спектаклей: «Гроза», «На всякого мудреца…», «Женитьба Бальзаминова». Он имел очень большой успех у публики, но я был не очень доволен и сам снял с репертуара — он был сырой, но я его выпустил, потому что чувствовал, что если я не выпущу, то мне его закроют навсегда. Потому что в это время они начали вести борьбу с искажением классики — вот когда Эфросу закрыли «Три сестры», Марку Захарову закрыли «Доходное место».
Я просто его не успел доделать. Я в это время сражался за Пушкина, которого никак не выпускали. «Товарищ, верь!..». И сразу потом стал «Бенефис» делать. И мне казалось, там все недоделано — со Стенбергом — и дизайн, оформление. И я очень торопился, потому что я с трудом выиграл Пушкина и думал, что если я затяну, что вот на этом гребне, что-таки начальство отступило и вроде я выиграл это сражение, что надо как можно быстрее следующую работу сдать, иначе они опять перегруппируются, настроятся и будут мне давить и следующий спектакль.
Его любили актеры, они очень расстроены были, а мне казалось, что он не доведен мной до нужного звучания. Казалось, что там много легкомысленного, недоработанного. И я его снял, хотя он пользовался успехом, на него нельзя было достать билеты. Но я все время хотел его снять и доделать. И так все время, как всегда в театре бывает, не хватало времени — я уже что-то другое начал делать и так далее.
Еще один раз я делал спектакль по Островскому в Финляндии. Но совсем по-другому. И тексты были не совсем такие — это с Андреем Шлиппе я делал — и совсем другой дизайн, абсолютно другой. Все другое. В Хельсинки это скорее была музыкальная комедия, и она и называлась даже по-другому: «Комедианты».
«Деревянные кони» Ф. Абрамова, 1974
Этот спектакль буквально вырвали у начальства. Я помню, как в моем кабинете Федор Александрович вскочил и закричал — да я весь израненный, — как это я свою родину не люблю! Может, это вы настоящие патриоты, а не я?! Отчаянно сражался за свое детище. Кое-чем пришлось пожертвовать — не смогли отстоять сцены, связанные с коллективизацией, о которой было сказано в последнем варианте лишь намеком. Но в целом основную концепцию спектакля удалось сохранить.
«Деревянные кони», 1974, А. Демидова
«Пристегните ремни!» Г. Бакланова, 1975
Меня обязали ставить современную актуальную пьесу о строителях, о рабочих. И мы поехали с Баклановым вместе на огромное строительство КАМАЗа, вот этого Камского завода, автомобильного гиганта. Это в районе Елабуги, где удавилась бедная Цветаева.
Я решил попробовать, действительно, на себе все их методы: поехать в эту командировку на строительство, насмотреться, как я тогда с Олегом Кошевым ездил собирать материалы…
Я поехал, потому что настаивали и так было принято. Я знал, что из этого ничего не выйдет, что все это ерунда: все эти командировки, это один из штампов Союза писателей, что обязательно надо ехать на место. Зачем мне было ехать, когда рядом строили восемь лет новый театр. И я видел все эти проблемы у себя, потому что я бегал на это строительство и несколько часов в день вынужден был проводить, как прораб. В театре были каникулы — и вместо того, чтоб немного отдохнуть, я поехал на этот КАМАЗ. И жили мы в одной комнате вместе с телевизионщиками, которые тоже делали быстренький репортаж на несколько минут. В одной комнате человек шесть — комната для приезжих. Ну, это неотапливаемая такая, как казарма. Такие казарменные условия, сплошная грязь, потому что строили центральные корпуса, где жить, а это все было временно. Ну, как всегда, у нас строят очень сложно, хаотично, все не продумав. Ну, в общем, я тоже там насмотрелся такого… У меня замечательный план родился. Потому что эти телевизионщики подтрунивали над нами, им нужно было сделать героический репортаж — «герои среди нас» — об этих строителях, и мы вроде писали об этом же. И они смеялись:
— Вы нас считаете халтурщиками, а сами, значит, серьезные художники… — и между нами шла такая пикировка.
И главное, что я знал заранее, что все самое интересное, что я увижу, мне не пропустят, цензура вымарает. Очень смешные там эпизоды были. Мы пошли нарочно с этими телевизионщиками. И вдруг они увидели очень красивую, в рабочей робе бабу. Они говорят;
— О! Нам подойдет для портрета, — мол, комсомолка, героиня, — девушка, подождите, вот поговорите, расскажите о своей судьбе…
Значит, сразу микрофоны, она начала рассказывать, действительно очень красивая, симпатичная крепкая дама, блондинка, ветер, загорелое лицо русское. Она начинает рассказывать, как она приехала по зову сердца, чтоб самой испытать, создать, участвовать в строительстве новой жизни. Все говорит совершенно правильно. Вдруг подбегает какой-то человек к режиссеру телевизионному и говорит:
— Не надо, не надо ее снимать, не надо.
Тот говорит:
— Почему? Она очень хорошо и правильно говорит.
— Да, — говорит, — но она уже испортилась, и в моральном отношении пошатнулась, она уже не годится, не годится, новую сейчас подберем. Ее много снимали, действительно она… привлекательная, но она уже испортилась. И уже часто стала говорить не то, что нужно, и вообще, вообразила о себе, понимаете, и работает плохо. Не надо, не надо ее снимать.
Ну, значит, эти быстро с ней закончили и попрощались. И она так злобно сказала:
— У, сволочи, уже, значит, накапали?
Мы много спорили с Баклановым. У него были очень хорошие книги о войне, одна особенно: «Июль 41-го года» — хорошая книга о войне, потому что он сам воевал, и это было им все и видено, и прочувствовано, и хорошо написано. Но мы были с ним абсолютно разные. Например, я вставил свою фразу, что «да, ну вот и мы с вами занялись официальным искусством, и слово-то какое противное — „официальное“, вроде „официанта“: „что прикажете, что будете кушать, что заказываете“». Хотя по заказу, мы знаем, делались и великие произведения. По заказу работали и Микеланджело, и Рафаэль — и все. Так что я не против заказа, и я ничего не вижу тут плохого. Но просто дальше я знал уже, что… И фразу с «официальным», «официантом», конечно, сразу вырезали.
«Товарищ, верь!..», 1973
«Пристегните ремни», 1975
«Бенефис», 1973
А в процессе работы у меня родилась хорошая идея: что вот мы стараемся написать очень честную, правдивую пьесу, телевизионщики делают быстрый репортаж, потом постепенно из нашей пьесы все вымарывают и выходит обыкновенная агитка, плохая пьеса. А у этих выходит обычный стандартный репортаж. И под конец дают премию и нам, и им — и всеобщий банкет, вместе. И мы знаем, что это дрянь, и они знают, что это дрянь. И мы знаем, что это неправда, и они знают, что это неправда, но говорят речи, идет банкет, все поздравляют друг друга с большим успехом. Но я знал, что это нельзя делать. Даже пьеса, которая была написана, она вызвала много неприятностей и споров. Хотя когда мы позвали всех крупнейших строителей Москвы на спектакль, они непрерывно хлопали. Почему?
— Наконец-то хоть кто-то заговорил о вещах, которые мешают нам работать.
И несмотря на все, все равно меня заставили переделывать, хотя пьеса была одобрена крупнейшими строителями, с этого же КАМАЗа приехали. И благодарили, что «вы подняли вопросы, которые мы не могли годами пробить».
Действие происходило в самолете. В одном самолете сидели и современные люди и военные тех времен. Почему в самолете, потому что в этот момент как раз, когда мы писали пьесу, разбивалось очень много самолетов по всему миру. Так совпало: каждый день чего-то случалось — и у нас, и в других странах. И поэтому в самолете все чувствовали бренность бытия и раскрывались друг перед другом. И эта вот подвешенность в небе и в то же время пристегнутые ремни, это был емкий образ. И пьеса внешне имела успех.
Но всегда, даже в лучших случаях, когда удавалось что-то сделать, то цензура все равно вымарывала у меня самые дорогие для вас места, где интуиция помогла мне проникнуть в какие-то глубины подсознания… у них прямо нюх, как у собак на таможне, которые нюхают, ищут кокаин, героин. Они понимали, что это своеобразное лишит их пайков, привилегий, служебного кресла, которое дает им привилегии: хорошую зарплату, машину, дачу, пайки — все. Ну смотрите, в Польше, когда уже «Солидарность» много выиграла, они не отдавали, вцепившись зубами, — привилегии свои: зарплаты, дачи, пайки, машины — все, что давало им власть и превосходство над другими.
Это еще прекрасно Жан Вилар сказал, когда мы с ним разговаривали, а потом он вернулся в Париж в надежде, что театр приедет на гастроли. По-моему, в «Ле Монд» появилась заметка, может быть, даже Вилара, что чиновники с Москвы-реки прекрасно протянули руки чиновникам Сены, поняли друг друга, бюрократы Москвы-реки и Сены и поставили такой хороший заслон, что театр не приехал. В дружном рукопожатии не пустили, заблокировали. Так что это явление не только советское, а всемирное. Только в России бюрократия имела неограниченную власть, одна же была партия. Но мне всегда было странно, ведь искусство могло бы им помочь понять свои промахи и недостатки. Но они его запрещали. Они лишали себя обратной связи. Они все время говорили, они не вели диалога. Они только произносили поучительные монологи, видя в партнере своем какого-то недоразвитого ребенка, которого они все время поучали…
В спектакле «Пристегните ремни» конец был, который потом мне пришлось убрать. Там была вынужденная посадка, все перепугались, потому что могли и разбиться. И очень крупный начальник — испугавшись, говорит:
— Ну что же, значит, вы домой, я на своей машине должен быстро выехать по делам…
То есть он от шока даже не понял, что они совершили вынужденную посадку в каком-то маленьком городке, не в Москве. И тогда к нему тихо помощник наклонялся и говорил, что «простите, мы не в Москве». И в это время по радио говорили, что «желающие могут посмотреть достопримечательности города, а для пассажиров сейчас подойдет автобус и отвезет их в гостиницу». И этот начальник тогда говорил:
— Ах, да-да-да. Ну что же, поедем на общих основаниях, как все.
И когда пришел Гришин, ему очень не понравился спектакль. Он возмутился, и особенно его возмутил конец: что значит «на общих основаниях»?
— Что же, мне вот сейчас, по-вашему, после спектакля, автобус, что ли, вызывать?
Мне так и хотелось ему сказать:
— С пассажирами прикажете?
Но, конечно, я не посмел это сделать. И мне пришлось переделать конец.
«Мастер и Маргарита» М. Булгакова, 1977
Я делал инсценировку по варианту в журнале «Москва», а не по машинописному экземпляру. Это был мой козырь: я же сам избрал легализованный вариант.
Никто в театре не верил, что это выйдет. И некоторые актеры старались увильнуть от работы. И я очень сердился, и мне как-то в голову не приходило, что они просто не верят, что это пойдет. Но тот, кто репетировал, репетировал с удовольствием, я ничего не могу сказать, надо отдать им должное, что репетиции шли очень весело, и я считаю, в фантастически короткий срок — сорок пять репетиций. Без финансов, потому что сказали, что они финансировать такой спектакль не будут. А я сказал: «И не надо, я все из старых декораций делаю». И не из-за денег, я достал бы деньги, я нарочно хотел именно так и сделать: коллаж из всех спектаклей, как бы подарив это Булгакову.
Мне хотелось к десятилетию театра что-то сделать интересное. И я считал, что самое интересное для меня и для театра — это сделать «Мастера». А поэтому уже родилась внутренняя потребность подарок сделать писателю прекрасному с трагической судьбой, как-то связанному косвенно с нами через Николая Робертовича. И поэтому «Мастер» возник скорей от формы. У меня возникла убежденность, что я должен собрать лучшее, что сделал театр в смысле ходов, эстетики театра, манеры театра. И тогда я взял самое для себя дорогое за эти годы — занавес гамлетовский, раму мольеровскую — но почему я брал, потому что я думал: в раму я посажу Пилата — Рим, золото, цезари, вот пусть и наместник сидит в раме весь спектакль. От советских времен трибуна маленькая слева, на которой Берлиоз там упражняется, ораторствует — это из «Живого», кубики из «Маяковского», на которых сидит Воланд, — ну, это так, по ходу дела они были, а больше там ничего нет. Единственно что — это крест, перекрестье, оно ведь в «Гамлете» было. Значит, из «Гамлета» был этот крест: «неси свой крест веры»; маятник из «Часа пик» — такие, ну, что ли, детали, годные на все времена. И таким образом инсценировка уже делалась под готовое решение театральное. И тогда очень легко раскидывались сцены: Воланд летал на маятнике, то есть время — время для него не играло никакой роли. И тексты ложились очень хорошо. В это время мой старший сын Никита познакомил меня со своим однокурсником Владимиром Дьячиным, он сдавал диплом по Булгакову: какую-то диссертацию писал — и он мне стал помогать. Я хотел его и завлитом потом сделать, и уговаривал его, чтоб он пришел в театр — так, к сожалению, он все откладывал, откладывал, а потом он был сбит черной «Волгой», когда работал в колхозах. Он талантливый прозаик, у него есть одна пьеса «Моисей», но она скорей либретто для оперы. В драме я никак не мог сообразить, как ее поставить.
Вот почему появился «Мастер», но и как выяснилось, выбор я сделал правильный, потому что этот роман действительно стал всемирным достоянием людским и я рад, что я его поставил.
Я хотел к десятилетию театра, но нам не разрешили. И только мне удалось это сделать к тринадцатилетию театра — 23 апреля. Поэтому даже такое шутливое завещание составил актерам, что «играть по тринадцатым числам, в день рождения и смерти поэта в прозе и обязательно тринадцатое число каждого месяца играть»…
Эта афиша была повешена в актерской комнате под стекло, и ее украли.
Мы это сделали первыми, и жаль, что театр не показал его вовремя в других странах. Сперва в Израиль его пригласили, потом они передумали почему-то — не знаю, может, из соображений внутренних, что не хотелось им, чтобы Христос ходил, так же как и советским не хотелось: главным образом, их возмущало, что как это Христос ходит, что это за безобразие, кто разрешил? Они все возмущаются, а Христос все ходит и ходит — не слушает их никак.
Композитор был — Эдисон Денисов. Там одна цитата из прокофьевского балета «Ромео и Джульетта». Мне она просто очень понравилась. Я любил очень этот его марш, Эдисон сопротивлялся: «я, говорит, напишу сам подобный марш», но потом смирился.
Опять я сжимал спектакль как всегда. Мы куда-то должны были ехать, и я хотел подсократить спектакль для отъезда, чтоб он был покороче.
Были сцены, по-моему, и в Торгсине, и с примусом была эта самая история — там было несколько сцен. Но я считаю, и сейчас он длинноват.
У меня бывали какие-то вещи, никак я не укладывался в один вечер, я помню, «Преступление…» не укладывалось, «Бесы» у меня никак не укладывались в Англии. Я хотел два вечера, а там это вообще невозможно. Брук делал спектакль необыкновенно длинный, но я как-то не склонен. Я считаю, что должен уметь выразить себя в коротком метраже: ну два с половиной часа, ну два сорок пять максимум — я считаю, не стоит более злоупотреблять вниманием публики.
А тут Симонов и комиссия, которая принимала этот спектакль, по-моему, там был и Каверин — я забыл, очень авторитетная комиссия по наследию творчества Михаила Афанасьевича мне очень помогла, потому что они признали, что инсценировка сделана хорошей и это явилось каким-то документом для борьбы с начальством. Это была официальная их рецензия на инсценировку. Положительная. Что это бережно, со знанием дела и так далее и так далее. И это стеснило начальство, которое, конечно, не хотело это выпускать. Но комиссии казалось, что не надо эпилога. У меня третий акт ведь не третий акт. Это был, скорей, короткий эпилог на 25 минут. Развязка. А кончалось: «Рукописи не горят» — сцена, когда Воланд читает роман и прокофьевский марш. И на этом и комиссия, помню, которая принимала, и комиссия по наследию, они все сошлись, что «рукописи не горят» — прекрасно все. А так как у меня где-то был внутренний протест, что горят, к сожалению, еще как горят, то я не согласился и упрямо играл финал весь. Но мне кажется, это и правильно, потому что финал такой вытекал из всего замысла.
Это была быстрая работа. И со стороны актеров это тоже была полная отдача, с удовольствием все работали. Правда, кое-кто не верил. Я хотел, чтоб Филатов играл Мастера, а он как-то выжидал, потому что он считал, что это все равно не пойдет. Была какая-то внутренняя оппозиция у некоторых актеров, что это блажь и что это никто не разрешит. И некоторые актеры выжидали: принять участие или подождать, посмотреть. Потом мне сказали, я как-то не понял, что Владимир очень хотел играть Воланда, оказывается. А я не знал, я ему дал Бездомного играть, потому что мне казалось, что просто родился он для этой роли и может прекрасно вытащить весь юмор и иронию к этому образу. Он, наверное, из деликатности не просил, что, мол, я хочу сыграть Воланда. Там было много неприятностей: репетировал Хмельницкий со Смеховым. Потом уж Соболев вошел, а Хмельницкий играл слабо, и этим был расстроен, и это послужило в конечном итоге тому, что он ушел постепенно из театра.
Вообще, забавно начиналось. Я помню, купил вина, фруктов — решил это сделать как-то красиво — и решил читать инсценировку. Я хотел, чтобы это был особый вечер. Так же как после конца спектакля я выпустил афишу, на которой было написано, что «вот я сделал работу, сдаю ее актерам и надеюсь, что они будут ее беречь, хранить и не будут ее разваливать» — ну, такое полушутливое завещание, как Довженко сад сажал яблоневый, чтоб у актеров облагорожены были души, как-то повлияло на них цветущее дерево прекрасное. Но и он ошибся, и я ошибся: не повлияли ни мои фрукты, ни мое вино, ни его сад. В театре были какие-то обычные склоки, неприятности. Начался какой-то спор, что-то о загрузке актеров, возмущения, что вот «я хотела играть эту роль, я ее не получила и надо говорить о положении, в котором театр находится».
Я говорю:
— Простите, мы же собрались… Это не производственное совещание. А это читка пьесы по роману Булгакова.
— Нет, мы сперва будем обсуждать всякие дела.
Я говорю:
— Нет, ничего мы обсуждать не будем, потому что время позднее, — это было после какого-то короткого спектакля. Большинство стало кричать:
— Нет, читайте!
Некоторые стали кричать:
— Нет, обсуждать будем положение.
Короче говоря, я забрал инсценировку, встал и ушел, не стал читать. Так печально началось. Как всегда актеры покричали, побезобразничали и разошлись. Но потом я прочел, и стали мы репетировать.
И вот что удивительно: почти все спектакли так или иначе закрывались, а «Мастер и Маргарита» прошел.
Я делал это так. Я приезжал к начальникам, которые были в справочнике, который Петр Леонидович Капица давал, приезжал в образе Кузькина из «Живого». С ясными глазами, в тройке: жилетка, пиджак, белая рубашка, подкрахмаленный воротник — не придерешься. Но все равно потом — вот что интересно психологически — разговор потом, после моего ухода — были у меня и там приятели — говорят:
— А этот как был одет?
— Сволочь! В тройке пришел. Не придерешься.
Ну вот, значит, я приезжал. Или иногда в джинсах — когда был срочный вызов и имел уже готовую фразу:
— Извините, вызвали с работы, я так, прошу прощения, прямо с репетиции. Вы сказали, я сразу.
Но у меня висел в кабинете и костюм. То есть я мог всегда быстро переодеться и прийти, как подобает. Но иногда я нарочно такой ход делал. Я приезжал с таким видом и садился:
— Я вас слушаю.
— Вы что это там делаете?
— Работаю, репетирую.
— Что?
Я называл.
— Еще?
— Ну и вот по известному роману «Мастер и Маргарита», опубликованному в журнале «Москва»…
— А кто об этом знает? Министр ваш знает?
— Да, знает. Я ему говорил.
А на самом деле, к сожалению, дело обычно было так когда я выходил из его кабинета — у него прекрасный прием был — дохожу я до дверей, и внятный громкий голос министра:
— Булгаковская книга нам не нужна. «Бесы» ваши нам не нужны. И этот ваш, — имея в виду Эрдмана, — не нужен. И «Живой» ваш тоже нам не подходит.
Это чтоб я в обморок падал с той стороны двери. Но я не падал. Я поворачивался и говорил:
— Благодарю вас.
Все знали, что мы делаем, поэтому нельзя было сказать: «Кто вам разрешил?» Я говорю: «Как кто? — Все». Все же знали, что я репетирую. Репетиции шли. И они все время искали: кто же разрешил. Но никто не разрешал. И поэтому это вызывало все время споры у них. Видимо, они все искали виновника. Как в «Ревизоре»: «Кто сказал „э“?» — помните, Добчинский с Бобчинским? Но никто так и не сказал. Нет. Сказал Зимянин, приказав написать статью в «Правде» «Сеанс черной магии на Таганке». И удивительно, что после такой статьи спектакль ничего не претерпел и шел без единой купюры. Так было только с одним спектаклем.
Мне кажется, что «Мастер и Маргарита» на Таганке получился лучше, чем в Швеции. Лучше. А то получается, что со своими актерами мне хуже работать, чем с другими актерами в других странах. Нет, это не так. Конечно, с рядом моих актеров, с которыми я столько лет работаю, мне легче работать. Бывают исключения. Бывают очень хорошие актеры, с которыми у меня прекрасные отношения сохраняются на долгие годы, когда я работаю в других странах. Предположим, ряд английских актеров, ряд актеров Национального театра Швеции, и в Хельсинки есть очень хорошие актеры и в Германии, и ряд актеров в Бургтеатре в Вене, в Венгрии, в Греции.
* * *
Как-то на «Мастера и Маргариту» пришел первый зам. Щелокова — забыл фамилию. С женой он был и, по-моему, с дочкой даже. И его заинтересовало:
— Кто же это разрешил?
Я говорю:
— А что вам показалось тут крамольного, ведь это же издано.
Он говорит:
— Да-да, но все-таки кто же это разрешил?
Я говорю:
— Ну все это знают.
— Да?
— Да, и вот министр знает, и Зимянин знает, — я говорю, — все знают.
Он говорит:
— Ну раз разрешили, конечно. А вы сами не чувствуете, что надо бы тут немножечко…
Я говорю:
— А что вас смущает: голая дама спиной сидит?
— Нет, ну почему же!
Жена сказала:
— Ну и это тоже зачем, ни к чему это так уж.
Я говорю:
— Да, может, вы и правы, потому что многие чиновники, когда принимали, они все спрашивали: «А что, спереди она тоже открыта?» — я им предлагал зайти посмотреть с той стороны.
Ну все мы посмеялись, потом он, уходя уже, любезно говорит:
— Ну а чем я вам могу помочь, хочется вам все-таки помочь.
Я говорю:
— Ваши орлы задерживают на дороге, и вот неприятности, долго с ними объясняешься.
Он говорит:
— Но ведь им так и нужно по службе.
Я говорю:
— Я понимаю. Но ведь иногда у меня гости высокие в театре, а я опаздываю. И большие неприятности у меня от этого, ведь я же не буду им объяснять, что меня милиция задержала, — я говорю, — езжу я очень давно, с войны, так что поверьте, я не подведу вас.
«Мастер и Маргарита», 1977. Иешуа — А. Трофимов
Маргарита — Н. Шацкая. Голая спина актрисы смущала московских чиновников
Он говорит:
— Да это я вам выпишу талон без права проверки, но я должен вас предупредить, что очень много аварий именно у этих людей, они начинают нарушать и попадают в катастрофу, так что вы подумайте все-таки.
Я говорю:
— Вы знаете, я это много обдумывал. Так что если вас не затруднит это, я буду очень много обязан.
И он мне сделал такой талон. Года три я ездил. Помогало замечательно. Остановит, подходит он, важный:
— Документы!
Я ему показываю, он хочет рукой, я говорю:
— Стоп, стоп. Без права проверки.
Он так.
— Есть.
Я говорю:
— Идите, работайте, работайте. Я вас не задерживаю.
А до этого я пользовался Сталинской премией. Тогда это солидно все делали: удостоверение, тисненное золотом — «Лауреат Сталинской премии» с фотографией. И вот я права клал водительские в это. Эта книжечка была небольшая. И милиционер, когда я ему совал, читал, и один и тот же вопрос:
— Сам подписывал?
И потом одна и та же фраза:
— Товарищ, такие документы иметь! Надо же осторожней!
Я говорю:
— Есть, товарищ начальник.
— Ну смотрите.
Страна Чудес.
«Ревизская сказка» Н. В. Гоголя, 1978
«Боже, как грустна наша Россия! — воскликнул Пушкин после чтения „Мертвых душ“. — Не в силе Бог, а в правде. Трагедия русского народа в том, что русская власть никогда не была верна этим словам.»
Это всецело можно отнести и к советской власти. Даже более чем.
Отвели нумер. «Дали нумер — он и умер».
«Ревизская сказка»
Это все гоголевские фразы. Я делал рисунки к этому спектаклю: вешалка такая — тут бесконечные шинели, шинели, шинели, а тут галоши, галоши, галоши. Там все были в шинелях. Вырезался кусок занавеса — кусок, его откидывают, и это уже пелерина. Так начиналась «Шинель».
Гоголь действительно уникальное явление, как и Храм Василия Блаженного, как Мусоргский, так и Гоголь. Ну, есть такие уникумы, которые вне закона.
Мой старший сын Никита на репетиции «Ревизской сказки», 1977
«Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского, 1979
Я несколько раз ставил «Преступление и наказание»: в Вашингтоне ставил, в Будапеште.
В Венгрии я много ставил. Я поставил там первый раз «Преступление и наказание» — до России. Потом я поставил «Обмен» в Сольнеке. Это было… сейчас точно я вам скажу — ты, Петька, был у Катьки в пузе… 79-й год. Потом «Трехгрошовая…» — почти что каждый год я ставил. Один год чаще даже… В 82-м году «Дон Джованни» в Будапеште.
В Будапеште у «Преступления…» совсем другой вариант был, совсем другой дизайн, хотя это Давид Боровский делал также со мной. Там были такие три подворотни, глубокие ворота металлические, ржаво-железные. И он совсем по-другому выглядел. И центральные ворота уходили в глубину и там открывалась дверь на улицу. И был очень сильный момент — премьера была зимой — и распахнулись эти двери и оттуда холод, даже в Венгрии шел снег на улице, и вот оттуда пошли каторжники, с улицы прямо на зрителя, и пахнуло холодом, и я увидел сильную реакцию зрителя. Он в этом театре никогда не видел такого хода. Для этого театра довольно традиционного это было такое… примерно как в опере «Дон Джованни», где оркестр восседал на сцене, а дирижер свободно ходил по ней и дирижировал — также это было для них неожиданно. И многие их старые актеры прославленные были в какой-то оппозиции. Был очень мудрый старый у них руководитель Золтан Варкони, весь из капитализма. И в социалистической Венгрии он был такой же белой вороной, как я в его театре. Но мы с ним были очень вежливы, и у нас были отношения безукоризненные.
Когда меня выгнали отсюда и я начал скитаться, меня всегда поражало, что все знают Достоевского, а я его очень любил. У меня постановки Достоевского «покупали», и я мог жить. Я поставил пять раз «Преступление…», один раз «Бесы» — и это мне помогло выживать. И я выиграл у эмигрантов пари. Собрались злые эмигранты — когда я был в Америке — несколько волн последних. И они говорили:
— Мы не хотим вас огорчать, Юрий Петрович, но хотите, давайте пари любое, что на спектаклей десять кто-нибудь придет. А потом… Кому нужен ваш тут Достоевский? Им совершенно ничего не надо.
— Ну давайте пари, — большой стол сидел, начали пари заключать, достигли десяти тысяч долларов, — давайте спорить, через три дня это решится, будет премьера, и мы посмотрим, сколько продано билетов, сколько пройдет спектаклей. Установим канон — десять, то есть вы за то, что и десять не пройдет, да? Я спорю с вами.
Но они испугались спорить, потому что, видимо, поняли, что проиграют. И тут они стали отступать. Говорят:
— Давайте спорить на ужин хороший.
— Да я вас и так накормлю, без спора!
Прошло семьдесят с аншлагами, и стоячий билет стоил десять долларов. Для Америки это вообще феноменально.
В Англии на «Преступлении и наказании» Гилгуд был и очень болел за этот спектакль. Он когда-то играл Раскольникова, ему очень понравилось, и он очень хотел, чтоб его перевели на West End, чем он может посодействовать, потому что он считает важным, чтоб это смотрели, ему нравится, как это сделано. Но режиссер, который руководил этим театром, очень напутался, потому что ему, видимо, было обещано, что он поедет в Москву что-то ставить. Тут наши проявили себя как всегда с лучшей стороны!
И поэтому он был весьма расстроен тем, что случилось, и все время старался доказать свою лояльность, что он тут ни при чем, что это неожиданно: кто разберет этого человека. Но я помню, первый раз я был поражен, что и в Англии могут работать прохладно и средне. Именно в этом театре: то есть постановочная часть была средняя, приходилось нам с Боровским очень много преодолевать. Они делали все довольно вяло, часто почему-то не понимая, хотя там элементарно все и ясно. Но им казалось сложно: путешествие двери в пространстве — там была как раз черная стена, черный вариант. Другое пространство. Все зависит от пространства.
* * *
Свидригайлов — очень интересная фигура вообще. И интересно, как она меняется со времени написания романа. Идет развитие жизни, общества, и очень за эти полтора века или больше даже — с момента написания романа. И в общем, жизнь меняется, к сожалению, в худшую сторону — и нравственные и этические нормы. И благодаря этим измененным нормам меняется восприятие образа. К сожалению, возможны вот такие сочинения юношей и девушек, а с точки зрения падения нравственных, моральных и духовных устоев общества и появились эти сочинения, и Свидригайлов уже не кажется нам таким скверным, падшим, мерзким созданием. И наоборот, выходят грани человека, который сохранил яркую свою личность, который в век такого двоедушия: все как кружки фальшивые, с двойным дном… Борис Леонидович покойный говорил, что, «по-моему, большинство инфарктов в России от двоедушия — двойную жизнь ведут: между собой одно, а когда уже трое — нельзя это говорить». А раньше и между собой, при Сталине. Даже детей боялись, что ребенок донесет — Павлик Морозов, которого воспевали все. Это пионер, который донес на папу-кулака. Ему памятники везде стоят, и в школах его ставят в пример. Это все на тему вот двойного дна, двоедушия, и как в свете всего этого идет переоценка ценностей. Это тоже одна из тем «Преступления…» и вообще из основных тем Достоевского. Свидригайлов — Дуне, раскрывая глаза на брата, он очень точно формулирует всю раскольниковщину, русский характер беспредела во всем… когда богатая одаренная натура не находит выхода своей энергии. Это Тихон то же самое говорит Ставрогину в «Бесах», он говорит, что он удивлен, что такая масса энергии в нем и направлена на такие гадости, что если б ее приложить, так сказать, на доброе дело, то какая бы польза была людям.
Свидригайлов — В. Высоцкий, его последняя роль в театре. Я считаю, что это лучшая роль его
Мармеладов — Р. Джабраилов
Европа пережила унижение, попав в рабство диктаторского самого злого бессмысленного организованного садистского режима. Почему-то все забывают, люди гордятся короткой памятью — это странно. Первое, по-моему, несчастье для общества — это забывать свою историю. Орвелл и написал свою книгу; специальное у него министерство по отшибанию памяти, которое все время корректирует и переписывает историю. Про это спел и Высоцкий в своем «Монументе».
Этот ассоциативный ряд, я считаю, очень важен для искусства вообще и для моей профессии, в частности. Такой ряд ассоциаций возникает у художника, когда он создает. И очень интересно, если были бы какие-то машины, которые бы проверили, какой же ряд ассоциаций возникает у зрителя. Ну, этим и занимается критика, когда она анализирует причины успеха, провала и так далее. Или почему мы знаем по истории искусств столько печальных случаев: освистали «Кармен», освистали «Риголетто». Что такое?
Почему такая переоценка произошла? Стечение каких обстоятельств фокусирует на каком-то человеке столь много внимания? Все мировые гении выдержали испытание временем, но все равно все время происходят какие-то перемены. Вдруг выплывает и входит в моду какой-то писатель, потом он на полвека уходит в тень, потом он опять выплывает, и очень сильно, так, как сейчас очень сильно, предположим, приковал к себе внимание Достоевский, Гоголь. Это безусловно зависит от того, какой ассоциативный ряд это вызывает у современных людей.
Очень смешно: я приехал в Вену, мы ехали на автомобиле, в Шенбрунн. Я говорю: «А где тут этот знаменитый венский лес?» Почему? До войны шел «Большой вальс» — наивная картина, но она произвела огромное впечатление в Москве, в России, такой какой-то свободой, раскрепощенностью. Красивая женщина пела, очень симпатичный актер играл Штрауса. Значит, и для меня вдруг — надо сходить в венский лес, посмотреть, наверно экскурсоводы водят. Потом проходит много лет, Высоцкий с Мариной приводят меня во Франции в Париже на гастролях в клуб Жерара Филиппа, нас встречает поразительно похожее лицо у господина — председатель этого клуба. Я спрашиваю: «Кто этот господин?» Он говорит: «А! Это… Все понятно, это ваш однолетка, он играл Штрауса в „Большом вальсе“». Я так обрадовался, как будто увидел своего старого знакомого.
И сразу пошла у меня цепь ассоциаций: Жан Вилар, у которого играл Жерар Филипп, жена приезжала в театр, оставила автограф в кабинете… Почему я вам все это рассказываю. Когда какая-то сценическая находка задевает вас и вызывает цепь ассоциаций, то начинается вот это замечательное, что ли, такое взаимодействие актера, спектакля, зрительного зала, начинается карусель такая. И тогда всем интересно, наверно. Так же как и мы сейчас вот, я вам сейчас нарочно пример привел: как странно идет ассоциативный ряд. И сколько у каждого человека ассоциаций вызывает запах, любимая мелодия, вкусное блюдо — все чудеса жизни нашей земной.
«Турандот» Б. Брехта, 1979 (Почему я снова вернулся к Брехту)
Я еще несколько раз обращался к Брехту: в «Турандот» и в «Трехгрошовой опере.» «Турандот» — пьеса неоконченная, и тут я как-то вроде был более свободен, поэтому и зонги другие, и всю пьесу я перекомпоновал. Дошло вообще до какой-то глупости: когда меня критиковали, то сказали, что я хочу воспеть маоизм, потому что там Брехт верит, что придет с гор кто-то и спасет всех. Но это же армия Мао. Значит, он верил, что что-то такое идет новое и интересное, значит, он глубоко ошибся, видимо. Но меня в «Турандот» другое интересовало — финал, который так вылился: что вот эта система, в которой живут эти несчастные люди, этот, ну что ли многоступенчатый император, — там все есть: и коррупция, и гангстеры, и мафия — и все, что угодно. И жизнь становится настолько невыносимой, что вот вылился такой интересный финал: там была такая машина — унифицированные люди, — которую все крутили эти несчастные люди ради того, чтобы там наверху обдувало одного человека — он жил хорошо, в прохладе. Они были все в таких купальных шапочках и в китайских плащах «Дружба». Были такие серые плащи непромокаемые «Дружба» — в эпоху дружбы СССР с Китаем, когда все пели песню: «Сталин и Мао слушают нас», такие ужасные серые плащи.
Это долго не разрешали ставить. Их смущало название «Турандот, или Конгресс обелителей». Это пьеса недописанная и она не очень сильная, но почему-то мне хотелось ее делать. А, видимо, дочь Брехта хотела вместе как-то со мной участвовать в этой работе — я не знаю, какие причины, но когда этот спектакль вышел, то, видимо, с ней связь наладили советские, чтобы она какой-то протест написала. Спектакль этот вызвал очень недоброжелательное отношение властей. В это время был разрыв с Мао Цзедуном, а там есть тема, что «вот идет армия, которая освободит нас, наконец кто-то спустится с гор и принесет счастье», — но я это как раз изъял, этого в спектакле не было. В спектакле был финал, что все покидали это государство, и оно оставалось пустым. А основной дизайн был — бумага сортирная. Все нам завидовали — откуда у нас столько бумаги — как всегда, это был дефицит, все покупали, счастливые, и шутники надевали на шею эти рулоны как бусы.
Финал был такой — люди уходили из этой машины, и все оставалось пустое, они покидали это все, все уходили. Там была музыка Альфреда Шнитке и прекрасные зонги на стихи Слуцкого, и музыкальные цитаты моего ушедшего старого итальянского венецианского друга Луиджи Ноно.
«Дом на набережной» Ю. Трифонова, 1980
Это 50-е годы. Это огромное берется расстояние: полвека жизни. Жизнь человека.
Там прекрасная есть метафора: богатырь на распутье. Глебов говорит:
— Меня с детства преследовал образ: богатырь на распутье, — есть такая картина: богатырь стоит и три дороги — по какой идти? «Сюда пойдешь — то-то найдешь, сюда пойдешь — то-то найдешь…» Это в каждой стране, наверно, есть. И главный герой все время полемизировал с залом и доказывал, что «вы все так же живете, как я, но только делаете вид, что не так, и осуждаете меня». И этим он оправдывал все свои компромиссы и подлости.
И очень смешная была реакция у начальства и на «Обмен», и на «Дом на набережной» — ну, примерно одинаковая. «Обмен» более мягко проходил, потому что они сказали:
— Правильно вы разоблачили этого беспринципного карьериста.
Так же и с «Домом на набережной». Когда они говорили об образе Глебова, они считали, что правильно показывают отрицательный персонаж, но когда возникли некоторые трудности при сдаче спектакля, то вместе со мной был очень известный и умнейший наш театровед, шекспировед Аникст. И там они сказали:
— Ну зачем вы это показываете? И зачем нужно смотреть на эту мерзость, на этого персонажа главного, этого Глебова? Ну это, ну было когда-то, ну прошло и… — то он не выдержал и сказал:
«Дом на набережной», 1980
Л. Селютина
В. Золотухин, Л. Филатов, Ф. Антипов
Ф. Антипов
— Что?! Как вы смеете это говорить, что не нужно! Вы хотите, что? — память отнять у нас у всех? Что? Значит отнять память: отнять нашу прожитую жизнь! — И начал кричать: — Я, я Глебов! Я, я Глебов! Я ходил в этот дом, будь он проклят. Я себя так вел, я, я!
А он имел всемирное имя. И они замолкли от такого взрыва эмоционального, но пропустили совершенно не по этому, конечно. Они бы закрыли. Не хотели печатать эту книгу, она в журнале была напечатана, а отдельной книгой не хотели ее выпускать — в двухтомнике Трифонова. И мне все время чинили препятствия к выпуску спектакля. Но тут как раз по Москве пошел слух, что он (серый кардинал из Политбюро — Суслов) сказал:
— Почему не печатают эту книгу? Эту книгу надо печатать. Мы все страдали, мы все подвергались нападкам Сталина, мы все прожили этот страшный период. Печатайте эту книгу.
Этот аргумент я высказал им, и все знали, вся Москва говорила, она же живет слухами, разговорами: Суслов разрешил эту книгу, и я мог тогда жаловаться: почему запретили спектакль. И спектакль нехотя разрешили. Но на все праздники исключали его из репертуара.
Трифонов писал очень много в последние годы… И мы уже намечали с ним и третью работу — по его последним рассказам и мемуарам. Я хотел назвать это «Ухо». Почему «Ухо», потому что у него был кусок в воспоминаниях про мастерские художников. И там один тип опустившийся, но такой просоветский, железный — у него ухо похоже на ухо Сталина. И все художники нарасхват его берут как натуру — рисовать уши Сталина. Все ж зарабатывали: портреты Сталина к демонстрациям писали, к праздникам. Это же огромный доход был для всех художников. И он, благодаря этому своему уху, стал знаменитым человеком, и даже протекции оказывал художникам. И когда разоблачили Сталина, он потерял весь свой авторитет, опустился и стал просто пьяницей у ларька. Это должно было стать эпизодом пьесы, которую я хотел назвать «Ухо», потому что это очень многозначное название: ловит, подслушивает, ориентируется. Это должен был быть монтаж — о подслушивающих. У Трифонова нет такого рассказа — «Ухо».
С ним было очень хорошо работать, с Юрием Валентиновичем. Он очень охотно шел навстречу, если я его просил что-то дописать, добавить, что для спектакля не хватало. И вообще, я не могу пожаловаться: все писатели, с которыми я работал, мне доверяли, а многие были моими друзьями, а живые и сейчас заходят.
P.S. Вот Егор Яковлев затеял цикл: «Возвращение на Таганку».
«Три сестры» А. П. Чехова, 1981
Делалось всегда так: если я был очень занят и было какое-то решение, просьба актеров, «давайте мы начнем это, пока вы заняты, Юрий Петрович…» — так они без меня начинали ряд работ. Я доделывал другую работу, а поручал начать эту. Так было и с «Тремя сестрами». Я приходил к ним на репетицию раз в неделю, когда у меня было какое-то свободное время. Мне показывали работу, как она продвигается. Так же я принимал участие в работе с макетом. Я вот только не помню: сразу была заказана музыка Эдисону?.. Потому что там был какой-то музыкальный подбор, я помню, который я весь снял. Там была даже песня Пугачевой про клоуна — у нее была шлягерная песня «Арлекино». И она вроде звучала даже ничего, вызывала какие-то ассоциации, но всех она чрезвычайно раздражала.
Когда я приходил на репетиции, меня поражала невнятность. Все было вяло, равнодушно. Может быть, они решили, что в такой повседневности собственно и хотел выразить Антон Павлович никчемное существование. Но дело в том, что это на сцене было скучно, даже если допустить такое решение. Бывают вялые будни скучные, серые. Но на сцене публика дождется антракта, уйдет — да и все. Теперь во время спектакля могут вставать и выходить — это бывает: кому-то скучно, он встает и уходит. Хорошо, если тихонечко выходит воспитанный человек, а то и довольно грубо уходят, как бы демонстрируя, что, мол, за скука на сцене творится.
Ну вот — было скучно, и весь художественный совет предложил это закрыть совсем и постараться быстрей забыть, как кошмарный сон. И все уговаривали меня, чтоб я не ввязывался. Я говорил: «давайте попробуем все-таки доделать работу, жалко — полгода или больше длились репетиции». И потом внутренне мне казалось, что все-таки можно что-то сделать. Можно. Только надо все это переделать и главным образом, с актерами, чтоб это не было так все неинтересно. Ведь актеры всегда начинают валить на режиссера, режиссер — на них. Короче говоря, я стал репетировать. Я решил выпускать спектакль.
Я стал уточнять места действий, вот тут спальня, спинка кровати, вот это казарма, позволил себе некоторый очень деликатный перемонтаж спектакля — я начинал со слов Маши, что если сосуд пуст, то это и есть пустота нашей жизни. Хотя у Чехова не так начинается пьеса. Просто я обострял ситуацию, почему я и стал работать, почему я ввязался в казалось бы такое безнадежное дело… Во-первых, мне, конечно, было жаль потерянного времени, ведь столько люди работали. И я подумал: «Ну почему же? Значит, что-то они для себя не поняли, чем-то не увлеклись, не нафантазировали как следует». И фактически этим я и занимался. Это выразилось, конечно, в перестройке всех мизансцен, в уточнении места действия: там была деревянная эстрада и ряд стульев перед ней и персонажи как бы были и зрителями. И я выявлял, для чего должен человек выйти на эту маленькую эстраду. С одной стороны, это провинциальный город, и вроде так принято, играет оркестр на маленьких таких сценах, наскоро сделанных в летних садах. Потом я старался всячески подчеркнуть, что это пьеса военная — и у Чехова это есть, что это из жизни семьи военных. И действительно, там все персонажи военные, кроме трех сестер, жены брата и няньки. И мне показалось, что это дало свои результаты. Там была казарма, и они все в шинелях, в форме. Были рукомойники, койки солдатские.
И потом, я там нашел такую забавную для себя вещь — опережение событий. Будет дуэль, она уже намечается заранее какими-то штрихами, что вроде невзначай меряют шаги, как перед дуэлью, вроде невзначай бросают перчатку — вот такие вещи были сделаны. Ряженые. Появлялись маски. Ждали ряженых — и поэтому разговор приобретал уже какой-то иной характер. То есть шутливое одевание маски и сбрасывание маски — тоже давало какие-то вещи. Потом я искал внутренние мотивы у каждого персонажа, когда ему хотелось обязательно выйти на эстраду, когда ему действительно хочется что-то сказать людям. У каждого же человека есть потребность иногда говорить, говорить, высказать какие-то свои мысли, которые уже его распирают, он не может их в себе держать, он должен найти своего слушателя.
«Три сестры», 1981. Л. Селютина, А. Демидова, М. Полицеймако, А. Серенко (стоит)
Я искал эти моменты и они выходили на эстраду с ними. Все это сразу как бы раздвигало пьесу, ее рамки: вот идет бытовая сцена дома, а вот включаются другие места действия — казарма, эстрада, и они как зрители слушают, переговариваются, как бы оценивая эти выступления, которыми персонаж заявляет самое для себя важное и ценное.
* * *
Там была железная стена немного покрашена и паяльной лампой прописана. И поэтому было впечатление, что это какая-то старая заброшенная церковь или монастырь разрушенный, он как бы охватывал весь дизайн. И я просил художника сделать это ясней, чтоб можно было разглядеть, что это старые сбитые фрески, чтоб они вызывали какое-то размышление у зрительного зала.
Я сейчас не помню, долго ли длились эти репетиции, но спектакль вышел и шел, наверно, лет двенадцать, пока Губенко не отобрал новую сцену. Этот период театра перед моим изгнанием мне кажется был интересным: «Дом на набережной», «Три сестры», «Высоцкий» и «Борис Годунов». Это четыре интересных работы. И театр это понимал. Поэтому и начальство реагировало сугубо отрицательно на все эти работы, то есть они их не принимали, закрывали. Кроме «Трех сестер». В «Трех сестрах» были внесены незначительные коррективы: там была авоська с апельсинами, с палками колбасы, — ее приносили в дом. Но это было даже нарочно мной сделано, чтоб они набросились, начали кричать:
— Что это за безобразие, что это за осовременивание пошлое! — и так далее.
Так и было. Кричали, а я отвечал: «Почему я не могу? Ну купили апельсины… Город провинциальный, привезли апельсины, вот они и купили. Денщик принес. Семья большая, готовятся к именинам…». Это было смешно. Я думаю, если взять протоколы обсуждений, то там есть, как я сражался за эти авоськи, прикидывался: «Почему я не могу себе это позволить?»
И потом был комедийный совсем случай, когда кончался спектакль — там было сделано так, что идет тема «В Москву, в Москву!» — в начале спектакля оркестр играет духовой. Огромное окно новой сцены Таганки открыто, и потом оно закрывается, и тогда действительно реально мы понимаем, что потеряна Москва, и действие происходит в провинции. Тогда и понятны их стремления: «В Москву, в Москву!..» — тоскуют они очень по Москве, по столице. И в конце после слов знаменитых Ольги, что «мы должны жить, жить, оркестр играет так весело» — так она говорит, убеждая себя, хотя все очень скверно, а она настаивает усилием воли: «Все равно, несмотря ни на что…» — и так далее, публика понимала иронию этой интонации. И после этих слов публика хлопает — финал спектакля — и сделано было так, что снова открывается окно, и актеры после того, как поклонились, просили зрителя пожаловать в Москву. «Вот это Москва. Мы все говорили: „в Москву, в Москву“ — вы, жители Москвы, идите». И часть публики выходила через это окно — там есть лестница и можно спокойно выходить — вот она, Москва. Это тоже очень не понравилось начальству, но сказать что-то было трудно, ведь просто предлагают публике выйти — спектакль кончился. И вот один раз открыли окно, а там три пьянчужки примостились, разливают пол-литра, колбаску режут, лучок. И так они увлеклись своим делом на троих, что не заметили, как открылось окно, и очнулись только под дикий хохот публики. Публика решила, что это так поставлено. Тут же кому следует донесли и меня вызвали:
— Что за дела? Что вы порочите? Это образцовый коммунистический город Москва, а вы такие вещи себе позволяете делать.
И мне не поверили, когда я сказал:
— Я не был на спектакле, я не видел, я очень рад, что у вас такая прекрасная связь налажена, все вам докладывают, но это действительно какие-то алкаши туда забрались. Я ничего этого не ставил. Вы же принимали спектакль, этого не было.
Но они мне не поверили.
* * *
Сейчас я думаю поставить «Чайку» на новой сцене. Даже макет готов у Боровского. Хороший макет. Конечно, всегда трудно сказать, что из этого выйдет. Но если все будет хорошо, я буду делать.
P.S. Но ничего хорошего не произошло. Как раз в тот день, когда в Иерусалиме происходил этот разговор, новое здание театра силой, под прикрытием депутатских мандатов, захватили губенковцы, и теперь там проходят мероприятия коммунистов. В нем поставили «Чайку», но, как написал один злой критик, «она не взлетела и оказалась курицей».
Сейчас там коммунисты разных мастери все разваливается. Краденое добро впрок не идет! Пишу строчки эти, дорогой Петр, в Иерусалиме в гостинице легендарного Тедди Колека «Мешкенот Шонониме». Гляжу на башню Давида. Дед твой, Петр, назвал сына своего, первенца Давидом в честь Давида, победившего Голиафа. Брата моего бедного потом травили антисемиты, принимая за еврея. Вот, сын мой, какие дела бывают на этом свете. Но ты у меня кембриджский житель, сдающий трактат о принце датском, и я надеюсь, что эти напасти тебе не грозят. А впрочем, не знаю…
Иерусалим. Август 1998 г.
Я — за антидекорацию
Моя нелюбовь к определенного рода декорациям зародилась рано.
В годы, когда я еще был актером. Очень противно сидеть на сцене под пыльным кустом и делать вид, что вокруг тебя трава, лес. Ведь как бы ни был одарен художник, изображающий лес, настоящий лес все равно лучше, и живая трава лучше, и дом натуральный — убедительнее. Моя ненависть к бутафории, к тупому иллюстрированию места действия, стало быть, имеет давние корни, вытекает непосредственно из опыта актерской профессии. В самом деле, что для нас важнее в театре — человек, гуляющий в лесу, или лес, в котором гуляет человек? На этот вопрос Адольф Аппиа предлагал ответить каждому режиссеру и художнику еще в начале нашего века. Этот вопрос задаем мы себе и сегодня. Как сделать, чтобы то, что мы показываем зрителю на сцене, выглядело бы гораздо убедительнее, чем в жизни?
Как показать войну в спектакле «А зори здесь тихие…», чтобы зритель поверил в происходящее, забыл, что он в театре? Оказывается, выход один. Самим не забывать ни на минуту, что мы в театре, не стараться действовать не свойственными театру средствами, не имитировать действительность, и тогда сильнее чувство правды и жизни на сцене и больше верит нам зритель. Мы с художником Давидом Боровским не пытались маскировать сценическую коробку под настоящий лес, землянку или блиндаж. Сценическая коробка у нас «просвечивает» в этом спектакле, как и во всех других наших работах.
Наш театр не старается сделать вид, что он не то, что он есть на самом деле. Мы откровенны со своим зрителем. Мы сразу предлагаем ему условия игры, как в народном площадном театре. Если на сцене и происходят превращения, то на глазах у зрителей, как бы с их участием.
В спектакле «А зори здесь тихие…» мы, например, «обыгрываем» все варианты оформления на остове кузова грузовика.
Для нашего театра неприемлема декорация описательная, декорация, безразличная к актеру, как бы вообще забывающая о его присутствии на сцене. Для нас совершенно неприемлемо и оформление, играющее роль рамки, в которую потом задвигают спектакль. И если уж продолжать пользоваться словом декорация, то я скорее за антидекорацию, если под декорацией понимать по привычке нечто украшающее, статичное, пассивное. На сцене может и вовсе не быть декораций, но не значит же это, что мы отказываемся от художника.
Просто его работа становится абсолютно неотъемлемой частью синтетического спектакля. Я очень благодарен Л. Варпаховскому, который познакомил меня с художником Д. Боровским. Боровский пришел на спектакль «Павшие и живые», и по тому, как говорил он о нем, обращая внимание на те или иные детали, я понял, что мы с ним сработаемся. Теперь уже позади несколько совместных спектаклей: «Мать», «Час пик», «Что делать?», «А зори здесь тихие…», «Гамлет».
Боровский интересно придумывает, но и не боится отказываться от предложенного и вновь переделывать, искать новые решения. Мы с ним прокручиваем всегда несколько вариантов, прежде чем дойти до окончательного. Как в кино, где снимаются многие километры пленки, а монтируют сравнительно короткий фильм. Умение не застревать на первоначальном, идти дальше, развивать, уточняя, углубляя — важное качество Боровского. Каких вариантов только ни испробовали в «Часе пик»! Была фреска со «Страшным судом» Микеланджело из Сикстинской капеллы. Она продолжалась со сцены в зрительный зал.
Это было очень впечатляюще, всем нам она очень нравилась. И все-таки от нее отказались, ощутив несоизмеримость масштабов страстей Микеланджело и автора пьесы.
Было предложение — заставить всю сцену сидениями, вытащенными из автомобилей, или поставить круглые выпуклые зеркала, такие, какие устанавливают на разъездах, играть весь спектакль на автокарах, разъезжающих по сцене. А в результате остановились на более простом, может быть, но более эффективном сценически варианте. В центре сцены поместили маятник с циферблатом. Это знак времени. Но это и своего рода вещь, с которой работают актеры. Порталы сцены стали хлопающими дверями лифтов, а в глубине сцены по горизонтали ездила кабина лифта, набитая людьми.
Мы ищем фактуру, пространство, детали до тех пор, пока не почувствуем, что, наконец, нашли решение, при котором можно «выбрать» все мизансцены, нужные для спектакля. Как при удачной комбинации в шахматной игре, когда можно сделать много ходов и выиграть партию. То есть макет должен обладать большими потенциальными возможностями развития сценической жизни, ежеминутного развития. Мы выходим к актерам с окончательно решенным макетом, и они понимают, в какой пластике и манере им работать. Но, конечно, это еще вовсе не означает, что придумывается все сразу до конца, на весь спектакль. Насиловать воображение нельзя.
Перед началом работы над спектаклем карта с еще белыми пятнами, как в давние времена. Постепенно их становится все меньше и меньше. Они исчезают, когда подключается актерская интуиция. Чисто подсознательно возникают вещи, которые заранее никогда не придумаешь. Актер работает на сцене с реальными предметами, активно включая то, что задумал художник в процессе действия. Боровский активен и на этом этапе работы. Буквально с первых репетиций мы начинаем устанавливать свет. Сразу выволакивается на сцену все, из чего будем лепить спектакль. Свет, звук ищутся на самой сцене. И без художника здесь пришлось бы туго. Удачи или, говоря военным языком, прорывы возникают на стыке жанров. Как на фронте, бывает легче прорываться на стыке соединений. Классифицировать, делить на периоды работу художника, работу театра? Это дело критиков, теоретиков.
Страшно стать эпигоном самого себя. Но ведь когда находят неизвестную картину, скажем, Рембрандта, знатоки сразу определяют его манеру. В любой своей вещи Рембрандт остается Рембрандтом. И при этом он постоянно меняется и себя не повторяет.
Догматизм — смертельный яд искусства. Каждый раз встречаясь с неповторимым, уникальным произведением искусства, мы пытаемся разглядеть этот новый кроссворд. Пластика спектакля, его пространственное решение, единство стиля — все это вещи чрезвычайно важные. И каждый раз мы решаем их заново.
ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ ЛЮБИМОВ.
(Из книги «Художник, сцена, экран», сборник статей. М,1975)
Репетиции
А. Шнитке, Б. Можаев, В. Покровский и я (слева направо)
Непоставленное
Работа шла медленно, потому что каждый спектакль сдавался несколько раз. Это ужасно. Получалось так, что ты на спектакль тратишь гораздо меньше времени, чем на бесконечные сдачи. Во-первых, это унизительно — раз, потом мы теряем огромное количество времени, ведь они дают свои идиотские замечания и говорят:
— Через две недели или через месяц мы будем еще раз смотреть.
Значит, глупо начинать новую работу. Что-то начинаешь править, но так, чтоб не испортить спектакль — опять им сдаешь. Ведь иногда по пять, по шесть раз сдавали. Ведь эти все безобразия, в общем-то, и вынудили уехать Андрея Тарковского. На Западе он бы сделал, я думаю, картин двадцать, а у нас он с трудом сделал четыре. Эта беспрерывная трепка нервов, эти бесконечные сдачи… ведь сколько вещей, которые я не сделал: два раза я начинал репетировать «Самоубийцу». Первый раз еще при жизни Эрдмана. Я репетировал по экземпляру, правленному рукой Николая Робертовича для журнала «Театр», который набрали, а потом приказали разобрать.
Я репетировал с осени 64-го года месяца полтора. Эрдман сам читал — я заболел, и он без меня, к сожалению, читал «Самоубийцу», я лежал в больнице. И не сохранилась запись. Он потрясающе читал. Есть запись, когда он читал интермедии к «Пугачеву» — тоже меня не было, я болел. Потом их запретили. Осталась просто пантомима и две-три фразы.
В кабинете
В Венгрии. Утро после дня рождения
Второй раз в восемьдесят, наверно, втором-третьем. «Самоубийцу» я начинал репетировать, когда он репетировался в театре Сатиры. Я сказал: «В Сатире репетируют, почему я не могу?» И тут же мне и закрыли, после того, как им закрыли… Мне сказали прекратить, сам я никогда не останавливался.
«Марат-Сад»
Я придумывал «Калигулу» Камю, и Высоцкий хотел там играть. Потом «Марат-Сад» Питера Вайса. Это самое, мне кажется, интересное было бы, и жаль, что мне не удалось тогда это сделать. Я много работал с покойным Гинзбургом. Он был блестящий переводчик. И перевод у него был великолепный. Такой раешник стихотворный сделал. Пьеса мне очень понравилась, я ее сократил, выдумывал стиль, манеру. Я в это время делал «Пугачева» и попал в больницу с желтухой и чуть не умер, потому что мне другой диагноз поставили — инфекционный полиартрит, и привезли меня в Институте им. Приорова в такой страшный коридор, где лежал черный линолеум и на нем следы ног — людей этих несчастных снова учили ходить, и говорят:
— Вот что вас ждет, поэтому вы должны набраться мужества и выносить все, что мы вам предпишем. Мы будем лечить вас электрическим шоком, всякими процедурами…
Я говорю:
— У меня сил что-то никаких нет.
— Нет, вы должны преодолевать.
А у меня была желтуха, то есть все их методы были мне противопоказаны. Ну это ладно, я не об этом, я об искусстве. При виде этого коридора, все мои фантазии окончательно замкнулись вокруг «Марат-Сада», и я решил ставить, хотя внутренне я понимал, что жизнь у меня будет тяжелая, если я поставлю этот спектакль. Мало того, что это все в сумасшедшем доме, но каждый из этих типов имеет свою травму: Марат — у него загипсована рука, маркиз де Сад — у него шея загипсована, поэтому он в таком жабо неимоверном. Отсюда родилась и пластика, у каждого персонажа своя, потому что они помимо духовной травмы имеют еще физическую травму — каждый свою. И я считал, что спектакль достаточно мной нафантазирован, чтоб я приступил к репетициям. Почему я этот пример привожу, потому что примерно так я всегда и работаю. Единственным исключением был «Гамлет», когда я в бешенстве подписал заявку, потому что они мне запретили ставить шекспировские «Хроники», которые я два года делал. Тогда я написал: «Гамлет». А в голове у меня ничего не было, кроме знания этой пьесы.
В «Хрониках» меня привлекла галерея прекрасных портретов и чрезвычайная современность материала.
По поводу «Хроник» были целые тома переписки с начальством. И в конце концов мне их запретили, сказали:
— Довольно нам ваших композиций. Ставьте каноническую пьесу Шекспира.
Я тут же написал — прошу разрешения поставить каноническую пьесу «Гамлет».
И «Марат-Сад» они запретили, и «Калигулу» они запретили, и «Носороги» они не разрешили. А ведь когда я прошу, то я уже придумываю, я никогда просто так не предлагаю, умозрительно: «Я хотел бы поставить это». Я долго думал поставить «Онегина», а вместо этого поставил все-таки «Товарищ, верь!..» — композицию, хотя и сейчас у меня что-то бродит, не поставить ли Онегина.
Я долго собирал музыку, потому что узнал, что Таиров хотел ставить «Онегина», а музыку должен был писать Сергей Прокофьев, а потом часть музыки он разбросал, часть ушла к Эйзенштейну в «Александр Невский», часть еще куда-то, была, говорят, очень интересная музыка, мне даже пытались достать где-то клавир или партитуру. Ну и в виду того, что как-то не складывалось с «Онегиным», еще до конца я не мог придумать, как это делать, то я решил: лучше я сделаю свою композицию, очень свободную — «Товарищ, верь!» И я любил этот спектакль, и актеры очень любили. Даже были мысли восстановить его. Но сразу как я стал восстанавливать все эти спектакли свои после приезда, это не обошлось без споров. Была целая группа, которая считала, что этого делать не надо, «давайте делать новое, новый этап, новую Таганку!» Я говорю: «Странные вы люди, почему вам обязательно кажется, что вот то, что вы сейчас сделаете, будет гораздо лучше».
«Фауст»
«Фауста» мы делали с Альфредом Шнитке для фестиваля у немцев — я забыл, где. Мы долго колдовали с ним. Сперва мы Гете брали за основу в переводе Пастернака, а потом вышла книга на немецком «Легенды всех земель Германии о Фаусте» — целый том легенд. И мы решили, что лучше мы по легендам что-то будем делать. А потом судьба нас разъединила, и на этом наши планы и закончились.
Он бывал в театре, дружил с Эдисоном Денисовым. По-моему, меня с ним Эдисон Денисов и познакомил. Я был к нему чрезвычайно расположен. У него было трудное время тогда. Ну, одинаковое для нас: всех, кого я называю МЫ.
«И дольше века длится день»
Я все выбирал, потому что театр должен был ставить что-то современное, иначе закроют нас. Я мучительно это искал. И на общем фоне мне казалось, что можно что-то сотворить из произведения Ч. Айтматова «И дольше века длится день». Даже был художник, киевский господин один очень интересный — Данил Данилыч Лидер. И мы с ним интересно начали работать. Так что это уже конкретно обретало форму. И даже частично была написана инсценировка. Но и эта работа не состоялась, поскольку в это время все и случилось — меня попросили отбыть в Англию ставить «Преступление и наказание», а потом заявили: «Преступление налицо, а наказание последует»…
* * *
Я хотел ставить «Бориса Годунова» на английском. И перевод заказать Бродскому. Потому что Бродский дружил с одним прекрасным поэтом, и они вдвоем могли бы сделать хороший перевод. В свое время он принес свой перевод английской пьесы «Розенкранц и Гильденстерн» Стоппарда. Мне понравился этот перевод и мне понравилась пьеса.
Это было до «Гамлета», но я уже хотел ставить «Гамлета».
И потом эта пьеса была обругана, и даже когда в «Высоцкого» мы вставили какие-то остаточки, они взбесились.
В эмиграции я видел Бродского один раз в Париже, когда еще был жив Володя. Мы вместе где-то сидели целый вечер, а потом я оставил ему message свой с поздравлениями по поводу Нобелевской премии. И еще как-то один раз где-то мы встречались в компании в какой-то, но о «Борисе» мы с ним не говорили.
«Носороги»
У меня не написано режиссерской экспликации, есть только проблема. Пьеса очень многословна, и вот найти этот ритм мещанской болтовни, этого якобы ничего не значащего текста, который мы всегда мелем среди дней своего пребывания на земле, вот эта удивительная шарманка и, конечно, характеры очень интересные. Ну и потом вся эта гипербола, причем это близко по жанру, если определять, к трагифарсу. Мне кажется, что это очень трудно поставить. Когда я сейчас думаю об этом — я только что прочитал эту пьесу очень внимательно и думал — во-первых, ее очень трудно сокращать, но, наверно, придется все-таки сокращать, если ставить. И там для меня главное — проблема выразительности. То есть там должен быть уровень актеров такой, как у великих комиков: Макс Линдер, Чаплин, Бестер Китон. И где найти таких — раз, а второе — там маски должны быть. Но столь же выразительные, как у этих великих артистов — надо помогать им создавать это. Мне кажется, тут огромное значение имеют просто фигуры: как их вылепить, как их сделать — то есть грим, манера — это эксцентрика. Без эксцентрики, мне кажется, там просто утонешь. И потом, идея нашего обносороживания уже сейчас довольно тривиальна: все понимают, что уже дальше ехать некуда, носороги благородней нас, и возникает вроде идея обратная — как разносорожиться и превратиться не в носорогов, а в людей — а этого в пьесе мало. Вот как это вытянуть. Но она, видимо, не об этом, поэтому такие у меня рассуждения весьма аморфные. Они еще не отлиты в какую-то законченную форму.
Мне сказал один из моих артистов, человек много читающий, думающий — Антипов, и физиономия у него сократовская, по нему не скажешь, что он мыслитель, но он весьма образованный господин. Среди артистов фигура довольно редкая. Вот он как-то мне говорит:
— А вам не кажется, что после «Доктора Живаго» уже очень трудно просто вернуться к обыкновенному спектаклю и начать репетировать?
Я поинтересовался:
— А почему тебе так кажется?
— Тут какие-то были вещи найдены и чтоб ими овладеть, потребовалось столько усилий, — он имел в виду, конечно, музыкальную сторону и передачу характера не только как образа, но и через музыкальные какие-то структуры. И его, видимо, как человека абсолютно музыкального это очень грело, и он бы хотел продолжать эти поиски. Поэтому ему не хочется вернуться снова к текстовой пьесе, а хочется дальше разрабатывать то, что нашлось в «Докторе Живаго».
Мы все живем — «В ожидании Годо»
Когда-то я хотел ставить «В ожидании Годо». Я внимательно прочитал пьесу, она мне показалась весьма интересной. Вот ожидание Годо — это мне показалось очень своеобразно написано и интересно, и потом это какая-то новая для меня драматургия была, и поэтому это вызвало у меня любопытство и интерес, как же это можно сделать. Я поговорил с Николаем Робертовичем Эрдманом, ему тоже она показалась своеобразной и интересной, а потом мне это не разрешили.
Меня часто вызывали, говорили:
— Ваши планы, что вы собираетесь делать? — Я же был обязан утвердить свои планы по их нормам.
И когда я сказал:
— Я хотел бы сделать «Носороги», «В ожидании Годо».
То мне ответили:
— Если хотите, делайте «Мать» Горького, а не хотите — можете вообще ничего не делать.
«Бесы»
Я хотел поставить «Бесы», хотел поставить «Записки из Мертвого дома». «Бесы», которые были у меня в голове всегда поставлены, я прорепетировал месяц, и мне сказали: «Хватит». Кто-то донес, потому что я тихонько начал репетировать, не вставляя в репертуарный лист, но тут же донесли. Это уже когда я пошел с ними на такую дикую конфронтацию: начал репетировать без разрешения «Самоубийцу» Эрдмана, «Бесы»…
А они в это время опять выправляли репертуарную линию театра: закрывали всем все, вырезали. И поэтому они даже обалдели и какое-то время были в шоке: что он, мол, делает, не видит, что ли, мы же наводим порядок везде.
Проект я все время давал им в план, а они мне не утверждали, не разрешали репетиции. Потом мне надоело, и я сделал без разрешения. Так и «Мастера» я, в общем-то, без разрешения сделал.
Потом последний год перед отъездом на Запад я был очень увлечен и сконцентрирован на двух спектаклях: о Высоцком и «Борис Годунов». Оба спектакля я считал для себя очень важными, и оба спектакля мне закрыли. Они нашли очень простой способ бороться со мной: они ждали, пока я заканчивал работу, и закрывали спектакль. Вот и все. И даже имели наглость заявить, что «он мало работает, он не выпускает новых спектаклей» — закрывая мне все.
«На все вопросы отвечает Ленин»
На этот вопрос очень хорошо ответил Молотов Дупаку, директору нашего театра. Молотов смотрел «Десять дней…» и спросил, что мы готовим. Дупак ему навытяжку докладывает:
— «На все вопросы отвечает Ленин».
Молотов засмеялся и сказал:
— Дорогой мой, на все вопросы даже Иисус Христос не мог ответить, — видите, какой оказался наш вождь (правда, после падения).
Так что не ответил он мне на все вопросы, и я решил, что не надо его и начинать.
Это был опять выход из положения — начальство все меня терзало, что у меня нет ничего современного.
Столетие Ленина
Вдруг меня вызывают к Фурцевой, и она говорит:
— Вот у меня к вам поручение — сделать концерт к столетию Владимира Ильича Ленина.
— Катерина Алексеевна, я же никогда этим не занимался.
— Вот и проявите себя, вот наконец-то делом займитесь. Мы дадим вам замечательного музыканта Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, он будет отвечать за музыкальную часть. А вы все это должны придумать, сделать, программу напишете, встретитесь с начальниками главков, все им доложите, с музыкальными главками — по музыке кто там. И потом мы с вами встретимся.
Я пошел к Николаю Робертовичу Эрдману.
— Николай Робертович, такое несчастье, что же делать?
Он говорит:
— Ну, во-первых, это очень трудно. Ведь они не хуже нас с вами стараются, кто делает такие концерты, уж выдумывают я не знаю что. Ведь к их услугам все — все имена — но любят стандартный набор, но видите, вас пригласили, наверно им надоело.
Я говорю:
— Да, было сказано: «Поищите кого-нибудь другого». Леонид Ильич сказал: «Нельзя ли обновить как-то — уж очень монотонно все получается».
Николай Робертович тогда и сказал:
— Придется вам делать, если вы хотите, чтоб театр остался. Потому что вам не простят, если вы откажетесь. Поэтому придется вам сделать хотя бы, а там уж их дело: примут они вашу программу или нет.
Я начал выдумывать программу. Прежде всего поехал во Дворец съездов. Там у всех был приказ Екатерины Алексеевны, министра. Меня встретили, вся челядь — инженер главный и т. д. — по Дворцу съездов. Я говорю:
— Дайте мне чертежи, я буду смотреть, какое у вас оборудование, что у вас двигается, что не двигается.
И вижу какое-то замешательство. Я говорю:
— Ну, откройте мне что-нибудь, у вас тут все законопачено — тут техника должна быть богатейшая. Ну покажите, вы же экскурсии-то водите, ну хотя бы. покажите, что вы экскурсиям показываете.
На этот раз я угадал — экскурсиям действительно показывают. Показали мне довольно примитивную игру света — как потолок играет, потом я говорю:
— Ну и что же, вы так молча все это показываете?
— Нет, у нас играет орган, — электронный орган.
Я говорю:
— Ну так покажите мне.
— А он у нас внизу.
— Ну так поднимите, он поднимается у вас?
Подняли орган — я говорю:
— Вот, уже красиво — орган поднимается, опускается. А это экран там у вас сзади?
— Это когда мы кино пускаем.
— Ну а как? Вот так он далеко и стоит? — Я и по сцене ходил, и чертежи глядел, и по чертежам видно, что все должно у них работать. — Покажите мне всю машинерию.
— Ну, мы не знаем. Давно не пользовались… — Короче говоря, половина у них не работает, как всегда. Экран еще ездил, потому что киношку они смотрят, в каждом концерте пускают патриотические кадры. Тем более они рассчитывали, что столетие — значит, они покрутят Владимира Ильича с бревном — весь их набор джентльменский. Я говорю:
— Ну, прокатите мне экран.
Действительно, здорово он идет вперед, потом я попросил их контрсвет дать — плоховатый свет, довольно скверный. Но очень красивая конструкция, как бы через штору тени. И весь этот огромный экран, он был на прекрасной конструкции. И я подумал, что там можно будет сделать очень красивые упражнения физкультурные. Тем более, что у нас это принято, да и во всем мире любят это делать.
Я начал свой концерт с Вагнера. Шостакович весь воспрянул, засиял:
— Гибель богов! Это замечательно! Это замечательно! Пусть слушают. Пусть слушают.
Потом ведь обязательно должны быть хоры. Хоры я поставил не так, как они всегда. Я поставил баб на голову мужикам — то есть такой станок, что женщины стоят на головах у мужчин. По этой огромной сцене в два этажа я растянул станки.
Я пригласил Энара Стенберга — и макет сделали, и программу всю составили. Потом звонок от Дмитрия Дмитриевича. Я к нему на дачу приехал, он трясется весь.
— Сначала выпьем по сто грамм…
А потом говорит:
— Вам нельзя отказываться, а я с ними не могу, я заболел, заболел. Я не буду это делать. А вы, Юрий Петрович, обязательно делайте, иначе вам будет очень плохо от них. А я не могу, не могу. Давайте еще по сто грамм, пока жена не пришла…
А у самого нервная дрожь:
— Не могу их видеть! Не могу!
И смех и грех. Потом уж я вышел на синклит, где был покойник Рындин, Туманов — целая комиссия, и они меня раскритиковали. А я им туда всобачил такой номер эффектный — медведи в хоккей играли. Ну мне и сказали, что это вообще девятое Управление не пропустит: «Звери — это болезнь!» Так что ничего у Фурцевой не вышло со мной… но я все сделал, нельзя было придраться. И потратил много времени, к сожалению.
А самая потеха, что бедный Стенберг заплатил по самым скромным подсчетам четыреста рублей своих денег за макет. И что вы думаете — ни Фурцева не заплатила, ни Демичев потом после Фурцевой. Не платили бедному Энару лет пять. Я так и не знаю, заплатили в итоге или нет.
P.S. Кстати, и сейчас, при новой сов-демократии царя Бориса, всем недоплачивают, так что береги копейку, она рубль сохранит, студент. Будапешт, 26.8.1999 г.
Вечер памяти Мейерхольда
Это не спектакль, это просто был такой вечер театральный, грустный, смонтирован с музыкой, но мне показалось, что что-то выходит. Это была дань великому мастеру к столетию со дня рождения. Но он не состоялся. Мне запретили, все испугались, и остался я один, который настаивал, и я очень жалею — я мог настоять, просто сказать, «будет и все» — пусть делают что хотят эти типы несчастные, но все начали говорить, что закроют театр, категорически запрещено, и я махнул рукой, сказал:
— Не хотите — не делайте.
А теперь жалею, думаю, умылись бы и согласились.
«Москва-Петушки»
Артисты ничего не поняли — стали играть алкоголиков у палатки, таких полно на улицах, это же не об этом, Веничка Ерофеев не такой. Это я им говорил, и структуру там менял и построение.
Потом начал все сначала, говорил с Давидом Боровским, макет вышел интересный, и даже репетиции начинались.
Странное положение у нас в стране: все чего-то вокруг ходят, разговаривают, а дело не идет, пока сам не влезешь туда.
* * *
Я еще хочу очень поставить Домбровского «Факультет ненужных вещей». Это потрясающая книга, характеры, стиль, манера и проблемы, которые живы абсолютно. И она ложится на театр вполне, с моей точки зрения. Там есть прекрасные работы для артистов — и дам, и мужчин.
* * *
Когда были живы Луиджи Ноно и Высоцкий, мы хотели сделать музыкальный спектакль о Пикассо. Оба они ушли, и остался спектакль о Владимире, который Альфред назвал попыткой создать современную новую оперу.
P.S. Дорогой мой студент! (Взрослый мужчина Петр.) Не теряю надежды, что ты прочтешь записки, тем более, что я пишу уже под двумя деревьями, второе появилось, когда ты увидел свет Божий! А сейчас на нем дозревают грецкие орехи и ему 20 лет. Береги родовое гнездо — как отец твой охранял театр свой, который старше тебя, ему уже стукнуло 35 лет.
Отпуск. Будапешт. 18.07.1999 г.
Десять лет, а жизни нет
Разговор Соломона Волкова с Юрием Любимовым и Федором Абрамовым на Рижском взморье, 1973 год
Любимов с писателем Федором Абрамовым приехали в Дом творчества на Рижское взморье, в Дубулты, заканчивать пьесу для Театра на Таганке. Я хотел сделать интервью с Любимовым для рижской газеты. Ничего хорошего из этого не вышло. То есть интервью напечатали, но изуродовали его безжалостно. Обычные дела. Но записи у меня сохранились. Их, кстати, сам Любимов позднее визировал.
Любимов сказал, что разговаривать будем на пляже: «Заходите за мной в гостиницу. Встретимся в „вестиблюе“». В «вестиблюе» он появился в голубых плавках и голубой шелковой пилотке, на испанский манер. Осанка гордая — хоть ему уже пятьдесят пять, а видно, что человек был многолетним «первым любовником» на вахтанговской сцене: Ромео и прочее. Он немного выпивши.
Спускаемся к морю. У дюн, под кустом, сидит в черных трусах семейных и соломенной шляпе фасона «привет с Кавказа» Федор Абрамов. Этот выпил крепко: глазки мутные, рот открыт. А может быть, они с Любимовым и одинаково выпили, но артист выправку ни за что не потеряет, а писателя развезло.
ЛЮБИМОВ. Вот, Федор Александрович расскажет, чем мы тут занимаемся.
АБРАМОВ. Нет уж, лучше Юрий Петрович.
ЛЮБИМОВ. Ладно, пишите так «С Любимовым и Абрамовым мы встретились на уникальном пляже». Уникальном по протяженности и мягкости песочка, верно? Они сидели…
АБРАМОВ. Пьяные…
ЛЮБИМОВ. Нет, они сидели и работали. Шла работа! Что-то стандартно получается… И потом скажут: «Сволочи, и тут устроились».
АБРАМОВ. Деньги зарабатывают.
ЛЮБИМОВ (горестно). Какие уж тут деньги… Беседа, напишите, шла вяло, сидели мы разморенные, Любимов кивал на Абрамова, Абрамов — на Любимова, и тот, наконец, глупо пошутил: «Блюди форму, а содержание подтянется». Тут Абрамов не выдержал и вмешался, верно? Или газета это не напечатает? Это ведь хорошая газета, молодежная?
АБРАМОВ (действительно, не выдержал и вмешался). Во-во, у нас как раз пьеса тоже о молодежи. Фигурирует молодежь! Мы делаем современную пьесу! По трем моим повестям — «Деревянные кони», «Пелагея» и «Алька»! Это будет большой разговор…
ЛЮБИМОВ (прерывая разошедшегося Абрамова). Да брось! Это в «Советской культуре» было: «Делать, так по-большому!»
АБРАМОВ (продолжая упрямо бубнить). Это будет большой разговор! О человеке, о времени, о сложной человеческой судьбе, о современности…
(Тут Абрамов несколько запутался, приуныл и замолк.)
ЛЮБИМОВ (торжественно). Это о людях, которые нас кормят, поят и обувают. Не о тех, которые нас поедом едят. Мы хотим по-маленькому сделать как по-большому!
АБРАМОВ (оживился). Во-во, это в точку! А то я что-то не то наговорил?
Как Михаил Чехов Хлестакова играл
ЛЮБИМОВ. Кстати, о маленьком и большом. Знаете, как Михаил Чехов Хлестакова играл? Помните, Хлестаков там врет о супе в кастрюльке, который прямо на пароходе из Парижа привезли? И об арбузе в семьсот рублей? Так вот, Чехов, вместо того, чтобы показать, какой большой арбуз — складывал пальцы, наоборот, в маленький кружочек: дескать, вот какой арбуз маленький, а сколько стоит! А разговоры Хлестакова с Пушкиным помните? «Ну что, брат Пушкин?» — «Да так, брат, так как-то все…» Тут Михаил Чехов начинал шамкать по-стариковски. Потому что Хлестаков думает, что Пушкин старик глубокий! Здорово, а? А когда Хлестаков окончательно завирался, то хватался за воображаемые скипетр и державу — дескать, перед вами сам государь император, инкогнито! Но тут же этого пугался…
ВОЛКОВ. Михаил Чехов, когда эмигрировал, работал здесь, в Риге. Даже оперу поставил — «Парсифаль» Вагнера.
ЛЮБИМОВ. Как же, они все здесь побывали, в Прибалтике. Я помню, мы перед самой войной в Каунасе играли. Там в театре висел портрет Шаляпина с надписью — «Этому маленькому театру, где я пережил незабываемые минуты вдохновенья», и накручено в таком же роде далее. Я все хотел спереть этот портрет, но когда объявили, что война началась, поднялась такая паника, что уж не до Шаляпина было. Жаль, что не спер! А знаете, какое фото Шаляпин своему бывшему секретарю Исаю Дворищину в Ленинград с Запада прислал? Стоит Шаляпин на палубе лайнера, морда мрачная. И подпись: «Смотри, старый пердун, как океанские ветры твоего барина продувают». Здорово, а?
«Черного кобеля не отмоешь добела»
(Я слышал, что Театр на Таганке пытается пробить цензурный запрет, наложенный на спектакль Любимова по повести Бориса Можаева «Из жизни Федора Кузькина». И спросил, есть ли шансы на успех.)
ЛЮБИМОВ. Вернусь в Москву, опять народ созовем. Все время заклинивает. Дурак Ягодкин…
АБРАМОВ (вдруг проснувшись). Этот Ягодкин министром культуры будет!
ЛЮБИМОВ. Не-ет, не будет. Он слишком активный. У нас теперь нужно тихонько сидеть. А этот все время акции организует.
(Любимов как в воду глядел. Ягодкин, который курировал в московском горкоме культуру и, казалось, уверенно шел вверх, через год отдал приказ раздавить бульдозерами выставку художников-нонконформистов. Последовал мировой шум. И Ягодкин полетел. Но еще успел подписать некролог Дмитрию Шостаковичу. Он там последний на «я». Эта справка — к сведению будущего историка музыки.)
ЛЮБИМОВ. Театру нашему на следующий год, 23 апреля, десять лет будет. Даже не верится. Десять лет, а жизни нет. Решили мы, что в преддверии юбилея полезно, приятно и поучительно будет вернуться к Брехту. Будем ставить его пьесу «Принцесса Турандот, или Конгресс обелителей». Черного кобеля не отмоешь добела. Антимаоистская пьеса, вы так и напишите. (…)
Гениальные наши прародители
ВОЛКОВ. В фойе Театра на Таганке висят портреты Станиславского, Мейерхольда, Вахтангова и Брехта. Вы считаете их своими учителями?
ЛЮБИМОВ. Как сказать… Ни у кого из них я ведь непосредственно не учился. У них свои правоверные ученики есть. А я своими учителями в первую очередь считаю гениальных наших прародителей Пушкина и Гоголя. Их прекрасные мысли о театре до наших дней не устарели. Помните, у Пушкина: «Правдоподобие все еще полагается главным условием и основанием драматического искусства. Что если докажут нам, что самая сущность драматического искусства именно исключает правдоподобие?» Пушкин напоминает, что условность — в природе театра. То есть, актеры и зрители условились собраться вместе, условились, что актеры — на сцене, зрители — в зале. Он говорит: «…Какое, к черту, может быть правдоподобие в зале, разделенной на две половины, в одной из коих помещается две тысячи человек, будто бы невидимых для тех, кто находится на подмостках». Здорово, а? В общем, о театральной эстетике Пушкина можно говорить бесконечно…
ВОЛКОВ. Вы поставили спектакль о Пушкине «Товарищ, верь…» Это — размышление о «вакансии поэта» в России, о которой Пастернак сказал: «Она опасна, если не пуста»…
ЛЮБИМОВ. И еще мне хотелось показать, что все мы вышли из Пушкина. Знаете ведь эту крылатую фразу, приписываемую Достоевскому: «Все мы вышли из „Шинели“».
А я хотел бы сказать: «Все мы вышли из „Истории села Горюхина“». Там все есть, верно? Для меня глубокий смысл заложен в том, что Пушкин отдал Гоголю два сюжета — «Ревизора» и «Мертвых душ». Оба сюжета сатирические. Пушкин в последние годы своей жизни много думал о Божественном, а сатирическое от себя отталкивал. Потом Гоголь проделает такой же путь. А как Федор Михайлович Достоевский любил это место из «Скупого рыцаря»: «С меня довольно сего сознанья…»
ВОЛКОВ. Судьба поэта — одна из главных тем вашего театра…
ЛЮБИМОВ. Мы развивались по трем направлениям. Собственно, ствол один, но побеги окрепли, они заметны. Первое направление — «театр улиц», площадной, карнавальный театр. Если угодно, народный. Это — «Добрый человек из Сезуана», «Десять дней, которые потрясли мир», «Мать», «Что делать?», «А зори здесь тихие…», «Живой» Можаева. Это балаган, ярмарка, скоморохи. Второе направление — освоение классики: «Тартюф» Мольера, «Гамлет» Шекспира, «Бенефис» по пьесам Островского.
ВОЛКОВ. Выбор и аранжировка классических пьес у вас всегда неожиданные…
ЛЮБИМОВ. К классике обращаешься, когда ищешь ответа на вечные вопросы. На то она и классика. А когда берешь пьесу, видишь, что неизбежны вымарки, купюры, переакцентировки. Темпы теперь другие. А не то и зрителю будет скучно, и мне скучно. Кому это нужно? Да, а третья наша линия — целая цепь поэтических представлений, начатая «Антимирами». Тут — «Берегите лица», «Павшие и живые», «Послушайте!» по Маяковскому, «Пугачев» Есенина, спектакль на стихи Евтушенко. И вот — «Товарищ, верь…»
Страсть к самоубийству
ВОЛКОВ. «Добрый человек из Сезуана» все эти годы стоит на афише, по-прежнему делает полные сборы. Так же дело обстоит почти со всеми прочими вашими спектаклями. Следовательно, ваши детища у вас на глазах постоянно. Как вы относитесь к ним сейчас?
ЛЮБИМОВ. Разумеется, вижу много недостатков. Спектакль стареет, как человек, изнашивается, как вещь. Его надо оздоровлять, лечить, чистить. Да, лечить! А способы лечения выбирать в зависимости от возраста. Между прочим, то же относится и к господам актерам! Я не люблю стандартной терминологии Станиславского. Скажу так актер играет сам на себе, он сам есть свой инструмент. Хороший скрипач бережет свою скрипку как зеницу ока, заботится о ее сохранности. Господа же актеры к своему «инструменту» относятся хищнически, разбазаривают себя. У Андрея Вознесенского есть такие стихи: «Страсть к убийству, как страсть к зачатию». У актеров я часто наблюдаю страсть к самоубийству, саморазрушению.
ВОЛКОВ. Расскажите о ваших знаменитых «фонариках»…
ЛЮБИМОВ. A-а… Да, это такой нехитрый код моего изобретения — для актеров, играющих спектакль. Чтобы они по ходу дела ориентировались. Если в конце зала зажигается красный фонарик, это означает — «глаза бы мои не смотрели, ухожу вон из театра!» Зеленый фонарик — «ничего, прилично». Белый фонарик — «нет должного ритма, темпа, живости. Подтянитесь!» Конечно, актерам трудно. Дотации никакой у нас нет. Зал маленький, цены на билеты низкие. Чтобы свести концы с концами, мы должны давать по 38 спектаклей в месяц. Вот и требуй, чтобы каждый из них был событием. Тут уж то палкой, то пряником…
«Высоцкий — ничего парень»
ВОЛКОВ. Юрий Петрович, теперь трудный вопрос. О Театре на Таганке иногда говорят, что это чисто режиссерский театр, что в нем нет настоящих актеров. Это, конечно, не так — сразу можно назвать Демидову, Славину, Высоцкого, Золотухина. И все-таки, конечно, Таганка — режиссерский театр. Что же актеры у вас не бунтуют? Как вы с ними работаете?
ЛЮБИМОВ (этот вопрос его задел, и он протрезвел окончательно). Как, как работаю? Обыкновенно! Хотите пример? Ну хотя бы «Гамлет». Высоцкому сцена с Призраком отца поначалу не давалась. Мы решили, что Призрака на сцене вообще не будет, а то оперой запахнет. Гамлет, как и его друзья, уверен, что отца на тот свет отправил Клавдий. Но он человек глубоко порядочный, и ему нужны доказательства вины Клавдия. Я говорю Володе: «Гамлет взвинчен, у него нервы напряжены, тут и не такое почудится». И вот я показываю Высоцкому: в решающий момент Гамлет кидается к могиле отца, хватает руками горсть земли и говорит, как с отцом. И вижу — это Высоцкому помогло, сцена пошла. И так шаг за шагом… Вообще верно найденная сценическая деталь — сила. Я всегда иду от детали, приема, фактуры. Причем фактуру люблю «весомую, грубую, зримую». Дерево плахи в «Пугачеве», шерсть и земля в «Гамлете». Это, если можно так выразиться, современно. Нет, не современно! Не люблю я этого слова применительно к искусству! Это — вечно. Потому что всегда были овцы и всегда были люди. Шерсть и прах. Спектаклю нужна метафора, нужен образ — вроде занавеса в «Гамлете». Строит постановку режиссер, а не актеры. Я ставлю спектакль как балет: полшага в сторону — и все погибло. А у актеров настроения иждивенческие, от них иногда можно услышать: «Вы сами плохой актер, давно не играли, поэтому требуете от нас невозможного». Ансамбль звезд — это еще не спектакль. Да хоть бы звезд! А то ведь жалкие дилетанты! Это Станиславский приучил нас к тому, что каждый актер сам себе режиссер. Вот они и не вписываются в партитуру. Я, когда начинаю работать над спектаклем, уже знаю, как он будет поставлен, в какой манере — будет это масло, акварель, графика или плакат. Мне все уже ясно, а господин актер продолжает выписывать свой характер «по Станиславскому». И жалуется, что режиссерская диктатура уничтожает в нем творца! В общем, театр — это сволочное дело. Денег не платят. Спектакли — каждый день. С каждым будь дипломатом — с начальством, с актерами, с художниками, с машинистом сцены. Эх! а с вашим братом легко? Литераторы-надувальщики…
(Это он к Абрамову, который продолжает храпеть, соломенная шляпа на носу.)
ЛЮБИМОВ. А Высоцкий — ничего парень. Но очень уж его портят! Слава у него патологическая, как у тенора. Все его знают, от девчонок до ученых. Огонь и воду он уже прошел, остались медные трубы — фанфары славы. В нашем деле самое главное — живым пройти через медные трубы. Это редко кому удается.
В компании Кузькиных
Целый кусок моей жизни связан с Петром Леонидовичем Капицей, моим большим другом, несмотря на разницу лет, и поэтому я так нежно отношусь к этой семье и к Анне Алексеевне — замечательной русской женщине, необыкновенной. Это надо же, чтоб в 90 лет позвонить и сказать:
— Вам, наверно, очень тяжело, Юрий Петрович. Давайте я приеду и вам будет с кем поговорить. Вы душу отведете и вам легче будет. За чаем поговорим, вспомним вечера наши на даче, как вы гуляли с Петром Леонидовичем.
Я приехал, смотрю, у нее стоит магнитофон и чай, и она говорит:
— Юрий Петрович, о чем же вы все время так долго говорили с Петром Леонидовичем? Ведь вы же просто часами ходили то вокруг дачи, то по берегу Москвы-реки, то у него в кабинете. И ведь он все время мне говорил, позвони-ка, может быть, приедет Юрий Петрович посидеть с нами на даче.
Я к нему привозил — кого я только ни привозил — и Можаева, и Высоцкого, и Федора Абрамова, вот только забыл, с Николаем Робертовичем мы ездили или нет, но он его очень чтил. Это был человек необыкновенный также. Я глубоко благодарен судьбе, что она поместила меня в такую компанию. Компания очень много значит. У нас сейчас это выветрено и это весьма прискорбно. Скажи мне, кто твои друзья, и я тебе скажу, кто ты.
Петр Леонидович пришел на скандальный первый спектакль, когда я светил фонарем в училище. По-моему, всей семьей они пришли — два сына его, Сергей и Андрей, он и Анна Алексеевна, по-моему, была.
Потом я получил приглашение приехать к нему на дачу. И я поехал, по-моему, в воскресенье, как всегда. Только в преклонном возрасте — всем бы поучиться советским — он себе разрешил послабление небольшое: в пятницу заканчивать часа в два дня рабочий день и уезжать на дачу. А уж в понедельник с утра он работал, конечно. Это ему уже под девяносто было.
Он работал все равно беспрерывно, голова у него работала светло и точно! Так, на часок он удалялся отдохнуть и то Анна Алексеевна часто говорила: «Петя, иди отдохни». А так бы он и не ходил. И он, действительно, поднимался к себе на второй этаж, а через час уже сходил обязательно вниз, и мы шли гулять. У меня была своя комната на даче у них и всегда Анна Алексеевна говорила:
— Ну что же вы все не приезжаете?
Я говорю:
— Анна Алексеевна, милая, вот война кругом: и в театре война, и в государстве. Поэтому все не могу никак.
Когда я отвоевывал себе «Доброго человека…», то я сделал несколько просмотров вопреки — училище не хотело, а я все-таки сделал. И мы играли в Доме писателей, в Доме кино, в ВТО, в Дубне несколько спектаклей — четыре или пять — сыграли, и везде с большим успехом, при большом скоплении публики. И таким образом скандал разрастался. И потом уже отзывы прессы, «Недели» и потом в «Правде» заметка Константина Симонова. И тогда меня поразил деловитостью Андрей Вознесенский: он пришел на спектакль, ему понравилось, он всегда в окружении корреспондентов, прессы, и он так делово мне сказал — это меня тогда поразило, я весь был в ажиотаже первого спектакля своего. Он говорит:
— Что я должен сказать, чтоб вам помочь? — уходя уже к микрофону, — я скажу.
— Ну если вы считаете, то скажите, что хорошо бы сохранить как-то это, чтоб не распалось все.
Он сказал чего-то там. Но конечно, больше всего подействовала статья в «Правде». Что «молодое поколение создало интересный спектакль, и это надо сохранить». И тогда я стал, как выражались партийные круги, «невестой на выданье» — меня сватали в Театр Ленинского комсомола, на Таганку. Я уже ходил в Театр Ленинского комсомола, смотрел спектакли и все считали, что я назначен в Ленинский комсомол. Но потом вдруг раз — и они переиграли.
Мои друзья — Лев Петрович Делюсин, Петр Леонидович Капица и я, 1977 или 1978
* * *
Как-то я приехал на дачу к Борису Леонидовичу Пастернаку в самый разгар травли его, после выступления Семичасного. И до его покаяния.
И он был рад, потому что никто к нему не ходил. Травля уже была в разгаре.
Неожиданно я приехал, потому что если б я договорился, он бы, наверно, сразу вышел — он человек воспитанный. По-моему, я даже был с цветами. И, наверно, поэтому он и говорил мне: «Я не выходил, потому что я принял вас за иностранца».
Потом был повтор — я к Александру Исаевичу приехал накануне ареста, с Можаевым. Это совершенно было неожиданно, спонтанно.
Я приехал домой — на улице Чайковского я жил, и у меня был какой-то люфт часа три. И Можаев гуляет у дома — мы в одном доме все жили: Эрдман, Можаев и я. Я говорю:
— Борис, вот мы с тобой гуляем, а ведь Александр Исаевич, над ним все тучи собираются, собираются и небось никто к нему не ездит. Я говорю: «Поедем!» — Мы сели в мою машину и поехали.
Он тогда жил у Корнея Ивановича. И конечно, за его дачей следили, потому что мы долго ходили вокруг дачи, долго кричали, он не отзывался. Потом для юмора я сказал:
— Давай оставим мою машину, — такой вишневый у меня был кабриолет жигули, даже номер, по-моему, я помню: 00–16, я говорю, давай оставим ее у дома Вознесенского.
Но потом я посмеялся, конечно, не стал ставить возле дома Вознесенского, а метров за сто — психология советского человека: думаю, за сто метров лучше, конечно, не доезжая до дачи. Так вот. Мы остановились за сто метров от дачи Александра Исаевича и пошли по окнам стучать и кричать.
Калиточку открыли. Там нетрудно было открыть. Потом, смотрим, он печатает на машинке и увидел нас. Открыл дверь и весь красный сам, возбужденный, чего-то печатает. Печатает, а от него прямо сгусток энергии идет. Потом он говорит:
— Ребята, садитесь, очень рад. Давайте полчаса поболтаем и дальше мне работать, работать надо. Ну как вы живете?
Мы обменялись впечатлениями. Конечно, мы не говорили, что мы полны к нему глубоких чувств и уважения. Нет, все о ситуации, об обстановке, о жизни, потом, смотрим, он заерзал, что уже пора ему работать дальше. И говорит:
— Вы не сердитесь, мне тут нужно допечатать…
Потом, когда мы пошли обратно к машине, смотрим, Андрей вышел и говорит:
— А я смотрю, чья это машина? А это ваша, Юрий Петрович, машина?
Я говорю:
— Моя.
— А вы где были?
Я говорю:
— У Александра Исаевича.
— А, я так и догадался, я так и догадался, что вы к Александру Исаевичу.
И начал говорить на посторонние темы. Мы поговорили, посидели у него, и я поехал обратно в Москву.
А. И. Солженицын на премьере «Шарашки», 1998
А через много-много лет, когда Александр Исаевич меня встретил на пороге своего дома в Вермонте, с часами в руке, он посмотрел со значением и говорит:
— А вы знаете, сегодня ровно двенадцать лет и тот же час, когда вы были у меня на даче, помните, мы простились? Вы это помните?
Я говорю:
— Нет, Александр Исаевич. Факт помню, день нет.
А я думаю, чего он с часами стоит? Вот какой это человек удивительный. Он, видимо, все записал об этой встрече себе в дневник, у него же не может быть такая память… Потому что на следующий день его арестовали — это он мне сказал в Вермонте. Но и я помню, как я на это реагировал. Я пришел из театра очень усталый, сел и включил приемник, голоса вражеские. И вдруг услышал, что арестован Солженицын и сидит в Лефортово. Я обалдел совершенно.
Автограф Петра Леонидовича на стене моего кабинета
Я это услышал, а у меня было приглашение в американское посольство. И я подумал: «Вот там-то я узнаю подробности, может, это „утка“» — потому что мне это показалось чрезвычайно неумным актом со стороны правителей, хотя от них всего можно ожидать. Ну и я думаю, пойду туда и там-то уж я выясню. И по дороге — я шел по Кольцу — в переулке встретил сильно выпившего Карякина Юрия, которого вела жена Ирина, и она говорит:
— Вот веду чадо.
А он так еще гордо сопротивляется. Я говорю:
— Ничего, Ира, сейчас протрезвеет.
— Как? Ну да!
— Вот увидишь, смотри.
И говорю ему, раздельно, с внушением:
— Юрий, Александра Исаевича арестовали. Он сидит в Лефортово.
Он побелел и стал трезвый. Я не преувеличиваю. И она его повела куда-то в метро. А я пошел к американцам. Там встретил все общество наше изысканное, Рима Кармен, покойный, в окружении с кем-то беседовал, что вот придется ехать в Испанию, он как герой Испании во главе делегации, а я недавно ставил «Час пик» и там тоже герой все говорит:
— Я нехотя еду в Латинскую Америку во главе, во главе…
И тут я услышал примерно тот же текст:
— Вот, надо ехать, так не хочется, во главе.
— Рима, так если не хочется, то и не поезжай.
Он говорит:
— Ну, просят товарищи, надо, понимаешь, хотя устал, не хочется.
— А ты знаешь, Рима, что Александра Исаевича арестовали и он в Лефортове сидит?
— Не может быть, ты шутишь, это же глупость какая-то, разве это можно! Я не поеду.
Вот такая первая реакция. Через некоторое время входит Евтушенко Евгений Александрович с дамами и с шампанским. Дамы тоже уже подшофе, Евгений Александрович весь в розовом, элегантный, жестикулирующий, весь в эмпиреях. Я ему тоже говорю:
— Евгений Александрович, Александра Исаевича арестовали. Он в Лефортово.
— Не может быть, что они с ума сошли, это же недопустимо! Надо как-то реагировать. Где здесь телефон?
Я говорю:
— А что вы хотите сделать?
— Я позвоню Андропову и скажу: разве можно это делать!
— Евгений Александрович, я вам не рекомендую отсюда звонить.
Как-то неудобно от американцев звонить.
— А что вы посоветуете?
— Выйдите и позвоните из автомата.
— Да, это, пожалуй, правильно.
И он исчез. Потом минут через десять возвращается довольно бледный и говорит:
— Можно вас на минуточку?
— Пожалуйста.
— Пойдемте в сторонку. Где бы тут можно было поговорить?
Я говорю:
— В свое время мне бывший член Политбюро Полянский рассказывал, что он беседовал с Рокфеллером почему-то в туалете и они все время спускали воду. Ну, может, он врал. Но все-таки пойдемте к туалетам.
Подошли мы к туалетам, и я стал дурака валять и воду спускать.
Я говорю:
— Ну что, звонили?
— Звонил.
— Ну и что же вам он сказал?
— Вы знаете, странно. Как это понять?
— Что он вам сказал?
— Одно слово.
— Какое?
— Проспитесь, — и повесил трубку. — Как это понять?
Я говорю:
— Буквально.
— Да, вы считаете?
Я говорю:
— Да.
Ну, он так и сделал: проспался и забыл.
Это даже не в посольстве, это у какого-то корреспондента — я забыл, в особняке был широкий прием. Корреспондент этот, постоянный корреспондент, он даже где-то снимался в кино.
Такой сгорбленный господин, трясущийся, жена у него русская.
В моих заграничных командировках я читал всю запрещенную литературу, но через таможню ее не провозил, боясь обыска. И правильно делал. На Западе я читал «ГУЛАГ» и прямо болел, физически болел. Мне нужно было много работать, и все равно я читал почти что все ночи напролет. Наутро выходил репетировать. «Гран соле…». Это подвижнический труд — собрать все — в таких условиях. Это люди не в состоянии понять его просто… ну я не знаю, это абсолютное чудо! Как мог человек десять лет противостоять всей государственной машине один! Это чудо! Это невозможно понять. Сколько нужно воли, мужества, ума, чтоб выиграть время! Это только его какая-то необыкновенная работоспособность, его опыт лагерника, человека, который прошел все круги ада.
60 лет
Подарок от Можаева — сен-бернар
Марецкая
Ефремов
Когда я прочел «В круге первом», вечером пришел к Николаю Робертовичу, и мы обсуждали это. И он говорит:
— А вы, Юра, поняли, что это за удивительный мозг?
Я говорю:
— В чем, Николай Робертович?
— Ведь он так точно описывает Лубянку, — а уж Николай Робертович там сиживал, и он читал еще с точки зрения точности описания — как его обрабатывали и как обрабатывали Солженицына на Лубянке. И вот он там новшество увидел: вот эту пятьсот свечей лампочку, которая слепила в «Круге первом», и в процедуре усмотрел некоторые нюансы Николай Робертович.
— Так что, — говорит, — они усовершенствуют систему свою. Даром время не теряют.
Его поразила, прямо как фотоаппарат, фиксация точная.
И чтоб уж до конца закончить. Неожиданно получаю я письмо от Александра Исаевича в Иерусалиме. Он не знает адреса и не знает, что я остановился и решил жить в Иерусалиме. И там написано, помимо других фраз: «Как вас Бог надоумил поселиться в святом городе Иерусалиме?» Я потом Наташу спрашивал:
— Наташа, вы дали ему мой адрес?
Она говорит:
— Нет, я в это время была в Европе. Это он сам. А он следит за вами.
— Как следит?
— Интересуется, как вы себя ведете. У него это в черте характера.
Булат Окуджава — беседы!
Я думаю, он с чисто нравственной стороны наблюдает, как люди меняются. Его интересует, как в катаклизмах, когда судьба бросает людей в трудные обстоятельства, как люди это выдерживают и как они реагируют на эти удары в смысле своего поведения, не только жизненного, а с точки зрения его нравственных критериев. Я тоже стараюсь не идеализировать людей, потому что я склонен к этому, я часто слышу упреки мудрых людей в свой адрес: «не идеализируйте, Юрий Петрович, это вам хочется, но он, к сожалению, себя так не ведет». Александр Исаевич чувствует свою миссию, и я надеюсь, что она не затмит его разум точный и светлый, и это не выразится в мании величия, в каком-то преувеличенном значении своей персоны, ибо у меня всегда опять же Николай Робертович перед глазами, который говорил:
— Юра, вы перечитывали «Дон Кихота»?
Я говорю:
— Конечно, Николай Робертович. Даже, — я говорю, — долгие годы думал, не поставить ли его.
Он говорит:
— Ну и что вы скажете?
Я говорю:
— В каком смысле?
— Ну например, какая часть вам больше нравится?
Я говорю:
— Первая, конечно.
— А почему?
Ну я как-то умолкал, задумывался. Он говорит:
— Я-то раздумываю над этим много.
— Ну и что же, Николай Робертович?
— В первой части он писал пародию на рыцарские романы и преуспел блистательно, написал гениальное произведение. А во второй части, почувствовав свое величие и гениальность, стал моралите нам читать и поучать. И вторая часть значительно слабее. Вот, Юра, этого надо нам очень бояться всем, кто занимается искусством в той или иной мере.
* * *
Андрей Дмитриевич приходил в театр несколько раз. Он жил совсем рядом. А познакомила меня с ним Елена Боннэр, она в театр давно ходила, она же была когда-то женой сына Багрицкого, а так как был сюжет в «Павших и живых» о Багрицком, то она и приходила в театр, на репетициях бывала, когда она еще не была женой Андрея Дмитриевича, а потом, когда хоронили Александра Трифоновича Твардовского, она меня познакомила с Андреем Дмитриевичем.
Капица знал, что Берия заставит его работать на атомную бомбу и отказался ехать к нему. У Капицы не было этого комплекса вины.
Андрей Дмитриевич потом написал письмо, что он был не прав в его оценках Петра Леонидовича. Ведь Петр Леонидович раньше умер, чем Андрей Дмитриевич. И Андрей Дмитриевич, к его чести, где-то писал, что он был не прав. Судя по дальнейшим публикациям, он неверно оценивал деятельность Петра Леонидовича.
У нас был план, как спасать Андрея Дмитриевича. И Капица мне сказал:
— Ну, уговорите, чтобы он приехал ко мне в институт работать. Не посмеют они его взять у меня и отправить в Горький.
Я говорю:
— Как они не посмеют? Они же вас посмели арестовать, вы сидели на даче.
Он говорит:
— Но не убили же. Потом, — говорит, — у меня очень хорошие ворота, там фотоэлементы, я сварил сам их, спроектировал сам их, и я просто запру ворота. Значит, нужно вызывать танкистов, там, взламывать ворота или, там, тягачами и, — говорит, — я в это время буду звонить в приемную «нашего дорогого великого Кормчего застоя» Леонида Ильича, моего глубокого покровителя.
Но Андрей Дмитриевич сказал:
— Нет, зачем же я буду у Петра Леонидовича?.. — Вроде я прячусь. — И тогда вот была устроена встреча с Кириллиным. Андрей Дмитриевич и этому противился. И тогда уже мы у меня дома были — я и к нему ходил, там его охраняли уже эти чекисты. Он пришел в театр, а потом мы поехали ко мне домой, за нами следовала машина, когда мы входили в парадное, светили прожектора — это они демонстрировали, чтобы мы испугались, что ли — не знаю, что они изображали из себя. И дома уже у меня он говорил: «Юрий Петрович, все равно из этого ничего не выйдет, ну давайте, попробуем…» А я все сводил разговор к минимуму.
— Все-таки вы просто, Андрей Дмитриевич, точно скажите, что нужно, чтоб они сделали, чтоб отстали от вас? — то есть как и Юрий Владимирович в беседе сказал:
— Вы хотите работать в режиссуре?
Я говорю:
— Ну хотелось бы… — ведь я к нему попал, когда меня выгонять собирались. Он говорит:
— Но тогда ведь надо сужать проблему, а не расширять.
Я говорю:
— Так я уж совсем сузил, чего расширять? Вот разрешите спектакль «Павшие и живые» — вот и вся проблема. Значит, я и продолжаю быть режиссером, и спектакль идет, и я могу дальше работать.
Ну вот, может, в какой-то мере он тогда сыграл определенную роль. Так, следуя его заветам мудрым, я тоже старался как-то настроить Андрея Дмитриевича, чтобы сузить проблему: обижали детей, они не могли поступить учиться, негде жить — то, пятое-десятое. Я говорю:
— Ведь они как раз на такие вещи охотно идут: дать квартиру — это им-то легко, а вот им главное…
— Да, но ведь они потребуют за это, чтобы я не выступал, не говорил свое мнение и так далее. Ну хорошо, ну давайте, попробуем.
И действительно, он встретился с Кириллиным и потом, когда мы об этом говорили, он сказал:
— Ну и что, Юрий Петрович, ничего не вышло.
— А почему, Андрей Дмитриевич?
— Ну что же я буду с участковым разговаривать.
То есть оказалось, что господин Кириллин не удосужился понять, с кем он разговаривает, и вел себя или от страха — уж я не знаю, отчего — вел себя крайне агрессивно и глупо. Так же как Горбачев вел себя, когда захлопывали Андрея Дмитриевича уже в эпоху перестройки — это же тоже было ужасно, все видели, как ему не давали говорить на съезде, и он что-то пытался объяснить Горбачеву, давал ему бумаги какие-то, а тот отбрасывал:
— У меня их полно и тут!
С Б. Зингерманом
С Р. Чхиквадзе во время гастролей Таганки в Тбилиси
Р. Стуруа и я в Тбилиси на празднике театра им. Руставели
А. Вознесенский, Катя, я и З. Богуславская
Горбачев, видимо, не думал, что тот так резко будет говорить, потом, он не оратор, Андрей Дмитриевич. Или быть может, это было провокационно сделано. Потому что он же позволил так обращаться с ним залу, хотя тогда он довольно прочно еще сидел, Горбачев.
Вот такие дела. Да, так ничего и не вышло. И Петр Леонидович, в общем, когда мы уж потом беседовали, говорил:
— Ну что же с ними говорить, если они не понимают, с кем они имеют дело. Он же для них просто один из академиков, которых полторы тысячи. Они же не понимают, что это действительно великий ученый, что он уникален как ученый. Им и это не понять.
То есть он очень сокрушался.
И свою благородную миссию он никогда не афишировал. И он делал акции сугубо от себя и очень точно. Я потом уже узнал, что в какой-то один из очень трудных моих моментов жизни, мне сказали, что он Брежневу сделал официальный запрос — по-моему, после скандалов с «Пиковой дамой», когда уже «Правда» готовила поток писем трудящихся: «что делать с этими негодяями, выслать их вон, выбросить…» — но это, главным-то образом, против меня все было сделано, я как главарь шайки. И Петр Леонидович официально запросил канцелярию Брежнева. А мне не сказал, ни слова. И написал совершенно конкретно: «Я хочу знать, что будет с моим другом, могу ли я быть спокойным за его судьбу, может ли он продолжать работать?» И получил ответ, что он может быть спокоен, его протеже может работать.
Он все спектакли, по-моему, видел. Он слушал, когда сам Николай Робертович читал «Самоубийцу», был в восторге от пьесы. Он в восторге был от спектакля Можаева. Он помогал театру, как мог.
Я всегда в трудную минуту приезжал к нему в институт, а он с утра шел в лабораторию. Я к нему в выходной день Таганки шел с утра. И он с его ясными детскими глазами, в скороходовских ботинках, в таком галстуке непонятном, в носочках в таких, нитяных, хлопковых, так говорил:
— Ну что? Опять худо, да? Ну я сейчас в лабораторию пойду… Сейчас, где этот ихний справочник-то? Ага, вот он! — вынимал справочник. — Ну вот этот телефон-то. Вы, значит, тут ищите. Я приду часов через пять. — Потом секретарше: «Вы давайте ему изредка чайку. Ну и если он захочет чего-нибудь закусить, дайте», — и исчезал.
Ну а я садился и начинал звонить «по портретам». Выбор богатый.
Он в этом отношении был удивительный человек. Он говорил: «Если вы считаете, что это вам поможет, то звоните, пожалуйста». Один раз по его этому телефону президенту Швернику позвонила служащая, которая убирала его кабинет. И попросила квартиру, поскольку ей негде жить. Квартиру дали, но Капице попало очень. Хотели снять телефон.
А. Васильев на Таганке
Но я пользовался этим телефоном только в крайне безвыходном положении. Вот, например, когда мне закрыли спектакль в годовщину смерти Высоцкого, это и несправедливо, и оскорбительно и для миллионов поклонников Высоцкого внутри страны, и для престижа вне страны, за ее пределами…
Вот так я отбивал театр от захвата и себя и беседовал с портретами. Иногда мне это удавалось. По очень простой схеме. Хозяин как себя вел: к нему министр приходит, докладывает, что такого-то надо убрать. А он говорит:
— А я и без тебя это слышал. И какой же ты министр, если ты с каким-то режиссером справиться не можешь! Иди! И реже попадайся на глаза. А то я еще буду думать, кого сымать. Учти! — Ну вот, таким образом мы и жили.
Мы с ним очень много часов провели вместе. Можно целую книгу писать… Его интересовал очень широкий круг вопросов. Он очень любил людей искусства, и у него было очень много друзей. Он, например, читал книгу «Москва-Петушки» и просил пригласить автора в гости. Ему интересно с ним говорить. Это потрясающая книга. Это все можно поставить колоссально. Если только найти артиста такого — можно было бы.
Они ко мне очень трогательно относились и относятся, судя по Анне Алексеевне, замечательной женщине, необыкновенной. Она дочь Крылова, великого строителя кораблей. Есть замечательные мемуары его. Прекрасный русский язык в книге.
Действительно, они всегда были рады, когда я приезжал. Всегда, когда долго я не мог приезжать, были звонки: «Куда вы пропали?»
Я видел Капицу последний раз перед отъездом на Запад в 1983 году, в июне, простился я с ним — в самом конце июня. Он был человек с необыкновенно ясным, оригинальным умом, сохраненным до старости в глубокой ясности. И оригинальности. Он не дожил один год до своего девяностолетия.
Узнал я о его смерти случайно, какой-то корреспондент ко мне пришел, итальянец, и мы чего-то заговорили о Капице, о Петре Леонидовиче, и он мне сказал, что он умер. А я даже не знал. Так же я узнал и о смерти Хемингуэя случайно: я сидел на пляже на Черном море, и вдруг ветер и газета старая, выцветшая летит, я за ней, поймал, разворачиваю рваный кусок и там написано: «Самоубийство Эрнеста Хемингуэя».
И потом, когда приехал на Кубу, пошел в его дом, и там бродила масса кошек, и был дом запущенный, и я оттуда сорвал такие, как маракасы, знаете, эти бобы, огромные такие стручки. И я часто с ними все репетировал и актерам давал знак такой: «Стручок из сада Хемингуэя, играйте лучше — тр-р-р-р, тр-р-р!» — и отбивал ритм!
* * *
Потрясающий разговор был Тито с Капицей. Они дружили много лет, и Тито приехал к Капице, чем потом вызвал неудовольствие Сталина. И Тито жаловался Капице, что у них есть очень знаменитый — так все считают на Западе — Меестрович, скульптор, что «мы работаем с ним, говорим с ним — ничего не помогает, он как будто не понимает, продолжает делать свое, но это совершенно искусство странное, ненужное… Понимаете? Вот часто вы говорите, что надо с деятелями культуры как-то обходительнее быть… ну как с таким человеком, что с ним делать?»
Капица ему говорит: «Ну что с ним связываться, ведь он гениальный человек, а кто разберет этих гениев — что у них в голове творится. Знаете что, вы его отпустите, пусть уезжает, раз он вам не нужен, потом лет через десять вы его примете как вашу национальную гордость», — так все и случилось.
* * *
Семья Капицы относилась к тем семьям, где если кто-то говорил что-либо дурно пахнущее, например, по вопросам национальным, просто такого человека больше в доме не принимали — и все. Под всякими предлогами очень интеллигентными: извините, Петра Леонидовича нет дома, извините, Анна Алексеевна вышла. «А когда она придет?»
— «Ну, она гуляет». Человек звонил второй раз — «А она гуляет». Третий раз — «Она опять гуляет». А Петр Леонидович опять в лаборатории. И человек понимал, что больше он принят не будет, все-таки их знакомые были не настолько тупы, что если неделю он звонит, неделю ему отвечают, что все они гуляют где-то, то ясно, что не надо больше звонить.
* * *
Так судьба сложилась, что я у Андрея Тарковского был в Париже очень долго в день получения им премии, и ему было очень тяжело — он умирал — и очень его раздражали окружающие и, к сожалению, в первую очередь — жена. Тогда совпало так, что нас с Тарковским одновременно лишили гражданства. И к нему шведы очень хорошо отнеслись. Но благодаря, конечно, я думаю, во многом Бергману — была солидарность, сочувствие.
Они связали наши два отъезда с нетерпимым положением людей такого толка в Союзе. И шла довольно широкая кампания в прессе. Поэтому наши так и взбесились, начали делать глупости.
Была пресс-конференция, где Ульянова спросили обо мне и о Тарковском, и он ответил, что это их личная трагедия. Про меня он сказал, что я какие-то ультиматумы государству ставлю, а какое же государство примет ультиматум от какого бы то ни было человека, а про Тарковского, что это трагедия в смысле, что семья разбита и так далее, он что-то сказал про нас обоих, что это их личные трагедии и нас они мало интересуют.
С Андреем Тарковским я встречался несколько раз. Один раз мы встретились в Милане, где он давал пресс-конференцию, отказывался от советского гражданства, в надежде, что раз он отказывается от советского гражданства, то должны отпустить к нему его детей — это наивная логика для такого государства. Для нормального мышления это нормальный ход, но для нашего отечества уважаемого, где все шиворот навыворот, одна логика: добить!
Мы встречались с Андреем и до этого в Англии и довольно долго беседовали на эту тему. Мы с ним были знакомы довольно хорошо и в Москве — он приходил в театр часто, я помню, мы с ним долго говорили и на «Гамлете», после «Гамлета»… Он смотрел с интересом, и ему понравилось. «Гамлет» понравился и ему и очень понравился Козинцеву, который сам делал «Гамлета». И Козинцев даже комплимент сделал, что до многих вещей он как-то не додумался. Он говорил: «Монолог „Быть или не быть“ совсем по-другому решен, и мне кажется, что это интересно».
И тогда в беседе в Англии, как раз на квартире у Славы Ростроповича это была встреча в Лондоне, по-моему, квартира у Славы была записана на собаку — да-да, там можно… а может, это шутка.
Я говорю:
— На кого у тебя эта квартира?
Он говорит:
— На мою собаку, — у него была любимая собака.
Вот, и я Андрею доказывал там. Он говорит:
— С вами понятно, вы с ними дрались, вы с ними о чем-то спорили, что-то доказывали. Но я же никогда с ними не спорил. Они просто не давали работать. Очень трудно я пробивал свои сценарии, очень тяжело было работать, я очень мало сделал. Это меня взорвало, и я решил, что я не буду больше там работать.
Все-таки это, с моей точки зрения, превратное понимание даже у таких людей, как Андрей, что Таганка — театр политический. Он так думал, к сожалению. Вот в этом споре я ему говорил:
— Андрей, я так же, как вы, старался заниматься искусством. Вы думаете, что я специально создавал политический театр? Зачем мне это делать? Это создал Брехт, зачем мне продолжать?
Но когда мы говорили о «Гамлете», ни слова не было сказано о политике. Это политику старались мне пришить деятели. Пришел на «Гамлета» член Политбюро Полянский, уже подготовленный и такой очень решительный, взбешенный информацией какой-то, сказал:
— А что это вы в «Гамлете» каких-то решеток понаставили, хотите сказать, что у нас государство полицейское?
Я говорю:
— Дмитрий Степанович, вы посмотрите и потом скажите: вот если вы ничего этого не увидите, человек, который вас так настроил и так проинформировал, вы к нему не перемените отношение?
Я говорил:
— Дорогой Андрей! Это люди странные. Для них ваш отказ ничего не значит.
— Как?
— А так, они скажут: что значит — он отказывается? А мы его будем считать нашим гражданином со всеми законами, которые отсюда следуют, — вот их логика.
Он не поверил. И в Милане была проведена пресс-конференция, на которой был я, Максимов, по-моему, даже Ростропович Слава был — все мы приехали в Милан, чтобы помочь ему. Его жена была там, странная дама, и все ее поведение, конечно, не помогало этим делам, а наоборот, ухудшало ситуацию. И советские сделали, как я сказал. Это было, по-моему, не трудно прогнозировать. Вот эта наивность человека очень тонкого и мужественного. Он принял смерть — он знал, что он умирает, он очень мужественно себя вел. Это было для него совершенно неожиданно. У него было очень много планов. Он так уверенно рассказывал о своих планах, что «я должен сделать это, это, это», — о протопопе Аввакуме он хотел делать фильм. И вот когда я слушал, в меня все время закрадывалась такая страшная мысль, что когда так уверенно говорит человек, что я буду делать то-то, то-то, как это легкомысленно. И вспоминается невольно Булгаков с «Мастером и Маргаритой» и с Аннушкой, которая пролила подсолнечное масло.
Андрей очень хорошо рисовал. У меня даже есть его рисунок один из последних, где у него могила с крестом, наш крест, ортодоксов, и улетает душа его куда-то далеко. Но этот рисунок был до того, как он узнал, что он будет неизлечим. И я был у него, когда ему дали эту премию. Это было дома еще. Я у него очень долго сидел, он меня никуда не отпускал. Ему уже было тяжело все. Сперва он лежал, потом пошел к столу и очень долго в возбужденном состоянии говорил, и сколько я его ни уговаривал лечь, он никак не ложился и меня никуда не отпускал. И уже я ушел часа в три или в четыре ночи. Это последний раз я его видел.
Весь вечер мы говорили, как нас мучили чиновники и кто из нас правильней ведет себя.
* * *
В связи с этим вспоминается похожий разговор. Как-то мы долго говорили: Владимир, я и Марина Влади. И она сказала:
— Господи! О чем вы говорите! — какие вы несчастные! Вы все время должны о них говорить…
И еще я вспоминаю такую же историю, как драматург Рощин и еще кто-то пошли в бордель просто посмотреть. А там шел стриптиз… И на них зашикали окружающие, что они мешают. А он говорит:
— Ты знаешь, о чем мы говорили? Мы говорили о Польше, о «Солидарности», как там развиваются события. Вы представляете, значит, как же довели нас всех!
* * *
Я очень любил «Иваново детство». В «Жертвоприношении» многое интересно. Вся метафора с деревом.
«Зеркало» мне нравилось, но местами. Мне казалось, что там очень много цитат. Есть какие-то куски, где сильное влияние Антониони, может, это сознательная цитата.
В «Рублеве» много мест очень интересных. Там есть некоторые длинноты, а есть места очень сильные. Я бы не сказал, что отдельные новеллы, нет. Все говорят, «вот „Колокол“ вот особый». Я бы не назвал, что именно эта новелла. Я бы сказал, что отдельные куски. Но во всяком случае, конечно, это замечательный, своеобразный человек, безусловно человек искусства, очень своеобразный и абсолютно честный.
Лучше Александра Сергеевича не скажешь: «Суди художника по тем законам, которые он сам над собой поставил». А если это вообще нехудожественное произведение, то и говорить нечего, время тратить.
Но все равно я не могу позволить себе говорить о нем, как Никита Михалков, зная, что он умирает. Даже если ты так не принимаешь творчество человека, осужденного на смерть, имей такт и сдержи свое мнение и не лезь с ним в газеты и не пинай уходящего на тот свет человека.
Жалко. Очень одаренный человек. Второй брат тактичней. Более воспитанный. У него были очень хорошие фильмы. «Ася хромоножка» и «Первый учитель» — очень интересный фильм и своеобразный.
* * *
У меня более интересные отношения были с Сергеем Параджановым. Это личность своеобразнейшая. Во-первых, конечно, это необыкновенный по самобытности талант. Даже трудно сказать, что вот весь его талант это именно кино. Нет. Потому что он разносторонне одаренный человек.
Я помню, как мы сидели — я забыл даже, в каком ресторане — и сидел напротив Андрей Тарковский. Сергей изрядно выпил, пошли мы вниз, он взял боты и встал в фонтан. Боты ему гардеробщик дал, и он стоял в этом фонтане. А когда мы спускались, то увидели. Потом стали все снимать, прибежала дирекция — ну, в общем, это был его театр.
У него в лагере Бориса Годунова играл начальник лагеря.
Или как он в лагере с огоньком подметал. Начальник, который ходит и наводит порядок, говорит:
— Как ты работаешь? Я тебя отправлю в карцер. Надо с огоньком! — и показал, как надо. Сергей взял спички, поджег эту метелку и начал мести. Тот орет, пересыпая матом! Сергей рапортует:
— Выполняю ваше приказание. С огоньком мету.
Они подумали, что он идиот, и оставили на время его в покое.
Вся его жизнь — это сплошной театр. Веселый, озорной, хулиганский. То ли оттого, что ему было тоскливо, и он чувствовал безнадежность этой системы дьявольской, которая, конечно, на него, как и на всех нас действовала убийственно. И чтобы противиться этой серости, этой тоске, беспробудности какой-то, безнадежности пребывания в ней, он это старался перевести в какой-то кафкианский театр — все его поведение такое было. В Тбилиси, я помню, приходит какой-то его посланец и приносит прекрасную ткань — шелк, пронизанный шелковыми и золотыми нитями, и огромную дыню: «Вот прислал вам Сергей, чтоб вы учились качать, у вас должен сын родиться». А действительно, у Катерины только что должен был родиться Петька. А когда меня спрашивали, я всем говорил и Катерине, когда она спрашивала:
— Ну, а если девочка родится, как вы хотите ее назвать? — тогда еще заранее не определяли.
— Нет. Родится сын и будет назван Петром.
Я был на гастролях в Тбилиси в это время. И я никак не мог дозвониться Катерине, а она была в Будапеште. И поздно вечером, мы в были где-то в гостях у художника, очень гостеприимный дом. И Володя был, Высоцкий.
Я говорю:
— Ну попробуй ты, со своим магическим действием на телефонисток.
И он начал звонить. И действительно вдруг слышу:
— Маша, Маша, шефа нужно соединить с Будапештом.
А там воркующий голос:
— Володенька, где ты, милый?
Он говорит:
— Шеф, ты шефа соедини.
Она говорит:
— Да линия забита, все начальство, начальство.
Он говорит:
— Да брось ты начальство это, разъединяй их, все равно болтают, толку от них никакого нет, ты соедини шефа, у него рожает жена, ему узнать надо, как дела.
И оказывается, действительно соединила Машенька. И Катерина снимает трубку, и я чувствую, что-то происходит:
— Нет-нет, все в порядке, да-да, вот я должна сейчас вот скоро ехать, — а оказывается уже стояла машина и она ехала в роддом, но не желала меня волновать. А потом я получил телеграмму. И я помню, я совершил подвиг для советских. Я прилетел в Будапешт и взял Петьку и выносил его из роддома. Успел. Такую я энергию проявил нечеловеческую.
Я встречался с Сережей редко, но, как говорят, метко. На чем себя ловишь, когда вспоминаешь о Сергее? Сейчас так мало света. Я был в церкви на Рождество и что меня поразило: когда открывали врата Господни, то мало было просветления на лицах. Все-таки озабоченность, нервность не уходила. А вот когда начинаешь говорить о Сергее, то появляется какая-то глупая, не к месту улыбка. Он будоражил всех. Его шутки иногда странные, иногда дикие просто.
Но бывали и печальные такие. Когда я в больницу к нему приехал, он совсем был без сознания, но вдруг очнулся, поглядел и говорит:
— Сейчас я буду отсюда убегать. Помоги мне сбежать отсюда.
— Сергей, куда ты сбежишь, ты еле двигаешься.
— Ничего, ничего. Сейчас я, так вот уже хорошо мне, хорошо, — то есть он занимался самовнушением. И он убежал из больницы, сел на поезд и уехал. Но что с ним было дальше, я не знаю, я потерял его след.
Я помню, как мы приехали на гастроли в Тбилиси, и я должен был его встретить и провести на спектакль с черного хода. «Мастер», по-моему, был. Все окружили, пройти было нельзя. И Сергей ждал. А на черном ходе тоже милиция была. И я закрутился, потом вспомнил и скорей побежал Сергея встретить. Что я увидел: оцепеневших милиционеров, которые в страхе от него пятились. А он, разорвав ворот черной рубахи и вытащив большой крест, сказал:
— Я вас проклинаю! Вы жалкие люди, вы ждете, чтоб вот этот русский меня провел. Меня, грузина, на моей родине проводит русский, а вы милиция, вы вшивые черви, вон отсюда! я проклинаю вас! — и он крестом.
И они пятились и говорили:
— Ради Бога, не проклинай, Сережа, иди куда хочешь, только не проклинай!
Это опять театр он устроил. Он себя развлекал. Он вот, так любил жить.
А вспомните его коллажи, какие это руки замечательные, как они складывать умеют! Почему ему в лагере потом ничего жилось — он для начальниц делал ковры из тряпок, гобелены. Какие он куклы делал — выставки же в Париже были его кукол просто из мусора, из помойки он разные лоскутки собирал.
Или его картина с красными конями. Ну фантазия такая неуемная, самобытнейшая. А иначе ему очень скучно было тут жить. Он же очень тосковал — он ненавидел же все это.
И он устраивал себе жизнь иллюзорную.
Он в Киеве однажды военный парад пустил в другую сторону.
Мы с Катей были в гостях у Катаняна, Петя был маленький. Сергей явился туда, ни с того ни с сего, и принес шубу из кролика.
— Вот тебе, пусть носит.
Я говорю:
— А где ты достал?
— Я еду, стоит очередь. Я спросил: «Что дают?» — «Детские шубки». Потом вспоминаю, у кого есть такой ребенок?
У тебя. Вот и купил.
Сергей насовал в шубу Петьке серебряных ложек Катаняна и Лили Брик. Утром Петя ложки вынул и играет с ними. Я говорю:
— Петя, ты вчера был в гостях и набрал этих ложек?
— Я обнаружил их утром.
В ожидании милиции С. Параджанов в фонтане. Сзади; Катя, я, А. Тарковский, Б. Ахмадулина (с сигаретой), Б. Мессерер
Я, конечно, догадался и ложки вернул Катаняну. Ложки я вернул, но там еще он взял какую-то штуку от буфета и мне подарил трость с этой штукой. Но у меня украли трость. Я не виноват. Квартира была опечатана органами.
А Катанян мне рассказывал, как было с этой шубкой — оказывается, все не так. Пришел Сергей к нему и говорит:
— Я боюсь ходить в «Березку», а ко мне приехал архитектор, который весь Париж строил. И подарил две тысячи долларов.
А Сергей боится идти в «Березку», а Катанян шляется туда-сюда. Значит, если он с Катаняном зайдет в «Березку», ему ничего не будет. И тот говорит:
— А что тебе купить на две тысячи долларов?
Он говорит:
— Ну, посмотри там что-нибудь. Ну, купи мне гжели несколько вещей.
— Ну, две тысячи долларов не стоит гжель.
— Знаешь что, для начала вот тебе десять долларов. Пойди, купи мне гжель.
Тот пошел, смотрит, что купить можно на десять долларов. Потом смотрит, шум какой-то, гам в меховом отделе. Он идет в меховой отдел. Смотрит, Сергей вместе со всеми, кто вокруг, меряет женские шубы. Устроил цирк: выходит, меряет самые дорогие. Говорит:
— Вот ту. Эту нет, эта мне не подходит, — бросает.
А времена такие, что и Евтушенко, помню, явился в норковом манто и говорит:
— Вот я говорил с миллиардером. Он так с удивлением на меня посмотрел, что я в норковой шубе. Я говорю: «Ну, я русский поэт. Могу я себе позволить… Вот вы можете себе позволить?» — Миллиардер: «Никогда в жизни». — «А я могу».
Ну вот, значит, Параджанов меряет. Никаких долларов у него, конечно, не было. Он все это померил. Тот к этому времени не купил ему ничего. Тогда Параджанов бросил продавщицам десять долларов… И купил на них эту шубку — девять долларов с чем-то она стоила.
Ведь говорят, что Сергей на базаре — это произведение искусства. Ведь он приходил на базар иногда с грошами, а уходил с базара с целыми тюками, то есть он покупал, выменивал, торговал там. И все-таки в барыше уходил. То есть наменял каких-то штук, которые никому были непонятны, но ему они для чего-то были нужны, как оказывалось потом. Потом, у него дома в Тбилиси чего только не было: какие-то от старого вагона двери красного дерева международные, которых уже нету. Он их как-то ставил, что квартира делалась чрезвычайно фантастической: с какими-то проходами… Зеркала так стояли, что казалось, что это латерна магика. Он всегда выдумывал что-нибудь. Принимал гостей. Если у него дома ничего не было, он выходил на свой балкон и начинал орать:
— У меня гости, не могу же я себе позволить их не угостить…
Или как он выступал, когда закрывали спектакль о Высоцком. Он говорил о Католикосе, о Папе Римском, просил нас плюнуть на начальство, подумаешь, вот, я — спекулянт, но не на искусстве же — вот продаю бриллианты, а бриллианты мне дает Католикос Грузии и Армении и Папа сам мне подарок сделался, а то они мне ничего не дают делать, ну не умирать же с голода — вот я и спекулирую. И плевать на них, Господи, подумаешь! чего на них обращать внимание! Я встречусь с Папой, я с ним поговорю, и ты тоже будешь получать. И пошли их к чертовой матери! Это он говорил у нас на худсовете. И потом был шум, гам, у него были неприятности. Они потребовали, чтобы он в 24 часа покинул Москву. И там его арестовали. И начали дознание, присылает ли ему Папа Римский бриллианты. И он восемь месяцев сидел в тюрьме после этого, суд был, и Шеварнадзе его вывел из суда, просто волевым решением, и сказал: «Последний раз я тебе помогаю, дорогой!..»
Николай Робертович Эрдман
Эрдман был удивительной фигурой. Есенин говорил: «Что я, вот Коля — это поэт», — и он не кривлялся. Если вы прочтете его несколько стихов, вы поймете, что это замечательный поэт. И очень разносторонний. И может быть, действительно, он единственный советский сатирик. Почему единственный? Потому что он систему осмеял. Всю систему целиком. Он показал, что это полнейший идиотизм. Каждый по-своему реагировал: Бунин написал «Окаянные дни» и уехал отсюда. А Коля ушел на дистанцию от них. Поэтому он так блестяще ответил, когда Сталин должен был приехать к Горькому на дачу. И Катаев с компанией прибежали к Эрдману и говорят:
— Коля, Горький тебя просит в восемь быть у него, приедет Сталин, и мы поможем как-то твоей судьбе. Мы уверены, он тебя простит.
И он им сказал:
— Простите, я сегодня занят — у меня большой заезд, — он всю жизнь играл на бегах.
Они говорят:
— Ну ладно врать-то, — и убежали, думали, что он дурака валял. Но он не поехал к Горькому. А поехал на бега. Вот такой господин был. Это редко кто б себе позволил сделать в этой стране.
Николай Робертович Эрдман, мой близкий друг
Он трагическая фигура. Он всю жизнь играл на бегах и называл себя «Долгоиграющим проигрывателем».
Когда умер Николай Робертович, я отдыхал в Щелыкове, в Доме Островского, там очень красивое место, поместье Островского, и когда ко мне пришли с известием, что он умер, у меня была дикая ангина фолликулярная, нарыв в горле и я чувствовал, что я не доеду просто, я терял сознание, голова была совсем дурная. И я не смог его похоронить. Потом его старый друг М. Д. Вольпин рассказал мне, как все было.
* * *
Он ожил, когда узнал, что я репетирую «Самоубийцу». Хотя он скептически отнесся и говорит:
— Это все равно, Юра, не пропустят.
Я говорю:
— Ну давайте попробуем сделать.
И мы с ним думали, какие изменения сделать, чтоб могла пойти эта пьеса. Мы с ним даже придумывали для цензуры ход, что стоит большой сундук, как у Кио в цирке, и из сундука выходят персонажи, их с вешалками вынимают, нафталин, моль летает — мол, что мы не претендуем, это старая пьеса… И потом, в конце, персонажи убегали в публику, что, мол, и начальству можно сказать: «Но, к сожалению, эти пережитки мещанства еще есть, и вот видите, они убежали и пошли странствовать по нашей необъятной Родине» — Стране Чудес.
Я говорю:
— Может, это обрамление, Николай Робертович, поможет?
Он так грустно мне всегда говорил:
— Нет, Й-ура, не поможет. Они умней, чем вы думаете. Они наши уловки понимают. Не заблуждайтесь.
Николай Робертович был человеком одиноким. И все свободное время — жили мы в одном доме на улице Чайковского, сперва он жил на улице Горького, когда был женат на Чидсон, я и туда к нему захаживал… Его столик стоит у меня дома, маленький такой, восточный, а в кабинете у меня лампа стоит с его письменного стола.
Я помню, мы встретились в театре Вахтангова на «Двух веронцах», где он писал интермедии. На репетициях. До этого почему-то мы встретились на Пушкинской площади в пивной и подошел к нам Алексей Денисович Дикий — замечательный артист МХАТа Второго и режиссер прекрасный, у него студия была своя, и вообще, человек, конечно, легендарный. И Николай Робертович говорит:
— Ты куда идешь?
— Я иду, Коля, в ВТО обсуждать «Егора Булычева» у вахтанговцев.
И Николай Робертович говорит:
— Если тебе не трудно, похвали артиста. Он ведь заслужил это.
А потом Николай Робертович… кстати, когда я играл у него в фильме «Каин XVIII» — он хвалил. И даже хвалил он своеобразно:
— Откуда вы т-так сыграли? Вы мне удивительно напомнили моего дядю.
— Но ведь я его не знал.
— Это неважно, но просто поразительно. Просто мой дядя.
Он мне раза три говорил, что я похож на его дядю. Роль была своеобразная и, видно, фигура типическая. А как говорил Борис Леонидович: «Принадлежность к типу есть конец человека».
* * *
Потом он сочинял пьесу «Гипнотизер», но она бы тоже не прошла, конечно. Вместо ревизора был гипнотизер, но вы можете представить себе аспект — какой бы это гипнотизер был! Толик Кашпировский или Жириновский были бы мальчиками по сравнению с гипнотизером Николая Робертовича.
Он писал прекрасные сценарии, интересные, сказки, чтобы жить, в свое время сочинял басни. Очень остроумный человек был. Он один из первых сел, потому что Качалов прочел Сталину его басню. Сталин спросил:
— Есть интересное что-нибудь в Москве?
И тот прочел несколько басен Эрдмана. И одну басню какую-то даже очень наивную, безобидную совершенно:
Вороне где-то Бог послал кусочек сыра. Читатель скажет: «Бога нет». Читатель милый, ты придира. Да, Бога нет, но нет и сыра.И Сталин посадил Эрдмана.
Качалов потом умолял, ходил — ничего не помогло.
Но Сталин рано его посадил, к счастью, потому что в это же время закрыли его пьесу «Самоубийца». Комиссия во главе с Кагановичем пришла к Мейерхольду, посмотрела первый акт и все разгромила, сказали:
— Вы что ж антисоветскую пьесу написали, да?
И Эрдман сказал:
— Написал.
А в театре уже приготовили напитки и все остальное. И Эрдман говорил:
— Никогда в жизни не было такого веселого вечера. — Когда закрывальщики уехали, остались Мейерхольд, актеры и он. Прекрасный был вечер, хотя случилась такая трагедия. Да, редко такой господин сохранится в советской власти.
Эрдман написал прекрасные интермедии к спектаклю «Пугачев», которые сразу выкинули. Он мне все советовал поставить «Пугачева», я говорил, что я не знаю, как это ставить. Он говорил: «Ну вот, Мейерхольд хотел ставить, все тоже не знал, так и не поставил, просил Есенина дописать». Мейерхольду казалось, чего-то не хватает. Есенин отказался, сказал: «Нет, вот так написал, Ось, ничего дописать нельзя». А Эрдман написал очень смешные, великолепные интермедии. Он нашел сочинения Екатерины — она писала пьесы и очень много, целый том был. И написал остро сатирические интермедии о потемкинских деревнях, ну как в России всегда делают показуху. Ну и как всегда, чрезвычайно остроумно. Там были такие перлы. Сгоняли народ приветствовать императрицу — генерал устраивал показуху, чтоб ее дорога была сплошным праздником: строили фальшивые деревни, чтоб она проезжала по цветущей России, чтоб кругом все ликовало, ну как советские делали, то же самое, традиции те же. И когда народ собирали, то этот генерал осмотрел всех и говорит:
— Неужели у вас другого народа нет?
— Ваше превосходительство, сейчас сделаем, — и наряжали народ. И они их одевали в венки, наряжали примерно так, как Пырьев наряжал актеров в «Кубанских казаках». Кубань — житница хлеба была раньше. Это при Екатерине особенно было. Отсюда — ее фаворит Потемкин, отсюда и пошло выражение «потемкинские деревни». Потом при Александре Первом Аракчеев тоже делал показательные военные поселения вроде колхозов.
* * *
Он написал прекрасные интермедии «Лев Гурыч Синичкин», есть такой старенький русский водевиль.
* * *
Был старый профессор в МГУ, который что-то не то сказал, как всегда. И у него отобрали кафедру, но надо было его как-то пристроить и придумали, что он будет собирать воспоминания пожилых, старых людей. Ну чтоб на что-то жить. И он прислал ко мне своего молодого человека, который ему помогал работать:
— Вот вы, я слышал, друг Николая Робертовича, мы собираем воспоминания о замечательных людях.
Я говорю:
— Спасибо, что кто-то еще помнит.
— Вот я у Гарина был, хорошо я успел, а то он умер — актер мейерхольдовский, он играл и в «Мандате» у Эрдмана и играл в «Самоубийце», потом пытался возобновить этот спектакль, просто восстановил это, как было у Мейерхольда — «Мандат», и вся Москва, конечно, побежала смотреть, но потом он прошел несколько раз, и его тоже прикрыли. «Эраст Гарин» есть такая книжка, и там много говорится об Эрдмане. Этому молодому человеку я сказал:
— Хорошо, я, конечно, постараюсь что-то вспомнить, но лучше вы пойдите к Вольпину, который с ним всю жизнь работал, все сценарии, мультфильмы они писали — много вместе работали, в одно время сидели.
Он говорит:
— Я был у него, он не хочет.
Я говорю:
— Ну, мы хитро сделаем. Я его приглашу к себе в театр на репетицию, а после репетиции вы случайно как бы зайдете, и мы его разговорим.
И действительно мне удалось его разговорить, и мы с ним три часа беседовали. Это было очень интересно, потому что часто он от меня впервые слышал какие-то вещи, а я от него слышал в первый раз. А часто один и тот же факт совершенно по-разному мы воспринимали, начинали выяснять, как же все-таки правильно понять этот кусок жизни его.
М. Вольнин, Ю. Любимов
ВСПОМИНАЯ Н. ЭРДМАНА…
(Запись беседы А. Хржановского)
Ю. Любимов. Николай Робертович умирал от рака в больнице Академии наук. Странно, не правда ли, но это факт — коллеги отказались помочь пристроить его по ведомству искусства. А вот эти ученые… Капица, Петр Леонидович, по моему звонку сразу устроил Николая Робертовича. Позвонил президенту Академии Келдышу, и тут же мы с Михаилом Давыдовичем отвезли Николая Робертовича в больницу.
М. Вольпин. Тут я хочу вставочку сделать — дальнейшие обвинения работников искусств. Когда Николай Робертович уже лежал в этой больнице, администрация просила, на всякий случай, доставить ходатайство от Союза писателей. Мы понимали, что это просто место, где ему положено умереть, притом в скором будущем. Оно оказалось не таким скорым, но достаточно скорым… И вот я позвонил Михалкову, с трудом его нашел… А нужно сказать, что Михалкова мы знали мальчиком, и он очень почтительно относился к Николаю Робертовичу, даже восторженно. Когда я наконец до него дозвонился и говорю: «Вот, Сережа, Николай Робертович лежит…» — «Я-я н-ничего н-не могу для н-него сделать. Я н-не диспетчер, ты понимаешь, я даже Веру Инбер с трудом устроил, — даже не сказал… куда-то там… — А Эрдмана я не могу..» А нужно было только бумажку от Союза, которым он руководил, что просят принять уже фактически устроенного там человека…
Ю.Л. Недавно «Советская культура» напечатала статью С. Михалкова, где сказано, что он редактирует неоконченную пьесу Эрдмана в связи с предстоящей постановкой «Самоубийцы» в Театре сатиры.
Но пьеса Эрдмана была завершена вплоть до запятой, до восклицательного знака, до тире… Николай Робертович, когда я еще был артистом, внушал мне две вещи, за что я ему глубоко благодарен. Во-первых, он всегда говорил: «Юра, но вы же артист, вы должны чувствовать слово!..» Слово. Он так и читал свои пьесы — уникально. Вот у нас есть запись, он читал интермедии к «Пугачеву»…
Я снял бы спектакль без его интермедий…
Да вот, Николай Робертович мог сказать, что «Юра, по-моему, спектакль получился, и не надо… это труд людей, актеров… Играйте без моих интермедий!»
Редкий человек так скажет. Не знаю, кто из моих друзей, может, человека два-три сказали бы… А он сразу сказал. А я, действительно, не поставил бы спектакль, если бы не Николай Робертович…
Он приучал меня ценить драматургию. Мы с ним даже вместе одну инсценировку написали — «Герой нашего времени». Поразительная вещь: это была самая хорошая, точная, профессиональная инсценировка из всех, мною сделанных, но спектакль был самый плохой. А работали мы так. Когда я ему высказывал свои домыслы, он говорил: «Юра, на бумаге!..» Я ему опять: «Что на бумаге, я же вам наизусть все говорю…» Он опять говорит: «Юра, на бумаге, так, чтобы можно было прочесть глазами!.. И со всеми знаками препинания прошу… Необходимо».
И вот мне кажется, что Эраст Павлович Гарин эту любовь к слову, к сценическому слову, которым он так блестяще владел, унаследовал от Николая Робертовича.
М. Д. Вольпин и Н. Р. Эрдман
Николай Робертович был, конечно, человек удивительный. И у меня вообще есть такая своя странная, может быть, гипотеза… Что Эраст Павлович, как говорится грубо, но так говорят, ушиблен был Николаем Робертовичем. Но им ушиблены были многие…
М.В. И весь женский пол.
Ю.Л. Да… Но сейчас я о другом… И вот, значит, когда Николай Робертович ушиб его, как прекрасный господин, как какой-то странный и совершенно случайно залетевший инопланетянин, как сейчас выражаются, то Эраст Павлович поневоле, от этой ушибленности, — знаете, как фотограф в растерянную минуту детям говорит: «Сейчас птичка вылетит, оп!» — и человек на фотографии выглядит странно, — так залетел Николай Робертович в душу Эрасту Павловичу, и Эраст Павлович стал играть Николая Робертовича и создал маску, замечательную маску, как актер. Он был блестящий актер, но он всегда играл Николая Робертовича и даже менялся вместе с Эрдманом как актер. Николай Робертович зазаикался, и зазаикался Гарин. Николай Робертович больше стал заикаться от своей трудной довольно жизни, и больше заикался Гарин.
Гарин прежде всего отличался тем, что он прекрасно произносил текст, что сейчас актеры теряют.
Николай Робертович был поклонником театра диаложного. Он считал, что текст имеет некоторое значение. Он даже выражал недоумение по поводу нашего театра. «Мне казалось, Ю-ра, что долго вам не протянуть, потому что вы не имеете своего драматурга, а вы все тянете и тянете… тут я что-то где-то ошибаюсь»…
Он был человек рассуждающий и поразительно любящий искусство, потому что даже когда он терял сознание, и оно к нему приходило, он начинал рассуждать то ли о литературе, то ли о театре — вообще об искусстве. Значит, это в нем сидело до последней минуты его жизни. И вот я вспоминаю эту грустную историю — о том, как я видел Эренбурга незадолго до его смерти…
Эренбург курил сигарету за сигаретой — французские, — знаете, как они называются? «Голуаз»! Голубая такая коробка… Они короткие и крепкие… Еще Пикассо вклеивал коробки из-под них в свои картины…
Так вот, сидит передо мной Эренбург с мешками под глазами, с огромными, набрякшими мешками, прикуривая сигарету от сигареты, что, в общем, при его-то здоровье тоже говорило о характере: он не цеплялся за жизнь… А я приехал к нему вот по какому поводу: был у нас такой спектакль — «Павшие и живые», он имел довольно печальную историю… Меня в то время в очередной раз выгоняли, спектакль все время урезали, ну, обычные дела наши, печальные… Я к Эренбургу до этого пришел спросить, можно ли взять материал из его книги «Люди, годы, жизнь», использовать некоторые места в спектакле. А он говорит: «А, да, берите, пожалуйста, берите на здоровье! Я слышал, что вы там чего-то сделали, Брехта вам там позволили… Но слушайте, молодой человек… — А какой я молодой — мне было сорок семь, но для него, может быть, казался молодым, да и он не очень рассматривал, какой я, пришел, ушел… — Ну, вы сделаете один спектакль, ну, в крайнем случае, два, ну, может быть, потянут с вами и… три… Но все равно же, разве можно здесь что-нибудь делать? Все равно вам ничего здесь делать не дадут, неужели вы не понимаете, я же смотрю, вы уже не мальчик» и т. д.
А Николай Робертович, умирая, сказал мне там, в больнице, знаете: «В-видимо, Ю-юра, вы были п-правы, когда втягивали меня все время в игру! Ведь я же долго играл и на бегах, но почему-то вышел из игры в искусстве, а уж, наверное, так суждено, надо уж до конца играть». То есть в одном случае — расположение и интерес, а в другом — совсем иное… То есть совсем. Вот так по-разному умирали эти два совершенно разных человека.
М.В. Заговорил, как умирающий Эренбург: безусловно, ничего не выйдет…
Ю.Л. Пока, пока…
М.В. Я хочу вернуться к Гарину в связи с Эрдманом.
Конечно, «Мандат» — пьеса, по тогдашним временам, удивительная…
Ю.Л. Я ее таковой и по сей день считаю…
М.В. И читал Николай Робертович очень хорошо. Но думаю, что очень похоже прочел бы Гарин и до Эрдмана. Думается мне, что всегда жило это в Гарине — любовь к слову, любовь к дикции, если хотите. Я уже тогда, когда встретил Гарина впервые, был поражен сходством дикции Гарина и Эрдмана, их дикционных возможностей.
…Вот многие путали, как ни странно, художника Петра Вильямса с Эрдманом. Главным образом Тарханов, который говорил: «Ну не умею я их отличить»… Работал с нами в «органах»…. И всегда говорил: «Это — Эрдман или все-таки это Вильямс?» А работали вместе. Бывает так. Вот что-то было в облике Вильямса, хотя на самом деле непохожи. Мне думается, что что-то во всем внутреннем облике Гарина, особенно в его манере говорить, — это было с самого начала, еще до их знакомства с Эрдманом. Но уже дальше начинается влияние личности, а не манеры, так сказать. Ну, тут надо сказать, что Эрдман стал для семейства Гариных действительно первым человеком на этом свете. Причем деликатность Гарина была поразительна по отношению к Эрдману. Эрдман находился в ссылке, у черта на куличках, в Енисейске. И приехал туда к нему Гарин. Вдруг является. Просидел у него час. И уже говорит: «Я тороплюсь». — «Куда?» — «Пароход». — «Какой пароход?» — «Которым я приехал». И уехал. И когда я потом спросил Гарина:
— Что это вы приехали на час в Енисейск?
Он говорит: «Я побоялся, что буду лишним, что я там помешаю Николаю Робертовичу». Он был все-таки удивительный в этом смысле человек — Гарин.
И очень хорошо он понял, простите за гордое слово, величие Николая Робертовича. Это большой очень был человек, очень большой! Рядом с Мейерхольдом, с кем хотите, все равно.
Ю.Л. С Шостаковичем…
М.В. С Шостаковичем, с кем угодно…
Ю.Л. С Есениным, с Маяковским…
М.В. Да… с самыми большими людьми. И Маяковский это тоже понимал. И мне об этом говорил, и Коле говорил: «Научите меня пьесы писать!»
И еще мне хочется про Эрдмана сказать. В чем был еще великий секрет его огромного влияния и обаяния. Он из тех редчайших людей, занимавшихся искусством не только с полным правом, а и с полной необходимостью, никогда не придавал этому внешне никакого значения. Он — как Пушкин. Его другие вопросы — внешне — часто интересовали как будто бы гораздо больше. Это могла быть дама, это всегда были бега и многое, много другое. Никогда он не носил себя и не беспокоился о своем даровании — ай-яй-яй, они душат во мне гения! Этого просто никогда нельзя было от него услышать. И когда ему запретили такую пьесу, как «Самоубийца», он мне всерьез доказывал: «Значит, я ее плохо еще написал. Вот написал бы достаточно хорошо — и не могли бы запретить». Вот позиция Николая Робертовича… Значит, казалось, дам он поражал чем? Тем, что он не выпендривался никак. Он дарил им цветы, приносил конфеты, щедро платил в ресторане за три стола. Это поражало, потому что они знали, с другой стороны, что он абсолютно уникальная личность, и так понятно себя ведет. Ведь это же дам просто подкупало сразу… Но ведь так же он действовал и на всех нас по линии искусства. А я-то очень хорошо знаю, что вот крохотный кусочек, какую-нибудь эстрадную шутку он мог двадцать пять раз переписывать, он ночью вскакивал. Но чтобы когда-нибудь от него услыхали, что я там, тра-та, работал вот… Наоборот, ему хотелось делать вид, что это все, так сказать, между прочим.
Ю.Л. Но все-таки грустные фразы я от него слышал. Вот когда врач к нему пришел и спрашивает: какая у вас профессия? Он говорит: «Да я вот писатель.» Она говорит: «Ну а писать-то как вас?» — «Ну, так и запишите — писатель». — «Так, а как вы работаете? — Ее заинтересовало. — Вы, значит, вроде надомника?» Он говорит: «Вы понимаете, это врач мне говорит…» Ну, я ей ответил: «Нет, я так высоко не забираюсь… На дом…» Вот так он чувствовал слово. Но он-то говорил мне это грустно: «Ну что же это? Врач — и она даже этой игры слов не поняла!» А часто я и просто от него слышал грустные фразы: «Как же так-то, ведь стараешься как лучше сделать, но чувствуешь, что это никого не интересует».
М.В. Я говорю, так сказать, о доминанте внешней несколько, но которая меня поражала. Но Николай Робертович меня поражал и другим, и это я уже не умею объяснить. Скажем, чаще всего, приводя примеры какие-то, вспоминая, что он делал, и считая это вот своими вершинками, он очень любил говорить об интермедиях к «Льву Гурычу Синичкину» для Театра Вахтангова. Об этом он говорил совершенно так же, как он говорил о «Самоубийце». Он не делил и тут.
Ю.Л. Мол, здесь я делаю полотно, а это — так..
М.В. Нет. Этого не было. Вы знаете, и даже если он придумывал какую-то просто интересную, даже чисто эстрадную, но уж очень здорово сделанную вещь, он ее ценил для себя и запоминал не меньше, чем вот такие… полотна.
Ю.Л. Эстрада… Был замечательный водевиль. Потом была картина по сценарию Михаила Давыдовича и Николая Робертовича, и не одна. Но весь Театр Вахтангова вспоминает Николая Робертовича… весь театр… старый, Вахтангова, старики, короче говоря, и покойный уже Рубен Николаевич… для него Николай Робертович был кумиром.
М.В. «Мадемуазель Нитуш»… «Летучая мышь»… «Два веронца»… В ЦГАЛИ, кстати сказать, есть черновики «Гипнотизера», — вы знаете, да? Шестнадцать страниц… это самое таинственное, вообще.
Ю.Л. Таинственные страницы. Все время я Николая Робертовича уговаривал, что я начну репетировать, и он, думаю, очень хотел этого, хотя делал вид, что… Он человек иногда странный был… Ну, это, наверное, все мы… самолюбие, то есть… Судьба-то у него трагическая. У него и талант-то… Я его не боюсь даже обозвать и гениальным человеком. Пьеса эта удивительная — «Самоубийца». Я и «Мандат» люблю…
И, возвращаясь к Гарину… Гарин настолько любил Николая Робертовича, что он восстановил «Мандат» тридцать лет спустя. Просто сделал мемориальный спектакль. Восстановил, как он шел у Мейерхольда. Михаил Давыдович считает, что это он сделал зря. Но в то же время он говорит, что Николай Робертович где-то внутри там… был счастлив.
М.В. Три дня был счастлив. Говорил, что это полная и настоящая победа и возврат молодости, а потом, когда схлынули старики, которые шли туда, как в мемориал, как в свой мемориал, себя вспоминали… время это, — то вдруг увидели, нормальные-то зрители, что Гарин очень стар для этой роли. Он играл с тем темпераментом, а уж просто возраст не позволял так кричать…
Ю.Л. Надо было по-другому ставить…
М.В. И публика почувствовала все это. Кроме того… эта пьеса вовсе не такая совершенная. Она написана двадцатилетним человеком. Ну, не бывает… в двадцать лет можно великолепное стихотворение написать. Отдельные куски «Мандата» прекрасны, но написать большую, печатную и, что ли четырехактную пьесу в двадцать лет невозможно. «Самоубийца» уже — вот и есть все, что можно из этого «мандата» поднять, сделать, абсолютно. Тут еще два слова скажу, это, наверно, интересно… Я работал в «Синей блузе», в эстраде. Однажды прибежала ко мне красивая очень дама, художница она, я знал, что она красивая и что все с ней танцуют в Пименовском переулке… и в странной тревоге сказала, даже не представившись: «Вы пишете пьесу „Самоубийца“?» Я говорю: «Да нет, я пишу „Самоубийство“». Я написал либретто еще пока только для Театра Сатиры, — «Самоубийство», и в «Вечерке» появилась такая сбивчивая заметка, что складывалось впечатление, что вроде в Сатире пойдет пьеса «Самоубийство» Вольпина. Она, совершенно не зная, что мы знакомы с Эрдманом — не очень, но близко довольно-таки, — говорит: «Вы должны обязательно повидаться с Эрдманом. Он уже пять лет пишет „Самоубийцу“, и вам надо обязательно объясниться. Я очень боюсь — а вдруг это совпадет…» И я пошел к Массу, с которым дружил с детства еще, и там, на этой квартире, в доме для Театра Вахтангова, Николай Робертович читал «Самоубийцу». Так он его не читал по экземпляру, а пять актов как стихи, наизусть, прочел. Я был совершенно потрясен. Я знал Колю, и на бегах с ним очень часто встречался, знал, что он песенки очень хорошие написал, знал, что он написал несколько пьес, знал, что он уже автор «Мандата».
Ю.Л. Это замечательно, замечательно, что вы вспомнили.
М.В. Вот так это было, так это шло. И вдруг вот такая штука. А потом мы стали выяснять, что там совпало…
Ю.Л. Это я не знал… Замечательно… Михаил Давыдович связан как ни один человек с Николаем Робертовичем, поэтому ему некоторые вещи неудобно говорить-то. А я могу это сказать, поскольку в последние годы я был очень близок с Николаем Робертовичем. Тут и стечение обстоятельств… жили рядом. Поэтому я прибегал к нему посидеть пару часиков, а он жил одиноко, несмотря…
М.В. Жил одиноко вдвоем…
Ю.Л. Правильно. Жил одиноко вдвоем… Это даже подходит к его пьесам. Он жил одиноко вдвоем. И беседы эти уже наши превратились в традицию. Я прибегал после работы, руководя Театром на Таганке, где он сразу стал близким человеком… Мы с ним и до этого знакомы были, мы втроем в «органах» познакомились, под руководством Берии, и там «плясали» втроем. Они диалоги сочиняли. И там была произнесена эта гениальная фраза… «Уж больно там плохие шинели». А там они жили в мансарде, там зеркало, и когда он надел, посмотрел на себя — генеральская шинель — и сказал: «Мне кажется, за мной опять пришли». Ну вот, он весь в этом. В спорах бесконечных, когда были эти посиделки вдвоем — мы очень часто вдвоем сидели, а иногда кто-то подходил третий и четвертый. И Михаил Давыдович очень часто бывал…
М.В. Я думаю, вы всегда, каждый день у него бывали.
Ю.Л. И долгие годы это было. Годы…
М.В. И Колю это очень радовало. Он уже в это время сильно, сильно растерялся. По болезни. Он растерялся жизненно. Стало ясно, что хорошо это не кончится. Может быть, тут виновата и жена.
Ю.Л. Да Бог с ней. Там все было грустно. Но беседы наши были прекрасны.
М.В. Вы очень ему помогали. Очень.
Ю.Л. Михаил Давыдович иногда, значит, в сердцах, когда втроем мы беседовали — тоже было много таких бесед, — Михаил Давыдович говорил: «А иногда я Колю ненавидел»…
Там где-то во время войны они отступали, а у Николая Робертовича болела нога, гангрена начиналась. Значит, он полубосым шел, они оба в каких-то летних нарядах там были. Потом копали там что-то… Они отступали последними. Я это тоже все вкусил. Так что знаю «радость» эту — отступать последним. Значит, в деревне ничего нет — ни жрать, ничего. А тут нога отсыхает, гангрена начинается… Михаил Давыдович говорит: «Я ненавидел его за то, что он никогда ничего для себя не сделал бы. Не нашел бы и галоши для себя…» А Михаил Давыдович умел рисовать. Он там рисовал хозяина, хозяйку, дочку… И все искал для него галошу. Галошу, чтоб надеть, чтоб тряпки замотать, что угодно, но чтобы дойти, чтоб ногу не отняли, а тот вроде считал — ну что ж делать, ну нет галоши, значит судьба такова. Без «галоши»…
М.В. А утром встать не может… На полу в избе какой-нибудь там лежим.
Ю.Л. Это тоже штрих интересный… Мы все добытчики для себя, когда подопрет, а он был не добытчик.
М.В. А у него разболелась нога, очень, потом ее хотели отнять… Он говорит: «Я останусь, я дальше идти не могу». Я ему: «Куда ты останешься?» Вот его поднимешь, и опять его надо… Инерционный совершенно… субъект в этом смысле. Так что это иногда было очень страшно…
А.Х. А эту историю вы знаете, с биноклем? Как Николай Робертович наблюдал из окопа появление неприятеля. И говорит: «Как повалил, так стало страшно…» — «Ну и что, Николай Робертович, вы сделали?» — «Я сделал так переворачиваешь бинокль, и все удаляется…»
Ю.Л. Прекрасно!
М.В. Это он придумал, конечно. Бинокля у нас не было.
Ю.Л. Придумано прекрасно…
М.В. …Если говорить о его ратных подвигах… Вот над нами самолеты немецкие. Но предстоит переправа через шесть уже почти зимних речушек. Они мелкие. На нас сидят те, кто ходить не может. Мы несем их. Немцы бомбят эту переправу, не очень интересуясь нами лично, персонально, поскольку мы в штатском… И Николай Робертович идет, значит… Может быть, нога уже начинала тогда болеть, а может быть, с ногой еще было все благополучно… И вместо… (ведь мы отступаем, а не наступаем, нельзя было сказать: «За Родину, за Сталина!» Куда ж — назад… Как-то нехорошо) он говорил: «Хочу к маме! Хочу в „Арагви“! Хочу какава!»
И все ржали, эти солдаты: «Какава» он хочет, «к маме»… «Всем хочется к маме».
Ну, «Арагви» они не очень, правда, понимали. Но для этого нужно было обладать такой бодростью! И как-то все мы веселее эти шесть речек переходили. Вот это — надо отдать ему справедливость — это странное мужество… И нигде оно, кажется, ни у кого не описано, что бывает и такое мужество, понимаете. А это мужество бесспорное…
Ю.Л. Или вот… Идет художественный совет. Обсуждается сценарий Вольпина и Эрдмана. И им говорят всякие гадости. Товарищ Ильичев тогда был во главе этого совета. И вот, когда была сказана очередная гадость… А Николай Робертович — он же редко что-либо без крайней необходимости говорил… Между тем все знали, что Николай Робертович — один из самых остроумнейших людей Москвы… А он был необыкновенно молчалив. Вступал он в беседу редко. Если он мог сказать фразу, которая перервет глупость беседы… только… и перевернет ее парадоксально. Только тогда он вступал с фразой.
И вот, Ильичев говорит: «Вы что, не знаете, кто, так сказать, этот художественный совет создал? — имея в виду Сталина. — Вы доостритесь…»
На это Эрдман говорит: «Ну, я и острил, потому что я думал, что это художественный совет, но теперь я понял, что это нечто другое, и я умолкаю…»
И когда тот стал хамить дальше, Николай Робертович попросил Михаила Давыдовича об очень деликатной вещи: «Михаил Давыдович, не будете ли вы так любезны — а то я, вы знаете, заикаюсь… Так вот, не будете ли вы так любезны — послать этого господина н-на ху…» — и вышел. Самое ужасное положение было у Михаила Давыдовича. Потому что он-то остался… Иногда Михаил Давыдович готов был и ненавидеть Николая Робертовича.
М.В. Это были «Смелые люди». И страшно возмущенно говорили, как это мы по поводу войны, такой трагической, написали такой «мюзик-холл», вестерн… А заказ был прямой от Сталина написать вестерн, и обязательно про Отечественную войну. А мы не брезговали, считали, что люди мы подчиненные… М. Д. Вольпин и Н. Р. Эрдман.
Ю.Л. И Микеланджело писал и лепил по заказу…
М.В. Нас поносят… И вдруг, уже никуда не подашься, Николай Робертович молчит, а я очень робким голосом говорю: «Ну, раз у нас не получилось ничего, единственно, о чем я попрошу вас вот, художественный совет, чтобы вместе с этой неудачей не потерпел бы постоянной, вечной уже неудачи вообще этот жанр, приключенческий, — я говорю, — все-таки он очень нужен для кинематографа».
Ко мне подскочил Ильичев и перед самым носом стал махать пальцем и говорить: «Вы что же, забыли, где вы были? Это что ж, саботаж, забастовка?»
Это значило, что мы должны были все переделать, хотя совершенно было неясно, что именно.
«И почему молчит… Эрдман? Почему вы молчите?» — обращается он к Эрдману. Эрдман и говорит: «А мне кажется, что вы вообще слишком большое значение придаете искусству… Ведь вот один великий писатель лет полтораста назад написал против взяток большую пьесу — „Ревизор“ называется, а ведь вот взятки берут, берут, и еще будут брать!» Это я к тому, что он удивительно умел прервать одной фразой весь ихний разговор, всю эту… Ведь в жизни мне в голову не пришло бы, что надо совсем про другое сказать. Понимаете, я что-то те-те-не-не… А он им сказал… И тот растерялся, замолк, и все кончилось…
Ю.Л. Это он мог…
М.В. Вот это великолепно было сказано!
Ю.Л. Вот это всегда он умел — одним словом, фразой повернуть всю тему и показать людям, что, в общем, они три часа говорили о полной ерунде. Он как-то умел парадоксом свести это все к самому существу…
Когда снимался в Ленинграде «Каин XVIII», они, съемочная группа то есть, искорежили всю драматургию, не сходились концы с концами, и Эрдман вынужден был приехать — чего еще надо дописывать?
А они боялись цензуры, хотя цензура-то пропустила… Но они уже сами… с перепугу резали, говоря, что все равно вырежут, — тут психология другая.
Я считаю, вот Эрдман тоже помог мне выработать психологию другую: ну вот — цензура… у них своя работа, у меня — своя. Они режут — ну и на здоровье, так сказать. И Николай Робертович — он тоже такой точки зрения придерживался: я написал — вы делайте, поэтому зачем портить? Преждевременно!
Ну действительно тут они правы, оба автора, — режиссеры корежат драматургию. Это нельзя делать, как вот сейчас Михалков, — зачем же он портит драматургию, да еще чужую?
Ну зачем же он за цензуру? Цензура вырубит, вымарает, что она хочет. Был же уже почти что сверстан экземпляр в журнале «Театр» с «Самоубийцей».
М.Д. Да он у нас есть…
Ю.Л. Он есть, этот экземпляр. Николай Робертович пошел же там на купюры, на какие-то изменения… Зачем же…
М.Д.И сам сделал…
Ю.Л. И сам сделал некоторые изменения… Зачем же за него переделывать? И потом, есть маленький факт: ну, если опубликовано — пожалуйста, делай по мотивам, делай что хочешь, но ведь это же не опубликовано еще… Эрдман же не может за себя заступиться…
В наш театр Николай Робертович ходил до последнего дня. Он просто не мог жить без театра, вне театра, вне этой среды. И вот это любопытство к цеху к своему — это же великое качество, оно, к сожалению, тоже уходит… А это все одна цепочка…
Как в «Гамлете», помните? «Порвалась связь времен, неужто я связать ее рожден».
Так вот, эта цепочка, она как-то была совершенно зрима. Николай Робертович это нес от Гоголя, свою цепочку. И умел ценить слово. И передавал это артистам…
Наш театр очень многим обязан Эрдману.
Февраль 1982 года.
(Из книги «Николай Эрдман. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников». М., «Искусство», 1990.)
* * *
Николай Робертович хотел писать пьесу о Николае Втором. Он казался ему необыкновенно симпатичным, благородным джентльменом, недаром он племянник Георга Пятого и так на него похож, на английского короля.
Кстати, есть разные мнения насчет «Красного Колеса» Александра Исаевича, но последний император и вся коллизия императора прекрасно написана. Прекрасно. Также, как он прекрасно описал Александра Трифоновича Твардовского, любя его. И что вокруг подняли критики и люди вроде образованные, как Лакшин, чего он взвился, чего он накричал, какие-то статьи странные стал писать против Александра Исаевича — не понимаю.
«Самоубийца», 1990
С. Холмогоров, Т. Сидоренко, Ю. Смирнов, В. Смехов
С В. Шаповаловым на репетиции
Эрдман очень смешно рассказывал, как-то он пришел к Есенину и тот говорит:
— Коля, я изобрел машину, как писать стихи.
Значит, что он делает. У него коробка и там написано много-много слов. Он вскакивает на стол, хватает из этой коробки слова, бросает их в воздух, и они рассыпаются по комнате. Его словарный запас, есенинский. Потом он ползает и составляет из них стихи.
* * *
Реприза Эрдмана. Суфлер шепчет из будки актеру:
— Узнает в графине свою мать.
Тот берет графин, разглядывает его и говорит:
— Мама, как ты сюда попала?
Это Эрдман, чтоб деньги зарабатывать, репризы писал Утесову.
* * *
Я ему говорю: «Почему, Николай Робертович, вас так во всех кабаках принимают?»
— А вы, Юра, сколько на чай даете швейцару?
— Рубль. Ну, если уж очень подгуляю — три.
— А я десять.
Он и у нас в театре, если у него есть двадцатка в кармане, всех угощал шампанским. Угостит, а больше у него денег нет, а мы с ним собирались еще поехать домой и посидеть. Он говорит:
— Ну, Юра, я же все-таки сочинитель, я же должен угостить господ артистов.
Барин был. Угостит, а у него нет даже на такси.
P.S. Вот, мой дорогой сын, какие люди по земле ходили! Дай Бог и тебе заиметь в компанию этаких! И мы с мамой были бы спокойны за тебя.
Грецкое дерево — Будапешт — отпуск. 21.7.1999 г.
Высоцкий и Мы
Я могу только благодарить Бога и судьбу, что я был знаком с таким количеством выдающихся талантов и личностей. И это, конечно, не могло не оказать большого влияния.
Вообще, в поэтических спектаклях больше проявляются все: и режиссер и актер. Это особый дар. Есть музыкальные люди и совершенно не чувствуют стиха: ни его ритма, ни его поэзии. Этому очень трудно научить. Я очень люблю слушать, как поэты сами читают, и редко люблю слушать актеров. Потому что когда читает поэт, я чувствую его мир, его ритм, как это создается все, понимаете? А когда актер интерпретирует… редко, очень мало актеров умеет хорошо читать стихи, у нас, во всяком случае. Но мне так повезло, что все-таки в этом театре был Высоцкий — сам поэт, еще было несколько актеров, там, Филатов, которые тоже пишут стихи и чувствуют стихотворение. У меня так совпало, что, к счастью, у меня много было музыкальных людей, которые стремились и сами писать что-то. И вокруг театра всегда была целая группа прекрасных поэтов: и Ахмадулина, и Окуджава, и Вознесенский, и Евтушенко, Самойлов, Слуцкий, и Высоцкий внутри театра. И это помогло Высоцкому так раскрыться и взлететь и мощно прозвучать на всю Россию. Театр, конечно, помог ему: он постоянно вращался в кругу очень одаренных людей — писателей, лучших философов, театральных деятелей, музыкантов.
Думаю, что Владимир Высоцкий мог родиться и встать на ноги только в этом театре. Он бы так не развился. Ну конечно, это от Бога и от мамы с папой — такой талант, хотя от мамы с папой странно: папа Володин на поминках историческую фразу сказал: «Видимо, в Володе что-то было: его сам Кобзон любил».
Наверное, когда-нибудь будет изобретен прибор и, слушая песни Высоцкого, ученые найдут то, что было в этом надорванном хрипатом голосе, который кричал на всю страну и все-таки докричался до сердец, до миллионов сердец. Почему такая феноменальная любовь и популярность? Мне понятно, почему. Потому что он пел про то, что официальная поэзия не смела петь. Он открыл на обзор своим соотечественникам целый пласт, как плуг землю когда вспахивает, он распахал и показал, как Гоголь про Пушкина сказал: «зарифмовал всю Россию» — а он открыл, он снял этот лак официальности. Лак официальности, покрыто все лаком, зализано, а он все это открыл на обозрение. У него же неисчислимое количество тем, он пел про все, про все боли, про все радости, он смеялся над глупостью, он был неукротим и гневен по поводу безобразий, которые творятся. И он так сумел подслушивать народные выражения, слова. У него прекрасный народный язык, удивительный. И поэтому Москва его так хоронила как национального героя.
* * *
Он Свидригайлова играл прекрасно. Это была его последняя роль в театре. Я считаю, что это лучшая роль его.
Хотя Гамлета он постепенно играл все лучше и лучше. Один раз в Марселе он играл удивительно. Я не мог оторваться.
А дальше он уже только фигурировал, одухотворял, помогал, как в спектакле о нем. И было удивительно в этом спектакле то, что казалось, что он здесь. И это ощущали все актеры и зрители, сидящие в зале. Как будто он здесь, среди них. Был его голос, был спектакль, где он играл столько лет — «Гамлет» — была его поэзия, его товарищи, поэтому создавалось впечатление, что он… и слова были хорошие очень в конце гамлетовские, и его стихотворение, где Демидова просила его: «Ты этот вечер нам подари, подари…» — как мать, как Королева и как актриса. И Горацио говорил из «Гамлета»: «Ты здесь? Выходи!» — и после этого он начинал петь свою песню «Кони», и весь этот партер пустой на сцене, накрытый чехлом, становился как бы душой всех, которая постепенно начинает вибрировать и улетать вверх. И оставались только сидящие люди у стены, его партнеры, кто с ним играл на сцене, и пустое место между… где он должен сидеть, и гитара.
И актеры пели его песни каждый по-своему. Золотухин пел с ним «Баньку» — замечательную его песню, они вместе где-то снимались, когда он сочинил эту песню. И он рассказывал в спектакле, как он спал, а Владимир писал песню. Жили они в какой-то странной избе, где была почему-то лампочка в пятьсот свечей — другой не было. И всегда ходили люди вокруг дома поглядеть на живого Высоцкого. И он говорил: «А потом мы с ним пели эту песню очень часто вдвоем». И начинал петь, и Владимир пел в записи. А он пел с ним. И это место я очень любил. Оно живое.
Он сразу пришел, в первый год как возник театр. Он играл в «Добром человеке…» Сперва не летчика, а хозяина лавки — небольшую роль. До этого я его не знал. Говорили, что есть такой. Но потом оказалось, что он уже очень много написал песен, и всем они так нравились, что их переписывали на магнитофоны. Надо поставить памятник первому советскому магнитофону «Яуза».
Он много выступал, правда, попадало всем за его концерты. Ему мешали как могли. Это чудо — как они ни старались мешать, он все равно спел все, что хотел!
В последнее время несколько артистов сделали в театре такую программу «В поисках жанра». Владимир ее вел. Мы все как-то старались его легализовать, потому что он работал, а власти все делали вид, что его нет.
Это была такая полуимпровизационная вещь. Владимир говорил вступительное слово и вел как бы все это… Боровский сделал оформление, я им сделал программу, наметил все это. Хотя это их творчество было. Я только помогал им.
* * *
Его все приглашали. Космонавты его песни брали с собой в космос, капитаны его приглашали на корабли, на подводные лодки, летчики брали в самолет. Он очень любил ездить. Он был динамичный, быстрый. Ему никогда не сиделось. Он часто исчезал и не знали, где он. Он бродил в Сибири, бродил в горах. Он очень любил горы. У него был удивительный дар — он умел всегда найти подход к людям, он имел обаяние, шарм огромный. И не только женщины это ценили, но у него было очень много друзей мужчин очень интересных, самобытных. И он имел, конечно, уникальную аудиторию, как Чаплин — от великого ученого до любого мастерового, солдата, колхозника, ворюги…
* * *
Я заболел, а жена с сыном Петей были в Будапеште. У меня была температура: сорок и пять десятых, я был в полусознательном состоянии. И кто-то назойливо звонит в дверь. А я уже медленно соображаю. И долго шел до двери. Он говорит:
— Что же вы делаете, вы что, один, и никого нет?
Я говорю:
— Да, Володь, ничего страшного.
— Как? Что вы!
И он принес лекарство. Он въехал в американское посольство! — там милиция — и он сходу на своем «Мерседесе» въехал. Те: «А-а-а!» — а уже все — проскочил! Пошел там к какому-то советнику знакомому своему. И сказал, что очень плохо с Любимовым, дайте мне сильнейший антибиотик, у него страшная температура. И они дали какой-то антибиотик. И он мне его привез. Посидел со мной, потом я говорю:
— Иди ты, Христа ради, уже два часа ночи. Сейчас я выпью этот антибиотик, я же совсем не соображаю, что ты будешь сидеть.
Я его с трудом выпроводил. И начал принимать, там, через шесть часов или через четыре — я уж забыл.
Он был добрый. Многие этим пользовались — он все раздавал, когда выпивал. Разный был очень. Характер сложный был. Но все равно, ему все можно было простить за удивительное его мужество и какую-то самоотдачу полнейшую. Самосожженец.
Я считаю, даже при его огромной популярности, еще Россия не поняла его значения. Видно, время какое-то надо.
Ему нравился Париж, Франция, но, в общем, он понимал, что место все равно его здесь, в России. Он понимал свое значение. И очень он страдал от того, что ему не дают возможности петь, что не выпускали пластинки, что не напечатали книгу. Он обижался, очень горько ему было от этого. Он уезжал на Запад, становилось ему скучно — он ехал обратно. Тут ему всыпали по первое число. В последнее время иногда пытались его погладить, сыграл он в каком-то глупом фильме чекиста какого-то. «Правда» написала: «глубокий образ» — он смеялся, конечно, над всем, но считал, что после этого хоть ему дадут… он очень хотел фильм снять. Но его обманули, не дали, морочили голову.
Он хотел сам написать песни, по пьесе «Зеленый фургон», забыл автора.
Он писал немного прозу. У него есть куски прозы — суровая проза.
* * *
Театр переживал очень сильно его смерть. Это был шок. И даже те, кто к нему при жизни относился более чем сдержанно, все равно почувствовали, что ушло то из театра, что нельзя ничем заменить, что это катастрофа. Всегда, на любом вечере, он охотно очень пел. Все получали такое удовольствие. Но последние два-три года он мрачнел и пил очень много. Он все искал выхода, иногда говорил какие-то очень наивные вещи. Вдруг неожиданно приезжал вечером, еще Катерина была на старой квартире — такая у нас комнатушка небольшая — он совершенно неожиданно приехал и начал говорить мне, что в театре хуже становится, неуютно, что реже тянет туда — и все. Такой был долгий грустный разговор у нас.
— Володя, милый, ну неужели ты думаешь, что я не вижу? Значит, это какие-то внутренние глубокие процессы старения, разочарования, бесконечных сложностей, что люди устают, старые, — и так далее и так далее.
Но я чувствовал, что он уже совсем как-то уходит, он играл все роли свои, но все равно он уже целиком как-то ушел в поэзию, хотя театр все равно оставался для него очень важным, нужным. А когда его обманули с картиной — я помню — где-то мы с ним остановились и минут двадцать говорили.
— Да, Володя, брось ты, все равно они тебе не дадут это делать.
Он говорит:
— Они обещали.
— Ну, обманут они тебя. Обманут и все. Брось. Давай сделаем, что ты хочешь. Ну, скажи, что ты хочешь сыграть. Ну, давай, Бориса сыграй.
И он хотел это сыграть:
— Ну давайте, подумаем. Я, — говорит, — вот немножко приду в себя, — он переливание крови делал все время, — вот кровь у меня. Здоровья нет совсем. Сил нет.
А за несколько дней до его смерти я опять заболел. В полшестого утра прибежал Боровский и даже говорить не мог — просто зарыдал, сел, я вскочил, говорю:
— Что?! Что случилось, что?
— Ну вот и кончилась ваша двадцатилетняя борьба с актерами за Володю.
Сразу мы оделись и уехали.
После смерти Владимира я получил распоряжение московского правителя, члена Политбюро В. Гришина — точное предписание, как хоронить В. Высоцкого. Все было оскорбительно в этом указе для памяти покойного. Я ответил, что «вы его травили, а хоронить будем мы, его друзья, так, как мы сочтем нужным». Мои отношения с властями обострились до крайности.
Черненко был на «Мастере и Маргарите», и кто-то во время действия мимо него выходил грубо — и он сказал: «Могли бы и досмотреть». Он был членом Политбюро, и все знали, что он правая рука Брежнева. Он передавал несколько раз мои письма Брежневу. Я с ним имел только два разговора по телефону, когда с Высоцким вся эта история была. Я ему сперва рассказал: ко мне вошли эти в кабинет без стука, распахнули дверь и сказали:
— Представители Управления зачитывают приказ: строгий выговор с последним предупреждением о снятии с работы, — ну, это такая демонстрация: три человека едут, чтоб напугать. Я им сказал:
— Не трудитесь читать, я знаю этот приказ.
— Откуда вы можете знать? Это секретно.
Я говорю:
— Есть хорошие люди, секретно и сказали.
Один из них был самый глупый, из бывших артистов — он учил Можаева, как нужно писать пьесу — и по приказу министра девяносто замечаний ему сделал. А теперь он все хотел зачитать. Зычный актерский голос. Я говорю:
— Благодарю, я знаю. Может, вы покинете мой кабинет?
Они говорят:
— Это не ваш кабинет, а государственный.
Я говорю:
— Извините, вы совершенно правы.
И я вышел из кабинета. Ушел. Потом мне секретарь сказал, что они ушли из кабинета — посидели все и вышли. Я вернулся и начал заниматься делами. И весь этот разговор я передал Черненко. Он тяжело вздыхал и говорил мне:
— Да, дожили! Ну неужели вот так, как вы говорите?
Я говорю:
— Неужели я вам буду неправду говорить? Извините, что я вас побеспокоил. Просто я больше не могу так работать. Потом это касается искусства, я вам говорю, они не разрешают, вот, спектакль о Высоцком.
Потом он мне сказал:
— Перезвоните мне через несколько дней, а я разберусь. До свидания.
А когда я позвонил через неделю, как будто бы другой человек.
— Почему вы к нам обращаетесь? У вас есть свой секретарь ЦК по пропаганде, товарищ Зимянин, он такой же секретарь ЦК, как и я…
Я говорю:
— Ну что вы, я знаю, разумеется.
— Ну, в общем, вот я вам говорю: позвоните ему.
Я говорю:
— Вы знаете, с ним очень трудно: он не слушает. Он громким голосом очень быстро читает большую нотацию и на этом разговор заканчивается. Бесполезно….
— Я вам повторяю: позвоните товарищу Зимянину.
И мне ничего не оставалось делать, я должен был выполнять. Я позвонил Зимянину, и тот начал на меня просто сорок минут орать.
— Мы вам покажем! Вы что это беспокоите членов Политбюро, до какой наглости вы дошли!..
Значит, он ему, видимо, позвонил, сказал:
— Что там, разберись, — и уже от того, что начальник ему позвонил и сказал, он начал орать на меня:
— Ваш Высоцкий, подумаешь, антисоветчик, все ваши друзья антисоветчики! — и все кричал, кричал… И только когда он уставал кричать, я вставлял какие-то фразы:
— Ну, раз все антисоветчики, один вы советчик, то посоветуйте хоть что-нибудь.
— Ах, вы еще это, шутить, я вам дошучусь!
Я говорю:
— Ну, зачем же вы?.. Что же Вы так кричите? Некрасиво таким голосом кричать на товарища по партии, мы ведь с вами в одной партии.
— Вы домахаетесь своим партийным билетом, мы у вас его отберем! — Я просто положил трубку через сорок минут.
С Чурбановым я говорил потом. Сперва с Галиной говорил, дочерью Брежнева, и она сказала, что она плохо себя чувствует — это я говорил по поводу того, что вот не выпускают спектакль о Высоцком, а я знал, что она его поклонница горячая, Галина.
— Вы лучше позвоните мужу.
Я говорю:
— Может, вы и телефон дадите?
И она дала мне телефон. Я говорю, может, вам не затруднительно будет ему сказать, что будет такой-то звонить, чтоб он снял трубку.
— Нет, он снимет трубку, звоните ему, он лучше разберется.
Я был, конечно, разочарован, потому что я думал, она папе скажет, что было бы лучше, а она меня к мужу послала. Муж бодрым голосом ответил:
— Кто говорит?
Я кратко изложил ему. Он сказал:
— Да! Но ведь будет же скандал.
Я говорю:
— А какой театр без скандала? Это же не театр.
Он заржал и говорит:
— Да, разумно. Хорошо, подумаем.
Ну и ничего он не подумал, конечно. Может, нечем было думать особенно, но думаю, сообразил, что не надо ввязываться. Он не помог. Ни она, ни он.
* * *
Я считал своей обязанностью сделать спектакль. Поэтому когда они закрыли, это для всего театра было обидно, горько и непонятна эта злость, бестактность, бездушье полное, мерзкий поступок этого министра, который всю жизнь врал и ему, и Марине, когда они приходили, чего-то всегда обещал, снимал трубку, делал вид, что он звонит, и говорил:
— Что же вы не выпускаете пластинки? Ну надо же скорей! Вот у меня сидит Марина Влади и Высоцкий. Ну что там, почему? Целых три года. Вы же должны были выпустить, ускорьте, ускорьте, ускорьте.
И потом проходил еще год — ничего не выпускалось… А он болезненно очень это переживал… Я все время говорил ему:
— Да плюнь ты… Зачем тебе. Миллионы пленок. У тебя прекрасные, к счастью, записи, сумел ты сделать на Западе, ну и ладно. Чего ты к нему ходишь, унижаешься? Зачем тебе надо?
Но он в чем-то как дите был, наивный. Вдруг как-то говорит мне:
— Ну неужели вы не можете добиться от них хоть какой-то минимальной экстерриториальности…
Я говорю:
— Ты наивный человек, ребенок. Ты можешь чего-нибудь добиться при твоей-то популярности? Странный ты человек. Многого ты добился? Откуда же я могу добиться, что ты!
Ну а потом, я считаю, что при такой фантастической популярности он мог совсем испортиться: поглупеть как-то и стать более чванным — нет. Прошел он, в общем, медные трубы фанфарные. И огонь, и воду, и медные трубы — он все прошел.
После смерти Высоцкого все пошло совершенно страшно. Как только я посмел похоронить Высоцкого не по их директивам, фактически был дан тайный приказ со мой покончить. То есть как со мной обращались — это, не дай Бог, я и врагу не пожелаю.
Его гитара в кабинете
На могиле В. Высоцкого. Май. День Победы. 1988
Они
Высоцкий и Они
Секретно ЦК КПСС
О возможных антиобщественных проявлениях в связи с годовщиной смерти актера Высоцкого 13 июля 1981 г.
По полученным от оперативных источников данным, главный режиссер Московского театра драмы и комедии на Таганке Ю. Любимов при подготовке нового спектакля об умершем в 1980 году актере этого театра В. Высоцком пытается с тенденциозных позиций показать творческий путь Высоцкого, его взаимоотношения с органами культуры, представить актера как большого художника-«борца», якобы «незаслуженно и нарочито забытого властями».
Премьера спектакля планируется 25 июля с.г., в день годовщины смерти Высоцкого. В этот же день неофициально возникший «Комитет по творческому наследию Высоцкого» при театре на Таганке (Ю. Любимов, администратор В. Янкилович, художник Д. Боровский, актер МХАТа В. Абдулов и другие) намеревается провести мероприятия, посвященные памяти актера в месте его захоронения на Ваганьковском кладбище в г. Москве и в помещении театра по окончании спектакля, которые могут вызвать нездоровый ажиотаж со стороны почитателей Высоцкого из околотеатральной среды и создать условия для возможных проявлений антиобщественного характера.
Сообщается в порядке информации.
Председатель Комитета госбезопасности Ю, Андропов.
Резолюция: тов. Зимянину, Шауро, Дементьевой. Прошу ознакомиться. М. Суслов, М. 3имянин.
Справка. С содержанием документа секретарь МГК КПСС т. Дементьева Р. Ф. ознакомлена.
Организовано выполнение поручения.
Зам. заведующего Общим отделом МГК КПСС Н. Бровкин.Разговор с Андроповым по телефону (17 июля 1981 г.) был очень конкретный и точный. И благодаря этой беседе состоялся спектакль 25 июля 1981 года. Он спросил:
— Почему вы обращаетесь ко мне? У вас есть министр.
Я говорю:
— К нему обращаться бесполезно.
А он знал, по какому вопросу я обращаюсь. Он говорит:
— Ваши аргументы: почему вы обратились ко мне и почему это должно быть решено положительно.
Я ему высказал свои аргументы, что все равно это перейдет в его ведомство, потому что это вопрос политический и вопрос международный. Вопрос престижный для государства и для атмосферы и внутри и вне государственных отношений: а так как вы занимаетесь именно этим, то вопрос неизбежно придет к вам. Поэтому я считаю, что с государственной точки зрения это необходимо решить положительно.
— И я надеюсь, что вы мне поможете.
Он мне сказал:
— Да. Я с вами разговариваю как товарищ. Называю вас «товарищ Любимов». Я думаю, ваши аргументы убедительны.
Я привел еще ряд аргументов, более конкретных.
— Но я прошу вас сделать все возможное, чтоб избежать скандала. Потому что сочетание трех факторов: Таганки, Высоцкого и вас — чрезвычайно опасное сочетание. Это в том смысле, чтоб не было Ходынки, чтоб это все не повернулось против вас. — Потом он спросил — он человек очень конкретный и точный:
— Вы успеете?
Я говорю:
— Мы успеем. Впрочем, извините, я забыл, что завтра суббота.
— Ну и что?
— Но вы все разъедетесь по дачам.
Он говорит:
— Кто вам нужен, будут в кабинетах.
Я сказал:
— Во сколько?
— Когда вы хотите их видеть?
— Да я вообще их видеть не хочу.
— Я не шучу.
— Понимаю, что вы не шутите. Ну, в десять можно?
— Приходите точно. Они все будут сидеть.
И дальше все было, как он сказал. Но они и тут попытались опять на меня жать, чтоб я это убрал, это переделал. Они делали вид, что они меня вызвали.
25 июля 1981 г. — День смерти Высоцкого, 1-я годовщина.
…Было два кордона войск. Пускали по пропуску и по паспорту. Я забыл и пропуск и паспорт, и меня задержали в первом кордоне и не пускали дальше. Но я сказал, что без меня там не пойдет, а там много людей, которые должны видеть, что это пошло. Я говорю:
— И вам попадет.
Тогда он сказал:
— А! Вы тот самый?!
Я говорю:
— Этот самый.
— Минутку.
Тогда явился другой, начальник, который может разрешить вопрос, посмотрел на меня и сказал: «Пойдемте за мной», — и провел меня без билета и без паспорта… Когда не спится, то все думаешь: а за что, собственно, тебя так оскорбляли?
Из протокола расширенного заседания Художественного совета Театра на Таганке 31 октября 1981 г.
Ю. ЛЮБИМОВ. Прошу начать обсуждение. Ситуация у нас вокруг спектакля сложная, а времени сегодня немного, поэтому прежде всего предоставим слово тем, кто торопится.
А. МЫЛЬНИКОВ (народный художник РСФСР).
Нет человека, который бы не любил Владимира Высоцкого, артиста, певца, поэта — это не вызывает сомнений. Но мне хотелось бы сказать как художнику, о постановке. Театром найден очень интересный прием, который создал тот накал, ту нить, которая протягивается от поэта к зрителю. Театром создан очень емкий интересный сценический образ поэта. Это большая победа художника Любимова.
Я. ЗЕЛЬДОВИЧ (физик, академик). Принято противопоставлять физиков и лириков. Но есть нечто общечеловеческое, стирающее грань между ними. Творчество Высоцкого понятно и тем, и другим. Общечеловечность творчества Высоцкого сделала его Настоящим артистом. В спектакле прекрасно переданы мужественность, смелость, цельность, музыкальность, лиричность. Мы очень благодарны коллективу Театра на Таганке за этот спектакль. Он не должен оставаться представлением для немногих. Его должен увидеть народ. Высоцкий — большое явление. Его смерть стала огромным потрясением для всех нас. Трудно думать о том, насколько он моложе многих из нас. Эту боль разделяют многие.
Ф. ИСКАНДЕР (писатель). Это самый яркий спектакль, который я когда-либо видел. Все мы любили Высоцкого — так мы говорим теперь. Но в действительности не все его любили. Я знаю эстетов и бюрократов, которые его недолюбливали или делали вид, что его не любят, а сами «втихаря» слушали его.
Высоцкий умел думать и умел возвратить народу то, что он думает. Сегодняшний спектакль продемонстрировал мастерство режиссера и всех артистов, показана вдохновенная и прекрасная работа. Высоцкий встал во весь рост. Я надеюсь, что этот спектакль будет жить долго-долго.
Ю. КАРЯКИН (член ССП, ст. научный сотрудник Института международного рабочего движения).
Запрещать его имя, мешать его песням, срывать, в частности, спектакль о нем — это же значит плевать на народ. Это значит идти на конфликт с ним. Еще одного я никак не могу понять. Все мы смертны и должны быть готовы к смерти. Я бы хотел спросить тех, кто боится воссоединения Высоцкого с народом (а оно, это воссоединение, идет, и ничто и никто ему не воспрепятствует), — вы что, не смертны, что ли? Неужели вам безразлично, что о вас скажут ваши дети, которые любят и Высоцкого, и Окуджаву, любят их за правду, за совесть, за талант!
Ф. АБРАМОВ (писатель). Горлом Высоцкого хрипело и орало время. Жаль, что не нашлось нужных слов, чтобы сказать о народной любви. Я узнал о его смерти, когда был в деревне, — прочел несколько строк некролога в «Советской культуре». Ничего, кроме этого скупого сообщения, в центральной прессе не было. По-моему, это досадный просчет. Когда умер Жерар Филипп, об этом знала вся Франция. Это были национальные похороны. Разве Жерар Филипп занимал большее место в сердцах французов, чем Владимир Высоцкий в сердцах советских людей? Очень хорошо, что шествие «Владимира Высоцкого» по театральным сценам началось с Таганки. Я думаю, что у работников театра будет не один подход к теме Высоцкого. Театр на Таганке, наш любимый театр, наметил самый действенный, самый человечный путь воплощения Владимира Высоцкого на сцене — дал заговорить ему самому. Это произведение производит ошеломляющее впечатление. Я не хочу сегодня расхваливать театр и актеров, но сегодня они работали непревзойденно.
Б. ОКУДЖАВА (поэт и прозаик). Я как-то высказывался уже по поводу спектакля. Он мне чрезвычайно интересен. Я вот третий раз смотрю его, и он раз от раза улучшается. И я подумал, что как тут ни выражают несогласие с Министерством культуры, со всякими органами, которые призваны нас поправлять и улучшать, но видимо — министерство культуры сыграло здесь положительную роль, потому что, видите, как замечательно все получается… (Смех в зале.) И я думаю, что теперь уж в таком виде ни у Министерства культуры, ни у кого не будет никаких претензий к спектаклю.
В. ШУБКИН (профессор, доктор философских наук). Вы знаете, у нас сейчас много толкуют об этом и уже затаскали, затискали слово «нравственность». О ней кто только ни говорит, что только ни пишут. Но мне кажется, что если мы бережно и всерьез, не повторяя высоких слов, ибо они подвержены инфляции, подумаем об очень важном аспекте нравственности для нашей молодежи, то я думаю, что сегодняшний спектакль несет в себе такой заряд нравственности, такую силу, которую обязательно наше общество должно использовать. Не использовать его просто грех.
Б. МОЖАЕВ (писатель). Основной секрет, кроме, конечно, эмоциональной силы, мастерства, мне видится, заключен в словах поразительных, сказанных Достоевским и по всей вероятности, у многих из нас на памяти: «Правда выше Некрасова, правда выше Пушкина, выше народа, выше России, выше всего. И оттого служить надо только правде. Независимо от тех неудобств и потерь, которые при этом мы можем испытать. И даже независимо от тех гонений, которые при этом может испытать художник». Вот этим великим заветам, я полагаю, и следовал Высоцкий. Этому великому завету следует и театр, поставивший этот замечательный спектакль. Хочется надеяться, что этот завет примут во внимание и те люди, от которых зависит, чтобы этот спектакль видел наш зритель.
Репетиции спектакля о В. Высоцком
«Владимир Высоцкий», 1981
А. ВОЛОДИН (драматург). Я хотел сказать о том, что вот есть в театре спектакли, а есть спектакли-поступки. Вот в этом театре время от времени происходят поступки. Был поступок — спектакль «Живой». Я до сих пор забыть его не могу и, как акын, с кем ни встречусь, рассказываю, что это было. Был поступок — спектакль «Берегите ваши лица». Почему-то как раз именно поступки закрываются и запрещаются. И вот сейчас совершен самый серьезный поступок. Самый серьезный поступок, от которого, знаете, я почувствовал, немножко вздрогнула страна, заволновалась, заговорила, зашебуршилась, начались споры, волнения…
Что касается вот этих запретов, вы знаете, происходит странная вещь в жизни. Сначала запрещается, запрещается, а потом почему-то перестают запрещать, как — то закрывают глаза… Сейчас уже неудобно написать статью о поэзии, где не упомянут Пастернак. Вот придет такое время, когда будет неудобно и неприлично писать об искусстве этого времени и не упомянуть Высоцкого. Это время придет. И я думаю, что тогда и те люди, которые сейчас запрещают, будут вспоминать с удивлением: «А что такое запрещали? А?»
Ю. ЛЮБИМОВ. Их уже не будет.
А. ВОЛОДИН. Их не будет? Ну, другие будут вспоминать: «А что это они запрещали?» (Смех в зале, аплодисменты.) Их дети будут вспоминать.
Ю. ЛЮБИМОВ. Будут другие, которые будут запрещать другое.
А. ВОЛОДИН. Они будут запрещать следующее, а об этом будут говорить: «А что это они запрещали? Какие-то дураки, какие-то старые люди, ничего не понимали». А вот другое будут запрещать. Пускай лучше потом запрещают другое, а этому удивляются.
Р. ЩЕДРИН (первый заместитель правления Союза композиторов РСФСР, нар. арт. РСФСР). Я из числа тех зрителей, кто первый раз смотрел этот спектакль, и из числа тех, кто не очень осведомлен о том, что делается около спектакля. Я об это только сейчас слышу вот около этого микрофона. Я должен сказать, что сам спектакль меня глубоко потряс и взволновал. Вообще, Высоцкий — это феномен, это загадка, это магия. И объяснить этот феномен может только высокое искусство. Вот сегодня говорили здесь о печальных днях похорон Высоцкого. Если сравнить, скажем, похороны Высоцкого и Шостаковича, то людей на похоронах Шостаковича было в десятки тысяч раз меньше.
Как объяснить это? И почему? Ведь тысячи вопросов встают перед художниками, перед композиторами. Сегодняшний спектакль, потрясший меня, пытается этот феномен объяснить. Это замечательно театрально выстроенное зрелище. Для меня странно слушать, что спектакль запрещается, что он неугоден. Мне кажется, что такие спектакли должны быть только украшением нашего театра и нашим отношением к тому феномену, который каждого из нас как-то сумел задеть — каким был Володя Высоцкий.
М. ЕРЕМИН (доктор филологических наук). Вот мы разойдемся, а Любимов и вот эти вот, которые сегодня — я не скажу «играли» — сегодня была не игра, а было сегодня священнодействие. Говорят, на Гоголя ссылаются, «Театр-кафедра» — Театр-Храм. И сегодня было священнодействие. Как можно сказать, что это играли роли? Демидова играла роль? Демидова исповедовалась, Демидова вещала потрясающе. Губенко, Золотухин — я не знаю, что сказать, это действительно нечто единое пело, говорило, вещало, проповедовало — то есть высшее, что может сделать театр. Это нечто такое, это не просто на Таганке какой-то новый шедевр, это какая-то уже новая, на каком-то другом уровне Таганка. И вот я говорю, мы здесь сидим все, уйдем, а Любимов и эти актеры останутся один на один вот с ними. Останутся один на один, и мы будем каждый своим делом заниматься и радоваться, что нам удалось продраться через это столпотворение у служебного входа.
Я даже не знаю, Юрий Петрович, может быть, сочинить какую-нибудь жалобу или (смех в зале), нет, ну правда, ну письмо какое-нибудь?
Ю. ЛЮБИМОВ. Кому?
М. ЕРЕМИН. Куда-нибудь. Правда, оказываешься в растерянности: при чем-то ты присутствовал просто уникальном, из ряда вон выходящем, чем-то стоящем над той жизнью, в которой мы все мельтешим. И ничем нельзя помочь.
Ю. ЛЮБИМОВ. В Конституции советской есть право тревожить любое лицо, которое управляет государством.
М. ЕРЕМИН. Я думаю, что всякие слова благодарности и похвал уже лишние. Юрий Петрович, в вашем лице и вам и всей труппе, всем актерам нижайший поклон. Если бы миллионы могли посмотреть этот спектакль, они со мной бы согласились полностью. Низкий вам поклон! (Кланяется.)
Б. АХМАДУЛИНА (поэтесса). Мы все время упоминаем здесь каких-то людей. Я не знаю, кто эти люди. Какие-то призрачные фигуры, где они вообще?!
Почему я никогда не скрывала своего лица, никогда не скрывала своего почерка, никогда не скрывала своей фамилии? Почему ни один из них не удостоит ни режиссера, ни труппу, ни театр, ни тех литераторов, которые здесь присутствуют, ни артистов просто хотя бы предъявлением своего мнения? Я это говорю совершенно не в запальчивости, а преднамеренно. Двадцатипятилетний опыт профессиональных литературных занятий дает мне право на некоторую непринужденность. Я понимаю, что эти люди никогда не считались с мнением писателей. Они у нас не спрашивали. И они всегда ошибались. Потому что они не учитывали, что некоторые поэты, которых благодаря их стараниям уже нет на свете, может быть, более умственно развиты, чем они. Я совершенно не собираюсь говорить с этими отсутствующими людьми, которые не побоялись отсутствовать. Говорит женщина. Ответьте мне, я беззащитна. И вот я хочу, чтоб они это знали. (Смех, аплодисменты в зале.) Я никогда не стала бы говорить с ними о морали, о поэзии или, например, о жалости к человеку, в данном случае, к режиссеру, нервы которого они подвергли сложным испытаниям. Нет. Я говорю с ними только о том, что умно и не умно, о том, что с их точки зрения должно было быть более умным. Они причинили безусловный вред себе: они привнесли лишнее волнение в умы — они этого не любят. Молодежь взволнована потому, что у нее опять отбирают Высоцкого. Молодежь и так была лишена его книг. Их был лишен сам поэт, который из-за этого страдал, потому что он желал видеть свои стихи напечатанными, хотя бы потому, чтобы лучше видеть их недостатки. Этого не было. Народ сетует, где их поэт? Теперь проходит по Москве тревожный слух, что народ еще лишается Таганки! Прямо скажем, что у нас у всех, мы — соотечественники, у нас мало утешений и много трудностей. Театр на Таганке всегда был для всех москвичей, для всех, кто приезжал, подлинным утешением и подлинной наградой за все труды, за все невзгоды. Я знаю, что люди встревожены, вы видели сегодня неблагополучную какую-то обстановку около входа. И это вина не театра, это вина не устроителей, это вина тех, кто ставит театр в такое положение, как если бы театр совершил не подвиг в отношении своего умершего товарища, а совершил какое-то двусмысленное дело, которого нужно стыдиться. Но поскольку им на меня наплевать, это я знаю, и кстати тут у нас взаимность, но я хочу, чтобы Юрий Петрович знал, что если я что-нибудь значу вместе с моими писаниями и вместе со всем, что я пока еще из себя представляю, чтобы и Юрий Петрович и вообще весь театр независимо от того, что будет с нами происходить, всегда располагал мною; любовью, дружбой и готовностью высказать свое мнение всегда. И конечно, говорю я не только от себя, а вообще от тех литераторов, которых я считаю честными и единственно достойными права говорить что-нибудь во всеуслышанье. И безмерно благодарю еще раз театр. (Аплодисменты.)
А. ШНИТКЕ (композитор). Высоцкий действительно — прав Родин Щедрин — феномен, и это загадка необъяснимая, тем более что мы только сейчас, после его кончины, к сожалению — и я принадлежу к числу этих людей, которые не понимали, с кем они имеют дело — только сейчас начинаем осознавать, что это было. И в этих условиях, когда еще только начинается осознание, понимание этого явления, возникает стремление этот образ канонизировать, то есть ограничить его какими-то определенными чертами — и считать, что это и был Высоцкий. Я имею в виду в данном случае тех представителей начальства театрального, которых я один раз видел здесь на обсуждении и которые без подробной аргументации сказали, что образ поэта обеднен, что взяты только какие-то отдельные его черты. Это сказал человек, его не знавший, человек, который к театру, где Высоцкий проработал, театру, который помнит его не только головой и мыслями, а действительно тень его здесь, это его дом, и вот в этом театре этот человек сказал, что это не тот образ Высоцкого. Кто как не театр может сохранить память о нем, кто как не театр может эту память увековечить для будущего… И вот этому театру говорится, что это не тот Высоцкий, и предлагается какой-то таинственный, канонический образ, образ, который даже не сформулирован, поскольку претензий конкретных, насколько я понимаю, не предъявлено, их надо угадать — надо угадать тайный замысел начальства, суметь понять, как оно себе представляет Высоцкого. Ситуация чудовищная.
Крупные явления — неизбежно результат пересечения множества проблем. Это явление не только театральной жизни, это сгусток проблем, ожидавших своего разрешения и в этой точке собранных и получающих разрешение. Здесь говорили физики как физики. Я бы хотел сказать как музыкант.
В течение десятилетий я слышу разговоры о создании оперы на современную тему. Пишутся десятки опер. Есть удачи в советской опере, но они неизбежно связаны не с современной тематикой. У нас нет ни единой оперы, которая действительно удалась бы и была на современную тематику. Почему это происходит? Здесь есть одна причина. Опера должна строиться на вокальных интонациях, бытующих в данный момент в жизни, естественных для людей сегодняшнего дня. В данном случае, театр делает один шаг к этому новому музыкальному театру, к этой новой опере, которая будет не чем-то искусственным, академическим и принудительно исполняемым ради современного репертуара, а которая будет нужна слушателям. Потому что здесь музыкальный спектакль почти целиком строится на естественной живой сегодняшней вокальной интонации, уловленной, подмеченной Высоцким-композитором. Я должен признать, что я тоже не понимал значения именно музыканта Высоцкого. Я относился с некоторым недоверием к этому, что это приложение к стихам. Но когда мы этот спектакль видим и слышим, мы понимаем, что Высоцкий — явление не только поэзии, но и музыки. Это самый популярный композитор-песенник, если можно позволить себе такое слово — «песенник». И в спектакле сделан очень важный принципиальный шаг на пути к созданию современного музыкального театра. И если это не состоится, если это будет разрушено, то будет разрушена еще одна перспективная вещь, еще одно перспективное направление не состоится.
С. ПАРАДЖАНОВ (кинорежиссер). Надо думать о том, как сберечь Любимова прежде всего. Потому что ему уже три раза подали что-то пить.
Вероятно, мы что-то прозевали, кого-то потеряли раньше, чем надо было потерять, кого-то открыли, кого-то закрыли. Когда я ищу, кто меня закрыл, я не могу его найти. Это какой-то клинический случай. Вероятно, не один человек закрывает людей театра и спектакли, а это закрывает какой-то определенный аппарат, которого мы не знаем. Может быть, он в каком-то духе сейчас и присутствует с нами. В какой-то степени.
Таганка сегодня кардиограмма Москвы, поверьте мне. Я горжусь этим. Горжусь, что здесь работает Любимов, Давид Боровский, о котором сегодня никто ничего не сказал. Это удивительно — все, что он сделал. Этот реквием. Алла Демидова. И вообще все. Смотрите, как Высоцкий нас всех поднял, как он нас сблизил, как он нас сдружил и как мы слезу отдаем ему. Вот сейчас я не могу говорить без волнения. Современниками каких удивительных пластов являемся мы! Юрий Петрович, еще одно гениальное рождение.
Пускай закрывают! Пускай мучают! Вы не представляете, как выгодно мне ничего не делать. Я получил бессмертие — меня содержит Папа Римский. Он мне посылает алмазы, драгоценности. Я могу даже каждый день кушать икру. Я ничего не делаю. Это кому-то выгодно, чтобы я ничего не делал. Очень хотел соперничать с вами и делать.
Потрясающее зрелище! Потрясающая пластика! Реквием. Приравниваю вас к Моцарту. Все, что сделано вами, — это для меня потрясение. И вот это самое главное, что сегодня произошло. А если надо закрыть, так все равно закроют! Это я знаю абсолютно точно. Никаких писем не пишите, никого не просите. Не надо просить. Не надо унижаться! Есть Любимов, и мы его предпочитаем каким-то там аппаратам…
* * *
10 ноября 1981 г.
ЦК КПСС
О поведении режиссера Любимова Ю. П. в связи с подготовкой спектакля «Владимир Высоцкий» в Театре на Таганке.
В последнее время главный режиссер Московского театра драмы и комедии на Таганке Ю. П. Любимов обращается в директивные инстанции, к руководителям партии и государства по поводу чинимых ему препятствий в подготовке спектакля «Владимир Высоцкий». В этой связи Министерство культуры СССР считает необходимым сообщить следующее.
25 июля с.г., в годовщину смерти В. Высоцкого, Театр на Таганке провел вечер его памяти по специально подготовленной литературной композиции. Одновременно руководство театра поставило перед Главным управлением культуры Мосгорисполкома вопрос о включении литературной композиции в текущий репертуар в качестве спектакля под названием «Владимир Высоцкий».
В. Высоцкий известен как популярный актер театра и кино, а также как автор и исполнитель песен, часть из которых записана на пластинки, выпущенные фирмой «Мелодия», а часть имеет широкое хождение в «самиздатовских» записях.
В популярности Высоцкого, особенно после его смерти, отчетливо проявляется элемент нездоровой сенсационности, усиленно подогреваемой враждебными кругами за рубежом, заинтересованными в причислении Высоцкого к разряду диссидентов, «аутсайдеров».
Поэтическое и песенное наследие Высоцкого неравноценно и весьма противоречиво, что было обусловлено его мировоззренческой ограниченностью. На творческой судьбе, поведении и умонастроении Высоцкого пагубно сказались его идейная незрелость, а также такие личные моменты, как брак с французской актрисой М. Влади, подверженность алкоголизму, что усугубляло его душевную драму и раздвоенность, приводило к духовному и творческому кризису.
В подготовленной литературной композиции, автором которой является Ю. П. Любимов, была поставлена задача откликнуться на интерес общественности к творчеству и личности Высоцкого, создать спектакль о «всенародно признанном» поэте. При этом якобы ставилось целью рассказать о том, как «мужал и креп талант поэта, оттачивалось его мастерство, росло духовное самосознание, ощущение себя как неотрывной части великого целого, которое зовется „советский народ“».
Однако на самом деле все содержание композиции сведено к доказательству тезисов о «затравленности» поэта, его конфликте с нашим обществом, предопределенности и неизбежности его гибели. Значительная часть песен, включенных в композицию, взята из пластинок, выпущенных за рубежом, из архива Высоцкого, не получивших разрешения Главлита.
Содержащиеся в композиции отрывки из «Гамлета» Шекспира использованы тенденциозно, с определенным подтекстом.
Этой же задаче подчинены отрывки из произведений американского драматурга Стоппарда, известного своими антисоветскими взглядами и сочинениями.
Предвзято выстроенный в композиции стихотворный и песенный ряд призван выявить «мрачную» атмосферу, в которой якобы жил Высоцкий.
Последний предстает как художник, оппозиционно настроенный по отношению к советскому обществу. Личная драма Высоцкого, приведшая его к кризису, выдается за общественную драму, явившуюся результатом разлада поэта с нашей действительностью. Положение художника в обществе характеризуется так «Гитару унесли, с нею и свободу», «Загубили душу мне, отобрали волю, порвали серебряные струны».
В стихах Высоцкого, использованных в композиции, человек изображен приземленным, интеллектуально ограниченным, ни во что не верящим, лишенным идеалов и перспективы. Во многих стихах и песнях Высоцкого преобладают кабацкие мотивы, говорится о драках, попойках, тюрьмах, «черных воронах», «паскудах» и «шлюхах».
Проводится мысль о том, что подлинная красота жизни возможна лишь на нейтральной полосе («Ведь на нейтральной полосе цветы необычайной красоты»).
В стихотворениях Высоцкого о Великой Отечественной войне показ героизма советских воинов нередко подменяется описанием подвигов штрафников, предательства и измены жен.
Политически двусмысленны стихи, где говорится о странах социалистического содружества: «польский город Будапешт», «чешский город Будапешт», «я к полякам в Улан-Батор не поеду, наконец!» Или «…демократки, уверяли кореша, не берут с советских граждан ни гроша».
В самом начале композиции задан негативный идейный камертон всей вещи:
Я бодрствую, но вещий сон мне снится. Пилюли пью, надеюсь, что усну… Не привыкать глотать мне горькую слюну… Мне объявили явную войну — За то, что я нарушил тишину — За то, что я хриплю на всю страну, Чтоб доказать — я в колесе не спица, За то, что мне неймется и не спится, За то, что в передачах заграница Передает мою блатную старину…Кульминации этот мотив достигает в песне В. Высоцкого «Охота на волков», где метафорически изображается положение художника в советском обществе. (…) Составители композиции противопоставляют творчество Высоцкого искусству социалистического реализма. (…)
Пушкин
Поведение людей, их взаимоотношения выражаются не только в словах, а и в пластике, в мизансцене, в композиции. Например, во Франции любят слово «мизансцена», я его тоже очень люблю. А англичане переспрашивали меня: «Что это за мизансцена? Что он все время „мизансцена, мизансцена?“» Это старое прекрасное французское слово.
Например, есть слово «охломон» — я думал, это русское слово. А это «один из черни» — греческое слово — «охло» и «моно».
Вообще, все очень связано, когда мы говорим о взаимодействии культур и о взаимопроникновении культур. Вы всегда можете поражаться удивительной способности Пушкина входить в другие нации, когда он говорит об Испании, Италии, Шотландии и т. д. Как он прекрасно входит в совсем другие пласты жизни. Он же никуда не ездил. Его никуда не пускали из России. И откуда у него столько интуиции описывать все события и в «Пире во время чумы», и в «Скупом рыцаре». Конечно, он читал не только Кальдерона, он и Шекспира всего читал, но разве этого достаточно?
Конечно, и до Достоевского гротеском пользовались многие… Тот же Пушкин в «Истории села Горюхина». Почему-то мало знают это удивительное сочинение на десяти страницах. Я думаю, что Гоголь весь из Горюхина.
Вся эта ветвь: Гоголь, Салтыков-Щедрин, Сухово-Кобылин, Зощенко, Эрдман и так далее.
«История села Горюхина» — это удивительные страницы. И Пушкин, я думаю, недооценен мировой культурой. Странная судьба. Не случайно, все русские писатели, почти что без исключения, боготворят Пушкина. Твардовский прекрасно сказал: «Если уж вы не можете обойтись без культа личности, сделайте культ личности Пушкина».
Пушкин универсален. Он ведь государственный ум. Если бы он написал только одни свои письма — это удивительно. Или его предложения по усовершенствованию образования в России, когда он докладную царю писал, или его попытка начать писать историю России — он удивительно разносторонен.
* * *
«Маленькие трагедии» часто ставились хуже-лучше. Но трагедия с «Борисом Годуновым» в том, что он никогда не получался. Судьба этого произведения странная. Удалось Мусоргскому написать оперу, которая идет по всему миру и имеет успех. В драматическом театре, к сожалению, — я видел очень хороших артистов — это не удается. Почему-то не получается. Даже такая теория появилась, что это только для чтения прекрасно.
И так играть нельзя — это они понимали. Это люди очень одаренные. Особенно Мейерхольд — гениальный человек, говорит: не могу найти хода, никак не понимаю. Начинал даже репетировать в вахтанговском. Щукин Бориса Годунова репетировал, сын Москвина — Самозванца. И, говорят, несколько репетиций он работал, но чисто актерски, без решения режиссерского. Просто работал над сценой — и все.
И Дикий, который ставил «Блоху» Замятина с оформлением Кустодиева во Втором МХАТе, потом говорил: «Если б я только придумал, как избавиться от этих бород проклятых и этих исторических костюмов, которые закрывают эту прекрасную пьесу».
У Пушкина есть прекрасные высказывания об искусстве, и как он понимает трагедию, и что народ как дети требует занимательности — «вспомните древних, их двойные роли, их маски» — и так далее. То есть он все время говорит об эстетике древних и шекспировского театра. И поэтому странно, почему не обратились к этому его, что ли, завещанию. Там же просто есть персонаж — «народ». Там написано «народ». Это же, в общем, принцип хора. Значит, есть герой и хор.
Станиславский свои знаменитые формулировки взял у Пушкина, у Гоголя. «Истинность страстей, правдоподобие чувств в предполагаемых обстоятельствах» — это формулировка Пушкина, но только Пушкин тут же дальше прекрасно развивает ее. Станиславский это опускает, а Пушкин развивает. «Но это для писателя. Но какое же, к черту, может быть правдоподобие в зрительном зале, который разделен на две половины, из коих одна делает вид, — это он имел в виду актеров, — что не замечает другую.». Но Станиславский, который возвел четвертую стену, всю эту часть пушкинских мыслей оставил в стороне. И, предположим, когда я ставил Пушкина, «Товарищ, верь!..», то там я в первый раз сделал маленький кусочек из «Бориса», такой набросок, и всю эстетику его высказываний я туда вложил, хотя спектакль «Борис» был сделан потом совсем по-другому.
Как я получал театры
Это было во Франции, в рабочем районе в Бобиньи. Жак Ланг от имени Миттерана сказал, что они счастливы, если б я начал работать во Франции и так далее — это было так помпезно. Потом он меня вывел на балкон министерства — знаменитая площадь Пале-Рояль, по-моему. Говорит:
— Вы знакомы с историей Франции, какое значение это имеет… Вы слышали что-нибудь?
Я говорю:
— Вы знаете, да. Вот на этом месте мне об этом говорил Мальро.
Но потом там коммунистическая партия устроила демонстрацию, висели листовки: «Зачем нам изменник Родины, который будет получать как пять рабочих?..» А со мной целая свита шла — мы думали, как изменить театр в лучшую сторону, потому что никто в него не ходит, он в упадке. И я говорил: «Вот тут надо перекрасить. И главным образом, мы сделаем это по цвету по-другому». И там все записывали. И все подводили меня к этим листовкам.
Я говорю:
— Ничего из нашей затеи не выйдет.
— Почему не выйдет?
— Потому что это коммунистический район.
Это длилось полгода. Меня вроде министерство назначило, а коммунисты решали. И ввиду того, что были протесты сотрудников: зачем это нам надо и почему это должен быть русский, да еще такой, который покинул Родину свою, ведь есть солидарность между компартиями — шли бесконечные тяжбы между коммунистами и министерством. Потом я написал письмо Жаку Лангу, что «к сожалению, я должен свое время как-то распределять, а не ждать решения этого вопроса. Благодарю вас за внимание, но я, к сожалению, видимо не смогу дожидаться решения…»
Так мне везло. Потом я в Болонью попал опять к коммунистам. И там я опять театр получил.
Меня пригласил «АТЭР» — ассоциация театров Эмильи-Романьи при поддержке коммунистической партии. Они меня пригласили руководить театром. И я перестраивал театр, даже сделал две премьеры: «Преступление и наказание» и «Пир во время чумы». И театр получался интересным.
А потом Берлингуэра не стало, коммунисты с человеческим лицом повернулись ко мне задом и стали на мне упражняться, сын мой, не хуже, чем Управление в Москве. Они принимали макеты, обсуждали, что это трудно будет возить на гастроли, что это нужно упростить, и что это очень сложно. Во всяком случае, делали все, чтобы вывести меня из терпения, чтобы я покинул Италию, которую так любит твоя мама, Петр. А советские жали на них, чтобы я не мог работать в Болонье. Советские были недовольны очень, что я в опере поставил «Тристана и Изольду» и что я вроде в городе в красивом, коммунистический район опять же. И тут опять начались всякие трения, Катя моя тоже была огорчена, что со мной так поступают, и мы с ней уехали из Италии. Я жалею, потому что и Петя и она любили Италию, Петя очень быстро стал говорить по-итальянски. Он учился в прекрасном католическом лицее, которому лет триста — чисто, красиво, итальянцы любят детей. Они могли там жить, но мне надо было переехать из коммунистического района. Хотя все равно там работать мне было ни к чему. Во-первых, Болонья не театральный город. И иметь театр там очень сложно. Он должен был бы много ездить по всей Италии. Там театр времен Гольдони так и остался. И там, конечно, самое интересное это Штрелер. У него же свое Пикколо уже лет тридцать. А в Париже у него такое престижное заведение — Театр Наций. Он замечательный мастер.
P.S. Сейчас, когда я сижу и правлю книгу, то натыкаюсь на имя Джорджо Штрелера. Его уже нет. Передо мной возникают встречи в его театре, в Скале, на репетиции. Как он выбегал показывать на сцену, репетируя Брехта («Добрый человек…»), его спектакли и оперы, которые мне посчастливилось видеть. Он был необыкновенно артистичен, подтянут, заботился о своей внешности. Был элегантен, обаятелен, прекрасно показывал на сцене во время репетиций. Дотошно добивался воплощения своих сложных по всем партитурам спектаклей. Прекрасно владел всеми формами: свет, музыка, пространство, атмосфера. Прекрасные оригинальные детали щедро рассыпались его талантом. Как жаль, что уходят навсегда такие люди театра.
Будапешт, в канун русского Рождества,
6 января 98 г.
Как это объяснить западному человеку? (в виде интервью французу Марку Донде Лондон, 1984 год)
М.Д. Какие главные фазы в жизни Таганки за последние 20 лет? Как бы вы их описали?
Ю.П. Последнее самое важное — это два спектакля — «Высоцкий» и «Борис Годунов». Они, как говорят в спорте, могли бы дать второе дыхание театру. И поэтому так беспощадно с ними расправились и закрыли. Потому что если б, предположим, вышли подряд эти три спектакля: «Живой», «Высоцкий» и «Борис Годунов», то это снова бы подняло театр сильно, начальство это допустить не могло. Это шло вопреки всему официальному искусству, показывало его полную ничтожность и несостоятельность. Видимо, они хотели просто прикончить театр. Я так думаю. В последний год они вели себя со мной очень грубо, опять стали меня прорабатывать как во времена этого дикого скандала с «Пиковой дамой», когда они готовили в «Правде» гнев народа. После смерти Высоцкого они решили со мной покончить.
М.Д. Как они могли вам сказать, что «мы даем вам право взять десять актеров», если вы должны платить им зарплату?
Ю.П. Они все могут. Ну что вы как дети! Это тоталитарные режимы. Вы извините, вы не понимаете элементарных вещей! Знаменитый Королев, когда он уже был главным конструктором космических кораблей, засекреченным, кругом охрана, собрал как-то в день рождения своих друзей. Подняли они рюмки, и он говорит: «Ребята, вы думаете, что-то изменилось — вот мы тут? Вот сейчас я поднимаю бокал, мы выпьем, и — откроется дверь и скажут: „А ну, падла, вставай, пойдем в лагерь!“»
А вы начинаете рассуждать, что как вам дали десять актеров?
Да не буду я объяснять систему, это система, которую нельзя объяснить никому: что хотят, то и делают — вот и все. Какая система? Система — когда полное своеволие — их. Не давать денег, да и все. Потому что они хозяева — вот и все. Как вы странно рассуждаете? Ну, полная власть, абсолютная. Так им захотелось: дать десять, а не одиннадцать — вот и все. И не надо искать логику в тоталитарных режимах. Был же у вас Людовик XIV.
М.Д. Это я понимаю. Но если они вам дают театр с долгами, если вы платите долги старого театра, почему вы сами не можете решать, взять пять актеров или трех?
Ю.П. Потому что они правят, а не я. Они считают, что нельзя давать власть мне. Значит, все время надо художника ограничивать. Почему они не дают мне право выбрать репертуар? Почему я должен просить разрешения репетировать классику?! Я же не имею право начать ничего, не получив их разрешения! Почему я должен сдавать спектакли по пять раз? Мы с тобой наберем бесконечное количество «почему». Вон весь мир не понимает, почему они несчастного Сахарова мучают и не отпускают! Почему они не пускают родственников за границу. Почему до революции мог студент любой поехать провести каникулы за границей? Я тебе задам тысячу «почему».
Афишу напечатать я должен просить. Репертуар, который идет уже, — они мне начинают весь перечеркивать; это вычеркнут, вставят свое — говорят «нет, сейчас будут праздники, никакого „Мастера“ идти не должно. Олимпийские игры — сейчас нельзя». У них же огромный штат, им надо чем-то заниматься. Они должны же оправдать свое существование — свои пайки, свои машины, свои дачи, свою многочисленность. Ведь они как саранча — их раньше пять было, а теперь их уже двести. Театров не прибавилось почти что, а чиновников прибавилось в десять раз. Было маленькое Управление культуры — один этаж. Теперь это огромное пятиэтажное здание, сплошь набитое чиновниками. «Закон Паркинсона» — как только появится у бюрократа помещение, сразу должны поставить столы. Раз у них здание в пять этажей, они должны заполнить его, и каждый должен показать, что он что-то делает. И потом они должны говорить, что они уже не справляются с работой, что нужно еще здание — это все гениально написано, как будто про нас. Бедствие мира, не только наше… А в Советском Союзе это уже дошло до такого состояния… Кафка — ребенок.
Искусство неуправляемо, как погода. Это им кажется, что они управляют искусством. Они просто уничтожают его — и все.
Они всегда говорили иностранцам, что театр закрыт, на ремонте — всегда врали, чтоб не показывать театр. И парадокс заключался в том, что когда они объявляли свои какие-то праздники: съезды, сборища, конгрессы всевозможные, верховные советы, сессии и так далее — всегда они давали приказ от министра у нас отбирать бронь — по двести билетов, по триста. Как Большой театр, так и мы. Они заставляли сдавать билеты в Центральную театральную кассу, брали себе и распределяли между организациями. А те, кто хотел попасть в театр, не могли попасть. Попадали через черный рынок, где покупали билеты по тройным ценам.
Они нас ненавидели, но забирали себе все билеты. Это у них называлось диалектикой. Вообще, из 620-ти билетов только 180 билетов попадало в кассу. Артисты с трудом доставали билеты для знакомых.
Остальные билеты шли в Совет Министров, ЦК, Верховный Совет — все брони, брони, брони — КГБ, партийные инстанции, ЦК, МК, райком — все. Так они показывали свою власть.
М.Д. Но они платили за билеты вам?
Ю.П. Платили. Но мы были обязаны оставить им определенное количество билетов — сто или двести. А если у них оставались билеты, то они в последнюю минуту только возвращали. К счастью, у нас всегда были желающие пойти в театр, которые ждали у кассы. Билеты были до смешного дешевые.
Я предпочитал всегда, чтобы те, кто стоят в очереди, получили билеты.
М.Д. А были ли абонементы на год, по которым вы имели бы право выбрать три спектакля?
Ю.П. Мы к этому не стремились, и это в Советском Союзе было бы ужасно. Потому что они бы распоряжались. Я имел свою бронь, и поэтому я мог устраивать билеты.
Фактически, билет на Таганку — это была валюта. Потому что так люди не хотели делать, а за билет они делали.
М.Д. Что вы могли купить за билет на Таганку?
Ю.П. Все, что вы хотите.
М.Д. Даже автомобиль?
Ю.П. Все. Ну, поставят в очередь на автомобиль — все что угодно. За билет на «Кузькина» давали ордер на квартиру. А часть билетов продавали вообще интуристам за валюту.
М.Д. Сколько людей работало в театре?
Ю.П. Он разрастался постепенно. Вначале — сто пятьдесят — весь, со всеми цехами. Даже меньше.
М.Д. Но это ужасно много!
Ю.П. Нет, для Советского Союза это мало. Может, 130 даже… Труппа была человек пятьдесят — тоже очень небольшая.
М.Д. А если, например, десять человек из состава не играют в спектакле, что же они делают?
Ю.П. Не играют — и все. Они репетируют, каждый же день идут репетиции новых спектаклей. Хороший хозяин больше домработнице платит. Это всегда обычный мой разговор с начальством. Они говорили:
— Это не ваш театр, а государственный.
Я говорил:
— Конечно! Разве у меня был бы такой вертеп, если б это был мой театр?! Разве я стал бы держать столько дармоедов? Разве бы я платил такую зарплату, как вы? Я бы платил гораздо больше. Конечно, это ваш театр.
М.Д. У вас была возможность увольнять людей или нанимать людей?
Ю.П. Минимально — нужно, чтоб он провинился, дисциплину нарушил. Мы начали вводить договора, разовую оплату — я всячески искал более гибкие формы. Потому что при такой мизерной зарплате люди не хотят работать. Есть гениальный анекдот про советское правительство: они делают вид, что они нам платят, а мы делаем вид, что мы работаем. У советского народа всегда остается чувство юмора, значит, есть надежда, что не окончательно довели его.
М.Д. Как Высоцкий пришел в театр?
Ю.П. С гитарой.
М.Д. Вы же говорили, что вы не могли нанимать.
Ю.П. A-а, я всегда нарушал все.
М.Д. У вас была для него зарплата?
Ю.П. Его это не интересовало.
М.Д. Я никак не могу понять, почему люди не работают за деньги в Советском Союзе.
Ю.П. Там деньги не играют такой роли.
М.Д. Я не хочу вас утомлять сравнениями, но здесь, в «Бурге», семь завлитов. Сколько у вас было?
Ю.П. Один. И он не был мне нужен. Он делал техническую работу — позвонить, пригласить, собрать, найти, если я попрошу: найти книгу, найти материал. Мы мало выпускали спектаклей: два-три в год. Но нам и не нужно было больше. Мы не могли прокатывать репертуар. У нас репертуар — 21 название, а бывало и больше, значит, мы играли только 39 спектаклей в месяц — это не очень много для Запада, но нам больше не нужно было. Мы играли немного больше, чтоб дать премии, но 50 процентов выручки мы должны были сдать государству. Например, мы должны по плану сто тысяч заработать. Мы зарабатываем сто десять тысяч. Они нам дают пять тысяч на премии. А пять тысяч записывают на наш бюджет. И чем больше у нас накопится этих денег, тем нам легче потом получить деньги: на ремонт, на оборудование — потому что у нас лежат вроде на нашем счету деньги, хоть мы их государству сдаем.
М.Д. И взять не можете, если вам нужно?
Ю.П. Можем, это как раз учитывается.
М.Д. Но больше они вам не дают, чему вас есть?
Ю.П. Нет, иногда дают. У них всегда остаются деньги в конце года, они планируют очень плохо, и обыкновенно за несколько дней до Нового года они всовывают деньги. И поэтому все покупают ненужное: ковры какие-нибудь, телевизоры, мебель, которая не нужна — что под руку подвернется. Потому что иначе пропадают деньги: спишут с бюджета.
М.Д. Это я очень хорошо знаю. У нас такая же система.
Ю.П. У вас такая же? (Все смеются.) Прекрасно! Хоть что-то вас не удивляет. Это должно остаться: радость общих безобразий.
М.Д. Сколько вы обычно репетируете ваши спектакли?
Ю.П. По-разному. Вот это единственное преимущество — никто не ждал моих премьер, кроме публики. И начальство очень радовалось, если долго не было премьеры в театре. Все театры делают спектакли к датам: к съездам, к годовщинам революции, ко дню рождения Ленина, Сталина — они пройдут пять раз, и их списывают, и никого это больше не интересует. Прошла кампания, все списали, все забыли. Провели совещание, похвалили их, как самых лучших, как самых выдающихся, дали премии…
М.Д. Вы делали такие спектакли?
Ю.П. Нет. Они всегда орали, ругали, но я делал вид, что огорчен! Даже в Венгрии мне запретили делать в юбилейный год — 60 лет Советской власти — «Преступление и наказание», потому что говорили: «Что это такое! шестидесятилетие советской власти, а вы делаете „Преступление и наказание“ — мы не разрешаем». Вся Венгрия хохотала. Я говорю: «А „Мертвые души“ в Большом театре у вас можно делать?» Они стали красные, разозлились и сказали:
— Это не ваше дело.
Венгры не могли понять: почему готовый спектакль не может идти, а они говорят:
— Нет. Вот пройдет юбилей…
В этот же год было 60 лет советского цирка — праздновали все газеты, Брежнев очень любил цирк, зять его — муж Галины, циркачом работал. Он ему дал Героя Социалистического Труда. Повесили транспаранты «60 лет советскому цирку», потом поняли, что все смеются, и быстро сняли.
* * *
У нас очень глупо чиновники спрашивают: «Сколько зрителей вы обслужили?» — как официанты. «Какой контингент к вам ходит?» Нас все обвиняли, что к нам ходят одни нигилисты, фрондирующая молодежь и евреи. Я им сказал: «Вы сами забираете половину билетов, куда вас отнести? К фрондирующей молодежи или к евреям?» А потом, когда мы сами провели социологическое исследование, то оказалось, что ходит очень разная аудитория, начиная с 25 лет, студенты, почему-то большинство точных наук — не гуманитарии. И большинство интеллигенции с 25 до 55 лет, и почему-то большинство зрителей — мужчины. А начальство считало, что это молодежный театр. И еще очень много повторно ходящих людей, то есть посещающих этот театр регулярно, что очень важно. Значит, есть какое-то ядро, которое следит за театром, которое постоянно интересуется развитием этого театра в огромном городе, где полно командировочных, которым обязательно надо посмотреть Большой театр, Мавзолей, ГУМ, МГУ.
Часто просили в письмах или по телефону: мы хотим к вам приехать, помогите, оставьте билеты, мы специально прилетим на «Мастера», на «Гамлета». Было много и всяких официальных делегаций. Очень много знаменитых людей — они оставляли надписи на стенах моего кабинета. И всегда к нам стремились иностранцы, которые интересуются искусством, их всегда возили на «Лебединое озеро» или в цирк, но многие предпочитали приехать на Таганку. Их отговаривали, им не советовали. Но наиболее упрямые приходили. Например, многие студенты хотели защищать диссертацию по поводу театра и меня. Это им всегда запрещали.
Вам не холодно, нет?
М.Д. А вам?
Ю.П. Мне — нет. Мне от воспоминаний жарко.
Я, предположим, имел счастье быть знакомым хорошо с Жаном Виларом, он часто приезжал в Москву, бывал у меня в театре, даже был на закрытом спектакле, «Живой»
Можаева в 68-м году, на репетиции. Он пришел просто пригласить меня пообедать, а у меня репетиция была. И он говорит: «Можно я посмотрю?» Ну, мне неудобно было отказать, он был гость Фурцевой и все ей разъяснял, что этот театр хороший, интересный, вы можете им гордиться. Она не понимала, все его расспрашивала: чем гордиться? Потом он ей написал даже письмо, где объяснил все. И он был на репетиции «Живого». Причем, когда меня выгоняли, мне ставили это в вину: как я посмел пустить на репетицию иностранца. Я говорю:
— Но он же гость страны! Вы Станиславского знаете? Он же их Станиславский. Его пригласил министр. К тому уже он ни слова не понимает по-русски. Вы же меня выгоняете за текст.
Они:
— Иностранца пустил какого-то!
Я:
— Ну как я могу не пустить своего коллегу к себе на репетицию?
Они ничего не понимали: представители заводов, фабрик и так далее. Большинство из них и в театре-то никогда не были. Им приказали меня проработать и выгнать: «пригласил какого-то иностранца». Они даже не знали, кто такой Станиславский.
Это как мне бедный Крейчи рассказывал, когда его уже лишили театра. Я говорю:
— Должен же кто-то им объяснить, какой вы режиссер!
Он говорит:
— А как им объяснить? Они не знают, кто я.
Это все очень и грустно и смешно одновременно.
М.Д. Вы покупали в газетах место для рекламы?
Ю.П. Нет, я был против этого всегда. А потом, они и не хотели. У них есть обязательный перечень всех театров в «Правде». А нас «Правда» почти что никогда не печатала. То есть, все гадости, которые только можно было выдумать против театра, все были применены.
Даже вспоминать противно, на что истрачено время. Я бы мог сделать в два раза больше спектаклей. Я не преувеличиваю. Сколько у меня уходило времени на препирательство, сколько это унесло нервов, здоровья и просто сколько актеров могли сыграть и не сыграли роли из-за того, что закрывали спектакли, мешали работать. Ведь если б я был один, но вместе со мной страдал весь театр.
М.Д Что же дало вам возможность выжить в эти двадцать лет?
Ю.П. Я думаю, что судьба. Бог помог. Потому что недаром Высоцкий мне песню сочинил: «Скажи еще спасибо, что живой». Близкие друзья мне говорили: «Вообще непонятно, каким образом ты существуешь». Это какое-то чудо непонятное — такое же чудо, как «Мастер»: ходит Христос по сцене в атеистической стране.
* * *
М.Д. Почему и когда они решили из маленькой Таганки сделать большую Таганку?
Ю.П. Это было ветхое здание, очень неудобное. Как только я пришел в этот старый театр, мы сразу стали его перестраивать: старые кресла были с клопами, и даже я попросил директора взять одно, отвезти прямо в Моссовет на заседание и сказать:
— Дайте нам хоть какие-то деньги, мы не можем — зритель жалуется — в этом кресле клопы.
Директора вместе с креслом выгнали.
Но деньги дали.
Сперва мы строили без конца старый зал: рыли трюм — ведь ничего не было. Там была сцена, как эта комната. В театре не было колосников. Колосники мы сделать не смогли, только когда новый театр строили, то колосники сделали и в старом.
После «А зори здесь тихие…» пришел вождь московский — Гришин, ему поручено было Брежневым помочь. Тогда решили помочь театру как-то. Потому что это был самый маленький театр на 620 мест с самым плохим оборудованием и так далее. А новый построили на 799. Потому что, если 800, то уже нужен пожарный занавес. А я не хотел.
М. Д. Но вы просили, чтобы вам сделали театр, это было ваше желание?
Ю.П. Нет. Это все вынуждено делалось: говорили, что это здание закроют, оно ветхое — мы беспрерывно его ремонтировали. Тогда решили сделать реконструкцию. Потом я хотел, чтоб новый театр был точная копия старого. Даже у меня идея такая была, что зритель входит и спрашивает: «Что ж тут нового — все осталось как есть». Из этого ничего не вышло. Никто меня не слушал, власти делали по-своему, а архитекторы старались угодить властям. Хотя мы на Квадринале в Праге получили серебряную медаль за то, как умело сохранили старый театр, вписав в него новый.
Потом они хотели сломать старый, я не давал его ломать. Вплоть до того, что я сяду в зале и артисты сядут вместе со мной. И уже был приказ ломать. И просто мы отстояли революционным путем — сказали, что не дадим ломать — и все.
* * *
В связи с этим мне вспоминается эпизод, связанный с залом Чайковского. Там раньше должен был быть театр Мейерхольда, который ему строили. И вместо новоселья его расстреляли — очень «красиво»…
И в этот зал меня пригласил на свой вечер Андрей Вознесенский. Он сказал несколько лестных слов о театре, обо мне — а я сидел в зале, все стали на меня глядеть и мне было очень неловко. И вдруг он говорит, что «помимо того, что он режиссер, никто не знает, что он много лет пишет стихи в стиле дадаистов». Ну, например, он читал строчки, которые ему нравились:
Была у меня девочка, Как белая тарелочка. Очи, как очко — Не разбей ее. Рыжая, жестокая, Зубками все цокала.Это Вознесенский прочел при жене. Я готов был провалиться сквозь землю.
Я редко кому читаю стихи. И вдруг он говорит:
— Один раз в жизни он мне читал свои стихи и некоторые строчки мне запомнились, и я вам их прочту:
Морские ежи побережья, На берег выйти нельзя…И когда он говорил всю эту глупость, то в голове у меня были фотографии, как Мейерхольд ходит по строительству будущего театра. Думал ли он, чем все это кончится? И теперь, когда меня выгнали отовсюду, я тоже вспоминаю, сколько фотографий, как я хожу по строительству этого нового театра. Я предчувствовал, что добром все это не кончится. Так и оказалось.
Мейерхольд никогда не увидел свой театр готовым. Но зато я увидел готовым, но никакой радости у меня не было, потому что построили не так, как я хотел. Архитекторы совершенно не считались с тем, что мы просили: и я, и главный художник театра. Они слушали начальство, а не нас.
Новый театр открылся «Тремя сестрами». Я убедился, что переносить старые спектакли в новое пространство — глупость, что это портит спектакли и никому радости не доставит — ни актерам, ни зрителям. Для нового театра надо создавать новый репертуар. Но успел я поставить для нового театра только два спектакля: «Три сестры» и «Борис Годунов».
М.Д. В самом начале в вашем театре работало 150 человек. Сколько же было в конце?
Ю.П. Я не знаю, по-моему, человек на сто больше.
М.Д. Сколько человек в труппе вы бы хотели иметь?
Ю.П. Я? Сейчас, на старости лет, человек 25 максимум. А может быть, даже еще меньше. Ядро совсем, может быть, маленькое — семь-девять. Каких-то я приглашал бы. Но я, наверно, обходился бы! Лучше бы они играли по много ролей.
P.S. Сейчас, почти через 74 лет после этих разговоров — когда я пытался объяснить Марку Донде, западному человеку, всю абсурдность советских порядков, очень многое изменилось. Я уверен, что надо перестроить всю структуру театра, систему взаимоотношений с актерами, ввести контрактную систему.
* * *
М. Д. Было ли какое-то место, где люди могли встречаться, как в вашем театре? Типа клуба: ВТО, ЦДРИ?
Ю.П. Нет, клубы — это официальные учреждения.
М.Д. Но неофициальных не было? Были вечера поэзии?
Ю.П. Да, вечера композиторов были в Доме композитора. Там бывало много и до последнего времени, все-таки, благодаря усилиям одаренных людей, еще продолжаются эти вечера.
Потом, выставки художников. После этих скандалов, после разгона бульдозерами все-таки стали появляться некоторые выставки. Потому что этот скандал был на весь мир, и был снят секретарь МК Ягодкин. Это Суслов сделал, но сняли того. Он был козлом отпущения. Это за последние десятилетия, по-моему, единственный случай, когда был снят чиновник… И то думаю, что он не за бульдозеры был снят, а за то, что слишком быстро делал карьеру. И многим это не понравилось.
* * *
М.Д. Какие главные обвинения, вам предъявлялись за все двадцать лет?
Ю.П. Идеологические выверты и очернительство. И «народ и власть» — тема.
М.Д. Это когда выходит человек из зала и говорит потом в зал: «Ну что ж вы молчите?»
Ю.П. Это одно из замечаний, что надо снять эту мизансцену. Потом, костюмы их не устраивали — осовременивание. Потому что, предположим, сын Бориса Федор был в голубом свитере и в джинсах. Там были и мундиры, и на некоторых шинели, рясы — там были разные костюмы всех веков — они как бы охватывали историю Руси. Это было в замысле спектакля. А уж они докладывали начальству черт те что — говорили, что я всех одел матросами, что все ходят в тельняшках. Потом договорились до того, что «вы что, не знали, что Андропов был матросом!» Я говорю:
— Первый раз слышу!
— А вы что, биографию вождя не читаете?! — что он служил во флоте. — Я говорю:
— Простите, но тельняшка не изобретение революции. Это еще было при парусном флоте, чтоб она не сливалась с парусами — тельняшка. Что вы все на свой счет принимаете.
Тельняшка была у Гришки Отрепьева под таким черным бушлатом…
М.Д. Что еще было в «Борисе…», что их не устраивало?..
Ю.П. Осовременивание, что ну, предположим, глава хора был во фраке, как дирижер. Он и дирижировал хором по необходимости. Они усмотрели в этом дирижере, что народ все время пляшет под палочку. Больные люди. Это даже мне в голову не могло прийти.
Там есть еще у них такая форма — «протокол приемки спектакля». Протокол «Бориса…» был подписан. Там были написаны обязательные замечания, например: «Артист Губенко не должен выходить из публики на „что же вы молчите“»; «переодеть таких-то артистов», «переделать такое-то место». И «при исправлении этих недостатков спектакль может быть допущен к эксплуатации». То есть может пойти. И мы все подписали это: и начальник Управления, и директор, и я. Вот что стоит их протокол. Он лежит, протокол подписан, и я его выполнил.
М.Д. Это их закон, что если протокол подписан, может идти спектакль?
Ю.П. Да, да.
М.Д. И потом пришел звонок.
Ю.П. Да нет законов в этой стране. Ну как у Пушкина: «В России нет закона — есть столб, а на столбе корона».
М.Д. Когда они прекращают вам репетиции чего-то — на основании какой информации? Они видели репетицию?
Ю.П. Доносит кто-нибудь. Ну, в коллективе есть же свои доносчики. Это принцип системы. А в таком театре сомнительном, как Таганка, их больше. Потом они иногда просят разрешения прийти на репетицию, я разрешаю — пожалуйста. Я никогда не делал секрета из своих репетиций. Зачем? Хотите — приходите.
М.Д. Еще один вопрос. У меня есть метафора, что цензор — это бес художника, потому что оба: бес и цензор — они оба рассматривают, что у человека внутри. С одной стороны, чтобы выявить эту внутренность, а с другой стороны, чтобы контролировать внутреннюю жизнь? Два лица, как Янус.
Ю.П. Ну, это поэтично, но в реальной жизни, по-моему, проще обстоит дело.
Они могут до цензуры еще цензуровать — сами. Они могут меня шантажировать: «пока вы не вычеркнете вот это, мы не отправим в цензуру». А если они не отправляют в цензуру, то не может идти спектакль, и они могут мне не разрешать репетировать.
Цензор — это таинственное лицо, которое с тобой не встречается, ты не знаешь, кто он. Формально в Советском Союзе запрещены только военная тайна, порнография, открытое выступление за свержение правительства и призыв к войне. А дальше уже действует интуиция цензора. Как и у художника. Значит, это борьба интуиций художника и цензора. Когда я читал 83 страницы вымарок «Мастера и Маргариты», я большинство страниц вымаранных понял — мотивы цензора, но часть текста, который он вымарал, я не понял. Это была чистая интуиция цензора, что это надо тоже вымарать. Потому что это были странные вымарки. Там не было ни намека какого-нибудь, что может вызвать раздражение правительства советского. Значит, это какие-то сугубо личные, интуитивные предположения цензора. Потому что советский цензор понимает, что в богатейшем словарном запасе русского языка правительство процентов 60 слов не выносит, они сузили язык, насытили его демагогией, идеологией, испортили язык сокращениями, бесконечными жаргонизмами: партийным жаргоном, бюрократическим жаргоном. Если б ему разрешили, предположим, вымарывать Достоевского, то он половину бы выкинул: ненужные слова, которые вызывают сомнения, куда-то заглядывают, туда, куда не положено советской этикой заглядывать.
М.Д. Значит, не только текст вырезается, но и слова отдельные мешают?
Ю.П. Конечно, у каждого поэта есть свой словарный запас, что отличает его от другого — его язык — так и у советской власти и ее цензуры есть свой язык, который ничего общего с русским языком не имеет. Поэтому вся официальная советская литература, которая одобрена цензурой и поднята на щит, написана именно этим убогим официальным языком. И это их язык, поэтому они так охотно это пропагандируют, утверждают, награждают, отмечают и так далее. Это их детище, их язык. Это и называется «социалистический реализм». Ну зачем им слова: «Как приятно ласкает ухо колокольный звон…» — это все подлежит цензуре. Потому что мы боремся с религией. Вот мы с тобой разговариваем и слышим колокольный звон. Это все не нужно. Поэтому зачем стихи:
Весна, выставляется первая рама, И в комнату шум ворвался, И благовест ближнего храма, И говор народа, и стук колеса.Это все ненужные стихи.
Это не Пастернак. Это Фет или Майков. Учили мы еще в школе. Атеисты, зачем им это нужно. Какой благовест? Никаких храмов нет, все закрыто, звон не разрешен в Советском Союзе. Колокола звонят только по праздникам, по особым случаям, специальное разрешение нужно. Партийный звон может круглые сутки быть. Сколько боролись, чтобы в селе у Пушкина, в Святогорском монастыре повесить колокола, чтоб просто не были эти страшные пустые дыры в колокольнях. Повесить колокола. Не разрешают.
Тут нет никакого смысла. Утверждение своего режима, идеологии и власти — все.
Когда мне переделывали и портили спектакль «Павшие и живые», начальник Родионов, шахматист, запер все двери и решил сам со мной заняться цензурой. Говорит, «давай так, по-товарищески, неофициально…» Взял текст. «Ну зачем ты этого Пастернака сюда? Только что эта история с вручением Нобелевской премии. Ну он же сам в конце концов признался, премию не взял, написал письмо Никите Сергеичу… Ну зачем у тебя? „Скучно в нашем саду?“ Зачем?»
М.Д. Квалификация актера, поэта, писателя — более уважается в России, чем в некоторых западных странах.
Ю.П. У нас зритель более чуток к честности художника.
Люди сразу чувствуют, что он не карьеру делает, а честно служит искусству. И публика всегда удивительно благодарна тем людям в искусстве, которые этот духовный голод восполняют, духовную жажду утоляют.
М.Д. Духовность художника гораздо более просто понимается в России, чем в любой другой стране?
Ю.П. Потому что она задавлена, как вы не понимаете? И когда вы видите этот живой родник, к нему все тянутся.
М.Д. Считаете ли вы, что и на Западе существуют какие-то внешние влияния, которые влияют на вашу художественную личность.
Ю.П. Безусловно, это есть, конечно. Консерватизм публики. И когда художник несамостоятельный, несильный — как личность, он может начать уступать, он может стараться угождать публике, чтоб иметь успех, рассчитывать на определенную публику.
Мне часто задают вопрос: «А на какую публику вы рассчитываете?» — на Западе. Это для меня странный вопрос. Я никогда, работая там, вообще ни на что не рассчитывал. Я просто считал, что если эта проблема и художественно и по нравственным качествам своим меня очень волнует, и я чувствую интуицией, что это должно быть на сцене, я всегда это делал. И если мне не закрывали спектакль — то потом я понимал, что раз он много лет идет, то люди хотят это смотреть. Значит, это им тоже интересно, как и мне, рассмотреть эти идеи, эти мысли, эту форму художественную — данное произведение искусства. Когда я чувствовал, что они мне начинают разрушать весь строй спектакля, и он теряет свой художественный смысл, я им говорил: «Закрывайте. В таком виде я не буду выпускать спектакль». Поэтому они и назвали меня «бракоделом»: «Вы сделали, а оказалось негодным».
М.Д. Кроме консерватизма публики на Западе, какие еще давления могут быть оказаны на вас?
Ю.П. Ну вот группы какие-то могут влиять. Очень трудно достать деньги на продукцию. Вы же свидетель, как трудно мы доставали деньги на «Бесов». Или даже сейчас как трудно, предположим, сделать «Бориса», найти труппу, найти срок. Потому что часто очень минимальные сроки дают… Трудно в Англии за шесть недель сделать «Бесов», трудно делать оперу в такие короткие сроки.
* * *
М.Д. Как актер вы играли очень много современных пьес в послереволюционных традициях. Вы играли нового человека, новое общество?
Ю.П. Да, я даже играл двух таких классических советских персонажей: Олега Кошевого из «Молодой гвардии» и Кирилла Извекова в «Первых радостях» Федина. Эти «Первые радости» радости не принесли никому.
М.Д. И, разумеется, актеру это ничего не дает, вы ничему не учитесь?
Ю.П. В «Кубанских казаках» у Пырьева я играл счастливого колхозника — комедия. Была построена прекрасная ярмарка, и я в шелковой рубахе, крашенный в блондина, в шапке с чубом навыпуск. Все ломилось от еды, сторожа сторожили, чтобы не разворовали, потому что в деревне есть было нечего. И стояла старая колхозница в рваном ватнике, и вдруг говорит:
— Сынок, это из какой же жизни сымают? — Она думала, сказку какую-то. Я говорю:
— Да из нашей, бабка.
Она говорит:
— Ну чего ж ты врешь-то? Я же старая. Нехорошо врать. Это ж сказку сымают…
Потом был период, когда это признали лакировкой действительности — в хрущевские времена, когда была борьба с культом личности, говорили, что все это вранье, лакировка, жизнь была другая и надо говорить правду народу. Эти картины положили на полку, они перестали идти на экране как лживые и порочные. А потом прошло несколько лет — новая волна началась — Хрущева сняли, забыли про съезд, и нас как-то всех собрали в ЦК партии. Там был секретарь ЦК по идеологии — Зимянин, а был завотделом культуры Шауро. Вся иерархия весьма точно соблюдалась. И каждому свой паек — все согласно рангу — машина одному такая, другому такая, паек более богатый, менее. Иерархия номенклатуры. Целая книга же есть.
И руководитель ЦК по культуре Шауро сказал:
— Товарищи, это неправильно, почему это называют «лакировка», а может, это было прозрение художника — он увидел наше будущее и вот сейчас уже почти что… — И потом мне говорит: «„Кубанские казаки“ — замечательный фильм, вот вы там снимались, ведь это же замечательный фильм, прозрение художника!»
И тогда я ему рассказал весь этот эпизод про колхозницу и говорю:
— А меня избави Бог от этих прозрений. Я надолго запомнил, как старая голодная женщина все сказала о ваших прозрениях.
А я себе дал слово с тех пор больше в таких прозрениях не участвовать, хотя бы даже у меня не было денег. Потому что многие оправдываются: «Что делать, надо зарабатывать на жизнь».
М.Д. Перед тем, как началась Таганка, был двадцатый съезд партии в 56-м году. Вы были актером в то время. Как вы переживали этот процесс?
Ю.П. Меня это все радовало чрезвычайно, и не только меня. И, в общем, когда мы сейчас вспоминаем, не только я, а и мои друзья и многие честные люди в Советском Союзе вспоминают эти годы как самые яркие, потому что как бы проветрили, открыли окна.
На искусстве это отразилось чрезвычайно плодотворно: это «Новый мир» с целым кругом талантов вокруг Твардовского, это интересная поэзия, это появление художников, это много интереснейших концертов, выступлений поэтов, писателей, музыкантов. К сожалению, все это продлилось очень недолго. И потом постепенно все свелось на нет.
Если б не было этих двух съездов — XX и XXII — то не было бы Театра на Таганке. Люди смогли свободней разговаривать, обмениваться мнениями, дискуссировать, все как-то раскрепостились.
А потом уже к концу правления Хрущева начали появляться какие-то тревожные моменты, когда, предположим, не дали Солженицыну Ленинской премии за «Ивана Денисовича», заставили два раза переголосовывать ленинский комитет этот, потом вообще его разогнали. Это произведение взорвало официальную литературу. Подобного не было. Изредка появлялось что-то такое, что чрезвычайно привлекало внимание, об этом говорили, но такой свободы открытия и описания вещей, на которые вообще наложено табу, не было.
М.Д. Но какое-то время Солженицын все-таки мог работать в России?
Ю.П. Он просто понадобился Хрущеву. Он понадобился ему для его партийной линии. Он подтверждал его выступления XX–XXII съездов. Но большинство Политбюро все время было против того, чтоб был опубликован «Один день Ивана Денисовича». И Хрущев рассказывал Твардовскому, когда они встречались:
— Я им дал почитать, а они, ето, требуют, чтоб я его заставил ето убрать, ето переделать, ето переписать, сто вычеркнуть, ето добавить… Если б я их послушал, так от етой книги ничего бы не осталось!
Конечно, сталинисты были недовольны, они собрались с силами, чтобы взять реванш, стали пытаться все вернуть к сталинским временам — это их розовые сны.
М.Д. Вы знали Твардовского лично?
Ю.П. Да.
М.Д. Можете мне что-нибудь сказать о Твардовском и Симонове, они оба были редакторами «Нового мира».
Ю.П. Они были совершенно разными. Хотя Симонов тоже был снят за какие-то либеральные допуски, по-моему, за опубликование Дудинцева «Не хлебом единым…» Снимают у нас только за либерализм. (Смеется.)
М.Д. А каким человеком был Твардовский?
Ю.П. Я-то считаю, что он прекрасно описан у Солженицына. Очень точно, как и должно быть у крупного писателя. Но многие выражали неудовольствие, что он его чем-то обидел, — неправда. Он написан с очень хорошими чувствами. И мне не хочется повторяться. Он был сложной фигурой — «живой классик». Его проходили в школах, всю войну провоевали с его поэмой «Василий Теркин». Вторая часть «Теркин на том свете» очень не понравилась начальству. У меня был кусок ее в «Павших и живых», и тоже не пошел.
М.Д. Вы говорили, что Твардовский был символом того времени.
Ю.П. Но он был еще и очень хороший редактор. Его ценили писатели, прислушивались к его мнению.
М. Д. Этот период мы называем «оттепелью».
Ю.П. Ну да, это из-за повести Эренбурга «Оттепель». Художественно она была весьма средней, но тем не менее это назвали «оттепелью». У нас такие вспышки были, небольшие иногда. Так, был сборник, в который Яшин написал «Рычаги» — замечательный рассказ. Очень острый рассказ про собрание колхоза. После этого был скандал, разогнали всех, закрыли сборник. То есть периодически всегда правительство боролось. Борьба не затихала ни на минуту, но иногда просто она обретала такие острые формы, как разгон редакций, запрещения, закрытие театров. Ведь при Хрущеве была вся эта история с Пастернаком и с Нобелевской премией скандал весь. Вроде «оттепель»…
М. Д. Твардовский умер в каком году? В семьдесят первом?
Ю.П. Раньше. Боюсь сказать. Да, наверно. В шестьдесят восьмом году он ушел из редакции. Когда ему было шестьдесят лет, ему вместо звезды Героя соцтруда дали орден Трудового знамени, как мне. Он тогда заступился за Роя Медведева. Ему в ЦК крупный какой-то чин сказал:
— Мы же вам хотели дать Героя социалистического труда.
Он сказал:
— Я не думал, что у вас героя дают за трусость.
М. Д. Значит, после этого опять все начинает замерзать. И это когда ваш театр начинает расцветать, вернее, становится более важным.
Ю.П. Но с трудом. Театр с трудом все пробивается и пробивается, как он начал, так и живет. Это же как родился человек, его же не так легко убить, даже у нас. И потом, все-таки театр быстро начал делать репертуар. Когда был скандал с «Павшими и живыми», все-таки было уже три спектакля, не считая неудачного «Героя нашего времени». Значит, уже три спектакля — можно было существовать. Потом все-таки мы долго воевали, но сумели отбить и этот спектакль — «Павшие и живые».
М.Д. Вы были директором театра. Вы никогда не сравнивали свое положение с главным редактором какого-нибудь журнала?
Ю.П. Нет, я всегда старался доказывать начальству, что нам нужны хоть небольшие права, как у главных редакторов толстых журналов. Но только меня никто не слушал, и никаких прав не давали.
М.Д. А какие именно права?
Ю.П. Ну как, все-таки редактор толстого журнала, тот же Твардовский, он же сам делает номер журнала, помещает в номер, а потом отправляет его в цензуру. И это уже чрезвычайное происшествие, когда цензура не принимает номер, задерживает. Правда, с «Новым миром» весьма часто были задержки, все время задерживался выпуск «Нового мира», но это уже скандал. Так же как закрытие спектакля.
М.Д. Я хочу вам задать еще один вопрос о вашей роли в Москве как режиссера. Думаете ли вы, что вы и такие люди, как Твардовский, были в какой-то мере пророками и, может быть, помогли даже объединить общество, которое очень сильно разделено.
Ю.П. Видите ли, вопрос чрезвычайно сложный, если брать страну. Наши правители считали, что общество при Сталине было едино и монолитно, и такие люди мешали, как мы. И не только в нашей стране: так же поступали и Гомулка, и Гусак, и Ярузельский в Польше — все они высылали людей, которые будили общественную мысль. С моей точки зрения, они делали страшную вещь: люди, которые хотели установить диагноз, показать то, что мешает обществу развиваться нормально — при однопартийной системе это ведь особенно страшно, — эти люди оказывались не нужны этому обществу, власти освобождались от них. И этот процесс шел все время. Откуда сотни тысяч эмигрантов? Общество пробудилось, и это пробуждение правительство не устраивало. Им нужна была вялая полусонная масса, беспрекословно выполняющая их указания. Но нельзя же считать высшим достоинством гражданина беспрекословное, полное послушание — это смерть.
М.Д.Вы чувствуете себя характером в народной истории, который говорит, что король голый?
Ю.П. Может быть, в какой-то мере — да. Я считаю, что театр, журнал, личности, которые так смело заявляли свои взгляды, мысли, отстаивали право «сметь свое суждение иметь», как поэты говорят, давали определенным слоям общества надежду на какие-то перемены положительного порядка: и в экономике, и в искусстве… Все-таки XX, XXII съезды дали перспективу какую-то, но потом ее не стало. И правительства социалистические так странно себя все и ведут, потому что никакой позитивной программы у них нет. Нет. Есть затертые старые лозунги, которые всем надоели, никто в них не верит.
Я хорошо был знаком с Солженицыным, Сахаровым, Ростроповичем, Кремером, Аксеновым, Владимовым, Войновичем, Эрдманом и со многими другими. И власти это мне не прощали.
М.Д. Был процесс Бродского. И вы, конечно, о нем знаете, вы за ним следили?
Ю.П. Конечно. За Бродского еще многие смели заступаться, тогда были времена более либеральные… За него Маршак заступался, еще ряд людей… И все равно это не помогло.
М.Д. И в то время люди могли об этом говорить?
Ю.П. Это требовало мужества, так же как огромное мужество имели Твардовский и Сахаров, когда вырвали Жореса Медведева из психушки. И Максимову тоже грозили психушкой. Тоже заступились за него. И тогда его выкинули на Запад. Потому что ходила по Москве его хорошая книга «Семь дней творения».
Был анекдот такой. Идет Василий Иванович Чапаев с Петькой, а навстречу им Анджела Дэвис. Чапаев спрашивает.
— Петька, это кто ж такой?
Он говорит:
— Я так полагаю, Василий Иванович, что это Солженицер.
А Чапаев смотрит, говорит:
— У-у, твою мать, как же они его очернили!
А у нас, когда чиновники прорабатывают, они говорят, что вот в этом спектакле я очернил прекрасную советскую действительность. Это их терминология. И потом получается, как в анекдоте, когда школьника спрашивают в наши дни: «Кто такой Буденный?» А школьник отвечает: «По-видимому, лошадь Ворошилова».
М.Д. Вы знаете Ефима Эткинда?
Ю.П. Да. Он выдающийся специалист.
М.Д. Он сказал, что отличительная черта русских поэтов в том, что они все пророки.
Ю.П. Поэт вообще острей чувствует, поэтому такая трагическая судьба у них, наверно, а в России просто сплошь одни трагедии с поэтами. У Высоцкого есть хорошая песня на эту тему.
М.Д. С одной стороны, русская поэзия очень открыта к другим поэзиям; с другой стороны, эта поэзия как бы очень тесно связана с судьбой России. Это парадокс?
Ю.П. Да, но вот поразительная черта. Возьмите самого важного поэта для России — Пушкина, он удивительно легко входил в разные, что ли, сферы стран. Он прекрасно писал «Маленькие трагедии» — это другие страны, разные культуры. Чувствовал их как свои. Сцены из «Андре Шенье», «Пира во время чумы», «Дон Жуана». Значит, он ощущал себя гражданином мира, частицей всего общего. И в то же время был очень национальным. Я считаю, это свойство гения. Гений не может не ощущать всю землю, все миры. Почему вдруг Шекспир покорил весь мир и столько веков не сходит со сцены? И почему ценят так Микеланджело, Моцарта? Это как раз опровергает все эстетические теории коммунизма. Микеланджело — это удивительное явление, которое охватило вообще весь мир и поднялось надо всем, впитало все культуры. У него все есть: и то, что было у великих греков, и будущее — все предвидел, Роден — тоже из него, кто хотите. Возьмите все неоконченные работы Микеланджело, например, «Рабов» и так далее.
М.Д. Этот двойной характер, свойственный русской поэзии: мировая культура и русская — это вас лично очень привлекло, когда вы работали над поэтами? Универсальность.
Ю.П. Я очень не люблю натуралистический театр. Даже ставя прозу, я все равно старался делать спектакль поэтичным. Я искал метафоры какие-то, гармонию в спектакле, пространственную, световую гармонию, мизансценическую гармонию. А в поэзии это особенно как-то сжато, сконцентрировано… Потом, это в России ново: целый цикл поэтических спектаклей никто не делал у нас. Это потом уже все стали.
М.Д. С социальной точки зрения, как вы думаете, художники ценятся больше в России, чем на Западе?
Ю.П. Ну как вам сказать? Конечно, такие, как Высоцкий, Пастернак Особенно Высоцкий. Конечно, он был кумиром десятков миллионов. Высоцкого так ценили, как всех четырех «битлов» вместе взятых, — одного. Но только он не имел, конечно, тех благ, как «Битлз», и не имел той свободы.
М.Д. Но у вас нет такого, что это люди как боги. Твардовский…
Ю.П. У Твардовского, видите ли, был очень сильный официальный статус — член ЦК, депутат Верховного Совета, редактор журнала. Но как только он начал вести себя не так, как им казалось нужным, он тут же был изгнан отовсюду: из ЦК, из «Нового мира» и из депутатов — да и из списка живых.
Список ЮНЕСКО
М.Д. У меня есть несколько фамилий: Юрий Завадский.
Ю.П. Завадский — да, старейшина. В Театре Моссовета.
Когда я снимался в телефильме по булгаковской пьесе о Мольере, и играл самого Мольера и Сганареля, то Завадский делал предисловие, иначе Главк не хотел пропускать.
М.Д. Плучек.
Ю.П. Плучек — да, главный режиссер Театра Сатиры. Когда-то делал интересные вещи: «А был ли Иван Иванович?» Назыма Хикмета. Это был очень интересный спектакль. Потом он стал пуглив и робок. Он двоюродный брат Питера Брука. Он даже поставил Эрдмана «Самоубийца» под редактурой Михалкова. И это не помогло, закрыли все равно спектакль. Хотя они испортили пьесу и вымарали самые острые, самые талантливые места.
М.Д. Горький, у него были какие-то официальные посты?
Ю.П. Он был икона… Есть легенда, что его Сталин отравил. Потому что он хотел уехать. А тот его не хотел отпускать.
Горький писал очень много для театра. Сейчас Эфрос ставит «На дне». в Театре на Таганке. Может, он сделает это как автобиографическое произведение? Кстати, хорошая пьеса «На дне».
М.Д. Булгаков, конечно…
Ю.П. Булгаков был в духовной оппозиции. Трагической был судьбы человек… Все его пьесы снимались, даже «Мольер» был снят, «Дни Турбиных» были сняты. Потом они шли, и Сталин смотрел много раз, но когда Станиславский хотел заступиться за Булгакова и стал говорить: «Может, как-то помочь, вы смотрите пьесу…», то Сталин сказал:
— А какое значение имеет Булгаков для данной пьесы? Никакого. Это все театр сделал.
Так же про меня сказал Зимянин:
— Театр на Таганке — ничего. А какое отношение имеет Любимов к Театру на Таганке? Театр хороший… Он — плохой.
Это у них уже традиция.
М.Д. Считаете ли вы, что у русских есть особый талант к фантастическому и к беспорядку?
Ю.П. Может быть, но это, я думаю, не только русская черта. Вот, например, Лев Николаевич считал, что музыка вредна, что она вызывает в человеке несвойственный подъем души, вносит какие-то грезы, и потом человек очень больно падает на землю, она создает какие-то миражи, он перестает оценивать свои реальные силы и так далее.
М.Д. Вы знаете, что Руссо сказал то же самое о театре. Что это вас поднимает, поднимает, а потом…
Ю.П. Ну, это к вопросу о проникновении культур. Как ни странно, все великие люди говорят почти что одно и то же. Только находят очень интересные фразы и расстановку слов. И поэтому рождаются такие крылатые фразы.
М.Д. Вы чувствуете себя русским, очень русским?
Ю.П. Ну, все-таки я опять должен повториться: «Кровь — великое дело». Это Булгаков сказал в «Мастере…» Во мне есть какая-то частица цыганской крови, и когда пришел я в цыганский театр, в подвал, в «Ромэн», и цыгане там заплясали, затанцевали, я очень много испытал странных эмоций очень сильных, каких-то очень глубоких, которые где-то в генах. Вот я люблю бродяжничать, мне советская власть тоже помогла стать бродягой на старости лет. Все, наверно, очень субъективно. Оценки очень субъективны. Потом, я очень не люблю заниматься самоанализом.
М.Д. Ученый — это человек, который работает с точными цифрами, а художник — это человек, который работает с очень острой интуицией, которая совершенно противонаучна. Но может ли художник освободить себя от того, чтобы быть точным?
Ю.П. Нет, тогда он аморфным будет. Потому что все-таки одно из основ произведения искусства — это гармония. А это точность. Это и композиционная точность, и точность концепции. Это сведение всего в синтез. И пропорции должны быть очень гармоничны в настоящем произведении искусства. Это как у актера: вы чувствуете, попадает он интонацией точно в сердце вам, или это идет мимо вашего сердца и мимо вашего ума. И вы тогда скучаете… Причем, вообще, это странная вещь: чувство эстетики не зависит от образованности человека. Потому что я, например, несколько раз видел, как рядом со мной образованные люди делали вид, что им интересно — а им было скучно, я видел — а простые люди были захвачены абсолютно. А так как я был тоже захвачен этим, и в какой-то мере я все-таки специалист, то я был на стороне этих людей, а не на стороне снобов. Это странная вещь. Это такая же странная вещь, как иногда очень музыкальный человек не умеет читать стихи… Так же меня поразило, что есть певцы абсолютно немузыкальные. Он живет на этих своих четырех нотах. И поэтому так радостно и приятно работать с музыкальными певцами: нет проблем, он слышит всю музыку, он в ней свободно живет. И когда вы это видите — для меня это наслаждение. А иначе когда я слушаю оперу — кроме смеха, она ничего не вызывает. То есть архаика жанра убивает даже гениальную музыку.
* * *
М.Д. Юрий Петрович, кто из политических деятелей, не только французских, бывал в театре?
Ю.П. Ой, Господи! Был и Ульбрихт вместе со всем своим правительством, и Кастро, Гэс Холл. Потом все политбюро итальянской компартии…
Эдуардо де Филиппо, Артур Миллер, Барро, Мальро, Генрих Белль, Сикейрос, Гуттузо, Лоуренс Оливье, Елена Вайгель — вы можете целый список составлять. Берлингуэр, Паетта, Неаполитано, Аббадо, Куросава, Альберто Моравиа… Солженицын, Трифонов, Ростропович, Сахаров, Евтушенко, Вознесенский, Окуджава, Ахмадулина, Рихтер и другие разновеликие…
М.Д. Юджин ОʼНил?
Ю.П. Нет.
М.Д. Ионеско?
Ю.П. Нет, нет. Его не пускают, его не любят очень.
Очень много писателей. Шостакович. Гилгуд.
М.Д. Он был у Вас в театре?
Ю.П. Я с ним говорил, еще когда не было Таганки, когда я был актером, он выступал в ВТО. А сейчас он очень трогательно отнесся к спектаклю в Англии: интересовался судьбой спектакля, смотрел спектакль:
М.Д. Никсон?
Ю.П. Нет. Они должны были приехать с Брежневым смотреть «Гамлет» или «Зори здесь тихие». Их ждали два дня, все билеты отобрали, раздали между своими, театр закрыли на неделю, ремонтировали, потому что театр бедный… Сделали специальный туалет, заперли его, запломбировали. Потом мы сами им пользовались… Мебель в кабинете мне переменили.
Сейчас так Эфрос сидит в кресле и не знает, каких высоких гостей ждали.
P.S. Я ошибся. А. Эфрос в моем кабинете не сидел. Сын мой, цени факты и делай выводы, будешь меньше ошибаться.
М.Д. Почему они не приехали?
Ю.П. Заседания все время были. На «Гамлете» сказали: «Ждите, на второй акт приедут».
Мы начали позже минут на двадцать пять. Но так как публика была вся их, то никто даже не захлопал, чтоб начинали. Только в антракте они мрачно ходили… Все, во-первых, знакомые: А, привет, и ты здесь… Да мне сразу на два дня дали. С женами. Слушай, что это — «Гамлет»? Это сколько тут актов? А кто-то говорит: «Пять». — «У, твою мать! Хорошо хоть не приехали. Занавес весь в дырках… декорации плохие».
Была одна реакция: «Безумье сильных требует надзора» — тут они начали хохотать. Когда про Гамлета говорит Король. Но так как тут все охрана была, они поняли это про себя, среагировали. И как только мне сказали, что они не приедут, я тут же ушел — вынести зал было невозможно.
Весь задний ряд был пустой. Самый крайний в партере ряд, который у стены, он вообще весь был пустой, видно там должна была стоять охрана. А где они должны были сидеть, было такое пустое вокруг них каре — видно здесь должна была сесть сплошь охрана, чтобы собой защищать.
М.Д. Андропов?
Ю.П. Мы встретились с Андроповым вскоре после того, как я не принял его детей в театр. Ну, может, через год или через два. Я к нему обратился. Я слышал, что с ним можно говорить, что он слушает, что он образованный человек, что он может помочь, и хорошие люди меня привели. Он был довольно разносторонне образованный человек. Я думаю, они ему это не простили. Я не могу сказать, как он изменился за эти 15 лет, будучи начальником КГБ, ведь даже по их философии: бытие определяет сознание. Но судя по двум разговорам телефонным, а один раз по его ответу Евтушенко в день ареста Солженицына, я думаю, что он все-таки мог решать проблемы. Но аппарат, видимо, закостенелый, и он не успел его переменить как следует.
Мне показалось, что Андропов хотел мне помочь. Я написал ему письмо очень открытое, где назвал ряд имен: и Зимянина, и Демичева — что с ними нельзя работать, что они наносят вред государству — и так далее, и так далее. И я думаю, результат этого письма и есть мое пребывание здесь. Как только он умер, они меня выгнали отовсюду. Но видимо, он не мог помочь. Хотя, я вам уже говорил, мне передали, он сказал за месяц до смерти, что пусть приезжает и работает.
М.Д. С кем вы встречались, с интересными людьми из советских политиков?
Ю.П. Очень много бывших членов Политбюро. Там, Мазуров, Машеров, Полянский — это все мертвые, Шелест, Молотов, Микоян… Молотов в театре был. Смотрел «Десять дней…», потом давал автограф буфетчицам — они просили. А когда на сцене была реплика, когда мужики приходят к Ленину, и матрос говорит:
— Чего вы тут ищете?
А мужик отвечает:
— Ну, мы ету, ну, которую не сыщешь днем с огнем-то, как ее называют… правду ищем! — и на весь зал захохотал Молотов, саркастически так: «Ха-ха-ха-ха-ха!»
М.Д. Косыгин?
Ю.П. Он поразил меня тоскливым видом и остановившимся взглядом.
М.Д. Подгорный?
Ю.П. Ну это всеобщее посмешище.
Про Подгорного был хороший анекдот: «Вчера Подгорный принял датского посла за голландского и имел с ним дружескую беседу».
М.Д. Вы знали Берлингуэра?
Ю.П. Да. Несколько раз встречался.
М.Д. Вы участвовали в каких-нибудь международных конгрессах?
Ю.П. Да. Очень часто даже.
P.S. Был даже на съезде компартии Италии в Риме, где Берлингуэр представил меня главе советской делегации члену Политбюро Кириленко. Тот мне сделал приветствие ручкой, как они делали народу с мавзолея, изрек «Привет делегации!», и его увели выступать. После этого, когда кто-нибудь из нашей компании нес чепуху, другие делали ручкой и говорили: «Привет делегации!»
* * *
Был в ЮНЕСКО на какой-то встрече, где было семьдесят стран и шел диспут: «Роль художника при тоталитарном режиме». Меня не хотели пускать, но, к чести этого съезда, они персональные приглашения посылали. И когда меня хотели заменить другим, они сказали:
— Нет. Нам замены не нужно. Тогда, значит, от Советского Союза никого не будет.
А так как им было очень важно участвовать в этом, то меня послали после скандала. Я был на этом диспуте очень интересном. Это было в тот год, когда Театр на Таганке поехал на БИТЕФ: из Парижа, я прямо отправился в Белград на десятилетие БИТЕФа и десятилетие Театра Наций — 1976 год.
Мира Траилович была у меня в театре. Она меня приглашала все время, но не пускали. Она хотела «Мастера» пригласить, «Три сестры» пригласить, но меня не пускали. На БИТЕФе я получил первую премию вместе с Питером Бруком. И влюбился на обратном пути через Венгрию в свою жену Катерину.
М.Д. Вы встречались с Питером Бруком?
Ю.П. Много раз. Вот и сейчас жена его, Наташа, содействовала встрече Питера и меня. Штреллер, к сожалению, на Таганке не был и ничего не видел. Мне очень жаль. Но он, по-моему, и не был в Москве. Но, я думаю, он слушал оперы.
М.Д. О чем вы говорите с Питером Бруком?
Ю.П. О жизни. Он все хотел «Гамлета» посмотреть и, по-моему, так и не увидел — опоздал. Так, научно, мы с ним не разговаривали. Никаких глубокомысленных разговоров мы с ним не вели.
М.Д. Вам помогала как режиссеру дружба с коллегами из других стран?
Ю.П. Это поддерживало. Потому что в театре ведь работаешь как каторжник с утра до ночи. И рад, когда выйдешь на воздух и: «Господи! Еще есть воздух, небо, звезды» — и так далее. Сидишь в пыли, в темной дыре этой и все время выдумываешь чего-то, и вдруг смотришь, оказывается, есть Божий свет. Жизнь театра годами замалчивалась, все делали вид, что такого театра нет и что меня нет. И когда приезжали знаменитые коллеги, это как-то поддерживало. И даже сейчас, когда я остался таким космонавтом неизвестно где, в космосе в открытом…
И потом другое, я понял свою причастность к мировой культуре как-то, и это было приятно… А некоторые люди стали просто моими друзьями. У меня были очень хорошие разговоры с Виларом, с Марешалем, с Барро, с Мальро, с Леруа… О литературе, об искусстве, о жизни — забавные, интересные разговоры. Очень интересные разговоры у меня были со старым Паеттой, с Ноно, с Аббадо, с Наполитано, даже с Берлингуэром об искусстве, о жизни…
Очень интересно рассказывал о своих похождениях Сикейрос. Даже и он, и Гуттузо оставили свои рисунки на стене у меня в кабинете. Он нарисовал аплодирующего человека и много рук. Он был старый, пил коньяк, курил сигару, уже у него немножко дрожали руки. В молодости он был таким левым коммунистом, террористом. Они неудачно покушались на Троцкого. Это было первое покушение, неудачное. И я не увидел у этого старого человека, когда он жевал сигару и пил коньяк, какого-то раскаяния, что, мол, вот дурак я был, влип в это дело… Нет. Он совершенно спокойно говорил. Поразительный факт, что он пытался убить человека, Сикейрос, и так, совершенно спокойно…
С Пабло Неруда я беседовал, с Назымом Хикметом встречался.
Очень интересно я говорил с японцами, с Кобо Абэ. С Куросавой.
М.Д. Что вы видели Питера Брука?
Ю.П. Очень много — и «Гамлета», и «Лира», и то, что он снимал в кино.
М.Д. «Кармен»?
Ю.П. «Кармен» я куски только видел. Мне очень понравилось.
М.Д. Боб Уилсон, Питер Штайн?
Ю.П. Боба Уилсона очень любопытно всегда смотреть, интересно. У меня вызывает любопытство, как устроена его голова и его ходы.
М.Д. Питер Штайн?
Ю.П. Я с ним знаком, он был у меня в театре.
Очень много интересных бесед у нас было… Человек Эпохи Возрождения — Параджанов — талант огромный. И потом сам он целый театр. Он все время что-то фантазирует, рассказывает, сочиняет. Но ему тут, бедному, трудно достается. И даже непонятно: он им совершенно не нужен, и они его не пускают, хотя его очень любят и зовут французы, и он бы мог сделать там несколько картин. Это было бы прекрасно, я уверен, и обогатило бы культуру. И это было бы престижно для России. Нет, наши его будут гноить — так же, как Сахарова. Ну разве можно делать такие вещи! Ну как можно не пускать старуху-мать к Нуриеву?! Зачем? Старуха, которая хочет проститься с сыном. Ну зачем? Но они же понимают, и старуха понимает, что сын не может к ней приехать. И она умоляет, и он умоляет, и весь мир просил: ну отпустите, дайте проститься матери перед смертью с сыном. Ну что это такое за изуверство! Что это за тупоумие такое! Ну как можно позорить так свою нацию, великую страну такими бессмысленными акциями! Это же показывает только глупость, тупость, злобу… и слабость, безусловно. Но, к сожалению, мир плохо понимает и чего-то все боится их. Это ужасно! Как можно унижать так свой народ! А как можно делать такие вещи, что они делают с Сахаровым? Ну весь мир просит отпустите человека! Что это за ослиное упрямство?! Как не стыдно так себя вести! И я хотел, чтоб это было так все написано резко, как я говорю. Это унизительно для великой нации, или она перестала быть великой нацией?
Не знаю, увижу ли я брата своего родного, которого я так люблю, который старше меня и очень болен. Я пытаюсь и не могу соединиться в Москве по телефону ни с братом, ни с сыном, ни с сестрой. Не соединяют. Только можно попросить Сильвию все-таки позвонить и сказать в посольстве своем, они же могут передать Давиду, а он скажет брату и сестре, просто что жив, здоров, целует и обнимает.
Что такое? Это какой-то комплекс неполноценности — везде наложили запрет давать обо мне материалы, на картины, где я снимался, на все. Опечатали музей, опечатали кабинет мой там. А ведь они еще не лишили меня гражданства, какое они имеют право, что это такое?
P. S. Все эти последние страницы я оставляю, как они были сказаны на пленку в 84-м году. Хочу сохранить то состояние, в котором я находился тогда и которое чувствуется для меня и сейчас, когда мне стукнуло 80 лет, а тебе, Петр, — 18.
Я и не предполагал, сын мой, дожить, как говорят грубые врачи, до крайнего возраста. Может быть, из этих отрывков ты сможешь разобраться, что за отец был у тебя.
Отпраздновали мы всём семейством в театре 30 сентября вместе с Верой, Надеждой и Любовью и матерью Софией наши 98 с тобой лет, подули на торт весь в свечах и разъехались кто куда. И вот я сижу напротив старого Вечного Града и надеюсь увидеть тебя на Рождество.
Иерусалим, Ямин Моше. 97 год.
Мама улетает в Будапешт, а я в Америку заниматься «Апокалипсисом»…
И вот, сын мой, тебе уже скоро будет 20, а я все сижу под «Грецко-ореховым» деревом, даже уже под двумя — одно твое.
Ты влюбленный, плаваешь один или вдвоем на Балатоне, а я все правлю тебе книгу о своем житье-битье! И все еще не поставил Апокалипсис! — нет денег.
Отпуск. Будапешт. 19.07.1999 г.
О работе оперуполномоченного [9] (разговоры в Иерусалиме с гостем из России, Виктором Минахиным, 1993 год)
Don Giovanni
КАТЯ. Извините, я хотела вас спросить. Как вы любите сок; холодный очень или комнатной температуры?
Ю.П. Катя венгерка. Вы венгерский знаете?
В. М. Нет, но я ездил в Будапешт из Братиславы, по-моему, четыре раза, чтоб посмотреть «Дон Жуана».
КАТЯ. Дон кого?
В.М.: «Дон Джованни».
КАТЯ. А!
В.М.: А вам не нравится эта постановка?
Ю.П. Нет, мне нравится, но у нас много неприятностей было. Я же поставил это в отпуск. Я поставил «Дон Джованни» в сентябре и тут же уехал на Таганку. Я Таганку мало покидал. Я всегда старался в отпуск — смошенничать — или в январе, когда каникулы у театра.
Я с удовольствием работал. Но сама работа была очень тяжелая. Сперва они отказались петь на итальянском.
У них традиция петь только по-венгерски. Но потом они поняли, а сперва они в штыки это встретили. И устраивали обструкции:
— Что это за безобразие: убивать смычком, а нет шпаг, что ли!.. — и т. д.
То есть это был очень консервативный монстр, этот театр.
В.М.: А вот эту сцену с контрабасом вы придумали специально, чтобы не было аплодисментов?
Ю.П. Да.
В.М.: Потому что в этом месте же обычно аплодируют.
Ю.П. Да я и хотел перевести это нарочно, что это успех бабы этой здоровенной — это мужик был, кстати. Это был рабочий сцены, я его просил. Это тоже им казалось диким, несерьезным, все-таки они к русским предвзято относились благодаря 56-му году. У них была внутренняя всегда потаенная неприязнь. Потому что все-таки они понимали, что после кровавых историй всех этих страшных бунтовать больше не было сил. Потом они получили кое-какие послабления после этого.
Я отвлекся, перескочил с этой постановки. Нет, я ее любил. Во-первых, я заставил их петь по-итальянски — раз, добился своего, второе — оркестр я посадил на сцену…
Третье — что я заставил ходить дирижера. Это было вообще немыслимо, как это можно! Но он сам согласился, слава Богу, он… как его звали?
КАТЯ. Фишер.
Ю.П. Фишер, да, Иван Фишер. Мы с ним симпатично работали, и это слава Богу. Потому что они могли одного меня смять. А то, что дирижер со мной был заодно в этой истории…
Но они ничего не сделали, чтоб сохранить этот спектакль. Они знали, что я приезжал. Но у них такой хам директор теперь, что я поссорился и требовал, чтоб они сняли мое имя с афиши. Потому что я сказал:
— Если вы не потрудились в течение двенадцати лет даже пригласить меня, чтоб я хоть привел спектакль в порядок, если вы его эксплуатируете.
До сих пор он идет. И они же ездили с этим спектаклем и имели успех.
Все это также было с «Преступлением и наказанием». Мне все приносили извинения, что вот они недопоняли, не осмыслили, начиная от покойной их актрисы великой…
Катенька! как покойная жена этого прекрасного актера, которая играла у меня в «Преступлении…»?
Ева Руткая. И она потом. Сперва она все чего-то сопротивлялась все… фыркала. И Иван Дорваш, который Свидригайлова играл. И поэтому, несмотря на все неприятности с этим театром консервативным, все равно я был доволен. Во-первых, я увидел, что публика получила какое-то совершенно другое зрелище, чем то, к чему привыкли в городе и в этом театре. К счастью, искусство удивительная вещь…
В.М.: Его никто не снимал ни разу?
Ю.П. Нет, нет. Нет.
Жалко, что и «Трехгрошовой» не было съемки. Это симпатичный спектакль. И веселый, и он был совершенно необычен по концепции. У венгров тогда было все в порядке с едой. И даже какой-то у них появился такой жирок успокоенности и отсюда некоторая отупелость и от вина, и от жратвы. И я понял, что весь пафос Брехта: «Сначала хлеб, а нравственность потом» — он бесплоден, это сытая страна была. И я сделал контрапункт. Я нашел гайдновские прекрасные мелодии — это не так трудно было — и положил их на библейский текст. И когда после вот такой бравады, которая была довольно эффектно вся сделана и были аплодисменты, выходили старые люди из богадельни. Эти старики были мне глубоко благодарны, что я возвратил их к жизни. Они чувствовали себя снова артистами, певцами. Они пели эти библейские тексты на прекрасную музыку. И вот после «сначала хлеб, а нравственность потом» — брехтовские слова — вдруг выходили одной ногой в могиле стоящие люди и пели на прекрасную музыку:
— Не хлебом единым жив человек. Отчего же очерствели сердца? Почему мы смотрим и не видим, слушаем и не слышим?
И была такая пауза после бурных аплодисментов. И публика в молчаньи уходила в антракт. И так это было раза три…
С этой постановкой связан забавный эпизод. Один господин из Габимы приехал в Будапешт и спросил, что бы посмотреть. Ему говорят — «Трехгрошовую». Он говорит:
— Да нет-нет, у нас поставили в Габиме, это ужас такой, что не пойду.
Его уговорили. Он смотрел как-то странно и был поражен, все говорил, что ему очень понравилось, но какой-то он был ошарашенный и непонятно смятенный. Потом я его встретил — это надо же, судьба — он приехал смотреть в Париж, когда я привез «Бесы», «Possessed», которые в Англии я ставил. Играли их в Театре Наций в Париже, в котором Штреллер. И он смотрел эти «Бесы», потом пришел ко мне и говорит:
— Вы меня помните? Я был у вас на спектакле «Трехгрошовая».
Я говорю:
— Но меня не было.
Он говорит:
— Да, вас не было, но вам, наверное, рассказывали?
— Что рассказывали?
— Ну, что я так как-то странно ушел. Вы знаете, что там случилось? Я увидел совершенно тот же спектакль, что в Габиме, и понял, что это был плагиат, что он у вас все украл. Все: автобус, мизансцены — все. И ничего не вышло. Это был полный провал. А здесь я увидел, что все живое, и поразился.
Я говорю:
— Что, даже не сумел украсть.
— Да. И там был скандал: это обнаружилось, и ему пришлось уйти с работы.
Видите, как бывает.
В.М.: Вас еще тогда не пригласили сюда?
Ю.П. Нет. Меня пригласили потом. Но, видимо, он много рассказывал обо мне в Габиме. Он был завлитом. Потом он куда-то уходил. Ну, такой господин европейского склада, говорящий хорошо и по-английски, и по-французски, и по-русски… Нет, по-русски он плохо говорил. Плохо.
«Страсти по Матфею»
В это время я поставил «Matthauspassion» в церкви Сан Марко, потом это будет в одном из замечательных этих романских соборов, потом, может быть, в Нотр-Даме.
Это огромная работа. Как и «Бесы». Я хотел давно это поставить. Я очень люблю эту музыку. Все Библию читаю. Во всяком случае, последние десять лет я много читаю Библию.
Мне нравилась эта постановка. И она очень сильно действовала. И не только на меня, а и на кардинала. Пришел старый кардинал Милана, его вели два послушника под руки. Потом я кланяюсь и меня просят к его высокопреосвященству, что он хочет сказать мне несколько слов. И он благословил меня и сказал:
— Вы видели, я пришел совсем старым, а ухожу я помолодевшим. Я благодарю вас и желаю вам успехов, счастья.
Прекрасный старик.
Меня тогда концерн «Sony» просил какую-то новую установку попробовать и снять этот спектакль в Скале. Мне очень жалко, потому что они обещали дать мне пленку. Сняли они все это. И это пропало. В Скале мне сказали или обманули, что они потеряли пленку, потом начали врать, что японцы им не дали пленку. Потому что у меня была даже письменная бумага, что они мне обязаны дать для архива пленку. Каким путем это можно разыскать? Я был в Японии, к сожалению, времени не было, чтоб как-то связаться с концерном «Sony» и спросить. Японцы же люди пунктуальные. У меня была бумага от Скалы. Без моего разрешения они снимать не могли. И Скала виновата. А это жалко, потому что мне кажется, что это был очень интересный спектакль. И музыка божественная. И там была одна находка. Там стоял плачущий крест изо льда. Он так красиво мерцал и плакал от прожекторов. И он начинал плакать в ритм музыки. И это было совершенно чудесно: падали капли, разбивались о стол, где тайная вечеря у Христа. И они снимали с пяти камер — это только что ввели, и они опробовали систему.
И так я эту пленку и не получил. Досадно очень.
Это было в Кьезе Сан Марко, где обнаружены были фрески Леонардо к этому времени. Туда же явился и Евтушенко. Он пришел — как раз я репетировал «Поцелуй Иуды».
И когда он сказал:
— Юрий Петрович, позвольте вас обнять!
Я говорю:
— Вот я дорепетирую «Поцелуй Иуды» и вас обниму, Евгений Александрович. — Он понял и обиделся.
Потом он стал закуривать.
Я говорю:
— Евгений Александрович, здесь нельзя курить, это церковь. К нам сейчас подойдет священник и нам попадет с вами. Вот перерыв будет, я с вами выйду.
Потом он мне стал говорить, какие в России преобразования, как меня не хватает и то-то, то-то… «Процесс пошел». Приехал вдохновленный процессом Женя. Немножко мне был он уже странен, чуть-чуть. Уже два года я мотался. И его какой-то тон старый, какое-то легкомыслие — «Иван Александрович проездом».
Теперь дальше происходит. О! Мы поговорили, он все в духе Панкина.
— Зачем вы по Би-Би-Си такое сказали? Сейчас же все другое. Сейчас Михал Сергеич.
— А это еще кто такой? — я впервые услышал. Я и не знал. Я решил там жить. Какое, чего?
— Перестройка!
— Какая перестройка? Женя, о чем вы говорите? Вы перестраиваетесь? На какой лад? Я никуда не собираюсь перестраиваться.
Ну, он еще немного погалдел, потом:
— Юрий Петрович, может, мы поужинаем?
— Видите, я репетировать буду до ночи.
Потом появился какой-то тип и сказал:
— Евгений Александрович очень извиняется, ему некогда. Вот вам письмо от него.
Большое письмо написано. А со мной был венгр один, который прекрасно говорит по-русски и на многих языках. У меня подозрение, что он оттуда же. Ну, они всюду же. И я читаю, а он говорит:
— Прости, может у тебя секрет?
Я говорю:
— Да нет, пожалуйста. Я читаю письмо. Если тебе интересно, пожалуйста, через плечо читай. Я дочитаю, тебе дам. Женя пишет мне письмо.
И вот в письме точное описание того, что говорил Панкин про Иосифа Бродского. Только в других выражениях. То есть схема одна и та же. И этот человек мне говорит;
— Юра, можно я на ксероксе это?
— Зачем?
— Ну, это же инструкция.
Без юмора он сказал. Он старый разведчик, работает на Западе много лет. Очень умный еврей, владеющий пятью-шестью языками. И он говорит:
— Это инструкция. Это очень любопытно. Причем инструкция толково написанная, не грубо.
Потому что мне-то показалось, что очень грубо, что «сейчас, когда мы находимся на пороге…»
Ну, в общем, Женя при всех своих колебаниях и изгибах… Значит, пророчество Николая Робертовича, к счастью, не сбылось. Потому что он говорил, что из этих двух, тогда еще молодых для него людей: Вознесенского и Евтушенко — «меня больше волнует судьба Евгения Александровича, потому что он так изгибается туда-сюда, что может и сломаться». Но видите, пока вроде ничего. Я говорю:
— А почему вас Андрей Андреевич меньше волнует, Николай Робертович?
— Ну это холодный рассудочный поэт. Удивительно, что печатают эти стихи. Но, видимо, не понимают отчасти.
Но он отдавал должное техническому умению Андрея Андреевича. Но ведь и Борис Леонидович вначале посоветовал мне присмотреться к Юрию Казакову и к нему.
Нет, что-то я перемахнул. Да! Как «Матеус Пассион» возник, об этом разговор. Я ставил это в Скале. И когда они посмотрели спектакль, то решили сделать фильм — «Гомон», издательство это знаменитое. Я приехал в Иерусалим. И познакомили меня — уже был назначен замечательный оператор, Лютер… забыл… не Кинг убитый, а другой. Который снимал как оператор «Железный барабан», знаменитый немецкий фильм Понтера Грасса про мальчика, который перестал расти. Режиссера я не помню, но там и операторская работа была потрясающая. Это замечательный фильм, мне он запомнился. И я приехал выбирать натуру. Потому что я говорю: «Как можно „Матеус Пассион“ снимать без Иерусалима!» И приехал на Пасху, когда все пасхи слились — это редко очень бывает. И действительно, было столпотворение вавилонское. Меня сразу повезли в Иерусалим, чтоб я выбирал натуру для съемки фильма. Ну, сразу по дороге из Тель-Авива в Иерусалим я увидел танки ржавые, стал фантазировать, как нужно сделать. А я хотел в «Матеус Пассион» показать, как весь мир отмечает Пасху: плач у Стены — все, все… И дворик у Гроба Господня, когда патриарх выносит горящие свечи… Я много раз ходил ко Гробу Господню. Когда вы входите в первую комнату — Придел Скорбящего Ангела, а потом уже нагибаетесь и входите ко Гробу Господню, там есть две трубы для вентиляции и для того, чтобы свет проникал…
И вот я начал смотреть в эти трубы с одной стороны и с другой и удивился: почему до сих пор операторы не сняли кадры через эти трубы?
Мы ведь с этим оператором снимали из туннеля метро выход на Собор Парижской Богоматери — там стригли деревья черные люди на люльках. И мы сняли этот кадр, еще до контракта. Просто для себя. Для багажника, так, загрузить коробочку. Это я хотел сделать, чтоб это шло основной канвой через всю ораторию баховскую. И пока я был в Иерусалиме, мне там понравилось — первый раз в жизни я был. Я никогда не думал, что я увижу Гроб Господень, только читал, как всегда шли люди ко Гробу Господню.
И тут я получаю телеграмму, что фирма проворовалась и проект аннулирован. И я очутился вольным казаком. Приехал-то я работать. И тут меня подхватила Габима, в общем, это история прихода моего в Израиль и в Иерусалим.
В. М. Вы не успели поработать?
Ю.П. Нет, я только начал выбирать натуру для съемок.
В. М. Только в Старом городе или где-то еще?
Ю.П. И в Старом городе, и в Вифлееме. Но главным образом, я бродил на Пасху в Старом городе. И тут же меня нашли габимовцы, опять господин тот же самый появился и поволок меня в Габиму, где они устроили мне торжественную встречу: Вахтангов, и я из вахтанговского театра, Таганка — и так далее. Михаил Тувим…
Был жив еще замечательный актер Клячкин, он работал еще с Вахтанговым, старик, который замечательно работал у меня в «Закате». И они меня наняли. Вот так я первый раз в Израиле был.
«Закат»
В.М. Они вас наняли, чтобы поставить «Закат»?
Ю.П. «Закат». Работал по найму. Я удивился: почему у Бабеля рассказы лучше, чем пьеса, а пьеса странная. Потом я еще узнал, что где-то в Цюрихе какой-то поляк поставил «Закат» как антисемитский спектакль, и был скандал. Он проходил в синагоге. Я говорю:
— Что вы опять хотите какого-нибудь скандала, чтоб меня тут проработали еще за это. Хватит мне там всяких безобразий в мой адрес.
— Нет, мы уверены, что вы все правильно сделаете.
Откуда он так уверен?
В. М. Но принимать не приходили?
Ю.П. Нет, тут это вообще не принято.
В.М. Я шучу.
Ю.П. Да. Это, кстати, меня первый раз потрясло в Скале. Пришел покойный гранд директор Паоло Грасси и ни Ноно, ни Аббадо на него не обращают внимания. Он посмотрел всю репетицию, и потом мы пошли в ресторан, и я говорю, по советской привычке:
— А что директор-то, какое у него мнение?
Они говорят:
— Да перестань ты, нам-то какое дело! Он пришел, посмотрел и ушел.
Я говорю:
— Но все-таки интересно, что он сказал.
Они не могут понять: зачем мне интересно его мнение. Аббадо говорит:
— Ты лучше скажи, какие у тебя претензии ко мне, по линии того, как я дирижирую?
А Ноно говорит:
— А мне хочется тебе сказать про эти места, вот, может, давай их изменим — то есть был деловой разговор по поводу работы. А я думаю: вот те раз, какие странные люди — пришел директор, а их и не интересует.
В. М. Ну, это первый раз же. Это была первая ваша опера.
Ю.П. Первая опера. И первое мое появление в Европе в качестве оперуполномоченного.
«Под жарким солнцем, полным любви» (Gran Sole Carico dʼAmore)
Милан, театр Ла Скала. Премьера 4 апреля 1975 года.
Ноно прислал мне письмо страницах на двадцати. Мы не были знакомы, но по рассказам он знал о театре и обо мне. Ему показалось, что наше сотрудничество даст хороший результат. Письмо было написано по-юношески увлеченно, и я подумал, что Ноно очень молод, не старше лет двадцати пяти. Каково же было мое удивление, когда ко мне приехал зрелый мужчина с огромным матерчатым портфелем, который сшила ему для партитур жена. Ноно смотрел на Таганке почти все спектакли. Позднее, уже в процессе работы, он снова приезжал в Москву. Потом в связи с некоторыми затруднениями Ла Скала работа была отложена на год. Во время гастролей Ла Скала в Москву приехали Паоло Грасси — директор Ла Скала и Клаудио Аббадо — дирижер. Они смотрели мои спектакли. Обсудив все между собой, Ноно, Аббадо и Грасси остановили свой выбор на мне. Тогда, после переговоров в Министерстве культуры СССР, и был подписан контракт.
В.М. Вы тогда даже удостоились большой публикации в журнале «Театр» с фотографиями по поводу «Гран соле…»
Ю.П. Да? Но это было задание. Меня же послали с участием ЦК Это была первая оперная постановка, я даже по ночам не спал, все боялся, мне снились огромные хоры, оркестры, и я не знаю, что с ними делать. Я хотел, чтобы балетмейстером был Якобсон, но Фурцева категорически отказывалась его выпустить. И в конце концов, когда она сказала, что этой оперы не будет, я заулыбался и сказал:
— Прекрасно!
Она говорит:
— Что вы тут представляетесь, что вы не хотите?
«Под жарким солнцем, полным любви»
Клаудио Аббадо, Луиджи Ноно. У макета — Давид Боровский (спина)
На репетиции
— Я действительно не хочу, чему вы удивляетесь. Я никогда не ставил этих опер. Я очень рад, что наконец вы не разрешили.
Потом вступили высшие силы — Берлингуэр позвонил Брежневу. Брежнев сказал:
— Понимаете, мне мои товарищи сказали, что это композитор, понимаете, какой-то странный ваш — маоист: режиссер этот наш тоже, мне сказали, не внушает глубокого доверия, мы вам лучше пришлем дру-го-го!..
Но тот его уверял, что они очень любят своего композитора и режиссеру доверяют. И Брежнев сказал:
— Ну ладно, под вашу, понимаете ли, ответственность, Энрика!
И я вылетел, как ракета, после таких — глубоких — переговоров. Мне позвонила часов в 12 ночи Фурцева!
— Да забирайте вы вашего еврея и уезжайте быстрее!
Вот так судьба у меня странно складывалась, что меня всегда высылали почему-то на высоких уровнях — то Пертини просит, то Геншер — это было странно и смешно, как будто у них других дел нет.
В. М. А вам дали время хотя бы в Москве еще готовиться?
Ю.П. Это было задолго — сперва приехала дама очень красивая, такая молодой Евтушенко — такого типа. Такая герцогиня итальянская, которая прекрасно говорила по-русски, она привезла мне огромное письмо от Джиджи, и я думал, что это молодой человек — такое пылкое, уверенное, что «только я это сделаю,» — то-то, что я должен согласиться. Такая экстравагантная дама, мы долго с ней беседовали, Джиджи ее друг большой и так далее. Его звали просто Луиджи, а в кругу своем — Джиджи. И потом он мне позвонил через некоторое время, она уезжала, письмо мое она отвезла. И вдруг явился он с огромной партитурой своей, и я говорю:
— Слушай, ты как бюрократ — у тебя такое…
Он говорит:
— Это мне жена сделала, — Нурия, дочь Шенберга, у них прекрасные две девочки. Ну и вот тут он раскладывал огромные нотные листы у меня в кабинете на Таганке.
В. М. Да. И вам нравится, как «Гран соле…» получилось?
Ю.П. Мне нравится. Там было много забавного. То есть, мне кажется, было решено очень пространство хорошо, основная метафора была очень точная. То есть когда вот хор, малый хор там был, когда он внизу был, на щитах, это были как бы мертвые люди, и потом, когда они взвивались кверху, они как бы оживали и пели. Это было в нескольких планах, и поэтому когда эти щиты взмывались кверху — это было, конечно, очень сильное зрелище. Есть прекрасная программка, наверно, она осталась. Я не знаю, у меня сохранилась она или нет. Давид аккуратный, у него, думаю, она есть.
Рассказ 1975 года
Луиджи Ноно просил меня работать в Милане так же, как я работаю у себя в театре. Я отнесся к его словам скептически, потому что понимал, что там другие условия работы, и, конечно, оказался прав. В Ла Скала очень жестко определен репетиционный период. Стоит он огромных денег — это оплата хора, оркестра, балета. Больших денег стоят солисты, приглашаемые каждый раз по контракту. В Италии совершенно другая система эксплуатации спектакля. Ла Скала планирует только один сезон, намечая постановку целого ряда произведений. У нас в театре мы работаем по-другому: ставим спектакль, а потом он идет долгие годы.
У себя в театре я могу экспериментировать, пробовать, могу, видя, что у меня что-то не получается, оттянуть выпуск. Там это невозможно абсолютно. День премьеры назначается задолго до окончания репетиций. Контракт с дирекцией театра Лирико и с солистами был подписан на строго определенное время. Поэтому нужно было каждую репетицию рассчитывать по минутам. В общем, работать приходилось, как в кино, как работал, например, Эйзенштейн — он писал и рисовал почти каждый кадр своих кинолент. Так и нам приходилось проходить сцену за сценой, держа в руках музыкальную партитуру, а партитура вообще вещь очень точная. Все должно быть рассчитано до секунды. В Милане за режиссерским пультом я практически воспроизводил то, что было сделано в кабинете дома, то есть в течение всего длительного периода подготовки. Огромная трудность была еще в том, что, когда все сочинялось в Москве, я имел часть партитуры. Мне в это время помогал Эдисон Денисов. Он лист за листом расшифровывал мне оркестровую партитуру, которая местами оказывалась необычайно сложна. В таких случаях Денисов, сидя у рояля, приблизительно передавал мне характер того или иного отрывка. Если же и это было невозможно сделать, тогда он давал мне послушать другое, уже записанное на пластинку произведение Ноно, похожее на интересующий нас отрывок — по структуре.
Готовясь к этой работе, я решил окунуться в мир музыкального театра. Это совсем другой мир, нежели драматический театр. Как бы для «генеральной репетиции» я стал помогать О. Виноградову ставить балет «Ярославна» Б. Тищенко, ученика Шостаковича, в ленинградском Малом оперном театре. Это помогло мне понять, что следует перестроить в самом себе.
«Ярославна»
«Ярославна» была в 1974 году. Он очень хорошо был принят, балет, в Ленинграде — интеллигенцией Ленинграда. Но очень недовольны были власти, почему-то не понравилось. И меня вызвал министр Милентьев Юрий Серафимович — «шестикрылый Серафим» — у него хобби: писать на меня доносы.
Он меня вызвал специально допрашивать:
— Что я хотел сказать таким финалом?
И я ему объяснял. Про балет. Я объяснил очень кратко, что я хотел сказать таким финалом:
— Если мы будем все время ссориться внутри, то снова наступит татарское иго. Триста лет. Поэтому финал такой: в конце чернота — то есть письмена горят — письмена — «Слово о полку Игореве» — черный бархат поднимался, как бы они сгорали. И балерины играли лошадей, и надвигалась туча вроде. То есть «ввиду того, что князья все время ссорились и грызлись, — так, глядя на него с подтекстом, я говорю, — вот видите, наступило татарское иго, идет тьма на Россию, на Россию пошла тьма — вот и все».
— А! — он понял все. — А собственно, что побудило вас взяться за балет?
Я говорю:
— Попросили меня.
Виноградов очень открыто и просто говорит:
— Я вас прошу. Мы в каком-то таком находимся мраке… Помогите построить концепцию.
С Тищенко мы поссорились. Он ничего не хотел ни вырезать, ни пойти навстречу. Я говорю:
— Но вы ведь писали симфонию, а не балет! Ну зачем же? Вы хоть Стравинского почитайте, как он (писал): «Какой я был дурак, что я спорил с Фокиным и ничего не хотел менять». Спектакль рождается, он требует изменений — партитуры.
* * *
Работа в Милане много дала мне как режиссеру. Наше действительно товарищеское сотрудничество Ноно — Аббадо — Боровский — Якобсон и я помогло нам уложиться в очень сжатые, жесткие сроки. Постановка оперы в Ла Скала научила меня ценить тщательную подготовку к репетициям.
Однако это не исключает импровизации. Я не люблю хор в опере. Он мне кажется слишком бутафорским, ложнотеатральным. Поэтому на протяжении всего спектакля большой хор пел за кулисами, на сцене же пел малый хор, привязанный к подвижным щитам. И вдруг Аббадо говорит, что в одной сцене, где в музыке проходит тема массовых похорон, тема Пер Лашез, по акустическим соображениям присутствие на сцене большого хора совершенно необходимо. Я ни за что не хотел выводить большой хор — это сто двадцать лишних человек на сцене! Я стал настаивать: пусть, мол, он споет за сценой.
— Нет, Юрий, — отвечал Аббадо, — я на это не могу пойти.
Ну а Луиджи тактично молчит, потому что это его музыка, к тому же он очень деликатный человек (хотя, когда ему кажется, что какая-то деталь спектакля идет вразрез с замыслом, он способен на любую ссору). Я понимал, что правы Аббадо и Ноно, а не мы с Боровским, и что нет иного пути, как подчиниться Аббадо.
В.М. Она есть на видео?
Ю.П. Нет, к сожалению, только была замечательная программа выпущена с хорошими фотографиями. Это был успех, ее даже повторили на следующий год, хотя это был такой супермодерн. Это же развитие школы Шенберга, в общем: и музыка тоже весьма условная. Но там просто зрелище, визуальный ряд был очень сильный у спектакля. И я думаю, что вообще-то выжил, когда был отторгнут от родных пенат, благодаря, наверно, сильному визуальному ряду в спектаклях. То есть это мне помогало преодолевать языковой барьер.
* * *
Там были забавные эпизоды. Мы все договорились об основной метафоре с Клаудио и с Ноно, что вот хор лежит — это мертвые, а вот он вознесся — это было очень красиво, он же возносился на этих щитах, это просто дыхание захватывало, когда это вздымалось на уровень четырех этажей. Это огромное пространство. И он действительно звучал оттуда красиво и мощно. И там реквием был прекрасный, но вдруг Аббадо мне заявляет:
— Нет, звук плох, пусть они внизу лежат. Тут хор нужен дополнительный, еще сто человек.
И вот что такое Запад — завтра репетиция. Сидим дома у Аббадо: сидит Джиджи Ноно, сижу я, сидит Аббадо. Я говорю:
— Джиджи, ты скажи ему, что нельзя, мы же договорились.
Он говорит:
— Нет, это не моя проблема, это ты решай с Клаудио. Он дирижер, он говорит, что не звучит хор. Это слишком маленький хор, который у тебя вздымается, пусть они внизу поют…
Я говорю:
— Они не могут петь, они мертвые внизу. Вы тоже меня поймите.
— Нет-нет, придумывай что хочешь.
И вот придумывать нужно сегодня — завтра придут эти сто человек. Это огромные деньги, никаких раздумий быть не может, я должен это решить. Сто новых человек. «Потому что не звучит».
— Хорошо, но тогда мы положим статистов, а эти будут петь — потому что хор избранный, центральный хор, который наиболее сильный. Но тут я сделал наоборот все: что лежат эти убиенные после расстрела Парижской коммуны, а эти выходят и как бы идут огромные похороны, то есть реквием идет, они на плечах, медленно двигаясь, странным движением эти щиты с расстрелянными несут на кладбище. И это получилась одна из лучших картин по грандиозности зрелища и красоты и трагизма. Но хорошо вот пришло в башку. А так вот: что хочешь, то и делай — то есть в тот вечер мы часа три, наверно, сидели, я там такой вариант, сякой, этакий. И наконец, на этом варианте сошлись, что все они видят дирижера, то есть они могут глазом косить, чтобы это все было точно, потому что очень сложный хор был, написанный моим другом Луиджи Ноно.
«Хованщина»
«Хованщина». Я замучился в вариантах оформления, которые мы делали с Боровским. Нужно было срочно решать. Вдруг я проснулся ночью, и была приоткрыта дверь в ванну, и так странно падал лунный свет — точно был крест. Крест. А решение это было «Петр», посвященное сыну: «Pi», «О» и латинское «t». Латинское «о» — оно как крест. Там оно длиннее — крест. «Piotr» Поэтому латинский шрифт. Огромная конструкция, все в «лесах» — как бы строящаяся Россия. Потому что это Петр в «Хованщине» раскол. И такое «t» нужно, как крест, потому что там раскольники и на фоне «t» перемещения — это была движущаяся конструкция. И уже окончательно я решил «t» — «Piotr» — на основе этого. Но художник был за другой вариант, поэтому я принял соломоново решение: мы покажем оба варианта, пусть они сами решат. Раз у нас с тобой спор, пусть они решат. Мы показали первый его вариант. Они приняли… А потом, на следующий день я говорю: «А вам сюрприз: завтра мы принесем другой вариант. И вот нам интересно ваше мнение». Они выбрали мой вариант. Но все равно я бы делал свой PIOTR Я суеверный.
Ну, я ладно — Пушкин был суеверный: ему три раза перепрыгнул дорогу заяц, и он не поехал на Сенатскую площадь, когда было восстание декабристов. И потом он сказал, Пушкин, когда Николай спросил: «Где бы вы были?» — он сказал: «Я был бы на Сенатской площади». Или когда его венчали с Гончаровой, у него погасла свеча — он сказал: «Плохая примета». И скоро его убили.
Я часто верю своей интуиции… Я Весы. Это значит надо очень доверять интуиции — и все. Больше ничего не надо. И все будет хорошо. Больше всего я надеюсь, что все само образуется, жизнь сама все расставит. Человек предполагает, а Бог располагает. Жизнь так устроена, что один человек хлопочет, хлопочет, что-то делает и все тщетно, ничего у него не получается. А другой ничего не хлопочет и складывается все само по себе. Правда, я люблю и другую пословицу народную: на Бога надейся, а сам не плошай — но эта мудрость вся изложена и в библейских притчах.
«Борис Годунов»
В. М. Какой был визуальный ряд в «Борисе Годунове»?
Ю.П. В «Борисе…» нижний ряд клейм был подвижный, а оставалась огромная Богоматерь внутри. Она была аппликациями сделана, Боровский оформлял. И она от света меняла выражение лица. И поэтому когда он пел «Скорбит душа…», Гяуров, мне запомнилось, что я неловко себя чувствовал: он великий певец; я говорю, вы же поете лет десять или пятнадцать эту партию, чем я могу вам помочь тут. И он говорит по-русски, Николай:
— Вы знаете, я вот сколько ни пою, всегда себя неловко чувствую: коронация идет, такая музыка эмоциональная и вдруг — раз! и сразу ария «Скорбит душа…»
А по истории у Карамзина, он же неожиданно упал и разрыдался. И тогда Борис заказал ризу прекрасную серебряную иконе Владимирской Богоматери.
И я говорю:
— Хорошо, я постараюсь вам помочь.
«Борис Годунов», возобновление Ла Скала, 1979
И я действительно сделал. Все растворялось и оставался только гневный взгляд Богоматери, и он один в клейме. И тогда он падал на колени и пел «Скорбит душа…», вдруг во мрак все уходило. И ему это было очень выгодно, и он большой очень успех имел. Но он и пел прекрасно. И спектакль был довольно сильный. И он повторялся, по-моему, два раза его восстанавливали. Но бывало и больше. В Ковент-Гардене «Енуфа» — вот я сейчас уже восстанавливаю ее в третий раз. Еще не считая даже швейцарской постановки. Но это у нас считается «подумаешь, повторяет», а там, наоборот, на Западе: «Спрос! Прекрасно! Можно жить!»
«Риголетто»
В.М. …А что была за история с Груберовой в «Риголетто»?
Ю.П. Это был скандал. Она не хотела на качелях качаться, пинала ногами, кричала. И поэтому у меня было там со звездами столкновение, и поэтому я пресс-конференцию собирал и это вылилось в грандиозный скандал: кто же победит — звезды или я. Я на пресс-конференции сказал:
— Я понимаю ваше желание слушать прекрасные голоса, но тогда, пожалуйста, вы и слушайте, тогда я не нужен совершенно, мне нечего тут делать; пусть они оденут костюмы — костюмы есть — и будет концерт в костюмах и все будут хлопать.
Но тогда знаменитый композитор Берио, он был директором «Маджо музыкале» во Флоренции, и он умолял: «Меня убьют итальянцы! Ты что? С ума сошел?»
— Юрий, Юрий, ни в коем случае, ты должен сделать спектакль.
А он меня пригласил, услышав «Тристана и Изольду» в Болонье. Но все-таки Груберова пела, правда, она привезла партнера очень плохого. А знаменитый куда-то исчез. Там была какая-то борьба, опять я попал в какую-то театральную ситуацию — у меня какая-то способность влипать, как у мухи. Дирижер Синополис был боссом в смысле записи звезд на диск, и это столкнулось с интересами кого-то, и поэтому он ушел из этого спектакля. До этого он очень любезно хотел, чтоб я ставил. Но я попал в разгар скандала: этот ушел, новый не пришел дирижер. Поэтому я там один варился. От этого дикого скандала звезды вместо Синополиса мне объявили войну, что не так я это делаю, это не Верди.
Этим очень долго занимались все газеты. Только землетрясение в Неаполе отодвинуло нас на вторую страницу. А до этого только «будет „Риголетто“ — не будет „Риголетто“», вынужден буду я уйти или уйдет Груберова или Каппучилли, — всех опрашивали, кто «за»… Это была коррида. Я на корриде, к сожалению, не был, но вот я увидел модель корриды на театре. Забавно.
Один знаменитый певец (Каппучилли), который всю жизнь поет это, вошел и сразу так театрально изобразил из себя волнение, поправил пышную прическу, посмотрел, уже на сцене находясь, окинул взором оформление и сказал:
— Это не Верди!
Я сижу в зале. Все смотрят, как я буду реагировать. Я говорю:
— Петро, вы что, теперь дизайнером работаете?
Он так:
— Я тебя не понял — а мы знакомы были.
Я говорю:
— Ты ставишь оценку художнику. Ты все-таки опоздал. Ты будешь работать или не будешь работать? Говори. Если будешь, давай репетировать, а если не будешь, то зачем ты время занимаешь?
А все смотрят, кто кого.
— Нет-нет, ля воро, ля воро… — то есть работать!.. Работать!..
И потом началось. Вот тут я и убедился, что он не знает вступления, потому что он не вышел там, где я его просил. Значит, не услышал. Я удивился, второй раз — он опять не слышит. Там очень короткая прелюдия и потом идет тема проклятия Монтерона, и я говорю:
— Как ты услышишь эту тему, иди вперед по мизансцене.
Раз играют — он не идет, второй раз — не идет. И я убедился, что он только свою партию знает… Я бы не поверил раньше. Только после многолетней работы в опере я понял, какие там чудеса бывают — почище всех оперный анекдотов.
В. М. А какой там был визуальный ряд?
Ю.П. Там был весь оперный мир. Там была комната Джильды, ее охранял Дон Кихот, а внизу стоял Санчо Пансо. Был Борис Годунов, была Кармен.
В. М. Это куклы были?
Ю.П. Куклы, куклы. И, по-моему, даже была кукла Герцог, на стене всего двора был портрет Герцога. То есть то, за что Верди ругали: как он может показать такого ничтожного Герцога — ведь опера провалилась, вы же знаете ее историю. То есть я еще подчеркивал деспотизм этого господина. Помимо безнравственности, еще и диктаторские замашки этого господина. Поэтому там были даже какие-то фигуры злодейские. Царь Борис был.
В. М. А более новых не было типа Гитлера?
Ю.П. Был, был кто-то. По-моему, был Мао Цзэдун и Гитлер.
В. М. И как они работали?
Ю.П. Ну, они работали соответственно. Когда она соблазняла и Герцог шел с дочерью убийцы… то она появлялась из-за Кармен. То есть все это обыгрывалось, конечно, этот мир оперных фигур. Был большой скандал.
В. М. Но они это место не поняли, наверно, совершенно.
Ю.П. Поняли. Они же шалят вовсю. Это как раз они переносят легко. В опере позволяется. Там вообще очень свободно к этому относятся. Ну и обругают. Там уже на это никто не обращает внимания. Ну и обругали. Наоборот, такой скандал — все было продано.
(Отвлечение про жесты)
В.М. Вы рассказывали эпизод с Остужевым, как его приходили уплотнять, а он точил на станке и объяснил им…
Ю.П. Показал задницу и сказал: «А это видели?» — не пошел на уплотнение.
В. М. И вы сказали, что в этой же атмосфере и вас выгнали флорентийцы. Вы, как Остужев, с ними сделали такое же.
Ю.П. Я им показал тоже какой-то жест, но не такой, конечно, но когда крики-крики были, то я им сделал такой грубый жест, который обошел многие газеты, то есть на отрицательную реакцию некоторой части публики я тоже сделал грубый жест: «Видал я их, — как русские говорят, — в гробу в белых тапочках».
В.М. Я, между прочим, видел, как Рассел сделал тот же жест, что Остужев, когда была премьера, по-моему, оперы «Фауст» в Вене. Там часть публики выражала очень отрицательную реакцию, и он просто повернулся к ним задом.
Ю.П. Ну вот видите, бывает.
В. М. Очень интересная была рецензия на «Риголетто» в «Financial Times», фантастическая по своей глупости, что господин Любимов недостаточно бережно относится к своим певцам, заставляя их перемещаться по сцене в разных направлениях вместо того, чтоб они сохраняли силы для того, чтобы петь.
Ю.П. Замечательная фраза. Нет, а эта мадам, которая кричала, Груберова, когда она пела и с последней нотой улетала к себе в комнату на качелях — так было сделано — она улетала с высокой нотой и после этого хор вступал: «Тише, тише…» — когда ее похищают, то ей публика овацию устроила и все равно она была недовольна.
В. М. Но она просто не могла выйти поклониться оттуда, наверно.
Ю.П. А, может, это ее расстроило.
Но финал был хороший: приехал Лоуренс Оливье туда, во Флоренцию. Его спросили: что он хочет посмотреть.
— А что у вас есть?
— А вот тут есть спектакль — Любимов ставил. Но это скандальная такая постановка.
— Вот-вот, вот я и пойду посмотрю.
И вот он пришел слушать. И потом они что-то начали перед ним говорить, мол «да, вот мы тоже с ним не согласны»… А он сказал:
— Вы странные люди, мне очень понравилось, вы что, не поняли ничего? Он замечательно все придумал и сделал весьма любопытно и интересно.
Но ему нравился мой театр.
В. М. Да? Что он смотрел, не помните?
Ю.П. Он «Десять дней…» смотрел и еще что-то смотрел. Когда он был на гастролях с «Отелло». И я помню, я спорил с Рубен Николаевичем, потому что он меня просто пленил. А Рубен Николаевичу как-то не очень. Он говорил:
— Ну что это, понимаете ли, босой, как-то все время странно ходит…
Я говорю:
— Рубен Николаевич, он взял прекрасно походку черных людей — такую ленивую, плавную кошачью походку в жару. Концепция такая изумительная, роль чудесная, как он срывает этот крест и в язычество входит перед убийством — разуверился он в этом мире и в его морали и во всем.
На мою натуру это чрезвычайно действовало. Хотя спектакль был средний. Но это не он ставил. Он играл.
В. М. А те вещи, которые он ставил, как вам?
Ю.П. Вы знаете, я не видел его вещей, где он ставил. Но он же снимался. Я видел «Гамлет». А Отелло он играл прекрасно. Он замечательный актер.
И человек был, и он и Гилгуд — прекрасные люди. И очень доброжелательные, добрые.
В.М. А фильм «Гамлет» его вам нравится?
Ю.П. Вы знаете, не очень. Мне иногда бывало скучно. Но я не очень любил и козинцевского «Гамлета». Он мне казался странным. То есть противоречащим, во-первых, драматургии шекспировской, потому что мне казалось, что ряд сцен, которые интимные, он их сделал прилюдными. А по смыслу не может Король это говорить при свидетелях. И вот такие вещи странные. Я люблю всякие условности, но, как говорится, не до такой же степени. Когда это лишено здравого смысла в отношении того, что Король не может позволить себе, тем более такой, который все время плетет интриги, это разрушает правдоподобие ситуации.
«Тристан и Изольда»
В. М. Юрий Петрович, можете вы рассказать о «Тристане и Изольде»? Я совсем ничего не знаю об этой постановке. Есть две рецензии — и все.
Ю.П. Там было странно сделано. Во-первых, в фойе был накрыт стол, где были три визитные карточки: мадам Визендок, господин Визендок, Вагнер. И стояло у всех троих по бокалу вина — любовный напиток. Потому что это же треугольник. И этот треугольник я продолжал — как бы Король был Визендок, Вагнер и мадам. И этот же треугольник пошел в музыку и в сюжет оперы. А дальше там визуально было красиво довольно. Самое, мне кажется, было красивое — это знаменитый любовный дуэт очень длинный и то, что всем ценителям пришлось по душе в какой-то мере, что я их разъединил, а не соединил. Они как бы витали над оркестром. Я так поставил свет и вывел полосу примерно метра полтора в оркестр. Прежде всего, им легче было петь, их слышно было хорошо, ведь очень трудно Вагнера петь. И это давало поэтичность большую и это завораживало, этот поток их воспоминаний бесконечных, а не реальные объятия, не реальные сцены. И поэтому, мне кажется, это не мешало абсолютно музыке, а помогало, и она стала больше входить в слушателя. Потому что всегда певцы довольно грузные и полные, и когда они начинают изображать любовь — нестерпимо смотреть. А там мне удалось как-то избежать этих вещей.
В. М. Там был какой-то рояль или нет?
Ю.П. Был. Он носился в воздухе. Публика приходила — ничего не могла понять. Я переделал фойе, я много зеркал поставил, вот этот стол и трость, приметы мадам Визендок, вагнеровский берет — знаменитый берет Вагнера — там все было полунамеками сделано. Этот зал Коммунале оперного театра в Болонье — зеркала изменили пространство. И когда публика приходила, она неожиданно была удивлена, что все переменилось в театре. То есть я продолжал игру, начиная с фойе. Часто я это делал, а часто бросал. Но там я это сделал. И когда они входили в зал, то они тоже ничего не понимали: стоит концертный рояль. А у Вагнера помимо этого же есть и песни Изольды и вроде певица начинала петь, а как бы Вагнер аккомпанировал. Тристан он вроде Вагнер, а вокруг ходит певец, который Король, он вроде Визендок. И публика была в недоумении: а где же декорации, где вообще все, что требуется, все аксессуары оперные. Потом этот рояль вдруг, такой световой сильный эффект был, и он улетал в воздух, и появлялся уже остов, какие-то стены, как бы корабль качающийся. И начиналось путешествие.
«Любовь к трем апельсинам»
В. М. А как вы сделали «Три апельсина»?
Ю.П. О, это долго рассказывать. Ведь там нужно заставить принца рассмеяться, и для меня исток размышлений был такой. Я стал думать, как это действительно сделать очень живым и для себя и для людей. И мне почему-то пришла в голову маска (Бестер Китон) — человек, который не улыбается. И я подумал, что вот отсюда надо и отталкиваться в фантазиях и в размышлениях. Отсюда пошло и канотье, и оранжевый цвет, потом возникающий, — сам актер был в канотье, и зерно, которое он нес, это было Бестеркитоновское. И в программке это было, что мы отталкивались от этого. И поэтому стиль иногда был такого немого кино. Это Давид делал, мы с ним работали. Это довольно веселый был спектакль, и он с успехом прошел, и идет, по-моему, до сих пор.
И еще там было что интересно. Прокофьев вывел в «Трех апельсинах» повариху — басом поет. И сказал, что «это вот Вагнера я изобразил»… И я одел на повариху берет Вагнера. Они не заметили, немцы, они бы меня сразу вынесли вперед ногами. Они не заметили, что берет Вагнера на поварихе.
В. М. А кто был дирижер?
Ю.П. Дирижер был знаменитый Завалиш. Это его последняя работа в Мюнхене в этом театре. Он сейчас ушел из этого театра. Он был руководителем музыкальным театра. Дирижер был прекрасный. С ним мы как раз в дружеских, хороших отношениях.
В. М. У вас, похоже, в Германии было всегда меньше проблем, чем в других странах.
Ю.П. Нет, у меня одна проблема была — в Бонне. Там был очень странный генерал-интендант и очень был мертвый театр, совершенно непонятный, когда я попал в него первый раз. А затем, при Дель Монако, я работал успешно.
«Кольцо» — «Ring»
Я ставил «Кольцо» в Ковент-Гардене. Это был тяжелый труд. Там одной музыки шестнадцать часов. Прослушать один раз — шестнадцать часов…
У Вагнера ужасающее либретто, но, видимо, тут я для себя психологически решил так, что он музыкальные идеи свои, чтоб они не улетучились, писал текстом. Поэтому у него тексты кочуют из одной оперы в другую.
Ведь я должен был в Ковент-Гардене это все ставить. Ко мне в Бонн прилетел директор сэр Джон, который очень долго был директором Ковент-Гардена — и пригласил меня на этот контракт. Контракт небывалый: на пять лет. Я поставил сначала «Золото Рейна». А потом мы не сошлись характером с главным дирижером Хайтингом, хотя я с ним делал до этого «Енуфу», и он имел большой успех и утвердился в должности. И все разлетелось. Не сошлись два характера: я понимал, что примат музыки в таком театре, значит, примат его, а не мой. А он считал, как в рецензии на «Риголетто»: вместо того, чтобы они берегли силы для пения… Ему казалось, что режиссура — это лишнее, что это не нужно. И таким образом, я видел, что он разрушает всю структуру спектакля. Он симфонист, он ничего не понимает в театре. Он смотрит на сцену и говорит: «А зачем это? Лучше пусть стоят. А зачем это? Подвиньте их поближе ко мне, вот сюда, больше на авансцену, на авансцену».
В. М. А как вы придумали «Кольцо»?
Ю.П. Там сложная была конструкция. Был такой круг, который двигался, где русалки эти плавали без конца, потом была большая диафрагма, которая как птичий глаз закрывалась-открывалась, и много всяких трюков. И в мою башку вдруг взбрело начало совершенно цирковое: все крутят хулахупы золотые.
Я просто фантазировал, что надо начинать «Кольцо» как анонс: стоит весь ансамбль, который будет петь «Кольцо», и крутит на какой-нибудь мощной музыке вагнеровской хулахупы эти, кольца золотые. И вращается золотое кольцо — идет кверху-вниз, кверху-вниз — такой рекламный ролик, привлечение публики.
В основном у меня была концепция довольно простая и примитивная: что первая опера идет как опера-буфф, вторая идет «Валькирия» как трагедия со всеми отсюда вытекающими последствиями жанровыми, стилевыми и так далее, третья — как прекрасная сказка «Зигфрид», и четвертая «Гибель богов» идет как современная модерная опера. То есть, чтобы помимо всего был еще весь оперный мир как-то охвачен, все его жанры, стили. Я и начал так и делать как оперу-буфф.
В. М. И она прошла много раз?
Ю.П. Много. Она с успехом прошла. Потом, когда мы разорвали, он взял, по-моему, старую постановку Герц Фридриха, поэтому все были удивлены как-то странно. И в общем как-то так довольно это закончилось у них бесперспективно и вяло.
Но все равно не получилось бы сотрудничества. Уже мы столкнулись непоправимо.
«Енуфа»
Мне кажется, что что-то интересное произошло в опере «Енуфа» Яначека. Дважды я ее ставил: в Цюрихе и в Ковент-Гардене, в Лондоне. Компании были хорошие и тут и там, но певцы были сильней в Ковент-Гардене, но все равно — там это называют продукцией, и там не считается зазорным, а наоборот, это считается признаком успеха, если твою продукцию покупают еще где-то, и ты можешь делать новую редакцию. Почему я был доволен, потому что швейцарцы — народ избалованный, богатый и довольно равнодушный. Там была сенсация одна: один швейцарец нашел на чердаке квитанцию от Наполеона, что он был на постое в этом доме. И в квитанции было точно указано, сколько дней Наполеон стоял, сколько было съедено, сколько было выпито, сколько персонала было вокруг Наполеона. И внизу счет и «Оплатить. Бонапарт». И он это подал в международный суд. И Миттеран прекратил суд и выплатил. Вот так они и живут по закону — раз император написал, то надо платить!
И когда я увидел, что они в опере плачут, то я подумал, значит, ничего все-таки. Оплачиваются такие квитанции, а они еще в состоянии даже поплакать. А музыка хорошая. И сейчас у него такой ренессанс, его весь мир поет. И очень хорошее либретто, что немаловажно, потому что чаще всего оперные либретто — это полная белиберда, ну, за исключением Моцарта… На «Енуфе» я все отстоял и это вышло, и хорошо получилось, недаром они все-таки три раза восстанавливали эту оперу.
В. М. А почему это производит такое впечатление? У вас есть какое-то объяснение: почему это нравится больше?
Ю.П. Я думаю, во-первых, хорошая очень музыка, хорошее либретто, и, во-вторых, это было прилично мной сделано. Я не мешал музыке. Сделано это было очень аскетично, и не бытовой ход, что тут деревня и так далее. И, видимо, благодаря аскетизму все было сосредоточено на музыке и на характерах. Это и производило сильное впечатление, и хорошо всегда очень работали певцы: они прекрасно пели и хорошо играли. И когда достигается действительно синтез настоящий, то это, конечно, производит всегда сильное впечатление. Музыкальный театр, с моей точки зрения, сильней действует на публику, чем драматический театр. И, видимо, и зритель приходит, который любит музыку, — это и есть меломаны, любители. И если они чувствуют, что это как-то им импонирует, то они действительно более эмоциональны в выражении своих чувств.
В. М. Кто был художник?
Ю.П. Художник был совсем неинтересный господин Пол Хернер. До этого я работал с Лазаридисом, с более интересным господином и, к его чести, хоть мы не очень сошлись характерами, он мне предсказывал, что ничего у нас не выйдет. Но просто в «Енуфе» числилось два художника: я и Пол Хернер — потому что я поссорился с Лазаридисом. Может, такое впечатление нехорошее обо мне, что все я ссорюсь.
Он странно себя повел и Ковент-Гарден был настроен против Лазаридиса, а я убедил их, сказал:
— Вы знаете, все-таки я к нему привык. Ну, порекомендуйте мне другого, кого вы хотите, я попробую с ним сделать.
Но так как они никого мне не порекомендовали, то я остановился на нем же, а потом он не выполнил своих обещаний, сказал, что он перегружен, занят, поэтому у меня были осложнения, и они на меня обиделись, говорят:
— Что же вы рекомендуете, а потом вы же говорите, что он не может, — я выглядел несерьезным человеком.
Короче говоря, он меня подвел. И тогда я сказал Полу Хернеру, который был у него макетчиком: давайте сделаем макет, я вам скажу, как это. Тогда он очень старался и успешно работал. И был сделан хороший макет, я его сдал, и это дизайн мой и его.
И потом уже, так как они мне предложили этот пятилетний проект, то он был со мной рядом, и я мог с ним работать. А там же, на Западе, очень сложно: надо ездить, вместе сидеть. Моя манера очень не подходит к Западу, потому что я много работаю с художником, а не просто там чего-то мы с ним встретились, поговорили, он сделал макет, поехал сдал, я там чего-то поставил и так далее. У меня так не получается, поэтому всегда сложности всякие.
В. М. Вы хотели те же декорации и для последующих частей: второй, третьей, четвертой?
Ю.П. Хотел, да, но они должны были трансформироваться. И тут, учтя всякие недостатки, которые я увидел во время работы над «Кольцом», я стал менять. А он стал упрямиться. И помимо Хайтинга, я столкнулся и с ним. И потом я уже начал серьезно говорить, что из этого сотрудничества ничего не выйдет, но не из-за дизайна, потому что в это время я работал в Швеции и готовился к продолжению «Кольца». Я много перечитал, пересмотрел всего и действительно, довольно-таки успешно подготовился к тому, чтоб поставить «Кольцо» дальше. Но потом, когда они приехали ко мне в Стокгольм разговаривать, то я неожиданно резко переменил решение и сказал: «Вы знаете, я не смогу». И мы расстались. И я убедил нового директора Ковент-Гардена Джереми Айзека, и он согласился со мной.
А с Джереми Айзеком у меня была встреча еще когда он был руководителем «Channel Four» — четвертого канала. Это он решил судьбу «Бесов», что их взяли на телевидение. Когда мне сказали, что вот вам назначена встреча и там все решится: будет это сделано или не будет — в те времена это было для меня очень важно. И почему-то я его сумел убедить за двадцать минут. И он сразу, не зная меня, решил вопрос, сказав: «Я этому человеку доверяю». Хотя был какой-то острый разговор, непринужденный, и я его сумел убедить, что он может доверить мне деньги.
«Четыре грубияна»
В. М. Как выглядели «Четыре грубияна»?
Ю.П. Там была архитектура сделана, выдуманная изящная, итальянская: большое старое зеркало, которое давало центр пространству, оно двигалось, был красивый свет поставлен. Красивые костюмы — гобелены на живых дамах и мужчинах. Фактура костюмов была гобелен, даже сшиты они были из старых гобеленов. Тяжелые. Давид их долго разыскивал, я помню, все они нас уговаривали сделать это как бы под гобелен, но тут Давид молодец — он проявил упрямство, он рыскал где-то по магазинам, уехал, по-моему, даже в Италию, по каким-то таким магазинчикам шуровать и старые искать гобелены, и очень они были красиво подобраны — были замечательные костюмы. Все это было сделано комедийно, принцип был комедии дель-арто, и это имело успех, который не соответствовал довольно средней музыке, написанной Вольфом Феррари, но спасало прекрасное либретто Гольдони, и хорошо они пели и играли, и поэтому это идет до сих пор. В Мюнхене — и «Три апельсина», и «Четыре грубияна». Они много ездили с этим спектаклем. Он очень удобный: там нет хоров, очень мало занято, и он их часто выручает. И вышел-то он, выплыл — то я должен был «Набукко» ставить вердиевскую, потом еще чего-то, и начались по всей Германии забастовки хоров, а уж так они долго хлопотали — по-моему, года два меня не пускали — Громыко вмешивался, еще кто-то вмешивался из вождей, и, наконец, меня выпустили, а в это время забастовки начались. И значит, выхода не было, и они предложили: «Давайте делать „Четыре грубияна“», — и я согласился, потому что я так устал там, в Москве, от всех безобразий, был я, к счастью, и с Катей и с Петей — Петя был совсем маленький, еще тогда, бедный, чем-то отравился, у него животик болел, и он не мог ничего есть, и я так переживал. Он все время просил есть — это ужасно было. И я понял, чего только не сделаешь, чтобы накормить ребенка. Смотришь все эти ужасы нашей жизни, и действительно, какое это горе, если родители не могут накормить ребенка своего.
В. М. Он в Москве отравился?
Ю.П. Нет, там, в Германии, в Мюнхене.
В. М. Громыко был на вашей стороне или наоборот?
Ю.П. Он как раз на моей был, чтоб выпустили, ему нужно было по каким-то своим причинам. Он обещал это, по-моему, министру иностранных дел — Геншер тогда был, по-моему, вечный…
В. М. Конечно. У него очень удобное положение — он балансирующая партия. Кто бы ни у власти, он все равно остается.
А как так может быть, что этот спектакль до сих пор идет, там репертуарный театр?
Ю.П. Репертуарный, да. А это очень удобная пьеса, она же малонаселенная.
В этих двух операх — основная часть певцы театра, но и там и там есть приглашенные. И в «Трех апельсинах», и в «Четырех грубиянах». Оперный мир очень маленький, и тот, кто поет эти партии, — хорошо известен антрепренерам. И тогда происходит быстрая замена. Там главное, чтоб знал партию певец или певица. Если он знает партию, его введут в течение суток.
Я рассказывал, что при всех неполадках Мюнхена все-таки там была хорошая компания, даже в этой — я шучу — «плохо организованной казарме» все-таки актеры, певцы так тепло ко мне отнеслись, что они своим чудесным ко мне отношением восстановили против меня дирекцию:
— Вот человек, который поверил в нас, который пробудил в нас чувство достоинства, что мы все прекрасные артисты, а почему же нас в этом театре так часто унижают?
То есть я явился таким человеком, с которым им приятно было работать, и они в данном случае напали на дирекцию, меня противопоставив директору, а он важный господин, сейчас еще более важным стал, и, конечно, он рассердился — то есть я говорю, как на Западе все сложно. Раньше я думал — очень все примитивно, если уж успех, то все в порядке, оказывается, нет. Меня всегда поражало это у советских: вроде успех, публика ходит, а они все равно закрывают, орут, безобразничают — чего им надо. А там, мне всегда казалось, что достаточен успех. Ан нет — я, оказывается, кому-то наступил на ногу, кому-то перешел дорогу. Люди везде люди.
В. М. Какие еще ваши спектакли сейчас идут, кроме этих двух?
Ю.П. Я думаю, идет «Пиковая дама» в Карлсруэ из оперных. В Ковент-Гардене «Енуфа» только что шла, и она у них прочно в репертуаре.
P. S. В Москве в самом МХАТе летом 1997-го шла «Пиковая дама» — боннская совместно с московской Новой Оперой.
История «Пиковой дамы»
Мы очень хорошо работали, пока создавали спектакль, всей компанией: Рождественский, Шнитке, Боровский, я — мы спокойно, хорошо все придумывали. Это не всегда так бывает, к сожалению, что все мы вместе и могли думать, фантазировать, и договориться. Ну а потом произошла очень печальная история, совершенно от нас независящая. И даже не печальная, а скорее глупая, нелепая. Это довольно точно все описано у Либермана в книге. Я ничего не могу добавить. Я могу только со своей стороны всю нелепость обрисовать. То нам говорили: «Не будет этой работы», то начинали бесконечно контролировать: почему мы тут купюры делаем, тут такую, тут такую… Я очень долго убеждал заместителя министра, зачем мне нужен Шнитке — он все никак не понимал: Чайковский! При чем тут Шнитке? Я ему какие-то глупые примеры приводил: «Ну вот у вас сшит костюм. Но все-таки вот немножко тут морщит. Можно лучше сделать. Тем более сам портной, который вам шил, жаловался, что тут не получилось», — ссылаясь на письма Петра Ильича Чайковского, что он недоволен либретто.
Вот, — я говорю, — я не портной, а Шнитке блестящий специалист своего дела. Вот он сделает купюры, которые как-то сглаживают нелепость либретто и помогают приблизить это к Пушкину. Не я первый, не я последний это делаю. Это делал Мейерхольд в более сложные времена. И я думаю, он даже так подробно все не объяснял. Они просто делали спектакль — и все. Почему такая подозрительность? Я не понимаю, в чем дело. Ну, не хотите, чтоб мы делали — не надо. Но вы же сами предложили, все договорились, мы делаем, теперь вы начинаете все время доказывать, что это не нужно делать, созываете каких-то специалистов. Достаточные специалисты Шнитке и Рождественский. Мне других не надо. Вы приглашаете какого-то человека, который говорит, что тут бы он так, тут бы он этак… — «Это у нас консультант». Я говорю: «Но этот консультант, я узнал, один из учеников Шнитке, когда он преподавал. Почему я должен слушать вашего какого-то консультанта, когда сидит композитор с мировым именем. А вы это не понимаете. Ну что же это такое?» — И вот такие бесконечные разговоры.
Потом, значит, вроде «не будет этой работы», потом вдруг срочно вызывают на заседание и говорят: «Будет работа. Но вот тут все-таки поменьше…» — но видно, что уже договорились, что работа будет.
Потом через два дня я разворачиваю газету, читаю в «Правде» открытое письмо Жюрайтиса и услужливые комментарии редакции: «Вас, наверное, уважаемый читатель, заинтересует, кто эти люди, вот эти проходимцы! Это вот кто. Кто это такие, позволяют себе такие кощунства». Это режиссер такой-то и так далее. А Жюрайтис делал вид, что он не знает, кто это делает! Это вот они устроили такую игру. Жюрайтис тот, кого когда-то взял ассистентом Рождественский. Вот такая идет игра: он не знает, кто это делает, и он вопрошает: «Как это могло случиться! Это чудовищная акция!» Это называлось «Руки прочь от Чайковского». И всполошились все, соцлагерь весь испугался…
Это должны быть сноски: «соцлагерь» — терминология советская — «каплагерь», «соцлагерь». Они очень любят лагеря. Лагеря они любят, не могут с ними расстаться. Это их очень греет. У них военный лагерь всегда. Они очень любят военную терминологию.
Ну вот, а потом, уже после этого, министр запретил. Мне сказали люди компетентные, что это все и сделал сам министр.
Жалко, что нет моего ответа Афанасьеву. Я же ему еще отдельно отвечал. Я еще с ним по телефону говорил. Он там вообще, наверно, подскакивал.
— Товарищ редактор, — я говорю, — ну как же вы пишете «ни одного положительного отклика»? Хотите, я вам пришлю письма, тут адреса есть, — и я прочитал ему адрес, — вот человек говорит, что «я послал в „Правду“ письмо». Другой пишет, что вот «мы, собравшись и обсудив все это, написали в „Правду“ и подписались». Ну что же, они будут писать и врать? То ли вам докладывают подчиненные не так, а как вам хотелось бы. Как-то некрасиво получается. Я ведь могу взять и письма эти опубликовать.
Он засмеялся.
— Я смех-то ваш понял, что вы позвоните и скажете, чтобы нигде не публиковали. Но вы же меня обвиняете в неискренности, а где же ваша-то искренность, товарищ редактор?
— Вы, может, по делу будете говорить?
— Так дело вы уже сделали, чего же о нем говорить?
В общем, я порезвился. Потом я резвился, когда они потребовали, чтоб я осудил Сахарова и Солженицына, и мне позвонили из «Советской культуры», а там в это время сидел у главного редактора Рудницкий, критик, который написал книгу о Мейерхольде. И главный редактор слушал отводную трубку, как я разговаривал с его заместителем. И я говорю:
— А чего ж, хозяин-то не снизошел по такому важному вопросу и вам поручил? А зачем же вы на себя такую неблагодарную роль берете? Как же я вам могу чего-то говорить, если я не читал ГУЛАГа?
— Ну приезжайте к нам.
— Простите, зачем же я к вам поеду? Нужен мой отзыв — вы мне и пришлите. Я прочитаю и скажу вам. А сейчас я не могу вам сказать — вдруг мне понравится.
— Ну как вы можете такие вещи говорить? — тот выдрючивается уже перед Главным, который на отводной трубке.
Тот краснеет, глотает валидол и говорит Рудницкому: «Вот сволочь какая!» Рудницкий молчит, естественно, не защищает. Ну а может и не молчит, а говорит, что я не такая сволочь, а просто заблуждаюсь… Минут пятнадцать мы разговаривали с этим типом, бедным.
Он говорит:
— Ну, в «Правде» статья, там все написано. У нас отзывы академики подписывают.
Я говорю:
— Ну и прекрасно, зачем вам подпись какого-то режиссера? У вас академиков полно.
— А вы что, и «Правде» не верите?
— Абсолютно.
— Как?! Как вы можете такое говорить!
— Могу. Они написали «Люди в белых халатах». Вон там Берия писал-писал, был великим, а кем оказался. Чего Берия, а со Сталиным что получилось? Из Мавзолея выкинули. А вы так сразу: «ГУЛАГ, подписывайтесь». Нет, милый, так сейчас нельзя жить. Я вот не знаю, вы старше меня или моложе? По-моему, вы тоже пожилой человек.
— А вы откуда знаете?
— По голосу.
В общем, упражнялся долго я.
Харитон подписал, еще кто-то подписал. Ужас был. Это было второй раз, когда их сразу вдвоем, в одной упряжке долбали. Перед высылкой. А потом они ко мне перестали обращаться. Но они знали, что я знаком и с тем и с другим. И им было важно, чтобы я подписал. Это чтобы поломать меня. Замарали — и все в порядке.
В. М. Кто предложил вам «Пиковую даму»?
Ю.П. Гранд-Опера. Они сами предложили. Гранд-Опера настаивала, чтобы это делал Рождественский и я. А они старательно хотели, чтоб кто-то другой делал, конечно, как всегда.
Кто-то мне сказал, что эта история с «Пиковой дамой» произвела такое впечатление на дирижера Кондрашина, что он остался на Западе.
Я поставил «Пиковую даму» в Карлсруэ. Опера стала лучше. Вот что значит уметь вырезать плохое. Музыка же гениальная, но брат говорил Чайковскому:
— Просят, надо написать пастораль. Нужно для певички. «Хозяин просит дорогих гостей пройти послушать пастораль „Любовь пастушки“»… — и там эта баланда идет минут пятнадцать. Больше даже. А осталось минуты полторы. И я перевел всю эту пастораль в сумасшедший дом. Поэтому получилось очень пикантно. Герман же кончает в сумасшедшем доме: «Тройка, семерка туз» — на койке сидит.
Там все очень деликатно сделано. Самосуд с Мейерхольдом менее деликатно все сделали по партитуре. Они перекраивали, переставляли… Мы только убирали. И получилась сильная тема карьеры и денег. Все как у Александра Сергеевича. Было сделано так, что все происходит в игорном доме — все время деньги. Почему это возникло у меня? Пригласили в Гранд-Опера, а в Монте-Карло рулетку строил тот же архитектор. И я сказал в Париже, что мне хорошо бы съездить в Монте-Карло. Мне сказали: «Пожалуйста, господин Любимов, когда у вас появится время, тут же мы вас отвезем». Когда я увидел Монте-Карло, походил, посмотрел, идея у меня сразу появилась: нельзя ли это сделать там. И тогда мы поехали с Давидом. В этой же архитектуре все, в этом стиле. А потом нам сказали:
— А вы знаете, что Монте-Карло строил тот же архитектор, который строил Гранд-Опера?!
Тут уже я возликовал. И там я увидел этих старух, которые играют. Меня представил господин, который ведает казино. Ему позвонили, сказали, что «тут режиссер приехал, ему интересно, он ставит оперу Чайковского, там игорный дом, как ваш». Он говорит:
— Мы все покажем. И даже отведем, где крупно играют.
Мы вошли чинно, представили меня, прошли, посмотрели все. Потом говорят: «Тут несколько дам, вон в той комнате. Они все играют, но сидят тут». Значит, играют за них. Ну, как Николай Робертович. Он же не бегал к кассе. Нас привели, представили — там сидели страшные старухи — одни пиковые дамы в перстнях, в бриллиантах — за столом роскошным. Икра, лососина, шампанское. И когда им сказали, что я русский, они так уставились. Я говорю:
— Что вы на меня так смотрите?
— А я первый раз вижу русского.
— И что же вы думали?
— Я фантазировала другое. А вы в костюме?
Я говорю:
— А иначе сюда не пускают. Только в галстуке.
И стали нас все угощать шампанским, вином, лососинкой, икрой — плошки стояли. Тут подходит какая-то, подбегает, она ей дает, и та бежит и ставит. Она следит за всем. Там табло — оборудовано хорошо. Играют. И проигрывают миллионы. И директор гордо везде водил нас, потом говорит:
— Может, вы хотите поиграть?
Давид долго ходил, высматривал… Я-то просто чего-то потыркал — попроще. А Давид все старался понять… А там разные способы есть: и карты, и рулетка, и автоматы. Деньги я отложил, потому что я знал, что я все проиграю. А там вообще, когда ты приезжаешь, они говорят:
— Часть денег вы должны оставить.
Сразу вперед за гостиницу, все ты должен оплатить. И билет обратный ты им оставляешь, когда идешь. И поэтому я взял то, что я проиграю. Ну, так я и сделал. А Давид мне не дал. Я говорю: «До гостиницы, там я отдам. Ну, я отдам, ты что, с ума сошел… Ты что, не слышишь, что ли?..» А он так смотрит в сторону — и все.
А потом я хожу все, присматриваюсь, как в опере должно быть. Смотрю, идет какая-то старушка целенаправленно к одному из автоматов. Раз — бросила двадцать франков — золотую. И вдруг оттуда — тр-тр-тр! — она все взяла и ушла. И я, дурак, думаю, перст судьбы — пошел за ней к этому автомату. Ну как же это можно, разве второй раз он выдаст? Но это я понял уже, когда бросил. Я ко второму — опять ничего. Образумился на третьем автомате. Был момент — у меня все карманы были полны. Я разошелся: уж гулять так гулять.
А до этого мы все воспринимали именно со стороны, как все это делается. Потому что действительно, оттуда такие выходят, что страшно становится — человек все проиграл — он выходит белый, полушатаясь, и он не пьян, он проиграл такие суммы, что он не знает, что делать. Потом они же еще любят очень рассказывать: «Вот с этого балкона бросилось четыре человека». Там зал, выходишь, балкон великолепный и большой обрыв. И всегда водят показывать и говорят:
— Бывают случаи, бросаются. Вот недавно один… А тут мы даем представления. В летний сезон, когда хорошая погода, мы тут открываем, где бросаются. И все очень реально.
Я говорю:
— А ведь иногда хорошо, идет какая-то опера у вас камерная и вдруг бежит человек и бросается. Это какой эффект!
— О! Это было бы прекрасно, но надо подгадать.
Так что насмотрелся я. Действительно, это помогло мне очень. Потому что когда совсем ничего не видишь, трудно.
«Леди Макбет»
В. М. Вы ставили только одну оперу Шостаковича?
Ю.П. Я ставил «Леди Макбет» в Гамбурге. Только. И у меня была его музыка в «Галилее» и в «Павших и живых».
«Лулу»
В Турин по просьбе генерального директора «Фиата» меня отправили, я тогда «Лулу» ставил.
В. М. Он тогда строил завод.
Ю.П. Да, и было сказано, чтоб я сейчас же уезжал и делал.
В. М. И «Лулу» была очень успешна, поскольку она шла два раза.
Ю.П. Да. Она шла и в Турине и в Чикаго. Это был успешный спектакль. Интересно было сделано. Там была такая конструкция, которая постепенно открывала пространство, она уходила. Двенадцать секций, как атональная музыка. И конструкция давала возможность намеком моделировать места действия. И поэтому пространство все время менялось, это было, как они писали, «Симфония Гриджо» — то есть все было в серых тонах с разными, конечно, оттенками. Там было очень интересно светово все это решено, свет красиво был поставлен и чрезвычайно он менял пространство.
И мне кажется, это была интересная работа. Там музыка очень интересно влияет на ритмы и действия персонажей. Она запрограммирована композитором — например, когда у персонажа речь становится более судорожной, у профессора, с которым связана Лулу.
Потом она в него стреляет, уходит с сыном — по сюжету. Это две пьесы Франка Ведекинда («Дух земли» и «Шкатулка Пандоры») соединены вместе. Я делал вариант в трех актах. Потому что у Берга два акта. А третий акт собран — он не дописал. Как вот ищут, какую брать оркестровку: Мусоргского, или Римского-Корсакова, или Шостаковича — так и тут, я забыл, кем были собраны все его наброски, и был сделан третий акт. И мне кажется, что это интересный вариант, законченный. Берг не закончил.
В.М. И вы одинаково это делали и в Чикаго и в Италии?
Ю.П. Примерно. Но в Чикаго я делал без Боровского. Боровского не выпустили, хотя уже со мной советские вели игру по поводу возвращения. Но все равно, сколько я ни пытался и театр хлопотал — Боровского не выпустили. И поэтому мне пришлось все делать самому: и монтировать спектакль, и вспоминать все с внешней стороны, как это выглядело, разбираться. Они просто купили декорации в Турине, привезли, а собрать толком не могли без меня. Я приехал, забыл, как это я делал, и просто успокоился внутренне, подумав: «Ну что же я так мучительно вспоминаю! Лучше я выдумаю заново».
В Чикаго много я по-другому делал. Может быть, потом подсознание мне возвращало, как бы заново, какие-то вещи выбрасывало, но во всяком случае это меня раскрепостило совершенно. И я начал работать с певцами — мне попался замечательный ансамбль, Каталин Маркитано — знаменитая певица, она великолепно пела. Там все были другие певцы. Совершенно феноменально — три тенора и все умные. И они очень хорошо играли. И спектакль в Чикаго был намного лучше, чем в Турине, в Италии. Намного лучше. И дирижер был очень хороший, я с ним «Фиделио» делал, и сейчас, по-моему, он будет со мной работать «Енуфу» в Бонне — Рассел Дэвис. Он дирижировал блистательно «Лулу», модерную музыку. И я понял, что такое хороший дирижер в опере. И как на Западе намного сложней работать, чем у нас. Они закрыли театр — им было выгодней, чтобы был театр закрыт, и я неделю монтировал спектакль и ставил свет, без всех; были декорации, была запись «Лулу», и я ставил свет на статистах. И это театру было намного выгодней. Потому что были вызваны только те, кто занят в этой работе. И театр экономил на этом много. Но конечно, это очень дело тяжелое: я не мог ошибиться. Напряжение, конечно, было очень сильное: заранее ставить свет. Заранее я должен был делать мизансцены на статистах.
В. М. А разве можно так сделать?
Ю.П. Можно, но очень сложно.
В. М. Люди другие, все другое.
Ю.П. Ну и что же. В опере им надо все говорить: сюда, туда… В опере должно быть все поставлено. Каждую секунду все должно быть сделано. И в балете также. Мое убеждение, что и драматический спектакль нужно ставить, как балет. И тогда только он крепкий и твердый спектакль, выживет много лет, не развалится. Там же держит музыка, партитура, а в драматическом спектакле должна быть создана такая же партитура, иначе это все размажется, все будет растащено, все растает. Но если вы не занимаетесь театром импровизации, конечно.
В. М. Интересно, они сохранили это в Турине?
Ю.П. Сохранили в Турине, потому что считалось там, что это стоит того, чтобы сохранить, а потом это деньги, поэтому если есть склады, то сохраняют. Ведь часто возобновляют оперы, как вот Ковент-Гарден трижды возобновлял «Енуфу».
«Тангейзер», 1988 г
В.М. Вы еще ставили «Тангейзера». Это где было?
Ю.П. Это было в Штутгарте. Как раз после этого я и приехал в Москву. Первый мой приезд в Москву был после этого спектакля.
В. М. Вам было интересно работать?
Ю.П. Видите ли, в музыкальном театре интересно работать. Но вы знаете, так у меня судьба сложилась, что то, что мне неинтересно, я не делаю. А уж если я начинаю делать, то постепенно я втягиваюсь и все равно я стараюсь делать максимально все, на что я способен, вкладывая всю свою энергию.
P.S. Сейчас в Москве я беседовал с профессором Гюненвайном о новом проекте для фестиваля в Баден-Бадене вместе с Большим театром. Он считает, что я обязательно должен поставить в Москве «Фиделио» Бетховена. Почему-то немцев это интересует. Вот они же и «Пиковую даму» привезли. А наших нет. Вот и пойми их, сын мой. Ты все-таки прочти, что отец твой пишет!
5 января 1998 г. Будапешт
Из разговоров с артистами (Достоевский)
Английский спектакль «Бесы» мы должны были играть в Париже в Театре Наций, а в Бургтеатре я в это время репетировал «Преступление…» Театр Алмейда и этот спектакль пригласили в Театр Наций в Париж.
Пьер Аудио, который руководил Театром Алмейда, узнал меня по «Преступлению…», ему понравилась эта работа, и он предложил мне сделать что-нибудь, а я предложил «Бесы». У меня было придумано, в основном, оформление. Дизайн. Но там сложно было с переводом. Кириллова, которая, по-моему, в Оксфорде или в Кембридже кафедру русскую ведет, она, может, перевела и безукоризненно, но когда читалось это актерам, то я увидел, что нет никакой реакции. Я поразился — вроде все точно, а люди двуязычные как-то растеряны: вроде переведено точно, а толку нет. Я ничего понять не мог — у него есть фразы, которые должны вызвать реакцию, а они прекрасные актеры, прекрасная компания. Это была просто трагедия — что делать!
И тогда я пригласил другого господина, англичанина, его жена какая-то режиссерша, она знает русский, и он делал второй перевод на основе ее подстрочника. И перевод актерам очень нравился. Это было первое мое понимание, что значит перевод и переводчик, который помогает, и контакт между мной и актерами идет абсолютно точный — нет барьера языка.
Художником числился Лазаридис, но он фактически мне не нужен был. Потому что все было придумано в Москве еще. И я все это рассказал Давиду Боровскому, ему все это очень понравилось. Там плакаты — названия глав — ну, как демонстрация идет. Как бесконечные митинги сейчас идут с транспарантами — там шествовали главы Достоевского. Потом они располагались в нужном порядке и создавали то или иное пространство. И такой был черный кабинет из резиновых полос, и люди могли мгновенно появляться и мгновенно исчезать — они просто могли вбежать и убежать в секунду. Эта коробка, как шкатулка Пандоры получалась, — непонятно, как человек вошел и как он вышел.
Там это имело успех. После гастролей в Париже, Италии мы снова играли в Лондоне, а потом был сделан телеспектакль на 4-м канале.
Я много лет работал над «Бесами», потом я думал делать «Записки из Мертвого дома». Я очень люблю его все романы: «Братья Карамазовы», «Идиот», я думал даже о спектакле просто по одной главе — это о Великом инквизиторе «Легенда о Великом инквизиторе».
Именно сейчас я чувствую себя ближе к Достоевскому, чем в прошлом… По многим причинам. Из-за его мировоззрения, из-за его нравственных основ, его прогнозов каких-то, предчувствий, его бесстрашия заглянуть внутрь себя. За его глубокую сердечность, сострадание к детям, к людям.
… Я не понимаю: почему всех смущает прекрасная простая мысль, что нужно непременно с себя начинать? Есть старая пословица: «В чужом глазу соломинку ты видишь, а у себя не видишь и бревна». Еще всякие стихи есть неприличные на эту тему, начиная даже с Пушкина. Пушкин хулиган был. У него очень много хулиганской поэзии. Есть неприличные варианты про дам.
И в Англии такой же разговор был. Я говорю: «Так написал Достоевский, это его христианские убеждения. И не только его. Весь Толстой на этом, на этом Ганди — почему это такой протест у вас вызывает?»
Достоевский считал, что если художник не страдает, он не может постичь страданий других, и что только страдание делает человека человеком. Может, и советское правительство так начиталась Достоевского, что решило, чтобы весь советский народ, вдоволь настрадавшись, построил бы что-нибудь уникальное — шутка!
Однажды собрались все великие — и самый великий Гоголь, — специально бегали покупали херес ему — он только херес пил. Пока они бегали, доставали херес, он заснул. Он очень хорошо знал Достоевского. Достоевский очень перед ним робел, и он сделал вид, что он его не узнал. Ему говорят: «Вот Достоевский, которого вы так превозносите». — «Кого я превозносил? Я знаю, что он написал „Бедные люди“ и исчез, появился на небосклоне, вспыхнул и исчез». Достоевский был человек очень ранимый и болезненный, и он был совершенно обескуражен этим вечером. Вечер же был в том, что именно Гоголь что-то милостиво согласился читать, и все уже на него молились, и, значит, что-то хотел прочесть Достоевский. И Достоевский не стал читать. Я не помню, читал ли что-нибудь Гоголь или выпил херес и опять заснул. Но Достоевский, несмотря на то, что у него были свои проблемы с Гоголем, не мог одобрить грубость Белинского в адрес того же Гоголя. Да и просто у него был более широкий взгляд на все после каторги, после тюрьмы. Он написал «Бесы». Он ведь проходил в кружках бесовщину.
Кармазинова многие считают очень похожим на Тургенева. Это очень зло написано, но очень смешно. Там есть колоссальная сцена между ним и Петькой Верховенским, когда Кармазинов хочет у него узнать, когда же в России начнутся все революции. И Кармазинов не хочет его угощать, но говорит: может быть, вы что-нибудь хотите, думая, что тот откажется. А Петька говорит:
— Хочу, хочу!
— Может быть, вы хотите котлеты? Вы любите котлеты?
— Да-да, я хочу и котлеты, и выпить…
У Достоевского были какие-то денежные сложности с Тургеневым.
Он сразу начинает высмеивать общество и показывать, что в этом обществе бесы и могли прийти к власти — в этом и есть пророческий дар Достоевского.
Вот, а кончилось анекдотом. Спрашивают, правильно ли, что в Москве открыли памятник Достоевскому.
— Да, открыли.
— Ишь ты, где?
— Напротив Карла Маркса — и написано: «Благодарные бесы».
В этом романе смех сквозь слезы — гоголевский образ. Там столько отчаяния, столько ужаса. И так во всех великих произведениях. Возьмите самое гениальное произведение мировой драматургии — «Гамлет» — там все время идет смех в трагических местах.
В одной сцене Достоевский останавливает все действие гетевской фразой: «Остановись, мгновение!» — которое в данный момент совсем не прекрасно. Даже не пощечина, а какой-то, он говорит, «как мокрый удар кулака» — так он звук прекрасно описывает. И потом начинает хирургический разбор, что происходило в эти несколько секунд. И это очень трудно сделать на сцене. У Достоевского есть удивительная способность — сжать время, сконцентрировать его в несколько секунд, ну как вечность, а иногда также растянуть время. То у него бешено развиваются события, то он несколько секунд растягивает до бесконечности. Очень трудно найти сценическое выражение. Поэтому мне казалось, что необходимо много музыки. Пластика и музыка помогают действию со временем как-то обходиться. Помогают сценически выразить эту растянутость или сжатость.
Так как на сцене присутствует весь ансамбль как население города, и есть большое количество названий глав, которые дают возможность все время менять пространство: это и дает возможность очертить мизансценическое пространство, показать бесконечное кручение мизансценировкой. Я думаю, Достоевский это делал сознательно, бесы, они кружатся, крутят, крутят, крутят, потому что статичную бесовщину трудно представить. Ведь «Бесы» начинаются двумя цитатами:
Хоть убей, следа не видно; Сбились мы, что делать нам? В поле бес нас водит, видно, Да кружит по сторонам. ……………………………… Сколько их, куда их гонят, Что так жалобно поют? Домового ли хоронят, Ведьму ль замуж выдают?Мне нравится движение в этом стихотворении.
Мчатся бесы рой за роем В беспредельной вышине, Визгом жалобным и воем Надрывая сердце мне…И тут же цитата из Луки. Она тоже вся в движении.
«Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло… И исцелился бесновавшийся». (И нам бы не мешало!).
Если взять знаменитые структурные раскопки Достоевского у Бахтина и его тему полифоничности в строении — истоки Достоевского там, и истоки от древних Достоевский любил древних, говорил, читайте древних. Отсюда его карнавальность. Но карнавальность не в смысле примитивного карнавала. Это эстетика демократичности, скорее. Ему важно, как по русской пословице: все равны в церкви, в кабаке, 6 бане — демократичность. Я нарочно хочу взять классическое произведение прошлого века, и вот эта форма современных манифестаций идет через названия глав, которые в руках у действующих лиц, они трактуют тот век в современности.
Ввиду того, что в «Бесах» очень сильный гротеск, там идет сильнейший визуальный ряд, а не только психологический разбор.
Гротеск — это очень трудная форма искусства. Одна из труднейших. Просто редко кто владеет этой формой. Можно по пальцам пересчитать гениев мира, которые в совершенстве владели гротеском, если он глубок и содержателен.
Советские власти не любили гротеск. Они любили мрачность и серьезность. Когда Петька Верховенский идет со Ставрогиным — и петушком семенит по грязи, а Ставрогин идет гордо по дощатому тротуару. Они идут к «нашим» и все время Петька говорит:
— Какую надо рожу скроить, когда приходишь на заседание? Мрачную и значительную.
Вся юмористическая сторона в этом романе настолько точна по выразительности, что, видимо, это и заставило Льва Николаевича сказать, что «а! это политический памфлет, это быстро пройдет, тут мало искусства, это фельетон, памфлет» — и так далее. И он ошибся в этом и потом понял, что ошибся. Жизнь показала, что это чрезвычайно сложное и глубокое произведение, а никак не злободневный памфлет. И поэтому, предположим, когда я всячески сжимал адаптацию — ведь это огромный роман — то было очень трудно, потому что я чувствовал, что я начинаю обеднять характеры. Всегда помимо того, что это живой характер, он несет какую-то функцию философскую — в его познании мира, Достоевского. Если подходить к его героям просто как к реальным существам, как, например, у Диккенса, нельзя Достоевского открыть этими ключами.
* * *
Мне покойный Николай Робертович всегда говорил: «Господи, ну что это такое: читаешь, читаешь и ни одной новой мысли. Т-так редко новая какая-то свежая мысль приходит». Вот я люблю очень в «Бесах», когда Кириллов говорит со Ставрогиным, и Ставрогин говорит: «Я новую мысль почувствовал». — «О! Это вы замечательно сказали — „мысль почувствовал“. Разумом — это все так могут, да-да, а вот чтоб почувствовать мысль… Это очень ценно, что вы существом всем почувствовали, а не холодным рассудком». Но эта же мысль потом фигурирует как главная в сцене у Тихона со Ставрогиным, когда приводится цитата библейская, что «будь холоден или горяч, а если ты не холоден и не горяч, то я изблюю тебя из уст моих» — такое слово страшное. По-моему, она очень мудрая, потому что неисчислимые бедствия происходили в мире из-за равнодушия. Самый страшный человек — человек равнодушный, потому что большое количество таких людей дают возможность злым людям делать все что угодно — они равнодушны. Им почему-то все это кажется банальным — наивным и смешным. Почему же это не смешно ни для Достоевского, ни для Толстого, ни для Ганди, ни для древних мудрецов, ни для Библии — странно. А современный человек считает это старыми, банальными мыслями.
И идеолог их Ставрогин — в сетях системы. Петька иногда грозит Ставрогину, что вы никуда не вырветесь от нас, и Ставрогин понимает, что они и его могут убрать. И вся теория Шигалева — «шигалевщина» — очень близка к нечаевщине. Они все в этих сетях вращаются. Шигалев же выдвигает один из тезисов — всеобщее доносительство — каждый смотрит друг за другом. И конспирация, таинственность. В общем, никто ничего не знает. Чтобы если кто-то проваливается, то проваливается только в крайнем случае одна пятерка.
Когда они убивают Шатова, ведь это Ставрогин бросает идею: «Для крепости надо все эти кучки скрепить кровью». А уже Верховенский организует убийство Шатова, чтобы их всех одним преступлением связать.
Кириллов останавливает время, кончает жизнь самоубийством.
Это всегда выход. Веками идут споры, кто самоубийца — слабый или сильный человек. Даже между верующими, хотя самоубийство запрещено Богом. И Гамлет начинает свою роль с этого: «Если бы Всевышний не запретил как самый тяжкий грех самоубийство, то я не стал бы жить». Это почему-то забывают.
Возвращение на Таганку
Когда я прилетел туда, где всю жизнь прожил, — я говорю о тех, с кем работал в театре, — то наиболее порядочные из них прятали глаза. Значит, у них еще какой-то стыд был. Другие, действительно умные и самые близкие, остались моими друзьями, но странно, что шесть лет скитаний поставили какую-то невидимую стену. Это надо еще проанализировать. Потому что это очень хорошие люди. Но вот что-то такое произошло, банально это звучит, что в одну реку нельзя вступать дважды. Короче говоря, девять месяцев, когда рождается ребенок, это были девять месяцев не радости, что родился ребенок, а наоборот, глубокого разочарования, что родился кто-то после Чернобыля, какой-то урод.
Возвращение, 1988
Надпись Альфреда Шнитке на стене моего кабинета
Какое-то отчуждение было на лицах. Они находились в эйфории своих совковых надежд на изменения, которых я не видел.
Я думаю, мне нужно было позже вернуться, тогда бы не было никаких скандалов.
Вот такой психологический эпизод с Минкиным, журналистом. Он пришел на худсовет и говорит:
— Мне разрешил Юрий Петрович — на худсовет.
А Губенко сказал:
— Юрий Петрович здесь не хозяин. Я здесь хозяин, — и выставил за дверь.
Это меня покоробило. Была пауза, наверно, минуту. Я, как бывший актер, знаю, как трудно держать паузу минуту.
А тут просто я в эту минуту соображал — улететь мне? Совсем и безвозвратно. Очень ругаю себя, что я это не сделал. Но мне было неудобно — сидели члены худсовета старого, больной Альфред — много сидело людей, к которым я расположен, там, по-моему, и Эдисон был, и Можаев был, и Афанасьев сидел, и артистов было немного. До всех происшествий, до моего изгнания, был очень суровый разговор у меня с театром, где я сказал: «Давайте лучше разойдемся, потому что так работать, как вы работаете, нельзя. Нельзя. Я понимаю, нам мешают, и вы можете иметь ко мне любые претензии, но вы забегаете в театр, вы не работаете в театре. У вас много дел, вы стали знаменитыми, у вас кино, у вас телевидение, вы и пишете, и снимаетесь, и концерты свои устраиваете — все прекрасно. Но пока вы так же не будете относиться к театру, как раньше — что это основное ваше место работы — ничего не получится».
Вот и получилось, что шведские артисты сыграли «Пир» лучше. Мы возили шведский спектакль в Америку, в Норвегию и даже в Финляндию. И он шел долго. И с большим успехом.
Оттуда казалось, что я так хорошо знаю все структуры театра, каждую доску, каждый фонарь, что думаю, с энергией с настоящей, если я займусь, я в полгода вправлю театр. Я ошибся. Оказалось, что строить трудно, а разваливать очень легко. Поэтому, когда сейчас так оптимистично некоторые настроены в адрес России, что «разрушали 70 лет, а восстановим быстро» — вот уже восемь лет и пока что просвета никакого. Нужна другая манера жить. Другая концентрация на работе. Другая структурная организация и театра и любого производства. Советчина все разъедает. Это ведь сводится к очень простой вещи: на репетиции надо репетировать, а не разговаривать, а у нас на работе все обсуждают и разговаривают, а не работают. Поэтому для западных людей это просто дикость… Но что же они без меня два года разговаривали с новым директором Губенко и ничего не поставили. Эфрос, как ни относись к его поступкам, но он работал. Губенко говорит, что восстанавливал мои спектакли. Но это все слова. «Мастера» восстанавливал Вилькин, «Дом на набережной» восстанавливал Глаголин, а он, главным образом, бегал.
В чем было мое легкомыслие? Я думал, что в год-полтора поставлю театр на ноги после развала, который я застал. Но уровень «Матери» в Мадриде меня расстроил. Поэтому я сразу стал репетировать, вытаскивая из душа полупьяных. артистов… Теперь я перейду, как говорят, к «мыслям вслух».
Я не знал, до какой степени здесь все развалилось. Это я понял, когда стал много работать здесь. В течение первого года, как я взял театр после моего возвращения, я восстановил все старые спектакли, поставил «Пир во время чумы», попутно сделал «Дочь, отец и гитарист» — пантомиму с песнями Булата Окуджавы, восстановил три спектакля, подтягивал старый репертуар, объездил с театром за это время Грецию, Швейцарию, Англию, Израиль, Скандинавию — в общем, создал актерам то, к чему они стремились, и иногда в мрачные минуты моей жизни я думаю, что они считают, что пока и хватит.
Мрачные воспоминания
Я чувствую, что где-то я актеров потревожил. Вспоминаю «Тамань»: «Зачем я потревожил эту спокойную и устоявшуюся жизнь контрабандистов?» К сожалению, это факт. Им нужно ездить, а работать они не хотят. Они считают, что я достаточно их наставил, чтоб они могли ездить. Они не следят, в какой они форме и в какой форме спектакли. Когда на меня обижались дома, то Николай Робертович всегда говорил: «Зря вы Юру ругаете. Так же и Мейерхольд стоял в проходе, несчастный, и смотрел, потому что артисты моментально разваливают спектакль. Им плевать на целое. Им плевать на замысел. Им только себя показывать».
Давно в театре была дискуссия ночью, на заре туманной юности. Что я давлю их индивидуальность, что они дети, что я очень жестокий, что я не даю им раскрываться — шумели, шумели, поздний час уже, надоело слушать бред этот, глупость разную (они все кричали: «Мы дети, мы дети!») — трепет и остервенение. А потом встал Эрдман и подытожил: «Да, вы дети, но дети ведь как играют — они пятнадцать минут играют и сорок пять минут сутяжничают; сутяги вы, а не дети». На этом вся дискуссия и закончилась. На прощанье он им добавил: «Делов-то на копейку: просит вас человек — сыграйте, вы ж таланты все, ну и сыграйте, как он просит, а потом сыграете по-своему; я Юру знаю, если вы хорошо сыграете, он еще угостит вас за свой счет. Конечно, если вы ему лучше покажете, он предпочтет ваш показ. Но вы ж не показываете, а сутяжничаете».
* * *
Стоит какой-нибудь холуй с книжечкой перед Гришиным и говорит:
— У них всегда фига в кармане, как они сами выражаются, против нас, Виктор Васильевич.
А эта горилла сидит и листает вот такое досье сантиметров в пять! А у меня все одна мысль бродит: каждый имеет такое или им привозят — они звонят в какое-то место, где лежит это. Такое же досье мне давал помощник Демичева. Я пришел как-то туда — вызвали, конечно. И он говорит:
— А вам неугодно ли ознакомиться со своим делом?
— Конечно, угодно.
— Вот там есть комнатка, и чаек вам будут приносить.
И я стал знакомиться. Час проходит — я знакомлюсь, два.
Он входит, говорит:
— Знакомитесь? Может быть, чего-то там не дополнено. Вы тогда скажите — мы разыщем. Каких нет документов — мы туда еще вставим.
— Вы знаете, тут многих нет документов. Есть много и других отзывов, но их почему-то тут нет. Я вам дам список, вы дополните. А почему тут нет письма «Не могу молчать» Суркова, где он разоблачает меня перед всем Политбюро, что, мол, «вы вот смотрите на это, а на самом деле вот что» — расшифровка такая идет каждого спектакля, подтекст и так далее — наводит. — А помощник:
— А откуда ж вы знаете об этом документе? Он ведь только для членов Политбюро под грифом «Секретно».
Я говорю:
— Везде есть люди хорошие — дали мне. Но с хорошей целью, что, может, я прочту, одумаюсь.
Гришин:
— Все ваши коллеги тут сидели — ни один не жаловался. Только вы один чего-то скрипите.
Я говорю:
— А чего ж им жаловаться, вы же купили их званиями, подачками. А вы что, думаете, что у нас искусство очень высокое, вам так кажется?
Но это было бесполезно говорить — он тут же сказал:
— Я вам еще покажу! И вашему министру — тоже.
И рассказал мне Гришин:
— Был я тут во главе группы товарищей. Сперва наша самодеятельность была замечательная. Ну, все на меня смотрят. Я похлопал. Все хорошо было, душа радовалась. А потом вышел певец и спел про дурака — и все на меня глядят, как я реагирую. Потом ему показалось этого мало. И он спел про кота — все на меня глядят. Ну, я сижу и не реагирую. Но потом я поговорил с вашим министром, она поняла, что недолго она будет этим министром. Надеюсь, вы понимаете, куда я клоню?
— Где он раньше работал? — вопрос Гришина помощнику.
— В Театре Вахтангова, Виктор Васильевич.
— Отправьте его туда же. Ясно вам?
Я мрачно пробурчал: благодарю вас, в трудоустройстве не нуждаюсь.
Веселый был разговор. Три с половиной часа. Я думаю, ну хоть бы в сортир пошел — не идет. Представляете, что я мог передумать за эти три с половиной часа? Сперва я театр спасал, думаю, как же так все-таки, потом: может, послать его на три буквы и уйти. Думаю, пошлешь, сразу посадят тут же под белы ручки. Потом я понял, что это бесполезно, потому что сидит орангутанг, а клетки нет. Полное впечатление, что он глаз может вынуть совершенно запросто — и выбросит. Так же было. Ему принесли проект здания ТАСС, которое стоит на Никитской. Он архитектора не пустил, а принесла макет его охрана. Он состоял из двух частей — одна, а на ней еще ставится другая, они одну часть поставили, а вторую забыли поставить. Он посмотрел и говорит:
— Ну вот так пусть и строят.
— Виктор Васильевич, извините, вот тут еще одну штучку надо.
— Не надо!
Так и построили. Вынесли архитектору, говорят вот так будете строить. Тот как увидел — и с ним инфаркт.
А теперь говорят:
— Застой был, период застоя…
* * *
И вчера на передаче по телевидению спросил меня Капица:
— А что вашему театру теперь делать? Ведь вы всегда работали на подтекстах, на этой фиге в кармане, и зал ее очень остро воспринимал. А вот сейчас что вам делать? — но он это благородно говорил, Сергей Петрович, доброжелательно.
Я говорю: Сергей Петрович, мы никогда этим не занимались. И это я сказал и Гришину.
И потом Сергей Петрович меня спрашивает:
— Ну, какие вы ближайшие вещи хотите делать?
Я говорю:
— «Собачье сердце» вы все читали?
— Да.
— Откройте парадные для начала. Чтоб у людей два выхода было. И еще сделайте, чтоб можно было свободно приехать и уехать — конвенции же все подписаны. Я три раза говорил, как я встречался с Александром Исаевичем, и мне все время это вырезают, и в «Пятом колесе», и везде; когда меня спрашивают: «Где вы сейчас?» — я говорю: «В Израиле, в Иерусалиме живу», — никогда этого не пропускают. Так что и сейчас у вас вырежут половину из этой передачи. Поэтому чего вы считаете, что у вас ренессанс? Пока у вас только Россинант… Но если вы сейчас вырежете про Солженицына все опять — там директор был объединения — то я соберу пресс-конференцию, как иностранец, и скажу, что здесь цензура по-прежнему работает очень сурово.
Ведь тут в чем парадокс: они считают, что если приехали мы, несколько человек, то мы будем все время умиляться и говорить: «Спасибо, что пустили» — и обливаться слезами. Это ложная точка зрения. Они сделали величайшее негодяйство, выгнав людей. Это по истории так. Сократ — его выгнали — он принял яд. И поэтому прав Войнович, он очень хорошо сформулировал:
— А что значит, что меня восстановил Союз писателей? Это их дело, они восстановили, а мое дело: захочу ли я войти в этот Союз. Я-то в этот Союз не захочу войти. Они мне дали протокол, как они меня выгоняли, и с тех пор там ничего не изменилось.
Так же, как в Союзе композиторов этот Хренников, и ничего не изменилось там.
Роберт Редфорд у меня в кабинете, 1989
А потом, нельзя: если кто-то начнет просить: «Ради Бога, верните» — то получается, что Солженицын уже никогда не приедет, ему скажут:
«Вот этот попросил, а почему вы не можете попросить?» — тут же цепная реакция идет. «Вот хороший. Он просит прощения». А за что прощения просить? Мне же официально разрешили лечиться. Бумагой. Через посольство. И тут же взяли и все сделали наоборот. Единственное, что я написал им оттуда, что «театр считает свою работу бессмысленной до тех пор, пока вы не разрешите играть закрытые спектакли. Поэтому убедительно прошу вас вернуться к этому вопросу. И прошу вас известить меня о вашем решении». Это да, это я написал. И это было вывернуто, что я властям ставлю ультиматум. Я в вежливой форме просил их. А с материальной стороны за мои работы там я им отдал денег вперед в валюте, лет на двадцать вперед; свою зарплату я выплатил в золоте им.
По закону не имеют права меня выгонять с Родины, только если я преступник. Значит, я выгнан был как преступник. Раз меня пустили, значит, я не преступник. А если вы меня пустили, то сажайте в тюрьму по этому закону или отменяйте, говорите, что это ошибочный закон и это неправильно. А что это за позиция такая: «Мы за старых властей не отвечаем».
Конфликт с Губенко у меня возник еще во время репетиций «Бориса Годунова». Уже тогда я ему сказал: «Или ведите себя нормально, или уходите из театра». Так что это артисты неправду говорят, что они обратились к нему, потому что это был ведущий актер, и я всегда ему симпатизировал. Никогда я ему человечески не симпатизировал.
Потому что есть просто факты — я попросил его уйти из квартиры, где он жил полгода у меня, потому что мама взмолилась моя покойная и сказала: «Юрик, я больше не могу находиться с ним вместе».
Потом я его случайно встретил там, где я жил, на Третьей Фрунзенской, он шел откуда-то с тренировки. Я говорю: «Что ты делаешь?» — «Да ничего. Сценарии чего-то не идут, там закрывают». — «Ну, приходи, играй „Пугачева“, можешь играть „Доброго человека…“» Вот так он вернулся. Потом он может говорить что угодно: «Я вернулся после смерти Высоцкого. Спас театр…» — как это он мог вернуться без моего разрешения, простите? Есть же элементарные правила…
Ну, начать тут можно с Мадрида. Ведь вот ждали учителя. Господин Губенко плакал в трубку. Еще я подумал, какой я нехороший — я усомнился: не актерская ли это натура всхлипнула, так возбудившись, по профессиональным качествам, потому что такой вроде жлобоватый господин зарыдал вдруг и трубку повесил. Катя, посмотрев на меня, говорит: «Что там случилось?» Я говорю: «Вот так кончился разговор». Откуда-то он мне звонил — то ли из Америки, то ли еще откуда-то, что на меня произвело впечатление, зная, как выпускают в дальние страны; я подумал, что господин в полном порядке, всюду ездит, и он мне сообщил, что они едут в Мадрид и что они уговорили уже новое начальство перестроечное, дорогой Михаил Сергеевич все время фигурировал в разговоре: «С вашим спектаклем — мы уговорили и выбили ваш спектакль!» Я говорю: «Какой же?» — «Мать». — «Как! И „Мать“ надо выбивать?»
Ну, и потом я приехал по частному приглашению на десять дней в 1988 году.
Потом на полгода я уехал. Потом я болел сильно, отравленный приехал; потом мы приехали с Петей и с Катей ставить «Пир во время чумы». Когда мы стали все жить здесь, у меня появилась надежда, что нам можно жить здесь всем вместе. Как ни странно.
«Борис Годунов» А. С. Пушкина (восстановлен), 1988 — идет по сей день
Я искал причину: почему прекрасная пьеса, как говорится, не хуже шекспировой, не выходит. А по всей литературе: Мейерхольд пытался — не получилось; Дикий, был такой замечательный персонаж в истории театра, Алексей Денисович, мудрый человек, все писал, что: «если б я придумал, чтоб избежать исторических костюмов — все эти алебарды, бороды, кафтаны. Но вот не могу найти, как же это сделать так, чтоб это не мешало пьесе, не мешало спектаклю». И вот когда я увидел ансамбль Дмитрия Покровского, я так обрадовался, потому что, ну, предположим, Петр Леонидович, и он говорил: «Ну зачем, Юрий Петрович, вы ставите? Возьмите Алексея Толстого, там все понятно и интересней, а это же для чтения». На этом же было клеймо: «для чтения» — не получается на сцене. А я старался разгадать — почему. Мне пьеса нравится, почему же она не получается?
Мне казалось, она должна получиться, значит, неверно ее делают, поэтому она не звучит — прекрасные стихи, афоризмы великие. И я понял: у Мусоргского получилось с музыкой — почему же у драмы не получается. И я подумал, что если стихи выходят из стихии музыки и входят снова в стихию музыкальную, то они обязательно будут слушаться, если их научить хорошо читать стихи. То есть артисты же не любят учить знаки препинания помимо текста, они не любят канон, а канон — великое дело, есть канон — диреза, то есть пауза. Значит, в середине строчки должна быть диреза, в конце строчки опять — две цезуры, а иначе стих не звучит.
«Владимир Высоцкий» (восстановлен), 1988 — идет по сей день
Губенко восстановил «Высоцкого» плохо — я выкинул всех пионеров и все бюсты эти. Мне было неудобно начинать с этого, и я никогда не думал, что вызовет такой гнев с его стороны мое право восстановить спектакль. Причем они там разрушили — «Сказки», переделали — с тенями сделали. Вроде в моих традициях, что ли, но то же, да не то. Там был довольно сложный рисунок внутренний в «Сказках», было много движений комедийных, через пластику, а они сделали примитивно: взяли как в «Десяти днях…» тени, пустили весь кусок пародийный, где Филатов читает свои пародии. И ушла из спектакля глубина и присутствие Володи, которое было.
Сейчас нельзя так же играть этот спектакль, как он был замыслен раньше, когда еще была рана его смерти, это была дань уважения к своему товарищу. Поэтому он так редко шел. А когда он стал идти как любой поэтический спектакль, и смерть его отдалилась от нас, что естественно, то такой пиетет к нему бесконечных аплодисментов, ношение цветов к гитаре — это стало выглядеть некоторой спекуляцией его именем. И я сказал, что это делать не надо. Это могли воспринять, что я ревную к Володе — актеры какие-то больные люди, и вообще мы все больное общество. Но не хотим это понимать.
«Пир во время чумы» А. С. Пушкина, 1989
(Из первой беседы с артистами 25 февраля 1989 г.)
Это, в общем, такой Апокалипсис. Три блистательные маленькие трагедии Пушкина объединены пиром во время чумы. Город весь зачумленный, и это последний пир людей, которые решили встретить смерть вот так — с вином, с воспоминаниями… И эти вещи идут как наплыв, как воспоминания этих людей перед смертью. «Предсмертные зарницы», как Шекспир говорит. На большой сцене это будет — как в «Борисе», площадь большая, может, будет задействована и улица, и окно наше и иногда будут проходить эти бесконечные вереницы: умирающих несут.
Вещь невеселая, конечно. Но я думаю, красота искусства не делает это каким-то патологическим кладбищем страшным. Чума бывала много раз в разных местах. У Пушкина, вы знаете, назывались новеллы: «Страсть», «Зависть» — это «Моцарт и Сальери», «Скупость», а не «Скупой рыцарь». И «Пир» явно тоже не закончен, как и не закончен у него последний набросок «Мефистофель — Фауст», которым заканчивается эта вся штука — как бы сцена уже в аду. И спектакль кончается тем, что все участники сидят с посмертными масками, уже умершие за столом.
Есть председатель этого собрания, который как бы тамада, который ведет стол. Сидят семь человек, в центре одно пустое кресло, на котором все умирают. И Моцарт умирает, и Дон Жуан умирает, и Дон Карлос во время «Дон Гуана» умирает. То есть пустое кресло, в котором каждый будет умирать. И еще несколько кресел в зале тоже как бы мертвые, зачехленные, заброшенные, вроде кладбища — такая композиция.
«Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского (восстановлен в 1989 году)
Из записи репетиции.
27 ноября 1989 года.
(Роли исполняют: РАСКОЛЬНИКОВ — А. Трофимов, СОНЯ — Л. Селютина, МЕЩАНИН — Семин. ПОРФИРИЙ — К. Желдин).
Ю.П. Я уже давно здесь. Я поджидаю сотрудников, как 25 лет это делаю.
Электрики! Так же лампа моя не горит, как всегда. Кто сегодня там, в будке?.. (Лампа зажигается.) Спасибо. Это уже прогресс, и большой. (Приносят боржом.) Спасибо. Боржом. Я уже себя чувствую Сталиным — боржом приносят.
Здравствуйте. Я так мало отсутствовал, что, конечно, вы не сдвинулись никуда?
— Мы сдвинулись…
Ю.П. В сторону дальнейшего разложения?
Ну что же. Ладно. Значит, по ходу дела будут разговоры, а начнем сначала. То есть как 25 лет назад.
Все выходят — «что-то случилось». Что — непонятно. Также непонятно, как последний Художественный Совет без меня. Я его проштудировал — мне дали — и представил себе, что в ЦГАЛИ приходит молодой Николай Робертович посмотреть: говорят, был какой-то театр — лет через тридцать или пятьдесят, когда нас уже не будет, как я сейчас собираю все материалы, чтобы ставить Николая Робертыча, то, что я вам начал читать и не дочитал, это я быстро дочитаю — и вот он возьмет этот худсовет и прочтет его. Он скажет: «Ну и ну! Я всегда знал, что театр — это безобразие, но не до такой же степени!» Потому что понять, о чем люди говорят, невозможно. Один — об одном, другой — о другом, мысль скачет. То есть «легкость в мыслях необычайная». И все врут. Извините. Все врут, без исключения.
Поэтому всем придется призадуматься очень сильно и, как говорится по Федору Михайловичу, которого мы восстанавливаем, как говорит следователь хороший: «И дело в том, Родион Романыч, что надо начать с себя и только с себя». На что Родион Романыч заявляет: «Вы не подумайте, что я в чем-нибудь признался, я ни в чем не признавался». Вот насчет «ни в чем не признался» — это Художественный Совет. Чтоб Художественный Совет знал, что Художественный Совет при мне, а не я при Художественном Совете.
Сегодня ваш товарищ принимает Министерство с утра. Поэтому он не мог сидеть здесь. Но я обойдусь и без поддержки министра. Я человек самостоятельный.
Ну ладно. Я вас позабавил для хорошего настроения.
В. ШАПОВАЛОВ. А Вы там в компартию вступаете?
Ю.П. Нет. Я сказал, что если будет организована партия по борьбе со всемирной плохой бюрократией, то войду сразу. Корреспонденты спрашивают — надо что-то отвечать. Я, например, очень удачно ответил в Берлине год назад: «Что вы хотели бы увидеть в нашем городе, проснувшись?» Я говорю: «Вот я просыпаюсь и смотрю — стену разбирают с двух сторон на сувениры. И деньги зарабатывают, и стены нет». У японцев был сейчас. Они говорят: «А вот, господин Любимов, если б Вы правили, как бы Вы поступили с четырьмя островами?» Я говорю: «Я бы отдал вам их, но сперва один, потом второй, потом третий, потом четвертый — и каждый раз конкретная сделка: допустим, за этот пять заводов шприцов одноразовых, столько-то того-то, на какую сумму, что. С этим островом разделались — ко второму приступили, к третьему…» Потому что нам четыре острова не нужны совершенно, а можем получить мы огромные деньги и конкретно что-то исправить — я со специалистами говорил.
Так Наташа, готовы? Внимание. Прошу начинать.
РАСКОЛЬНИКОВ. «Несу, дескать, кирпичик на всеобщее счастье и от того ощущаю спокойствие сердца». Шиллеры напридумывали! Не-ет! Мне жизнь однажды дается и никогда ее больше не будет: да не хочу я дожидаться вашего «всеобщего счастья», потому что не будет его никогда… не было и не будет… вообще не будет!
Ю.П. Это совсем современно звучит. «Не хочу я дожидаться вашего „всеобщего счастья!“ Ясно вам или нет?! Дерьмо собачье — вот вы кто все, а я — человек. Мне жизнь однажды дается. И прав пророк, пр-рав: ставит батарею и лупит в правого и виноватого!» Тогда я понимаю, кто пришел.
Вон мне вчера рассказывали, какая вакханалия была в Союзе писателей РСФСР. Это же просто «Бесы» — ставить не надо.
РАСКОЛЬНИКОВ… He будет этого никогда… не было и не будет. Ни здесь, ни там! В Новом Иерусалиме.
Ю.П. Возьмите Достоевского да почитайте все-таки хотя бы для юмора. Что мне вам его объяснять? Он сам гений.
«Прав Наполеон, прав пророк», — и пошел к ведру. Фонарь поставь больше, чтобы блик упал на топор. И не попади, пожалуйста, водой на прибор. И выжимай (тряпку). Тогда есть действие. «Пр-рав Наполеон…» Жми. Как будто кровь течет из тряпки. «Прав пророк!»
(Актерам): А вы реагируйте соответственно. Это же бесноватый, он зарубит же каждого из вас. Вы же помните, как вы от ведра шарахались на каждый его взмах. Саша, раза три надо махнуть (ведром), чтоб у них было три реакции: на каждый взмах вы, пожалуйста, телами сделайте мне — раз, два, три, — что не дай Бог оторвется, вам же головы размозжит! Надо страховать себя от ведра. Лучше по рукам ведро ударит, чем по физиономии.
СОНЯ (входит): Кто тут? Это вы? Господи!
Ю.П. (Селютиной): Люба, больше надо. Двойной смысл тогда есть — это интересно: «Кто тут?» — зрителям как бы. А потом: «Ах, это вы?» Нам сейчас ничего не понятно. Вроде вы к залу обращаетесь, а потом вдруг странная перекидка идет. И это острей делайте. И не дай Бог, вы на него посмотрите — вы в другом пространстве. А если вы на него смотрите, начинается прямое общение — тогда публика ничего не поймет, ведь это же пространство условное, здесь все символы: дверь — порог, новое — она переходит дверь, потом сны и так далее — чего ж мне вам пересказывать спектакль. А «Это вы…» — это Раскольников, но только нельзя на него смотреть ни в коем случае ни разу. Иначе получается: «Ах, это вы?» — тогда ему надо отвечать, смотреть на вас и вам говорить: «А, это вы, да? Ну что, имели клиента?» — тогда нужно другое играть.
Потому что тут экспозиции же нет. А рассчитывать на то, что у нас настолько грамотные, что помнят коллизии, то есть сюжет… Раскольникова чего-то там, в школе проходили, да и то, наверное, если опрос зала сделать, то половина не читали.
Милая компания (магнитофонная запись)
9 ЯНВАРЯ 1992 года
В ПЕРЕРЫВЕ МЕЖДУ РЕПЕТИЦИЯМИ «ЭЛЕКТРЫ»
(Ю.П. пригласил, и пришли: В. ЗОЛОТУХИН, Б. ГЛАГОЛИН, Г. ВЛАСОВА, З. СЛАВИНА, Т. СИДОРЕНКО, И. БОРТНИК, А. САБИНИН, А. ВАСИЛЬЕВ, А. ГРАББЕ, Д. ЩЕРБАКОВ, Н. КОВАЛЕВА, Н. САЙКО, С. ФАРАДА, Ф. АНТИПОВ, М. ПОЛИЦЕЙМАКО, Ю. БЕЛЯЕВ, Ю. СМИРНОВ, А. ДЕМИДОВА, Л. СЕЛЮТИНА, О. КАЗАНЧЕЕВ, Д. БОРОВСКИЙ, Н. ШКАТОВА, Н. ЛЮБИМОВ, А. ЦУРКАН и др.)
Ю.П. Я не хочу цитировать «Ревизора»: «Я пригласил вас, господа, чтоб сообщить вам пренеприятное известие…» — к нам едет тот-то. К нам никто не едет.
В театре произошло недоразумение. Люди заварили тут интригу некрасивую, глупую и, в общем, подлую. Потому что чужие документы брать неприлично.
Город Москва и мэр города решили новую систему избрать: заключать контракт с руководителем театра. И этот контракт я составил при помощи западных адвокатов хороших, ввиду того, что мы еще только встаем на путь демократии и не готовы к ней. А готовы только устроить не рынок даже — рынок мы еще не умеем делать, как вы видите кругом — пока ряд людей решили устроить базар в театре. Театр — не то учреждение, где можно устраивать базар. Поэтому я занят, как всегда в трудные минуты этого театра, работой — я приезжаю и репетирую, и делаю все возможное, чтобы что-то тут сохранялось в какой-то мере.
В чем заключалась интрига — она глупая, пошлая, поэтому на нее не стоит тратить ни энергии, ни времени, но, к сожалению, я вынужден отрывать время, но все равно сейчас бы был перерыв. И вы знаете меня много лет, десятилетия даже, что я репетировал даже в дни, когда у меня были и личные мои трагедии, и в дни рождения свои, и когда умирали мои близкие — я все равно работал.
Ряд людей, воспользовавшись, что якобы Попов уходит, решили, что самый удобный момент взять почему-то чужой документ, то есть мой. А документ был в сейфе, напечатан, для того, чтоб он был отвезен к Попову, чтобы Попов его подписал. Никакой документ я ни от кого не скрывал, это официальный документ. Значит, один некрасивый поступок — взять этот документ и начать его обсуждать — чужой контракт, что просто неприлично и в общем-то подсудно. Если б только я занимался склоками, я просто мог начать судебное дело, взбудоражив неустойчивых людей, которые, назовем мягко, — устроили вот эту скверную истерию, кликушество — обычное поведение — вывесили какое-то объявление странное, не предупредив меня. Причем эти люди ждали, не появлялись целую неделю, когда я тут работал, хотя я был в театре с полдесятого примерно до двенадцати ночи — они не нашли время прийти ко мне, ни один из них.
В этом контракте были пункты, которые я не собирался ни от кого скрывать, потому что это предложено городом, а не мной. Значит, пункты там такие, которые возмутили коллектив, как выражаются советские люди. Я человек не советский. Я эти слова не понимаю: ни «в принципе», ни «коллектив» — какой тут коллектив. Никакого коллектива никогда не бывает, и его нету. Это выдуманные социалистические бредни, которые привели к развалу всей страны. Может быть содружество людей, может быть артель, бывает солидарность цеховая. Здесь ее давно нет. Значит пункт такой их возмутил, что город заключает со мной контракт. Все мои недоразумения с городом выясняет международный суд в Цюрихе. Почему это мною вписано — потому что время столь неспокойное, чем и воспользовались эти негодные люди — они видно так рассчитали: я уеду, Попов уходит в отставку, поэтому тут и удобно все это проделать. И это новая Доронина и сформулировала все. И еще вторая подлость, что составлен документ и послан Попову, что вот такие-то, такие-то придут к Попову с Николаем Николаевичем и все ему объяснят, что никто тут мне не доверяет. И Попов, конечно, задержал подписание контракта. На что они и рассчитывали. Они рассчитывали, что я не приеду, а там они задержат, и вот все это безобразие, которое тут происходит, и будет продолжаться. Ну, я им и приготовил сюрприз на Рождество Христово — приехал, чем их, конечно, и огорчил чрезвычайно. Приехал я и занялся опять работой. Еще их возмутил пункт — приватизация. Да, я должен был внести этот пункт, потому что приватизация все равно будет. И нужно было внести в мой контракт с городом, который опять-таки вас никого не касается, что в случае, если будет приватизация театра, то я имею приоритетное право, а я его имею, потому что я создавал этот театр и я выносил все тяжести, когда я старый театр перестраивал на этот театр. И пока я жив, никто его не перестроит в третий театр. И пусть это господа все и дамы знают. И что бы вы ни голосовали, и что бы вы ни кричали, все равно будет так, как скажу я. Это я могу встать и уйти, пожелав вам здоровья, счастья и успехов. Когда я отчаюсь до конца и скажу — да, я ничего не могу сделать, я бессилен. Пусть придут новые люди, и пусть они делают. Вот, в общем-то, и все. Теперь я готов выслушать вопросы. Потому что все время ко мне приходят и говорят, что что-то происходит в театре непонятное. Вот теперь я и хочу от вас услышать — что вам не понятно. Когда я репетировал, на каждой репетиции я всем вот это примерно и говорил. Я просто не ожидал, что люди дойдут до того, что возьмут чужой документ и начнут с ним манипуляции. Мало того, в какое положение они поставили меня перед мэром города, что я лжец, я к нему пришел и ничего не сказал, что, оказывается-то, со мной этот театр не хочет работать. А я ему не сказал. Вот и ситуация произошла. Ведь я даже не знал ничего — мне звонит помощник Попова и говорит: «Юрий Петрович, что у вас происходит в театре, зачем вы пригласили прессу в три часа?» Я как идиот говорю: «Какую прессу?» — «Да у вас же собрание в три часа!» Кто дал им право вывешивать это объявление? Что это такое творится вообще? Что, вы восприняли все, что творится вокруг, как призыв к анархии и бунту? Или вы присоединяетесь к тем мерзавцам, которые требуют суда над Поповым за то, что он устроил Рождество на Красной площади, что он, видите ли, потревожил останки этих бандитов, фашистов, которые лежат у несчастной Кремлевской стены, реликвии России, — мерзавцы, которые разрушили государство? Вы решили тут проделать это в этих стенах? Вы прежде меня убейте, а потом творите тут свое безобразие. Вон церковь напротив — кто ее начал восстанавливать? — Мы. Потому что я не мог видеть, входя в театр, что пики в небо торчат — мне казалось это кощунством и безобразием. Потом я ходил смотрел, как фрески святых изрубили зубилом варвары-коммунисты. Когда я от вас уехал, я сказал публично, при большом скоплении народа: пока эти фашисты правят, моей ноги здесь не будет. Рухнула эта проклятая партия — я приехал, чтоб разбираться тут в делах.
В. ЗОЛОТУХИН. Вопрос. Ну, собрание состоится. Ясно. Они соберутся.
Ю.П. Пускай собираются кто хочет — там могут уборщицы собраться, кафе может собраться — тоже обсуждать — много они наворовали, мало они наворовали, кого они отравили, кого собираются травить — это дело хозяйское.
В. ЗОЛОТУХИН. Но вот нам, которые стоят по другую сторону баррикад, следует присутствовать?
Ю.П. Да никаких тут баррикад нет, это опять мы как совки.
В. ЗОЛОТУХИН. Ну Юрий Петрович, если они пригласили, и пресса придет, и телевидение будет снимать, и кто-то будет выступать, и оставить это без ответа — ну сейчас сяду в машину и уеду.
Б. ГЛАГОЛИН. Как это — снимать телевидение — никто не пустит в театр телевидение.
Ю.П. В театре стоит охрана, недавно жулика поймали. Столько воруют, что пришлось поставить охрану. И поймали жулика. Но по душевным качествам доброго жулика отпустили.
В. ЗОЛОТУХИН. Ну, другая камера снимет. Они все равно заварят эту историю.
Ю.П. Журналистам нужна сенсация. Ну вот вы все взрослые люди, сидим мы тут — ну что, вы хотите, чтобы мы все пошли в эту склоку что ли? А зачем? Ну пусть они и орут там на здоровье, сколько хотят. Все же увидят, кто тут, и кто там — все ясно.
В. ЗОЛОТУХИН. Мне тоже хочется увидеть, кто там.
Ю.П. А зачем тебя это интересует? Ты же все знаешь, кто там. Все вы знаете, кто там. Хотите идти? Что вы думаете, я буду вас сейчас агитировать: идите, выступайте, то есть делайте то, что они, — ни в коем случае я не буду. Зачем же мне делать то, что они делают.
Н. КОВАЛЕВА. Но там же ведь будут приниматься какие-то решения большинством голосов.
Ю.П. Да Господь с вами, какое большинство?! Большинство этого кафе?
Н. ШКАТОВА. Кто придет, тот и будет голосовать.
Ю.П. А насчет чего они голосовать-то будут?
В. ЗОЛОТУХИН. Насчет устава театра.
А. ВАСИЛЬЕВ. Насчет этого общества. Там слово «коллектив» заменено другим словом — я его не помню — типа «общества», «товарищества», «сотоварищества» — Таганка со своим уставом.
Ю.П. Ну вот они со своим уставом пусть и уйдут отсюда. Можем им знамя сшить — там Марик еще работает? С каким знаменем, с красным они уйдут? Марку не они выдумывали — там все люди какие-то странные, пришлые. Кому любопытно, пусть идут туда. Но зачем идти к сумасшедшим? Это кликуши, они будут кричать — нас выгоняют. Никто никого не выгоняет никуда. Кто выгоняет? Кроме того, что вы получили посылки на пятьдесят тысяч марок, что является трехгодичной дотацией театра. Ясно вам? Теперь вы это все съели уж давно, можно еще собрать прислать. Значит, кого я ограбил, кого я выбросил за 27 лет на улицу? Когда я театр этот реорганизовывал старый, то все наше стремление сводилось к тому, чтобы устроить людей на работу. Да, наступило время, когда театр должен быть реорганизован, потому что он в рыночных условиях так работать не может.
Поэтому чего я туда пойду? Без моего разрешения все это вывесили, а я туда явлюсь что — отстаивать свои права? Какие? Чего мне отстаивать? Дорогие мои, одумайтесь! В 74 года я буду дискутировать с Габец или с Прозоровским, который, по несчастью, кончил институт как артист. Он был неплохим рабочим сцены и была большая ошибка, что он стал заниматься другой профессией. Он был гораздо лучшим рабочим, чем артистом. Когда я приехал в Мадрид, я так и сказал ему: ты отойди и посмотри, как Желдин играет. И тут я не жестоко поступил, а просто хотел молодому человеку показать, что вот пожилой артист вот хорошо играет этот эпизод. И вот в ответ на это произошло восстание? Ну, это я привожу как образ, потому что я позволяю себе, когда я чувствую, что мне не нравится, говорить всем, не взирая ни на кого. Меня звания эти ваши не интересуют, они мне не нужны, я их не брал. Это вы хлопотали о них сами. И когда вы хлопочете, вы делаете это индивидуально, а когда вы хотите делать пакости, вы собираетесь в коллектив. Мне это совершенно непонятно. Я не так воспитан отцом и дедом своим. И перевоспитываться я не желаю в 74 года. Кому любопытно, идите смотрите на это безобразие, а я и не пойду туда и не подумаю. Зачем?
Б. ГЛАГОЛИН. Они попросят вас прийти.
Ю.П. Попросят, я пойду и скажу то, что вам говорил. А как только они начнут истерические вещи всякие, я вызову врачей, а если они будут хулиганить, я вызову полицию. Вызову скорую помощь, кликушам сделают укол и увезут в больницу. Вот и все.
НИКИТА ЛЮБИМОВ. Ты сделаешь из них мучеников совести.
Ю.П. Нет, они войдут в партию Жуликовского и будут призывать Попова к суду. Вот и все.
Еще кто хочет что-то спросить?
А. САБИНИН. У меня вопрос. Скажите пожалуйста, вы сказали, что когда не будет партии в этой стране, тогда вы вернетесь.
Ю.П. Я вернулся, как только эта партия была официально запрещена, но опять позволяют им вести агитацию. Хотя оппозиция должна быть в стране, тогда хоть начнется жизнь какая-то.
А. САБИНИН. Поскольку я сейчас профессиональный педагог, я сейчас занимаюсь воспитанием у молодых артистов монтажного мышления — очень современная вещь для нашего государства. Так вот. Как вы представляете себе: когда человек имеет это в кармане, рвет это и кидает в корзину либо кладет в сейф, либо теряет, выбрасывает и так далее. Он перестает быть тем, кем он был раньше. Вы понимаете меня?
Ю.П. Ну видите ли, если он сжег и бросил, то он должен благородно уйти из этого учреждения. И все.
А. САБИНИН. Но это не учреждение. Это некая принадлежность к некоей партии, это некий фантом. Он был потом организован в структуры государственные, он вросся. но он вросся и сюда.
Ю.П. Нет, этот театр именно в государство не вросся, он всегда был в оппозиции к государству.
А. САБИНИН. Я не про театр, я про коммунистов сейчас говорю.
Ю.П. Коммунисты вросли. Так они и правят сейчас.
A. САБИНИН. Все. Вы ответили на мой вопрос.
Ю.П. Ну неужели вы думаете, Кравчук перестал быть коммунистом? Он был все время на идеологии, сейчас его народ несчастный выбрал в президенты. Но он по-прежнему коммунист, поэтому он флот хотел взять, создает сейчас армию в 500 тысяч и хочет охранять свои границы. А вы думаете тут таких нет? Ну, Бутаев, он был при Гришине, сейчас он управляет нами в городе.
А. САБИНИН. А в театре, руководимом вами, есть такие?
Ю.П. Полно. В театре даже много жуликов, которые воруют вещи. Чего вы удивляетесь? Во всем мире воруют. Но здесь чересчур много воруют.
B. ЗОЛОТУХИН. Но ведь и Ельцин был партократ.
А. ВАСИЛЬЕВ. А Гамсахурдия был диссидент. Так что все сложно. Это страна такая. Это вам не Швейцария, не Цюрих.
А. САБИНИН. Вот когда смотришь хронику, на эти города выгоревшие, развалившиеся, а сделано это руками диссидента бывшего, который у себя в бункере пытал людей электротоком.
Ю.П. Саша, ну и что вы мне этим хотите сказать?
А. САБИНИН. Как все монтажно в этом мире. Меня кроме профессии за тот остаток жизни, который мне суждено прожить, вообще ничего не интересует. Очень интересный феномен, который интересен во всем мире.
И. БОРТНИК. Саша предлагает пытать людей электротоком.
А. САБИНИН. Нет, сынок, я не предлагаю. Мир тебе, сынок.
Ю.П. Ну хорошо, что еще умеем улыбаться, значит еще можно надеяться.
А. ВАСИЛЬЕВ. Я предлагаю понять, что там, в этом зале, будут сидеть три часа человека четыре-пять гамсахурдиев, остальные все очень напуганные, зачумленные…
Ю.П. И ты хочешь встать и просвещать?
А. ВАСИЛЬЕВ. Нет-нет-нет. Я хочу, чтоб из этой комнаты та злоба, которая пойдет сегодня из зала, чтоб из этой комнаты такая же злоба не шла. Мы должны быть мудрее, спокойнее.
Ю.П. Ну скажите, дорогие, зачем я вас сюда позвал? Чтоб призывать к злобе, что ли? Давайте темперамент беречь для сцены.
А. ВАСИЛЬЕВ. Как сейчас из магазинов выгоняют: пришел армянин, скупил магазин и всех выгнал. Я говорю в принципе.
Ю.П. Не надо говорить в принципе ничего.
Б. ГЛАГОЛИН. В 92-м году не будет приватизации театра.
Ю.П. Ну, объявлено президентом, что в 92-м году никакой приватизации театров не будет. Ну так о чем же вы говорите? Значит, сами вы знаете и тут же начинаете говорить: придет армянин.
А. ГРАББЕ. А в 93-м?
А. ВАСИЛЬЕВ. Подожди. Никто не знает, что через два месяца будет.
Н. КОВАЛЕВА. Такой вот еще вопрос, который сильно беспокоит всех: по поводу привлечения иностранных актеров, что, мол, тут не останется русскоязычного населения.
Ю.П. Например, появился иностранный артист, который будет заниматься хореографией в «Электре».
В. ЗОЛОТУХИН. А почему этого нельзя делать? Это же делалось всю жизнь.
Н. КОВАЛЕВА. Но речь идет о том, что здесь никого вообще не останется.
Ю.П. А кто будет играть репертуар, который идет?
Никита ЛЮБИМОВ. Иностранные. (Кто-то смеется.)
Б. ГЛАГОЛИН. А как им платить, между прочим?
А. ВАСИЛЬЕВ. Они мечтают здесь все играть.
Ю.П. Этот несчастный иностранный артист жил у меня на квартире…
Б. ГЛАГОЛИН. И получил полностью за свой билет…
Н. КОВАЛЕВА. Ну понимаете, Юрий Петрович, там ведь люди, которые сегодня соберутся, многие просто напуганы, запутаны…
Ю.П. Ай бедные…
Н. КОВАЛЕВА. Ну придите к ним и скажите то, что говорите здесь — половина успокоится.
Ю.П. А чего мне туда идти, меня туда не звали. Милая, ну зачем мне приходить, когда без моего ведома там чего-то вывешивают…
Н. КОВАЛЕВА. Но они очень хотят вас видеть.
Ю.П. Если б они хотели бы, они не вывешивали бы. Не приглашали бы прессу. Там все прекрасно организовано — со знанием дела, посланы бумаги точные во все учреждения. Там работают большие специалисты. Так что это все прикидывание. Сейчас все все понимают и качают, как выражается советская лексика, права и кричат «мы не позволим», «мы не разрешим». Поэтому «придите к ним и скажите» — это опять абстракция. Кому я скажу — Габец?
Н. КОВАЛЕВА. Нет, другим.
Ю.П. А кто другие? Вот они пусть ко мне и придут. Они кабинет мой знают, в котором никогда не закрывается дверь, и всегда может прийти человек, и я ему спокойно скажу. Мы с трудом и сейчас спокойно разговариваем, и то все время выплески, а что там будет? Там же будет такой базар, такой крик, и я буду на старости лет это слушать — зачем? Я спокойно объясняю людям, которые со мной работают. Кто со мной будет работать, я тому и объясняю. А с рядом людей я не буду работать. Неужели я буду работать с теми, кто занимается такими вещами? Конечно нет. Я бы себя не уважал. Я могу из милосердия поговорить с любым и помочь, и дать деньги…
А. САБИНИН. Театр уже не первый раз переживает такие вот потрясения. Но вы же работаете с людьми, которые при, царство небесное, А. В. Эфросе были за то, чтоб быстрей снимать ваши спектакли, чтобы «делать быстрее новые», создавать репертуар, не хотели играть, но вы же с ними работаете, потому что вероятно вы считаете, что на профессиональном уровне у вас может быть с ними контакт.
Ю.П. Саша, не в этом дело. Во-первых, я стараюсь все-таки Библию читать и стараюсь в себе не культивировать такие чувства, как месть, злопамятство, сведение счетов. Меня этим не удивишь в моем возрасте, меня трудно этим удивить. Поэтому я и не занимался выяснением никогда: кто как себя вел при покойном Эфросе.
А. САБИНИН. И очень правильно делаете.
Ю.П. Ну вот, спасибо. И сейчас я этим не занимаюсь, и сейчас я никому мстить не собираюсь. Но просто я не хочу встречаться с людьми, которые мне крайне неприятны — зачем мне с ними работать, когда я могу с ними не работать. А советский коллектив считает — нет, я обязан работать, я обязан их обеспечивать, потому что мы-ы-ы, — и начинается вся эта бодяга. А я в этой бодяге не хочу участвовать — могу я себе позволить эту роскошь? Извини, могу. Я не хочу протягивать руку свою некоторым людям. И я и не протягивал ее. Даже при том режиме страшном я убирал руку, и мог тут же получить и наручники, убрав руку.
С. ФАРАДА. Кто не занят в репетиции, можно идти?
Ю.П. Да, спасибо, благодарю вас.
* * *
СОБРАНИЕ НА СТАРОЙ СЦЕНЕ ТЕАТРА (На сцене декорации к спектаклю «ЖИВОЙ».)
Д. БОРОВСКИЙ. Надо сделать так, чтобы был Любимов.
(ГОЛОСА: Всем пойти к нему в кабинет… Мы ходили к нему.) И вам кажется, что можно что-то принимать в его отсутствие? (ГОЛОСА: Да.) Одну минуточку. Давайте разберемся. То, что вы хотите жить, и то, что вы хотите быть защищены, я это прекрасно понимаю. Но вы немного забываете, что это театр — артисты и режиссер. Каждого артиста, и меня в том числе, приглашал в театр Любимов. Вы согласны с этим? (ГОЛОСА: Да. Безусловно.) Приглашая артиста и идя в театр, артист рассчитывает на свою творческую жизнь, судьбу и так далее. А главное — играть побольше, интереснее и т. д. Я сейчас не говорю о социальном. В любом театре может наступить момент, когда режиссер, беря три или четыре или десять лет назад актера молодого, перспективного, через десять лет может ему сказать, что так складывается, или ты не вырос, или ты мне уже не нравишься — актер не может [его] насильно заставлять. Так? Или я чего-то не понимаю. Я сейчас говорю о модели любого театра. (ГОЛОСА: Не надо нам говорить громкие слова. Он не захочет разговаривать с труппой.)
ГАБЕЦ. Вы сейчас этих людей, вне зависимости от их профессии, лишаете совсем другого права — не тех законов театра, по которым они живут и будут продолжать жить — вы их лишаете общественного права создать объединение, которое будет заботиться [о них] и решать их проблемы, вне зависимости от творческих интересов Юрия Петровича.
ФИЛАТОВ (про БОРОВСКОГО). Вот он пошел к Юрию Петровичу… И самое поразительное для меня, что никто из людей, защищающих Юрия Петровича, не присутствует. Ну кто-нибудь из ребят, которые такие счастливчики и намерены подписать этот договор — сколько он будет длиться, что он из себя представляет. Я боюсь, что ничего, кроме стыда, он им не принесет, потому что это 15–20 каинов просто еще раз — у них уже печать во лбу у многих. А здесь, в этой ситуации, в безумной стране, запуганной, голодной, еще и это вы берете на себя… (ГОЛОСА: Это безбожно.) Да уж не будем тут говорить о Боге, но просто хоть нормально, чтоб жена с тобой ложилась периодически, хоть об этом подумай, если она нормальный человек, она уже с тобой не ляжет после этого. Я думаю так, потому что никто не думает о таких простых вещах.
Я вам скажу дальше немножко лирического от себя, буквально три-четыре слова. Я в этом театре, честно говоря, держусь из последних сил ввиду аморализма и энной части труппы, и ее художественного руководителя. Я человек, который им воспитан, я не могу в этом месте находиться. Я считаю, что этот дом безнадежен. Но если что-то получится, я буду рад. Я говорю от себя, потому что тут никого это очень не волнует, но я обязан сказать. Атмосфера в этом доме проклятая. Он проклят, проклят. Проклят. И сегодня такого обилия трусов, наверное, нет ни в одном театре страны. И то, что этот театр исповедовал самое нравственное и до сих пор эти слова произносятся, а живут здесь гнилушки — уже и возраст такой — это вообще зрелище невозможное. (ГОЛОСА отдельные возражают.) Я не поименно, ребята, поймите меня правильно, я никого не хочу обидеть, я просто говорю о том, что [какова] ситуация, вы же сами видите, вы же сами, наверно, от этого киснете. Сегодня одни трусы, позавчера были другие. Ну это же так. Я же как бы не обвиняю и не сужу, я же и сам не могу понять: вот что на сегодняшний день делать, что делать?! (ГОЛОСА: Ну помогите нам! Скажите, что делать!) Я не Ленин, я не знаю. Сообразите сами. Вы и сейчас хотите быть паразитами: «помоги нам!» Вам собрали документы, вы соучредились, решайте сами. Возможно поделить коробку, как предложил нам этот шпаненок, гапончик маленький, который из толпы словечки все время говорит.
САБИНИН. Существует патовая, на мой взгляд, на сегодня ситуация, которую надо вывести из этой мертвой петли. И это главная проблема. Вот сейчас то, что стоит здесь на сцене, то, что вы сказали: своей творческой деятельностью будем влиять на общественную жизнь и так далее — это все понятно. Вот все это создано руками художника, это, как в Японии: яко сукосима мура — тире — национальное достояние. И это то, что дается свыше Богом один раз во много лет каким-то еще неведомым нам всем образом в одном человеке, как Раневская говорила: как прыщ может выскочить на любом теле. Какое это тело, какой это человек, мы знаем, каждый на себе испытал. Но… и мы никуда от этой проблемы не уйдем — все, чем мы пытаемся влиять, воздействовать, на чем мы пытаемся строить правовую основу нашего дальнейшего существования, то есть вот этот кусок хлеба, который мы хотим есть законным порядком, он создан все-таки руками этого человека. Весь репертуар. Сделать в Москве сейчас новый спектакль, даже будь то Стуруа, Фоменко — кто угодно — Питер Брук — в этом страшнейшем хаосе, в котором мы живем, почти немыслимо. Поэтому мы так или иначе будем крутиться и вертеться на основе созданного руками этого человека вот этого национального достояния, будем крутиться все равно на этом и кормиться этим. Он сейчас здесь. Проблема остается. Давайте не будем совать голову под крыло. Вот до тех пор, пока мы не найдем возможность с этим очень сложным человеком диалога. (ГОЛОСА: Он не хочет.) Он не хочет. Конечно, он не хочет. Но, ребятки мои дорогие, это же главная проблема, все равно. Он ведь здесь.
ШАЦКАЯ. Да что же, нам ждать, когда он умрет?!
САБИНИН. Да как угодно! Ну вот хотите, я сейчас встану, на коленях поползу туда, давайте все поползем. (ГОЛОСА: Давайте! Выползай, давай!) Ну как угодно. Но нельзя этого делать. Вот и все.
Ю.П. Я слушаю вас. По какому поводу вы собрались?
ПРОЗОРОВСКИЙ. Мы собрались сегодня по поводу устава общественного объединения «Таганка».
ФИЛАТОВ. Давайте к вопросам.
Ю.П. Я сказал, что я удивлен, что без моего разрешения было собрание. Я не знал, выходил поздно вечером из театра и увидел это объявление. На что я сказал: кто вам разрешил это сделать. Остальные ваши все рассуждения… во-первых, никакое собрание сейчас неправомочно. И оно юридической силы иметь не будет. За это я вам отвечаю. Что бы вы тут ни приняли. И не потому, что я такой грубый, жестокий — говорите обо мне что угодно. Если я за почти что тридцать лет не сумел вас убедить, что я честный, то мне не о чем говорить. Поэтому я и не хотел приходить сюда. Потому что когда без моего ведома творятся эти безобразия, которые вы делаете, то меня это…(ГОЛОСА: Какие безобразия?) Кто творил, тот знает. Это все хорошо организовано и продумано. Никто этот театр никому не отдает никуда. Второе. Мой контракт — это мое дело. И его брать тайно и комментировать — это называется подлог и похищение чужих документов. Я у вас не ворую и не беру ваши контракты или ваши халтуры, или ваши договора, или ваши бригады. Когда мне приходят письма, то я их разбираю и вынужден отвечать, что «это не гастроли театра, что это бригады». Даже в Америку пробрались, и вы эту историю знаете, когда мне говорили: «что же, вот Таганка приехала и вот так представила себя? а теперь мы не будем вам гастроли большие делать, уже Таганка была». И тоже я не знал. Потом меня долго убеждали. Но это до утра можно говорить, а у нас в пять часов репетиция.
Но такой разболтанности, которая есть… вместо того, чтоб играть спектакли, все время обсуждать, кого выгонят, кого нет… Никто здесь выгонять никого не собирается. И это вы сами отлично понимаете. (ГОЛОСА: Это неправда, Юрий Петрович. Нам нужны гарантии какие-то, это только слова.) Вам Советская власть много гарантий давала? Вы жили все годы при Советской власти.
ГОЛОСА. И вы жили.
ШАЦКАЯ. Сейчас другая жизнь у нас, другие законы у нас совершенно.
Ю.П. Ах, тогда вам легко жилось.
ГАБЕЦ. Мы ведь вместе с вами жили эту жизнь.
Ю.П. Ну, вы жили со мной очень мало.
ИВАНЕНКО. Юрий Петрович, нам есть нечего.
Ю.П. А я вам для этого собирал посылки. Ну, я понимаю, вы их съели. Ну, я вам еще соберу. (ГОЛОСА. Нам жить надо. Работать.)
ПРОЗОРОВСКИЙ. Юрий Петрович, можно сказать?
Ю.П. Пожалуйста, вы же собрали. Я не собирал.
ПРОЗОРОВСКИЙ. К вопросу о вопросах. Вопросы существуют, исходя из вашей статьи, которая вышла на следующий день после вашего отъезда в декабре и в которой мы получили несколько ответов на непоставленные вопросы. Второй источник вопросов был ваш контракт, где вы называетесь директором театра, и поэтому у нас и возникло ощущение, что это не совсем личный контракт, а все-таки он касается жизни коллектива, чьим директором вы называетесь в этом контракте. Только поэтому. Никто не собирался посягать на вашу личную переписку с Поповым.
Ю.П. Почему же вы разбирали чужой контракт — это же некрасиво.
Н. ПРОЗОРОВСКИЙ. Он просто касается жизни театра — здесь нет никакого заговора. Хоть вас в этом убеждают постоянно. Все это возникло спонтанно.
Ю.П. Как? Спонтанно взяли и спонтанно изучали?
Е. ГАБЕЦ. Спонтанно попросили.
Вот здесь сидит консультант советника президента Ельцина. Это Игорь Владимирович Сафоев. Юрий Петрович, познакомьтесь, пожалуйста, с ним. (Ю.П.: Добрый вечер.) Может быть, у вас будут вопросы по законодательству по поводу наших или ваших прав. Не надо нас обвинять в том, чего мы не совершали. Перестаньте с нами общаться по телефону на другом конце которого Борис Алексеевич Глаголин или несколько избранных товарищей. Признайте за нами право быть людьми, которые 27 лет, кто меньше, кто больше, здесь работают.
Ю.П. Что я дезинформирован — это мне всегда говорил Виктор Васильевич Гришин и его помощник Бугаев.
ГУБЕНКО. Вы позвольте мне на правах ведущего актера, вашего любимого актера, сказать несколько слов.
87-й год. Ребята просят меня взять театр, сознавая, что я ничто по сравнению с вами как режиссер, тем более театральный. Я беру этот театр, бьюсь головой об Политбюро, в котором сидит Лигачев, Громыко — шесть человек из старого Политбюро. Единственный человек, который перевесил чашу в пользу вашего возвращения, был Михаил Сергеевич Горбачев. Это так. Далее. Никто вас не тянул за руку приезжать сюда 8-го числа в качестве моего гостя, когда полтора года я бился головой об Политбюро и наконец-то получил это высочайшее по тем временам соизволение. Вы растоптали те десять дней нашего счастья, которое мы все испытывали и вместе с нами вся театральная общественность. После этого я беру театр, восстанавливаю все ваши спектакли, исключительно, с огромным уважением относясь к вашему замыслу. Мы вводим в спектакль «Владимир Высоцкий» вас лично, ваш голос, расширяем тему, вашего отсутствия, мы делаем все, чтобы воздействовать на общественное сознание, чтобы вы вернулись.
Испания. Разговор с вами, слезы счастья от возможности, что вы можете вернуться, встреча с труппой — это все были акции величайшей преданности коллектива вам. Вы пошли на это. Вы сами при мне в 45-минутной беседе с Лукьяновым подписали документ, где первыми словами было конкретно: «Буду искренне признателен, если Верховный Совет рассмотрит вопрос о возвращении мне гражданства».
Ю.П. Это не совсем точно.
ГУБЕНКО. Я вам покажу этот документ.
Ю.П. Покажите. Потому что моя ошибка, что я не взял у господина Лукьянова этот документ. Потому что вы меня вынудили ехать к нему, я не хотел к нему ехать.
ГУБЕНКО. Никто, повторяю, Юрий Петрович, вас не принуждал (Ю.П.: Неправда.) ни к приезду ко мне в качестве личного гостя, ни к приезду к Лукьянову, ни к возвращению вам гражданства.
Ю.П. Я думаю, наши пререкания не надо слушать никому. Потому что это неправда. Я могу вспомнить другое, но это я вам скажу наедине.
ГУБЕНКО. Но хочу еще вам сказать, что рядом с вашей фамилией стояло еще 173 эмигранта, которых я не пробил, я смог пробить только вас и Ростроповича. И вы инкриминируете мне, что я это сделал для того, чтобы стать министром. Поэтому я утверждаю, что вы — лжец. Вы прокляли все лучшее, что было в этом коллективе, вы растоптали и предали этот коллектив…
ГЛАГОЛИН. Вы не имеете право так говорить.
(Все кричат.)
Вы запачкали себя и не имеете право так говорить ему.
ФИЛАТОВ. Здесь свободные люди, которые говорят то, что они думают. Вот встань и скажи, а не тявкай из толпы, как шавка.
ГУБЕНКО. Поэтому единственный вопрос, который я хотел бы вам сейчас задать: в какой степени вы намерены дальше руководить из эмиграции, как Владимир Ильич Ленин РСДРП, этим театром. Полтора года вас не было. Вы руководили только по телефону через Бориса Алексеевича. Эта пристяжная блядь, которая подлизывается (смех, аплодисменты), абсолютный предатель, который мыслит только во благо самого себя. Вы хотите работать в Советском Союзе… в СНГ или не хотите? Если вы не хотите — так и скажите. Или вы будете руководить театром из Цюриха. Мы и на это согласны. Вы великий гений. Мы вас любим, но прошлого, а нынешнего мы вас ненавидим — я лично ненавижу, потому что, повторяю, — вы лжец. (Аплодисменты. Крики.)
Ю.П. Еще будут какие оскорбления?
ФИЛАТОВ. Ну, про оскорбления не вам говорить. Вы нас вмазали в говно так, что…
САБИНИН. Товарищи дорогие, прекратите. Не надо на таком градусе, на градусе коммуналки вести разговор. Вам потом всем будет стыдно, противно. Не надо так разговаривать. Я призываю вас, пожалуйста, не надо так. Мы, к сожалению, по-другому не умеем, но надо, друзья, постараться. Постараться надо. Не надо так разговаривать.
Н. ПРОЗОРОВСКИЙ. Каждый имеет право… И кстати, неплохо было бы сохранить свое достоинство, как сказано в первом же спектакле этого театра.
ГУБЕНКО. В израильском журнале «Калейдоскоп» одним из условий вашего возвращения в театр вы назвали упразднение Советской власти. Она упразднена. Вы возвращаетесь?
Ю.П. Я не подсудимый, а вы не прокуроры и не мои обвинители. И поэтому после слов, что я лжец…
ГУБЕНКО. Это мое личное мнение.
Ю.П. Вот с этим личным мнением и оставайтесь. Когда вы обретете человеческий облик, переспав ночь, завтра я с вами поговорю, изучив эти вопросы. Вы оговорились, господин министр бывший, никакого СССР нет. И сколько ни хотят вернуть некоторые люди, отдавая Попова под суд что он устроил глумление над останками коммунистов на Красной площади, можете собираться под их знамена и примыкать к жулиновским, жуликовским и к бывшим всем партаппаратчикам. Я вас не перебивал, когда вы меня оскорбляли. И как в плохом балагане хлопали, кричали и так далее. Это не спектакль. Берегите себя там. А здесь ваши выкрики для меня никакого значения не имеют. (ФИЛАТОВ: Очень жаль.) И главное, интонация очень хорошая актерская, готовая, Леня. Не живая. (ГОЛОСА «Сукины дети» — вторая серия.) Вы перепутали условия, что рынок вводится президентом, а вы устроили в театре даже не рынок, а базар самого низкого пошиба, вульгарный и скверный. А что касается ваших этих вопросов, я отвечу на них.
Когда я реорганизовывал этот театр, то я ни одного человека… о своих горестях я не буду говорить, но так же люди, которые тут работали, они были в еще более страшном положении, чем вы — они шли на улицу — потому что был приказ о реорганизации театра. И несмотря на это был уникальный случай за всю историю страны — не было ни одного суда. Потому что каждый был пристроен. Так возник этот театр. И он возникал не на крови, а на доброте.
А вот когда иронизируют, что там написан Цюрих, то написан он только потому, что уйдет Попов, придет какой-нибудь скверный человек и начнет безобразничать. Тогда город со мной не сможет обращаться скверно — то город будет со мной судиться в Цюрихе. Вы даже это не поняли, что это сделано для вас же! А не для меня. (ГОЛОСА Вы бы нам это раньше объяснили.) Да потому что нужно быть приличными людьми и не воровать чужие документы. (ГОЛОСА Не в этом дело.) В этом!
И. УЛЬЯНОВА. Юрий Петрович, родненький, ну дослушайте.
Ю.П. Я вас тридцать лет слушаю. И зачем вам слушать лжеца! И вы еще хлопали! Человек, который назвал меня лжецом, живя у моей матери полгода. Да я не желаю вообще видеть его в этом помещении. Вот я уйду и выбирайте. И пока он не уйдет отсюда, меня здесь не будет. Все! (Ю.П. уходит. Губенко уходит.)
ФИЛАТОВ. Все. Все обсуждающие ушли. Гуляйте!
Н. ПРОЗОРОВСКИЙ (Токареву): Юра, останови, пожалуйста, актеров, потому что мы все-таки должны попытаться принять устав хотя бы за основу, потому что нам все равно здесь жить. Итак, я прошу, Лена, посчитать с этой стороны людей, Саша, с этой стороны людей посчитай. Завтра, если Юрий Петрович захочет, он назначит собрание по поводу вопросов.
Е. ГАБЕЦ. Стоит вопрос об образовании общественной организации «Театр на Таганке». Кто за то, чтобы создать общественную организацию «Театр на Таганке»… Будьте добры, войдите, пожалуйста в зал… (ГОЛОСА: Давайте завтра. Н. ПРОЗОРОВСКИЙ. Завтра это закончится таким же скандалом.) Прошу голосовать. Кто за?
Р.S. Потом, сын мой, когда театр ушел в отпуск, эта милая компания вошла в новое здание с вооруженной охраной и заняла его. Теперь там проходят митинги коммунистов, и они по-прежнему «раскрывают недостатки», «свергают» правительство и орут о своем приходе во власть.
Вот это, Петр, и есть внутренний мир большинства артистов в экстремальной ситуации. Небольшим оправданием им может послужить то смутное время, которое переживает Россия.
Твой отец. Москва, 3.12.1997
На старой сцене
Потом вся эта компания организовала «Содружество актеров Таганки». Когда меня в 1993 году не было, они с какими-то депутатами, которым у нас с советских времен вход всюду разрешен, оккупировали новое здание театра и с тех пор у нас осталась только старая сцена — та, на которой я начинал работать в 1964 году.
Самое горькое в этой истории, что общественного мнения, которое защищало нас в те времена и поддерживало, в эти времена его не стало. В этой всеобщей разрухе и всеобщем хаосе никто никого не защищал и никакой солидарности не было. И поэтому все это безобразие и, как в «Братьях Карамазовых», беспредел карамазовский, он погубил и театр. То есть он оказался никому не нужен и не дорог. Да и никто же не говорил о вопросах художественных, а ставил вопрос — отобрать помещение. Ну вот, они собрались и отобрали под покровительством коммунистов и прочих всяких прокуроров, которых все время отставляют. Никакие власти не заступились за театр, начиная от президента и кончая всеми ведомствами, которым поручено заниматься искусством, — для них это было абсолютно безразлично. Ну как они погубили все: библиотеки, школы, науку, культуру, музеи — все. Ну и в этом водопаде нечистот вот все и крутятся.
Сейчас работать стало сложнее. Во-первых, разрубленность театра — это была трагедия — полетел репертуар, значит, нужно было делать заново вводы, и ряд пьес вообще слетел с репертуара. Труппа раскололась, хотя ушли люди, которые мне мало симпатичны, и я был рад, что мне не надо увольнять их. Ведь вообще-то это как бы была квартира, а из нее сделали коммуналку, и жизнь в коммуналке, она совсем другая.
Стало всем тяжелей, потому что уклад жизни стал другим, и все понятия — понятия не человеческие, не духовные, не эстетические, не моральные, а другие понятия — все сместилось: шкала ценностей стала совсем другая. Сейчас идет процесс выживания в системе, которую никто толком не понимает.
А когда вы заблудились, трудно найти путь себе, если вы не знаете, где запад, где восток, где юг, где север, а идет какое-то блуждание в болоте, да в тумане еще. Более сильные натуры, имеющие основу внутреннюю, они выкарабкиваются как-то более-менее. А артисты — народ особый. Может быть, я к ним и с симпатией отношусь, но просто это люди нездоровые: с больной психикой, с гипертрофией самолюбия, с повышенной возбудимостью, с комплексами… И МХАТ раскалывался, просто люди не любят это вспоминать.
Работать стало тяжелей, многие постарели. Поколение молодое — они разные приходят, умения меньше стало, как ни грустно. Понять их интонацию довольно нелегко. В смысле профессиональной подготовки, я считаю, школа упала, очень упала. Даже по сравнению с 70-ми годами.
Но как и во все предыдущие годы, я пытаюсь делать то, что умею.
«Доктор Живаго» Б. Пастернака, 1993
Я читал роман впервые в самиздате, читал очень быстро. И помню, что больше всего мне врезались стихи в память. Там стихи поразительные. И прекрасные пронзительные страницы есть: на могиле матери, когда у мальчика умерла мать. Смерть матери, когда он на могиле плачет. Потом прекрасные есть воспоминания Пастернака, как он едет с отцом, когда умер Толстой, как они едут в поезде, как он смотрит на природу в окошко — замечательно. Белая равнина и маленькие елочки, разбросанные как крестики. Поэтому, может, потом я и стал через поэзию либретто писать бессознательно, потому что либретто я писал, главным образом здесь, в Иерусалиме.
Потом я ездил сперва с первым актом к Альфреду и читал ему первый акт, а потом читал второй, потом читал все вместе. Но мы все дни работали — я у него по два, по три дня жил — в Гамбурге все было.
Стихи его вспоминаются:
Мело, мело по всей Земле Во все пределы. Свеча горела на столе, Свеча горела.В каждом стихотворении есть тема смятения, тема предчувствия вот этой страшной чумы, то есть прихода этой злосчастной революции, которая погубила Россию…
Основной цвет «Доктора Живаго» — белый, черный, красный — растянутые цвета, поэтому это не такая жесткая гамма.
Он очень актуален, просто даже странно, потому что то же самое назревает сейчас, то, что он описал, предчувствуя катастрофу, которая надвигается. Он пережил ее как поэт, он тонко чувствовал все, но с этой стороны как-то никто не рассматривает роман, что он удивительно повторился сейчас трагически.
«Живаго (доктор)» — по мотивам романа, 1993
Поначалу, когда мы играли в большом зале, мне показалось, что отношение публики хорошее, то есть может быть форма — они не ожидают, они пришли в драматический театр, а видят музыкальный спектакль. Там есть стихия музыки прекрасная, с моей точки зрения, и там очень важные проблемы затрагиваются. Поэтому наши интеллектуалы, которые бывали на «Живаго», считали, что очень важно, чтоб этот спектакль люди смотрели. Он заставляет их думать по поводу всего, что сейчас происходит. И когда я его делал, мне тоже казалось, что он сейчас более важен, чем когда он был написан. Это же не роман, это итоги и размышления. Как у Сомерсета Моэма «Подведение итогов» есть прекрасная книга. И поэтому я и ввел туда поэзию. И Блока. Потому что иначе, чем через музыку, нельзя было делать. И я считаю, что это важно очень для театра — играть «Живаго», потому что там появилось нечто новое в развитии театра. Новое, что характер приобретает дополнительную емкость через музыкальные метафоры, вот эти повторы интонаций: «Стрельников-расстрельников». И когда идет о нем разговор, то идет тема, как в музыкальных спектаклях — Стрельникова, тема этого типа Комаровского — «Что на тебя произвело впечатление?» — «Звук Ко-ма-ров-ский.» Вот эти музыкальные вещи. И актеры, которые обладают этим даром: Антипов, Шаповалов, — они все поняли, — Золотухин, Агапова, которая хорошо поет, ей Бог дал голос такой своеобразный. И тот же Эдисон Денисов сказал, что он не ожидал, что так артисты могут петь. Но даже дело и не в Эдисоне, хотя приятно получить такой комплимент, а в том, что это целая линия театра, и она дает особый колорит, лицо театру. И может быть, это лицо в самом начале и заметили и Ноно и Аббадо, и отсюда и мои все постановки и оперные, которых штук тридцать по всем странам.
И немцы прекрасно слушали это. Без титров, без всего. Их завораживала музыка.
Сейчас он в старом зале зажат. Ему тесно в маленьком зале. Все-таки я всегда же отталкиваюсь во многом от пространства, в котором я работаю. И от актера требую, чтоб он ощущал себя в пространстве, потому что иначе они нарушают композицию. Я так берег новый театр и не открывал стену в «Трех сестрах», потому что я ее берег для «Бориса…» И поэтому, конечно, мне было обидно, когда они сразу открыли ее в «На дне», как только я перестал работать.
«Медея» Еврипида, 1995
Из письма Иосифа Бродского:
Дорогой Юрий Петрович!
Посылаю Вам хоры. Читать их актеры должны методом чересполосицы, хотя некоторые из них — сольные номера…
Эпилога я Вам не написал. Думаю, что он и не нужен. «Медея» — не басня, и если у Еврипида нет морали, то и у нас не должно быть.
В общем, работу свою я считаю законченной. Хоры я переделал, а основной текст, по-моему, чрезвычайно хорош и трогать его не надо.
Если бы пьесу ставил я, я сделал бы ее всю черно-белой, а последнюю сцену — появление Медеи с грифонами — ярко-красной… Я знаю, что в театре теперь главное — режиссер, а не автор. Тем не менее, как частичный подельник Еврипида, думаю, что пьеса в особенных ухищрениях не нуждается. Хорошо бы обойтись минимальной геометрией и коринфским мотивом (архитектурным) в костюмах. Особенно хору: чистая вертикальная линия в одежде плюс эхо коринфской капители в прическе. Вообще, хор можно сделать этакими колоннами: двигаться ему особенно не следует, разве что — в пятом стасиме.
Медея в свою очередь должна сильно отличаться своим туалетом от женщин хора. Не цветом, а именно стилем, очертаниями. Хорошо бы избежать пестроты (поэтому и советую монохромное решение постановки) и истерики. Экономия движения и жеста, судя по всему, в трагедии важнее зрительной и вокальной достоверности… Я не призываю Вас к классической интерпретации. Такой интерпретации нет и быть не может. Она всегда будет квазиклассической, то есть наша собственная. Я просто думаю, что сдержанность в случае с Медеей лучше экстравагантности: пьеса сама достаточно неординарна. Главным ощущением зрителя должно быть погромыхивающее монотонное приближение ужаса, надвигающегося на него как бы ниоткуда. Его неукоснительность и безадресностъ.
Бывали ли Вы, между прочим, когда-нибудь в Коринфе? Стоит, по-моему. Это всего лишь полтора часа на машине из Афин Дыра. Танкеры, нефть и самые лютые комары во всей Греции. Они, думаю, всегда были.
Сердечно Ваш, Иосиф«Медея»,1995. Л. Селютина
Ю. Беляев.
Д. Боровский.
Э. Денисов, с которым я проработал 30 лет
Когда я получил текст хоров, я три дня ходил счастливый — такие это стихи прекрасные, о чем и сообщил Иосифу Александровичу. Вы хорошо их прочтете, если полюбите, говорил я артистам.
Теперь дальше. Меня убедили ученые, что есть такая трансцендентальная медитация, которая вносит в общество некоторый покой и разум. Что здесь отсутствует напрочь. Я поговорю с центром трансцендентальной медитации. Это дело древнее чрезвычайно.
Это древнеиндийская философия. Медитация передается из поколения в поколение. Учитель передает своему Ученику, которому он доверяет, как нужно этим заниматься. И он Вам дает Слово.
Только Вам, больше его никто не знает.
Если Вы Слово это передаете кому-нибудь — хотя бы жене или близкой любовнице, или еще кому-нибудь — то теряется смысл всего. Это чисто Ваше отношение с Учителем и все. Психологически это основано на том, что есть Учитель и есть Ученик и для Ученика Учитель священен. Потому что Учитель имеет это Слово, которое передано ему и идет пять или шесть тысяч лет. И я занимаюсь медитацией, но учить я не имею права. Я могу постараться убедить вас, что этим надо заниматься, но ни в коем случае не в порядке принуждения.
Вручение ордена Святого Константина Великого. Большой театр. 1998
Медитация приучает к расслаблению и отдыху, то есть к внутреннему миру. И приучает себя ощутить частицей космоса и Вселенной. Когда занимаешься медитацией чувствуешь, как начинают теплеть ладони, как в ладони идет космическая энергия. Люди каждый день получают стрессы — отсюда депрессии, отсюда болезни. Но человек, владеющий медитацией, за двадцать минут заряжается энергией больше, чем за четыре часа сна… Такой человек постоянно обновляется.
Пластика хора: обращение в зал. Я хочу, чтобы спектакль начинался так. Пускать в зрительный зал людей будут за двадцать минут. Вы сидите и занимаетесь эти двадцать минут медитацией. Потом вы слышите какой-то звук, который обозначает, что начался спектакль.
Чтобы понять, какую мы должны создать атмосферу, я очень прошу вас смотреть все хроники из Чечни или из Югославии. Лица беженцев, детей — этот ужас. У них особые глаза, у них особый тон. Когда ребенок говорит вот так; «Да ничего, я испугался. Мама? маму убили». У него какой-то остановившийся взгляд и странный тон. И можно соблюдать ритм в этом тоне.
Мужчины все одеты в милитаристскую форму. Женщин я пока (на репетициях) прошу одеться в колготки и черные майки разной длины, как сейчас принято. Никаких красивых поз. А наоборот, если вы будете у мешков стоять где-то, то вы вжимайтесь в мешки. Это прямо рефлекс, потому что стреляют каждую секунду снайперы и люди вжимаются. Но я не собираюсь делать неореализм, то есть стараться лучше сделать, чем хроника — это невозможно, да это и не надо. Тут поэзия. Но внутреннее состояние и выражение ему надо искать очень точное. «Беда, беда, беда…» — тон может быть спокойный, но пульс-то учащенный. Тогда есть собранность, тогда есть тревога. А если мы пойдем красиво стилизоваться, у нас ничего не выйдет. Стилизация убивает трагизм. Иногда надо делать какой-то странный сбив вплоть до того, что можно взять камень, другой камень, два грецких ореха и раздавить, а ребята могут поесть… Два натуральных камня и натуральные грецкие орехи.
Здесь должен быть стих, ритм и мысль. Ведь когда я говорю в жизни и стараюсь, чтоб у вас запала в голову мысль моя, то я цезуру делаю, чтобы вы на меня посмотрели, как у меня тело, какое у меня направление воли к вам. И цезура это есть интрига. «Ох,(цезура) тяжела ты, (цезура) шапка Мономаха!» Я и тембр меняю и пауза странная. Фраза становится весомой, и есть за ней тембр и пауза. Стих нельзя говорить словами. Никакие этюдные методы сюда не подходят. В стихотворной форме выползать, не зная текста, — это просто неприлично. Это все равно что человек выходит петь, а не знает музыки. Как это можно? Знаки препинания — это ноты своеобразные, которые дают вам возможность мыслить во время стиха. И в строчке образ поэтический можно рисовать. «И из всех углов (цезура), как черносливины (цезура), глядели тараканы (пауза)». Николай Васильевич…
Если вам поможет какая-то фраза — можете ее вставить. Я никогда не занимаюсь излишней диктатурой. Я диктую там, где мне кажется неправильно, так как я целое ощущаю больше вас благодаря просто своей профессии, это другая профессия, режиссерская, а не актерская — я обязан видеть целое и предчувствовать целое, иначе я вас приведу не туда, а черте куда, и потом будут все говорить, как часто бывает в театре:
«Как было хорошо, был процесс, процесс пошел, а потом чего-то не получилось ни у кого, ай-яй-яй, а все шло так красиво».
Отец Василий Родзянко на репетиции «Братьев Карамазовых»
Я считаю, что люди любят, когда в спектакле все есть. И я сам очень люблю, когда есть хорошие мысли, когда есть музыкальная структура, пластическая структура. Человек ведь выразителен во всех своих проявлениях. Вы знаете фразу Станиславского о жизни человеческого духа. Выражать это высокое присутствие человеческого духа на сцене мне легче, когда у меня все есть под рукой: музыка — как волшебное искусство, пластика — тоже великое искусство, слово, свет — тогда мне интересно искать и приводить все это в гармонию или сознательно где-то делать контрапункты, дисгармонические вещи, но все равно, чтобы создать гармонию. Потому что в нашем постоянном дискомфорте, в наших перепадах, стрессах, бестолковости этого мира несчастного, искалеченного нами всеми, нужно иметь хоть какое-то утешение и для себя. И, все-таки, я же не только для себя делаю какие-то вещи, которые, мне кажется, нужно выразить, но я стараюсь, чтобы меня поняли люди, которые придут в театр.
Трагедия это не значит страдание. Трагедийный жанр не терпит сантиментов никаких. Он внутренний, сухой и точный. И выражение у него скупое: «Но приплыла в Коринф она не за этим. Ей и прижитым ею с Язоном детям Коринф успокоит сердце…» Корифей Хора все знает. Несчастная, зачем она приплыла? Это кончится такой кровью и таким страхом Божьим, что играют две с половиной тысячи лет. И мы играем — как мы понимаем. Это очень современная пьеса в смысле крови и жестокости. К тоске к нашей, конечно. «Злое сердце не знает себе предела». Ведь погубило ее злое сердце. Здесь тот же беспредел, что и у Достоевского.
Хор — это народ. Вы нюансов не знаете, но в общем хор в курсе. И народ, когда нужно, проявляет какую-то мудрость. Вот, например, для меня вся надежда сейчас здесь, в стране, на матерей. То, что женщины начали сейчас — это подвиг. Мать спасает ребенка своего вопреки всему. И это движение не может остановить никто. Вообще ситуация страшная. И кто восстал — женщины. Поэтому женский хор надо делать. И очень важны ваши реакции. Вы говорите: «Мы ее приветим… А что будет — мы не знаем. Что-то такое в воздухе носится», — и вот это и будет пролог.
«Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского, 1997
Волею судеб, я все время занимался Достоевским. В России, Венгрии, Англии, Америке, Финляндии я ставил «Преступление и наказание», «Бесов», «Подростка». И вот теперь «Братья Карамазовы». Это первый раз. Я долго работал над инсценировкой. По-разному комбинировал. Я хотел, чтобы было ясно — ради чего роман переводится на подмостки. Делал, делал, потом бросал — не выходило у меня ничего… Спрессовать два тома в 50 страниц — это на грани безумия. В конце концов, я пришел к образному решению, чтобы неожиданными ошарашивающими вещами заставить зрителя разбираться и прислушиваться. Ведь «Братья Карамазовы» — это итоговая вещь Достоевского, его последнее творение, его исповедь. Но ее нельзя сыграть в бытовой неореалистической манере. Она полна метафор и гротеска, который совмещается с точностью и глубиной характеров. Достоевский же не только великий психолог с колоссальной интуицией, предчувствовавший бессмысленность наступающей эпохи, но и поэт. Поэт с гениальным воображением. Да еще и очень острый. Поэтому при полном выявлении характеров все должно быть сыграно точно, как музыка. Только наша музыка — слово…
«Братья Карамазовы»,1977. Алеша — А. Муляр, Федор Ф. Антипов
Представьте себе три пространства на сцене, работающие одновременно. Одно — это зал. Второе пространство — длинный стол, покрытый рубероидом — стол доказательств. На столе лежит все, что сопряжено с убийством Федора: пестик окровавленный, Митин платок — весь в крови, шелковый окровавленный халат Федора, сюртук, ленточка красненькая, конвертик: «Цыпленочку моему, Грушеньке», — в котором Федор держал три тысячи для Грушеньки, если она придет. Вот этот стол доказательств и является местом действия. Мы видим на нем все следы преступления, и на этот же стол в кабаке подают выпить, закусить, и за этим же столом рассуждают святые. Это все одно место действия. Натюрморт стола позволит ощутить метафоричность всех аксессуаров. Вы увидите, как они оживут, как они станут участниками действия, когда вы их оцените, когда вы влипнете в рубероид, когда вы будете понимать, что это стол проклятый… И еще одно пространство — так называемое «теневое пространство»: ленты из рубероида, куча песка, строительная люлька, из которой льется дождик. Люлька поворачивается вертикально и туда загоняется Митя, как в клетку. Теневое пространство — потому, что люди из тьмы выходят и в тьму уходят. Само поведение в пространстве теней другое. Люди там полуреальные. Они внутренние монологи говорят вслух. Все абстрактное, к примеру, — вся драматургия Беккета, идет в теневом пространстве. Там идет дождь. Это особое пространство, в котором всегда сыро и гадко, там мокрые люди, у которых возникает еще особое физическое самочувствие, и они говорят абстрактные вещи, как бы пуляя их. Если высветить дыры в рубероиде — между досками будет звездное небо. Жестко? — Да. А жизнь какая? — Такая же. И называется это — «Скотопригоньевск». Стиль общий — очень скупой и жесткий…
Публика приходит — фасад театра забит щитами с березовыми досками и рубероидом, потом его открывают, пускают публику. Публика пришла, она раздевается и видит дорожки из рубероида, кучу песка и забитую дверь у входа в зал. Написано «Скотопригоньевск». Дверь вскрывают. После второго звонка в фойе выходит прокурор. В одной руке у него портфель с делами, а другой он бичом загоняет публику в зал. Когда публика села, входят председатель суда и присяжные заседатели: двенадцать человек из зрителей. Это дает возможность играть через зал. Ведь процесс идет не только над вами — персонажами, но и над ними — зрителями, сидящими в зале. Про нас же говорят, что мы все персонажи Достоевского.
«Марат и маркиз де Сад» П. Вайса, 1998
«Марат-Сад» я давно хотел ставить. Пьеса ведь прекрасная. Но так уж судьба сложилась, что ее не дали ставить…
А когда я решил, что сейчас — можно и нужно было делать премьеры новые, то я счел, что пьеса звучит и сейчас. Есть мировой репертуар театральный, и эта пьеса принадлежит к репертуару мирового театра, как Мольер и другие острые вещи трагифарсового стиля. Мне кажется, я не ошибся. Спектакль, слава Богу, получился стремительным, энергичным. Через музыку и через пластику.
«Марат и маркиз де Сад», 1998. Шарлотта Корде — И. Линдт, Дюпре — Д. Муляр
Текст сейчас плохо слушают — произошла полная девальвация слова. Когда я в шутку сказал артистам: «Психи готовы?» — то зритель принял это и на свой счет. И кто-то из зала ответил: «Готовы! Готовы!» И засмеялся зал, и сразу установилась атмосфера взаимопонимания между залом и артистами.
В хорошей пьесе всегда проводится параллель с сегодняшней жизнью, которая точно совпадает с нашим веком. В «Марате» полно иронии, Вайс иронизирует. «Оттуда» над нами, у него точная преамбула: «Вы извините, у нас играют не профессионалы, а больные, но мы верим, что это им поможет вылечиться».
Этот спектакль очень музыкален. Содружество композиторов — Владимира Мартынова и Сергея Летова — делает прекрасную, разнородную музыку с долей запланированного эклектизма и импровизации. Летов — композитор-импровизатор, Мартынов отвечает за все хоровые и голосовые нотки.
Я сознательно выбрал малую сцену для этой постановки. Мне казалось, что такое решение пространства — решетка, отделяющая психов от нормальных, — более доходчиво в малом зале. Надо еще подумать, переносить ли это на большую сцену. Когда поднимаются решетки, единство пространства может быть в большом зале разрушено.
«Апокалипсис»(Проект)
У нас была очень хорошая встреча с художником по поводу будущей постановки «Апокалипсиса» Мартынова. В чем она была хороша? Что мы пришли к полному взаимодействию. И согласились, что все должно быть предельно просто и лаконично. Сам клавир «Апокалипсиса» с текстом — он и есть главное оформление. То есть в этой книге клавирной заложено все: свет — буквально, то есть она светится.
«Шарашка», 1998. 80-летие А. Солженицына. По роману «В круге первом»
Автор в роли Сталина
Сейчас проверяют в лаборатории, возможно ли это сделать: вот я открываю и освещаю свое лицо — там система батареек, всяких лампочек и так далее. Там же есть цифры, все время идет цифра 7: «И первый ангел вострубил…» — и так далее. И семь криков животных, и семь ангелов, и семь чудищ. И поэтому и цифры будут тоже в книжке. Ведь бешенство цифр — это тоже апокалипсис нашей жизни. А они могут просто в этой же книге открываться. И все-таки на сцене шестьдесят человек, значит, какие же могут быть композиции сделаны? Вот фактически оформление всего: площадка, главная деталь — сам «Апокалипсис», клавир у каждого. Полы холодные, значит, сделана такая площадка, чтоб можно было босиком стоять и не простудиться. Ну а детей можно в носочки шерстяные обуть и удобный подрясничек светлый. То есть все очень аскетично и как бы — вот куда бы ни приехали, тут же можно и работать. Только свет и пение божественное. И то, что это решено, мне кажется, это нас пока успокоило. Как говорил вождь: «По правильному пути идете, товарищи…»
Давид Львович был в восторге от женщины, которая сделала заявление в газете, что она отказывается от этой страны. У ней трое детей, зарплату не платят, детей не на что содержать. И она эту страну не признает, потому что она не может дать минимум, чтоб выжить могли ее граждане. И она отказывается. И послала бумаги. И ей прислали ответ: «Пожалуйста». Как будет дальше — я не знаю. Я считаю, это к «Апокалипсису» замечательно подходит. И к титлу «Записки старого трепача» — тоже.
Ох! Что же еще можно сказать? Сказать можно, что я не понимал, зачем я нужен дорогому композитору Владимиру Ивановичу Мартынову. Но он сказал, что «я чувствую внутренне, что должен быть помимо музыкального ряда визуальный ряд». Значит, вот я именно и приглашен для визуального ряда. И поэтому когда я пробовал репетировать с ними несколько дней, в Риге встретился с хором, у меня была очень минимальная задача. Чтоб они почувствовали желание двигаться — не стоять хорами, а начать движение. И я сказал: «Вы же еще не тверды, вот и спокойно заглядывайте в клавир». И начал от этого им делать движения разные. И они почувствовали вкус. Это тоже меня немного успокоило. И еще то, что у отца Ивана они еще живые, хотят что-то сделать и показать себя, что тоже очень важно. Как вот Влад Маленко, который играет Смердякова — он хочет играть очень, и это слава Богу. А то некоторые такие уже: «могу выйти, что-то сказать зрителям, а могу и не выходить», — тогда скучно всем делается.
Ну вот. Не буду дальше говорить, а то украдут. Пушкин тоже говорил: «Это я раньше все выкладывал, а теперь не могу — у меня семья, дети».
Последняя премьера — «Евгений Онегин», 6 июня 2000 г.
Премьера «Хроник» В. Шекспира, 1999 г.
Заключение злоключений
Вот, мой дорогой студент, добрался я и до заключения! Тебе скоро 20, мне — 82. Театру моему — 35. Мама — дама, поэтому умолчим. Ты совершенствуешь русский, мама просит не забывать об итальянском. Ты пожил в Москве и окончательно решил дообразовываться в Англии. Мы с мамой согласились, а что нам оставалось! Мама помогает приводить театр в порядок.
Как-то я спросил у моего старого друга, у твоего тезки Петра Капицы: что умирает в человеке последним? Он поморгал своими мудрыми детскими глазками, подумал и сказал: пожалуй, профессиональные навыки, у себя в лаборатории я чувствую себя спокойно и уверенно! Ему было 90!
Свой театр на Таганке я называю лабораторией.
Твой отец. 1.8.1999 г. Будапешт.
Примечания
1
В это трудное для нас время мы благодарны Джону Робертсу и его семье за приют и заботу.
(обратно)2
Запись этого разговора в главе, посвященной Н. Р. Эрдману.
(обратно)3
Ассоциация театров Эмильи-Романьи.
(обратно)4
Кантана — буфет для театра.
(обратно)5
Разрешение цензора (разг.).
(обратно)6
Некролог на Щукина был в газете «Правда» 8 октября 1939 г.
(обратно)7
Чурбанов — зять Л. Брежнева.
(обратно)8
У нас в театре, как у революционеров или у блатных, много кличек. Шопен — это народный артист России Шаповалов.
(обратно)9
Автор, работая за рубежом по заданию от СССР, называл себя часто оперуполномоченным Советского Союза.
(обратно)


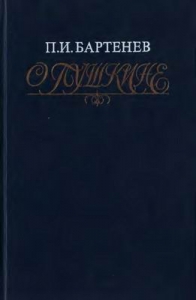
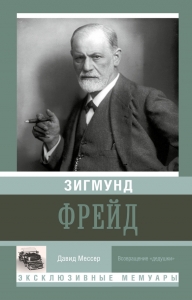

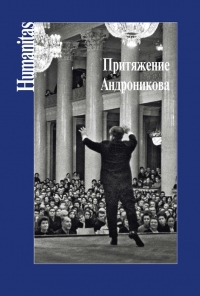
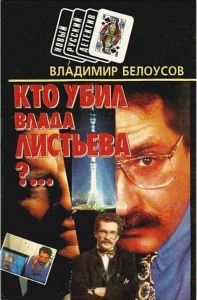
Комментарии к книге «Рассказы старого трепача», Юрий Петрович Любимов
Всего 0 комментариев